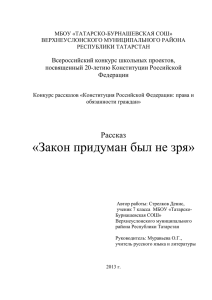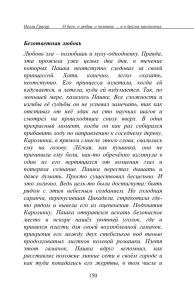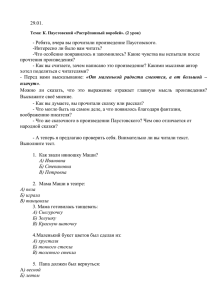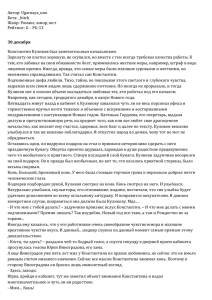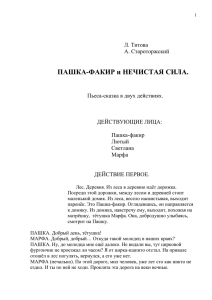СВОИМИ ГЛАЗАМИ Олеся Романенко
реклама
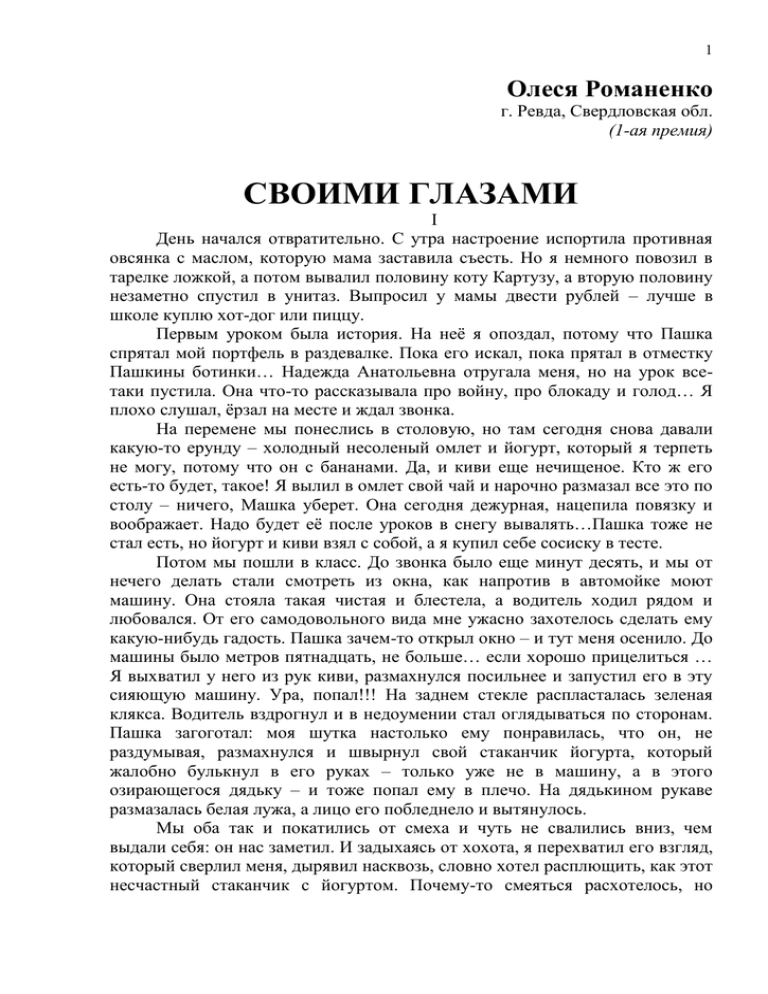
1 Олеся Романенко г. Ревда, Свердловская обл. (1-ая премия) СВОИМИ ГЛАЗАМИ I День начался отвратительно. С утра настроение испортила противная овсянка с маслом, которую мама заставила съесть. Но я немного повозил в тарелке ложкой, а потом вывалил половину коту Картузу, а вторую половину незаметно спустил в унитаз. Выпросил у мамы двести рублей – лучше в школе куплю хот-дог или пиццу. Первым уроком была история. На неё я опоздал, потому что Пашка спрятал мой портфель в раздевалке. Пока его искал, пока прятал в отместку Пашкины ботинки… Надежда Анатольевна отругала меня, но на урок всетаки пустила. Она что-то рассказывала про войну, про блокаду и голод… Я плохо слушал, ёрзал на месте и ждал звонка. На перемене мы понеслись в столовую, но там сегодня снова давали какую-то ерунду – холодный несоленый омлет и йогурт, который я терпеть не могу, потому что он с бананами. Да, и киви еще нечищеное. Кто ж его есть-то будет, такое! Я вылил в омлет свой чай и нарочно размазал все это по столу – ничего, Машка уберет. Она сегодня дежурная, нацепила повязку и воображает. Надо будет её после уроков в снегу вывалять…Пашка тоже не стал есть, но йогурт и киви взял с собой, а я купил себе сосиску в тесте. Потом мы пошли в класс. До звонка было еще минут десять, и мы от нечего делать стали смотреть из окна, как напротив в автомойке моют машину. Она стояла такая чистая и блестела, а водитель ходил рядом и любовался. От его самодовольного вида мне ужасно захотелось сделать ему какую-нибудь гадость. Пашка зачем-то открыл окно – и тут меня осенило. До машины было метров пятнадцать, не больше… если хорошо прицелиться … Я выхватил у него из рук киви, размахнулся посильнее и запустил его в эту сияющую машину. Ура, попал!!! На заднем стекле распласталась зеленая клякса. Водитель вздрогнул и в недоумении стал оглядываться по сторонам. Пашка загоготал: моя шутка настолько ему понравилась, что он, не раздумывая, размахнулся и швырнул свой стаканчик йогурта, который жалобно булькнул в его руках – только уже не в машину, а в этого озирающегося дядьку – и тоже попал ему в плечо. На дядькином рукаве размазалась белая лужа, а лицо его побледнело и вытянулось. Мы оба так и покатились от смеха и чуть не свалились вниз, чем выдали себя: он нас заметил. И задыхаясь от хохота, я перехватил его взгляд, который сверлил меня, дырявил насквозь, словно хотел расплющить, как этот несчастный стаканчик с йогуртом. Почему-то смеяться расхотелось, но 2 задыхаться я не перестал, в глазах стало темно, и я словно куда-то провалился… II Я очнулся у себя дома от холода. И еще от странной тишины, нарушаемой только мерным монотонным тиканьем. Окно, что ли, забыли закрыть?... Я вдруг увидел, что окна заиндевели и заклеены крест-накрест уродливыми полосками бумаги. Что это? В комнате было темно и неуютно. Я вышел в кухню. А где наша мебель? И почему так пусто в шкафах? Я открыл кран, чтобы вымыть руки, но воды не было. Из-под стола мне навстречу, шатаясь, медленно вылез Картуз. Я с трудом узнал своего любимца в этом обтянутом кожей скелете с горящими глазами. Мой портфель валялся в коридоре – я поскорее достал из него сосиску в тесте, купленную в школьном буфете, и поразился, с какой жадностью кот набросился на неё, оцарапав мне руку. Картузик, миленький, я ведь сегодня утром кормил тебя кашей, почему ты такой голодный и худой? Что все это значит? Где мама? Где все?! Я прошел в спальню, не узнавая родного жилья. Промерзшие стены с отпавшими обоями, лопнувшие батареи, какая-то страшная закопченная бочка посреди комнаты, разломанное на части кресло, из которого торчит клок ваты. На маминой кровати лежала… Нет, это не мама! Она не может быть моей мамой - всегда такой красивой, ухоженной и веселой, – эта странная женщина с восковым лицом и растрепанными седыми волосами. Услышав мои шаги, она с трудом повернула ко мне лицо – и я отшатнулся. Это все-таки была она, исхудавшая до невозможности, постаревшая на двадцать лет – только в глазах её осталось что-то родное, но тоже какое-то жуткое. Холодной рукой она погладила меня по голове и попыталась улыбнуться. Пораженный, я стоял посреди комнаты и не заметил, что мерное тиканье вдруг участилось и лихорадочно застучало по вискам. Откуда-то с неба раздался вой, а потом страшный грохот где-то совсем рядом. «Сынок, в убежище, в убежище!... Это тревога», - прошептала мама и стала медленно подниматься с кровати. III Я отлично помню последующие страшные семь дней и ночей. Этих людей, с которыми мы сидели рядом в подвале. Этот жуткий вой сирен и сменяющее его леденящее тиканье. Этот дикий, зверский холод, от которого было не спастись ни на улице, ни дома. Это отчаянье, с которым я пытался растопить печку остатками своего письменного стола, а он все никак не хотел разгораться, а руки стыли и не могли разжечь огонь. Это постоянное чувство голода, от которого сводило желудок. Дома не было ни крошки. Было съедено все, даже клей с отпавших обоев. В минуты забытья мне мерещилась еда – и особенно часто тот стаканчик с йогуртом и раздавленное киви. 3 Воды тоже не было – за ней надо было ходить на реку, которую все называли Невой (почему Невой? ведь она же течет в Питере! я был там прошлым летом и смотрел, как разводят через неё мосты. Неужели я снова здесь?) - а потом тащиться домой с тяжелым ведром, проваливаясь в сугробы и леденея на жгучем, пронизывающем ветру. Еще были очереди за хлебом – ежедневные, нескончаемые вереницы мрачных людей, стоявших на морозе часами, чтобы обменять карточки на черный липкий кусок размером со спичечный коробок. Разве это хлеб? Разве его можно есть? Я вспомнил, какой хлеб огромными белыми ломтями резала нам в школьной столовой тетя Вера. Вот если бы сейчас сюда хотя бы один этот ломоть, хотя бы самую маленькую корочку, хотя бы крошки! На прошлой неделе мы кидались им в девчонок из 6-го «Б», и директор школы Татьяна Леонидовна стыдила нас и опять говорила про блокадный город. Неужели это он и есть?... В одной из таких очередей я встретил Пашку – похудевшего, измученного, с ввалившимися глазами. Несмотря на смертельную усталость, я обрадовался ему: это было единственное знакомое лицо среди мрачных, закутанных, сгорбленных людей. Пашка тоже был рад мне. Мы обнялись и пошли домой вместе. Спрашивать о чем-то и рассказывать не было сил. Мы шли молча – и мне кажется, думали об одном и том же. На перекрестке мне надо было поворачивать направо, а Пашке – прямо. Он протянул мне руку и сказал: «Зря мы тогда так…» - не договорил и пошел, не оглядываясь. IV Мама перестала вставать и почти не разговаривала. Я кипятил ей воду на «буржуйке» - той самой закопчённой бочке посреди комнаты, и давал пить, чтобы она хоть немного согрелась. Я разводил в кипятке черные куски хлеба, чтобы их было побольше, и мы ели эту мутную жижу со вкусом опилок, от которой болело все внутри. А еще часть давали Картузу. Не было сил вставать, двигаться, хотелось сжаться в комок и спать, спать, спать… Если бы рядом был отец! Но его не будет никогда, потому что его убили два месяца назад на фронте, как сказала мама. Мне казалось нереальным все, что происходило со мной сейчас и все, что было раньше. Это и есть Ленинград?... Это и есть та самая зима 1942-го? Но ведь мы были здесь прошлым летом 2013-го, когда возвращались с моря – отдохнувшие и загоревшие, ходили по бутикам на Невском проспекте и ели мороженое. А теперь все заметено сугробами, фонари разбиты, а вместо праздно гуляющих горожан навстречу попадаются угрюмые люди, везущие на санках что-то, завернутое в белую ткань… Что же это? Я присмотрелся, а когда понял, что они везли мёртвых – тех, кто не выдержал, не дождался, не выжил, - меня пробрал какой-то нечеловеческий, страшный холод. Холод изнутри, который был гораздо страшнее трескучего мороза. Иногда мне так хотелось закричать всем этим людям, что все будет хорошо, что все это обязательно кончится, что надо только жить, потерпеть 4 еще триста…четыреста дней…или сколько же их еще осталось? Я все силился вспомнить, когда кончится блокада – ведь Надежда Анатольевна говорила нам об этом. Мне казалось, что если я вспомню, все сразу станет по-другому, я спасу всех этих людей в замерзшем черном городе, я подарю им надежду… Но я не слушал, не слушал её тогда! – и теперь мне нечего было сказать этим людям, и я замирал в немом крике и медленно брел дальше, увязая по колено в сугробах, задыхаясь и падая. Картуз уже не просил есть и не выходил из своего угла. Он лежал вытянувшись, и когда наутро не отозвался, я заглянул в его остекленевшие глаза и заплакал. Ведь я любил его, он вырос вместе со мной. А мама почемуто не плакала, она лишь пожалела, что мы не успели его съесть вчера, пока он еще был жив. Мама, но ведь ты сама когда-то принесла его совсем маленьким котенком, мы выхаживали его и поили молоком, мы лечили его, когда соседские коты разорвали ему ухо… А теперь его…съесть? Как же так, мама??!! …На обратной дороге с Невы нас с Пашкой настиг вой сирены. Бросив вёдра, мы побежали к убежищу. Пашка, споткнувшись, покатился по скользкой наледи куда-то вниз, а я упал, едва успев закрыть голову руками и краем глаза заметил взрытый столб снега…Когда дым рассеялся, я увидел, что Пашки уже нет, а на том месте, где он стоял, на ветках вывороченного клена висит его полосатый шарфик, разорванный надвое. Напрасно я кричал, напрасно звал его. Когда я наконец понял, что никогда его больше не увижу, то бросился на промерзшую землю, катался по ней, рвал её ногтями, вгрызался зубами в черный снег… Пашка, ведь это я первый переступил ту невидимую запретную грань, ведь это я первый бросил киви в ту машину, ведь это я должен был сейчас погибнуть – я, а не ты!!! Пашка, прости меня!!! V …Что-то тяжелое упало мне на грудь и заставило открыть глаза. Это был Картуз – живой, лохматый, теплый Картуз, который терся об меня и громко мурлыкал. На столе лежала мамина записка: «Сынок, я уехала. Завтракай сам и не опоздай в школу» - значит, мама тоже жива!.. В квартире было тепло и светло. На плите стояла кастрюлька с кашей. Целая, моя!!! Неужели я могу прямо сейчас съесть её всю? Я с жадностью набросился на еду, но вовремя вспомнил, что надо оставить маме и Картузу. Однако Картуз был сыт, он лишь понюхал кашу и отвернулся, а мама… Я открыл полный еды холодильник и успокоился. Я стремглав помчался в школу. Первым уроком, как и семь дней назад, была история. Надежда Анатольевна спросила, почему меня не было целую неделю, и велела принести назавтра справку. Что я мог ей ответить? Она продолжила урок и стала рассказывать об обороне Ленинграда. Так вот оно что! Сегодня, 27 января 2014 года, ровно 70 лет снятия той самой 5 блокады - той самой, в которой я жил все эти дни. К горлу подкатил комок, и я снова стал корить себя за то, что не смог вспомнить этого там, не сказал тем людям о том, чего они так ждали и умирали, не дождавшись... Надежда Анатольевна все говорила о хлебных карточках, о ледяной Неве, а я слушал, боясь пропустить хоть одно слово, потому что знал, что всё это страшная правда. Но когда она стала показывать документальные слайды, в моих ушах завыли сирены, зачастил метроном, и я упал на парту, сжимая голову руками… В школьной столовой, куда я всё-таки заставил себя прийти, всё было как обычно – и всё по-другому. Я вздрогнул, увидев тетю Веру с огромным белым караваем, а она засмеялась и протянула мне большой ломоть. Мне было невыносимо смотреть на него, потому что ещё вчера, там, этот ослепительный белый хлеб казался невозможным, нереальным, фантастичным. И когда Максим, не доев корку, прицелился ею в Танюшку из 6-го «Б», я сам не понял, как очутился рядом с ним, стал трясти его за плечи и, глядя в упор, выпалил ему в лицо: «Не смей! Ты слышишь, не смей никогда!» Максим отпрянул от меня, недоуменно пробормотал: «Ты чего?...совсем, что ли?» и, отбежав на безопасное расстояние, покрутил пальцем у виска. Я не стал догонять его. Мне было очень, очень плохо, и я пошел в класс. Но хуже всего было даже не это. Хуже всего было то, что Пашка так и не пришел в школу – ни к первому уроку, ни ко второму. Ни к последнему. Я смотрел на его пустую парту и боялся спросить о нем…