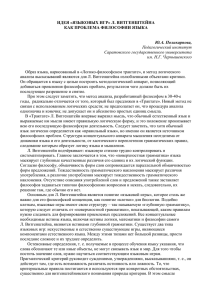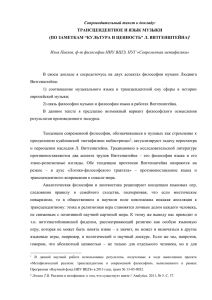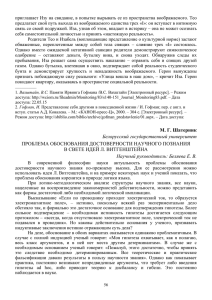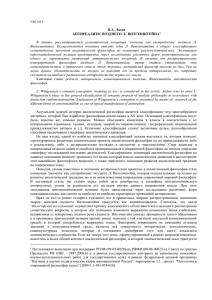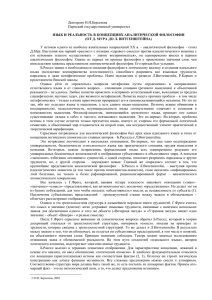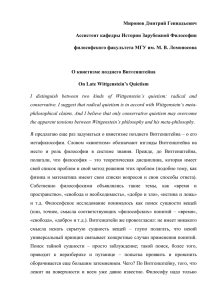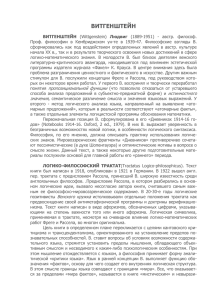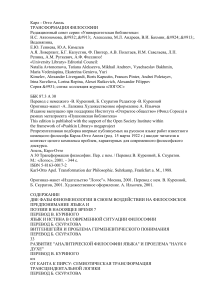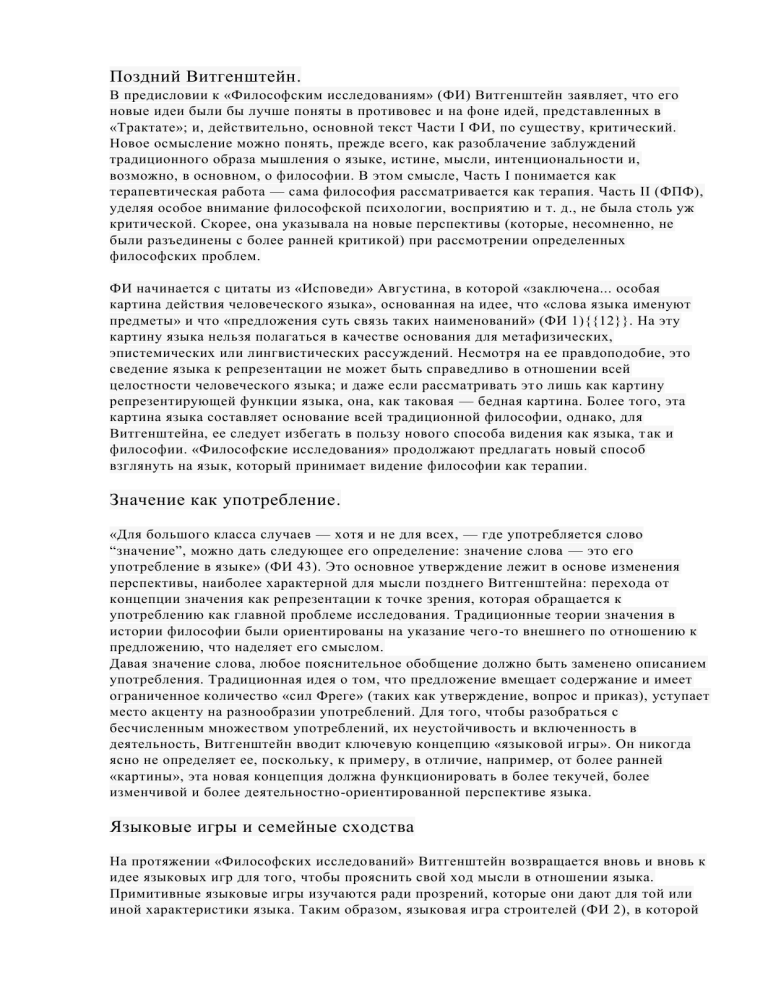
Поздний Витгенштейн.
В предисловии к «Философским исследованиям» (ФИ) Витгенштейн заявляет, что его
новые идеи были бы лучше поняты в противовес и на фоне идей, представленных в
«Трактате»; и, действительно, основной текст Части I ФИ, по существу, критический.
Новое осмысление можно понять, прежде всего, как разоблачение заблуждений
традиционного образа мышления о языке, истине, мысли, интенциональности и,
возможно, в основном, о философии. В этом смысле, Часть I понимается как
терапевтическая работа — сама философия рассматривается как терапия. Часть II (ФПФ),
уделяя особое внимание философской психологии, восприятию и т. д., не была столь уж
критической. Скорее, она указывала на новые перспективы (которые, несомненно, не
были разъединены с более ранней критикой) при рассмотрении определенных
философских проблем.
ФИ начинается с цитаты из «Исповеди» Августина, в которой «заключена... особая
картина действия человеческого языка», основанная на идее, что «слова языка именуют
предметы» и что «предложения суть связь таких наименований» (ФИ 1){{12}}. На эту
картину языка нельзя полагаться в качестве основания для метафизических,
эпистемических или лингвистических рассуждений. Несмотря на ее правдоподобие, это
сведение языка к репрезентации не может быть справедливо в отношении всей
целостности человеческого языка; и даже если рассматривать эт о лишь как картину
репрезентирующей функции языка, она, как таковая — бедная картина. Более того, эта
картина языка составляет основание всей традиционной философии, однако, для
Витгенштейна, ее следует избегать в пользу нового способа видения как языка, т ак и
философии. «Философские исследования» продолжают предлагать новый способ
взглянуть на язык, который принимает видение философии как терапии.
Значение как употребление.
«Для большого класса случаев — хотя и не для всех, — где употребляется слово
“значение”, можно дать следующее его определение: значение слова — это его
употребление в языке» (ФИ 43). Это основное утверждение лежит в основе изменения
перспективы, наиболее характерной для мысли позднего Витгенштейна: перехода от
концепции значения как репрезентации к точке зрения, которая обращается к
употреблению как главной проблеме исследования. Традиционные теории значения в
истории философии были ориентированы на указание чего -то внешнего по отношению к
предложению, что наделяет его смыслом.
Давая значение слова, любое пояснительное обобщение должно быть заменено описанием
употребления. Традиционная идея о том, что предложение вмещает содержание и имеет
ограниченное количество «сил Фреге» (таких как утверждение, вопрос и приказ), уступает
место акценту на разнообразии употреблений. Для того, чтобы разобраться с
бесчисленным множеством употреблений, их неустойчивость и включенность в
деятельность, Витгенштейн вводит ключевую концепцию «языковой игры». Он никогда
ясно не определяет ее, поскольку, к примеру, в отличие, например, от более ранней
«картины», эта новая концепция должна функционировать в более текучей, более
изменчивой и более деятельностно-ориентированной перспективе языка.
Языковые игры и семейные сходства
На протяжении «Философских исследований» Витгенштейн возвращается вновь и вновь к
идее языковых игр для того, чтобы прояснить свой ход мысли в отношении языка.
Примитивные языковые игры изучаются ради прозрений, которые они дают для той или
иной характеристики языка. Таким образом, языкова я игра строителей (ФИ 2), в которой
строитель и его помощник используют лишь четыре слова (блок, колонна, плита, балка),
используется для того, чтобы пояснить ту часть августиновской картины языка, которая
может быть правильной, но которая, тем не менее, с трого ограничена.
Языковые игры являются, во-первых, частью более широкого контекста, который
Витгенштейна называет формой жизни. Во-вторых, концепция языковых игр указывает на
нормативный характер языка. Это не подразумевает строгой и определенной систем ы
правил для всех и каждой в отдельности языковой игры, но указывает на
конвенциональный характер такого рода человеческой деятельности. И все же, подобно
тому, как мы не можем дать окончательное сущностное определение «игре», мы точно так
же не можем найти то, «что является общим для всех этих видов деятельности и что
делает их языком или частью языка».
Именно здесь отказ Витгенштейна от общих объяснений и определений, основанных на
необходимых и достаточных условиях, лучше всего декларируется. Вместо эт их
симптомов философа, «жаждущего обобщений», он указывает на «семейное сходство» как
более подходящую аналогию для способов соединения отдельных употреблений одного и
того же слова. Нет никаких причин искать, как это делали традиционно — и догматически
— одно сущностное ядро, в котором локализовано значение слова и которое, таким
образом, является общим для всех употреблений этого слова. Нам следует вместо этого
путешествовать вместе с употреблением слова по «сложной сети подобий,
накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом» (ФИ 66). Семейное
сходство также служит для демонстрации отсутствия границ и отдаленность от точности,
которая характеризует различные употребления одного и того же понятия. Подобные
границы и точность являются отличительной особенностью формы — будь то
платоновская или аристотелевская форма, или общая форма предложения, очерченная в
«Трактате». Именно из такого рода форм могут быть выведены употребления понятий,
однако именно этого Витгенштейн теперь избегает в пользу обращения к схожести
наподобие семейного сходства.
(Шахматы, шашки, пасьянс).
Грамматика и форма жизни .
Грамматика, как принято считать, включает нормы правильного синтаксического и
семантического употребления, в руках Витгенштейна становится более широкой — и
более неуловимой — системой правил, которые определяют, какое языковое действие
допустимо в качестве осмысленного, а какое — нет. Это понятие замещает более строгую
и чистую логику, которая играла такую важную роль строительны х лесов для языка и
мира в «Трактате». Действительно, «сущность ярко выражается в грамматике [...] О том,
какого рода объектом является нечто, дает знать грамматика. (Теология как грамматика.)»
(ФИ 371, 373). «Правила» грамматики — это не просто технические инструкции, данные
свыше для верного использования; скорее, они выражают нормы осмысленного языка.
Вопреки эмпирическим суждениям, правила грамматики описывают, как мы используем
слова для того, чтобы одновременно и оправдать и раскритиковать наши конкре тные
высказывания. Но в отличие от правил из учебника грамматики, они не идеализируются
как внешняя система, которой нужно соответствовать. Более того, к ним явным образом
не обращаются в какой-либо формулировке, но они используются в случаях философского
недоумения, чтобы прояснить, где язык приводит нас к ложным иллюзиям. Таким
образом, «я могу знать, что думает другой, а не что думаю я. Правильно сказать “Я знаю,
что ты думаешь” и неверно “ знаю, что я думаю”. (Целое облако философии
конденсируется в каплю грамматики.)»{{15}}. Грамматика не абстрактна, она находится в
пределах обычной деятельности, в которую вплетены языковые игры «...термин “языковая
игра”, призван подчеркнуть, что говорить на языке — компонент деятельности или форма
жизни» (ФИ 23). То, что позволяет языку функционировать, и поэтому должно
приниматься как «данность» — это как раз и есть формы жизни. Говоря словами
Витгенштейна, «языковое взаимопонимание достигается не только согласованностью
определений, но (как ни странно это звучит) и с огласованностью суждений» (ФИ 242), и
«это — согласие не мнений, а формы жизни» (ФИ 241). Очень скупо используемая
Витгенштейном — в «Исследованиях» она встречается пять раз — эта концепция
породила множество интерпретационных затруднений и последующих про тиворечивых
прочтений. Формы жизни можно понимать как изменчивые и условные, зависящие от
культуры, контекста, истории и т. д.; такое отношение к формам жизни обосновывает
релятивистское прочтение Витгенштейна. С другой стороны, именно формы жизни, общие
для человечества, «совместное поведение людей» — это и есть «та референтная система, с
помощью которой мы интерпретируем незнакомый язык» (ФИ 206). Это можно
рассматривать как универсальный поворот, признавая, что использование языка стало
возможным благодаря человеческой форме жизни.