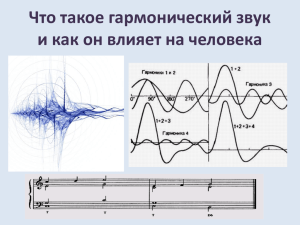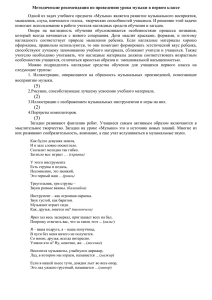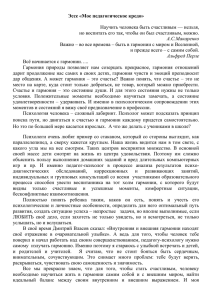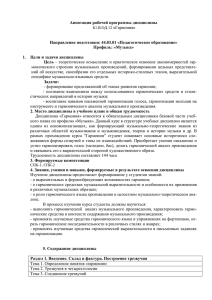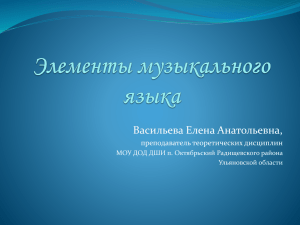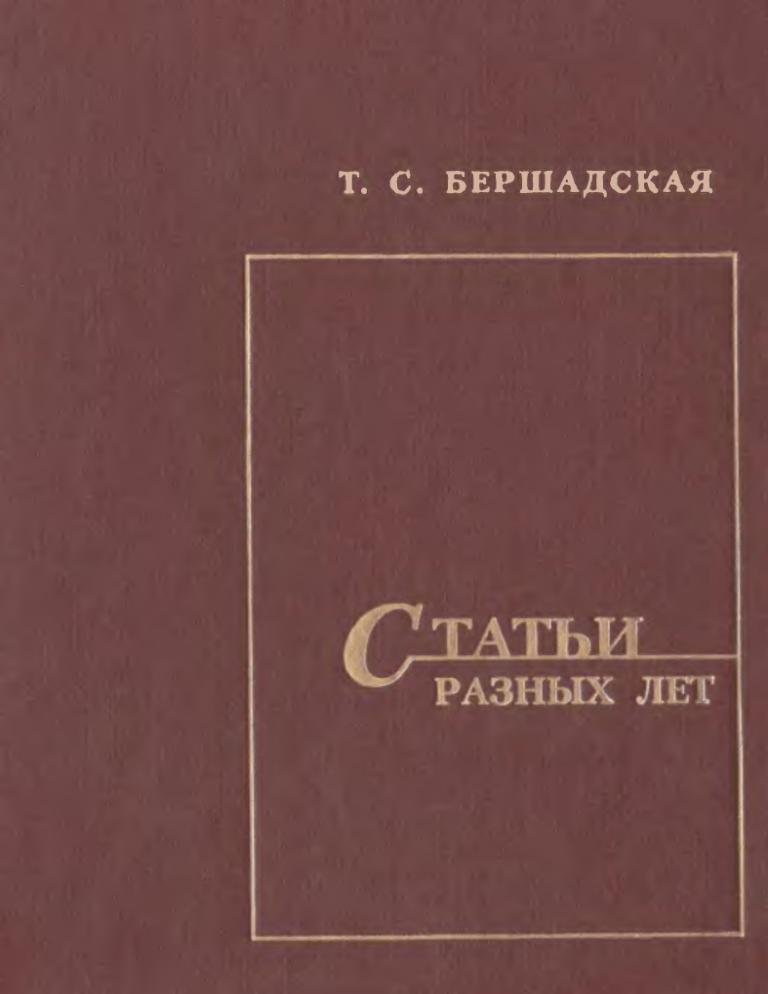
Т. С. БЕРШАДСКАЯ
Т. С. БЕРШАДСКАЯ
С
ТАТЬИ
РАЗНЫХ ЛЕТ
Издательство « С о ю з художников»
Санкт-Петербург, 2004
Печатается по постановлению редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова
Редактор-составитель:
кандидат искусствоведения О. В. Руднева
Рецензенты:
кандидат искусствоведения Е. JI. Александрова
кандидат искусствоведения Е. В. Титова
Б 48
Бершадская Т. С.
Статьи разных лет: Сб. ст. / Ред.-сост. О . В. Руднева. Санкт-Петербург: Издательство « С о ю з художников», 2 0 0 4 . 3 2 0 е.: нот.
ISBN 5—8128—0046—4
Автор книги — Заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории, заведующая секцией гармонии, известный ученый,
труды которого охватывают широкий спектр вопросов теоретического музыкознания. В настоящее издание вошли статьи разных лет, в ретроспективном
соседстве демонстрирующие читателю стройность, единство и соподчиненность научных установок автора. Сборник включает статьи по проблемам
теории музыки, лада и гармонии, работы по фольклору. Впервые публикуется исследование об аналогиях вербального языка и языка музыкального.
Отдельный раздел сборника составляют воспоминания автора.
Книга адресована музыковедам и музыкантам-профессионалам, интересующимся вопросами теоретического осмысления музыкального искусства.
ББК 85.31
Б 52
ISBN 5 - 8 1 2 8 — 0 0 4 6 - 4
© Т. С. Бершадская, 2004
© Издательство «Союз художников*, 2004
От автора
В предлагаемом читателю издании собраны статьи, написанные
мною за почти полувековую научную деятельность. Самая «старшая»
из них — « О многоголосии русской народной песни», опубликованная
в 1959 году, написана еще раньше, «по мотивам» диссертации, защищенной в 1954 году Самая «младшая» — « О некоторых аналогиях в структурах языка вербального и языка музыкального» — закончена несколько
месяцев назад. Отваживаясь на их публикацию в близком соседстве,
я вполне отдаю себе отчет в том, что прошедшие десятилетия не могли
не отразиться на терминологии, а порой, в деталях, и на самой концепции, сложившейся в том виде, который на сегодняшний день я могу
считать для себя окончательным, лишь к концу 70-х — началу 80-х годов. Некоторые (особенно самые ранние) грешат категоричностью суждений, прямолинейностью выводов.
Тем не менее, пересмотрев все, мною написанное, я не без удовлетворения могу отметить, что некоторые принципиальные установки моих
научных положений проступали уже в самых первых опусах, и, пусть
окончательно терминологически не оформленные, явно намечали путь
к концепции «Лекций по гармонии» (Л., 1978; Л., 1985) и более поздней
работы «Гармония как элемент музыкальной системы» (СПб., 1997).
Эти установки можно обобщить, обозначив как стремление:
1) к выверенное™ классификационных признаков, четкости установления аспектов, рядов, уровней;
2) к первичности функции перед структурными признаками в определении сущности явлений;
3) как следствие первого и второго пунктов — к четкости, непротиворечивости терминологии.
Поскольку статьи печатались в разное время и в разных изданиях,
в них могут встретиться «повторы на расстоянии», а также некоторые
изменения терминологии, о самых существенных из которых следует
сказать более подробно. Таких изменений два.
1. Лады, в ранних работах обозначенные как мелодические, в дальнейшем получают название монодических. Такой термин, родившийся
в результате долгих размышлений, представляется более адекватным
сущности этих особых систем, ибо мелодия — категория более широкая
и более общая, чем монодия. Специфичность же рассматриваемых систем заключается в принципиально одноголосной природе породившего
их музыкального текста, в котором тоны предстают как самозначащие,
не подразумевающие аккордово-гармонического подтекста единицы.
2. Мажорно-минорная система как самостоятельный термин, не совпадающий с термином более привычным — «мажоро-минорная система». Это разделение, предложенное Ю. Н. Холоповым и принятое
мною в более поздних работах, представляется оправданным и удобным
и призвано различать частно-конкретный случай объединения одноименных и параллельных ладов при единой тонике (мажоро-минор) от
определения всей классической ладогармонической системы как некоего
общего функционального принципа ладовой организации (мажорноминорная система).
Автор горячо благодарит своих учеников, содействовавших выходу книги в свет: Е. Л. Александрову, Л. Ю. Гуральника, А. В. Денисова,
О. В. Рудневу, Е. В. Титову и Д. В. Шутко.
Санкт-Петербург, 2004
ОБЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ
Вклад ученых кафедры теории музыки
Ленинградской — Петербургской консерватории
в становление отечественной концепции
гармонии и лада. Теория и практика *
О б ъ я в л е н н а я тема настолько широка, что охватить ее достаточно
полно одним кратким выступлением представляется необычайно трудным.
«Вклад ученых Ленинградской — Петербургской консерватории
в общую концепцию теории музыки»! Говорить об этом следовало бы
начиная, с 1884 года, когда впервые появился «Практический учебник
гармонии» Николая Андреевича Римского-Корсакова. Этот первый петербургский музыковедческий труд обошел весь мир, переведен на множество языков, выдержал не только на русском языке не один десяток
изданий. Это ли не вклад?
Однако качественный скачок в делах кафедры (точнее, кафедр/,
напомню, их было несколько) произошел в 20-е годы XX столетия, когда
вопросы теории музыки стали предметом науки в полном смысле этого
слова. В Ленинградской консерватории стала складываться концепция
воззрений в самых различных аспектах музыкальной системы, в том числе, в аспекте гармонии, лада и формы. О том, какое влияние возымели
(и имеют до сих пор!) труды и идеи ленинградских теоретиков можно
составить себе представление, если даже только перечислить некоторые
их них: Б. В. Асафьев. «Музыкальная форма как процесс» и ее вторая
часть — «Интонация»; Ю. Н. Тюлин. «Учение о гармонии». Теория переменных функций. Теория фонизма; X. С. Кушнарев. «Вопросы истории
и теории армянской монодической музыки». Общая теория монодических ладов. Теория и методика полифонии; А. Н. Должанский. «Лады
Шостаковича».
Вряд ли сегодня можно назвать какое-либо, хоть немного заслуживающее внимания, теоретическое исследование, какую-либо новую
теоретическую концепцию, в которых бы не отразились идеи этих осно* Статья впервые опубликована в изд.: Петербургские страницы русской музыкальной культуры: Сб. ст. и материалов. СПб., 2001 (прим. ред).
Вклад ученых кафедры теории музыки...
1
воположников российской теоретической мысли, в которых мы не нашли бы ссылок на их замечательные труды. Собственно говоря, «цвет»
современной теоретической мысли (назову хотя бы несколько имен:
В. Бобровский, В. Медушевский, Е. Назайкинский, Ю. Холопов, Э. Алексеев и многие другие) так или иначе отталкиваются от идей Б. Асафьева, Ю. Тюлина, X. Кушнарева. Мне неоднократно, устно и в печати, приходилось говорить о содержании и сути теоретических трудов ученых,
имена которых я только что перечислила. Поэтому интересующихся я
отошлю к имеющимся публикациям1. Здесь же я постараюсь осветить
вопрос лишь в самом общем плане.
Я утверждаю, что при всем разнообразии аспектов и научных интересов, при наличии даже отдельных расхождений в точках зрения о ленинградской школе теории музыки можно и следует говорить как о научном направлении, даже как о стиле научной мысли. Назову определяющие
черты этого направления.
1. Понимание музыки как процесса. Процессуальностью проникнуты все концепции Асафьева, о чем говорят сами названия его книг.
Процессуальность — непременное условие проявления переменности
функций (важнейшее положение концепции Тюлина). Процессуальность
отличает ладовую теорию Кушнарева, с ее подвижностью и переменчивостью отношений тоники и антитезы.
2. Понимание музыки как системы многоуровневой и многоаспектной. Философский подход к пониманию взаимосвязанности различных аспектов между собой, диалектики их взаимодействий и пересечений. Стремление обнаруживать самые глубинные, сущностные признаки
явлений, находить общее между, казалось бы, внешне различным и сущностные различия между, на первый взгляд, сходным. Напомню, например, четкое разграничение понятий гармонии и лада, так часто (до сих
пор!) запутанно смешиваемых в теоретических работах; подчеркнутое
разделение категорий лада и тональности, лада и звукоряда у Асафьева,
Тюлина, Кушнарева. Примеры можно умножить.
3. Связанный со вторым пунктом категориальный уровень мышления, выражающийся, в частности, в глубинности определений и формулировок, в обращенном как к себе, так и к другим требовании логической
стройности суждений, упорядоченности классификаций, терминологической четкости. Во всех определениях функция всегда превалировала
1 См. опубликованные в настоящем издании статьи: «Б. В. Асафьев об интонационно-процессуальной природе лада», «Мои учителя», «Тюлинское братство»,
а также статью: Человек с большой буквы / / Советская музыка. 1990, № 9.
8
I. Общие проблемы теории
над структурой, сущность — над явлением. Аккорд, например, определялся Тюлиным не как «созвучие, тона которого можно расположить по
терциям», но как созвучие «логически дифференцированное..., некое
гармоническое единство, конструктивное целое, входящее в определенную систему», мыслящееся как «конструктивное единство, действующее не своими частями, но в целом» (64} с. 25)*. Лад определялся как
функциональная система соподчинения тонов, причем в самой формулировке не закреплялся ни конкретный, раз и навсегда данный звукоряд,
ни какая бы то ни было единственно возможная функциональная система. Все конкретизирующие уточнения — интервальные, функциональные — шли потом, как бы прилагаясь к сущностному определению в качестве одних из возможных. Этот категориальный подход обеспечивал
концепциям Тюлина, Асафьева, Кушнарева жизнеспособность и долговременность действия. Системность и функциональная направленность
мышления, стремление в изучении каждого аспекта музыкальной системы руководствоваться общефилософскими и общечеловеческими
законами давала их идеям богатейшие перспективы для дальнейшего
развития и раскрытия на новых уровнях и в новых аспектах. Фундаментальность даваемых определений позволяла применять их к музыкальным системам, интонационный строй которых далеко ушел от строя их
породившего. Так и к современной музыке применимо данное Тюлиным определение аккорда; и сегодня актуальна его концепция соотношения действенности ладовых функций и фонизма. На основе концепции
Кушнарева выросла теория монодических ладов, позволяющая понять
многое, как в современной профессиональной, так и в народной музыке
самых разных национальностей. Тюлинская теория переменных функций давно и далеко перешагнула рамки гармонии и лада и сделалась по
существу всеобщей, применительно к форме соединившись с асафьевской концепцией «формы как процесса».
Любая теоретическая концепция требует закрепления практикой.
И здесь, в области гармонии, первое имя, которое следует назвать, — это
имя верного ученика и сподвижника Ю. Н. Тюлина, его помощника и соавтора многих его книг — Николая Георгиевича Привано. Это был выдающийся педагог гармонии! Последователь Тюлина в теоретических установках, он создал свою методическую школу, воспитав поколения
учителей классической гармонии, «рассыпанных» сейчас не только по
России, но и по всему свету. Созданными им методическими пособия* Цифра, напечатанная курсивом, указывает номер, под которым данный источник числится в списке литературы на стр. 315 настоящего издания (прим. ред.).
Вклад ученых кафедры теории музыки...
9
ми, упражнениями, его темами для модуляционных прелюдий, его «цифровками» пользуются до сих пор и повсеместно. Это был человек, беззаветно преданный своему делу, любящий свое дело, умеющий делать
его как никто!
Одной из важнейших черт методики преподавания гармонии, созданной Привано совместно с Тюлиным и в тесном общении с такими
замечательными преподавателями как Т. Г. Тер-Мартиросян и Б. Я. Шнитке, была творческая направленность этой методики. Можно утверждать, что весь практический курс Привано был направлен на постижение
гармонии через творчество. В его заданиях львиная доля отводилась
сочинению. Сочинялись периоды и двух-трехчастные формы; сочинялись вариации и даже сонаты. Привано учил в строгом четырехголосии
добиваться гармонического и мелодического контраста, разнообразия
гармонической пульсации, различия гармонических средств вступительных, заключительных, экспозиционных, развивающих разделов, короче — учил постижению роли гармонии в формообразовании.
Методика Н. Г. Привано стала явлением в сфере преподавания гармонии в не меньшей степени, чем в сфере теорий учения его учителей,
Ю. Н. Тюлина и X. С. Кушнарева. Его практическая деятельность — также ценнейший вклад кафедры теории Ленинградской консерватории
в общее дело музыковедения.
Заканчивая, позволю себе повторить. Ленинградская — Петербургская теоретическая школа — это сложившийся стиль теоретической мысли, системно-философская направленность которой обеспечивает действенность рожденных ею идей на многие десятилетия вперед. И какими
же наивными предстают некоторые не в меру беспокойные «поборники
прогресса», которые, воздевая руки к небесам исступленно вопиют: «Теория устарела! Новую музыку надо анализировать новыми методами!»,
в качестве этих новых методов предлагая детальное изучение возможностей синтезатора. Так и хочется крикнуть этим «борцам за новаторство»: «Остановитесь в своем ажиотаже (ослеплении)! Прочитайте внимательнее, вдумайтесь глубже в теоретические труды ваших учителей!
В них есть все, что необходимо для познания логики самой современной
музыки. Надо только уметь понимать принцип и не становиться начетчиком!» Но именно от начетничества и поверхностности суждений и предостерегает концепция теории музыки, сложившаяся в трудах ученых
кафедры теории музыки Ленинградской консерватории. Она, эта концепция, учит думать, слушать и развивать данные ею положения. И тогда заложенные в ней идеи не имеют временных границ.
О понятиях, терминах, определениях
современной теории музыки *
( ! ) д н о м у из виднейших представителей русской философской эстетической науки XIX в. — Николаю Гавриловичу Чернышевскому принадлежит замечательная мысль о том, что об удовлетворительном или
неудовлетворительном состоянии науки свидетельствует удовлетворительное или неудовлетворительное состояние ее терминологии. Если
с позиции указанного еще в прошлом столетии критерия подойти к оценке состояния музыковедения сегодняшнего дня, то придется признать,
что состояние это крайне неудовлетворительно.
Что такое термин? Каковы его обязательные, атрибутивные свойства и качества? Термин — «слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими,
ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений... В отличие от слов общего
языка, термины не связаны с контекстом. В пределах данной системы
понятий термин, в идеале, должен быть однозначным, систематичным,
стилистически нейтральным». Таковы определения и характеристики
термина, данные в Большой Советской Энциклопедии.
Термины «связаны понятиями науки, так как словесно отражают
систему понятий (курсив мой. — Т. Б.) данной науки» (46, с. 6). Следовательно, расшифровка термина становится раскрытием и самого определяемого им понятия, противоречия терминологии отражают противоречия научных представлений о явлениях, ею обозначаемых.
Всякая наука создает свою систему терминов, где каждый термин
связан с другими в определенной иерархии. «О терминах в истинном
смысле слова можно говорить только тогда, когда они в совокупности
составят определенную терминосистему» (28, с. 4). И первое требова* Статья впервые опубликована в изд.: Критика и музыкознание: Сб. ст. Вып. 3.
Л., 1987 (прим. ред).
О понятиях, терминах у определениях...
11
ние, которое следует предъявить к этой терминосистеме, — ее логическая упорядоченность, последовательность, непротиворечивость.
Между тем понятийно-терминологический аппарат музыковедения,
которым мы пользуемся сегодня, полон противоречий, неточностей, содержит взаимопересечения понятий. Нередко одним и тем же термином обозначаются разные понятия, или, наоборот, для определения
одного и того же понятия, используются разные термины (так называемые «дублеты»). Порой это крайне затрудняет понимание мысли автора, усложняет соотнесение между собой положений, высказанных в различных работах. Приведем несколько примеров, оперируя
преимущественно терминологией, относящейся к сфере звуковысотных отношений и к организации музыкальной ткани — к элементам
музыкальной системы, принадлежащим языковому уровню и потому
выполняющим наиболее значимую функцию в реализации художественного содержания, хотя есть все основания утверждать, что терминологическая неточность затрагивает и другие области науки о музыке.
Ключевыми для области звуковысотных отношений можно считать в первую очередь следующие понятия: лад, звукоряд, тональность;
мелодия, гармония, аккорд; для области организации музыкальной ткани — склад, фактура; полифония, гомофония, подголосочность, гетерофония (разумеется, перечислены лишь некоторые из наиболее существенных). Как же расшифровываются эти понятия в различных
источниках, и, соответственно, в какие отношения вступают термины,
их определяющие? Рассмотрим несколько выборочно взятых примеров.
Лад
1. Музыкальная энциклопедия: «Лад в музыкально-теоретическом смысле — системность высотных связей, объединенных центральным звуком или созвучием, а также воплощающая ее конкретная звуковая система (обычно в виде звукоряда)» (41, т. 1, стб. 130).
2. Ю. Тюлин: «Лад надо понимать... как логически дифференцированную систему качественных взаимоотношений тонов» (65, с. 79).
3. Ю. Тюлин, Н. Привано: «Лад представляет собой логиренцированную систему качественных взаимоотношений тонов, определяемую главенством основного опорного тона и зависимостью от него остальных тонов» (67, с. 73).
4. И. Способин: «Лад — система звуковысотных связей, объединенная тоническим центром в виде одного звука или СОЗВУЧИЯ» (56,
с. 224).
12
I. Общие проблемы теории
5. Б. Асафьев: «Лад — свод, строй и вместе с тем система соподчинения тонов (курсив мой. — Т. Б.), выявляющая и сосредоточивающая
в себе на каждой исторически сложившейся стадии музыкального искусства закрепившийся в общественном сознании отбор музыкальных
звуков, в которых вращаются интонации, определяющие эмоционально-образное содержание и выразительность музыки на данной стадии
ее развития» (6, с. 230).
6. Ю. Холопов: «Термин "лад" применяется обычно в нескольких
значениях:
а. В общем смысле — согласие, порядок, мир, в сущности, русский эквивалент греческому harmonia.
б. В музыке "лад есть система звуковых связей, объединенная
тоническим центром в виде одного звука или созвучия" (Способин),
"логически дифференцированная система качественных взаимоотношений тонов" (Тюлин), то есть "согласие" или "порядок" музыкальных
звуков. В этом значении понятие «лада» совпадает с широко трактованным понятием "тональной системы", понимаемой как система качественных высотных (тональных) связей;
в. В более частном значении под ладом подразумевается определенная конкретная "система связей" (например, мажорный лад в отличие от минорного). В этом значении термин "лад" совпадает со средневековым modus ("модус", "образ" или "способ" пения, напев, мелодия,
тон), с немецким Tongeschlecht (букв. — "пол" или "род" тона);
г. Лад может быть тонально неопределенным, лишенным определенного центра тяготения... Общим признаком всех старых мелодических ладов ("modi")... является то, что их основной моделью служит
определенный комплекс мелодических попевок, обобщенно представляемый ладовым звукорядом... В этом смысле термины "лад", "ладовый" могут подчеркивать мелодико-звукорядную горизонтальную сторону системы высотных связей» (77, с. 26-27, примечание).
7. С. Григорьев: «Ладовая структура есть функционально дифференцированная, основанная на субординационных отношениях мелодико-гармоническая система связей и взаимодействия тонов и созвучий» (22, с. 125).
8. Н. Гуляницкая: «Поскольку "лад" в широком его толковании
смыкается по содержанию и объему с "тональной системой"... постольку... будем эту новую систему называть тональной или атональной
в зависимости от ее структуры. Исследуя "механизм" современной тональной системы... мы получим возможность термином "лад" характери-
О понятиях, терминах у определениях...
13
зовать конкретное устройство, организацию, функциональную структуру
этой системы, а термином "звукоряд лада" обозначать систематический
порядок избранных звуков. Лад в этой терминологической ситуации
означает наряду с принципом системных отношений специфический
аспект этих отношений, а именно связи, взаимодействие в условиях
определенного набора звукоэлементов.
Как относиться к терминам "модус" и "модальность"?.. На наш
взгляд, модус совпадает с ладом в узком значении слова: абстрактное
выражение избранного ассортимента звуков оба они находят в "звукорядной табличке"» (24, с. 71).
9. Т. Бершадская: «Лад — система соподчинения тонов данного
звукоряда, дифференцированных по степени и форме их тормозящей
и движущей роли» (16, с. 64).
Сравнивая эти, хотя и не вполне совпадающие по времени появления, но в равной мере фигурирующие в сегодняшнем музыкознании
определения, можно отметить наличие как весьма важного общего — все
они определяют лад как структуру функциональную, — так и существенных (а для понимания ладовой структуры современной музыки —
весьма существенных) различий: в определениях 1, 3, 4 — категория
лада связывается с обязательностью наличия четкого центра; в определениях же 2, 5, 7, 9 — акцентируется лишь общая функциональная
взаимосвязанность тонов, наличие же центра не указывается как атрибутивное свойство лада. В определениях 1,5,8,9 подчеркивается роль
интервальной структуры звукового материала («звукоряда», «шкалы»)
как существенного элемента лада. В остальных определениях это указание отсутствует, и подчеркивается аспект отношений как таковой.
Противоречия усугубятся, если сравнить определения лада с другими, смежными с ним понятиями, например с понятием «тональность».
Тональность
1. Музыкальная энциклопедия: «а. Высотное положение лада..;
6. Иерархически централизованная система функционально дифференцированных высотных связей; Т. в этом смысле — единство лада и собственно тональности, то есть ладотональность (предполагается, что
тональность локализована на определенной высоте, однако в ряде случаев термин понимается и без такой локализации, полностью совпадая
с понятием лада <...>; в. В более узком, специфическом значении Т. —
система функционально дифференцированных высотных связей, иерархически централизованных на основе консонирующего трезвучия. Т.
14
I. Общие проблемы теории
н атом смысле — то же, что и "гармоническая тональность", характерная для классико-романтической системы гармонии 17-19 вв...» (41,
т. 1, стб. 564).
2. ТО. Тюлин: «Под тональностью, в строгом и определенном
смысле слова, надо подразумевать именно общий уровень высоты лада,
определяемого его основным тоном» (65, с. 80).
3. Б. Асафьев: «Тональность — окраска (тембр), высотность, а следовательно, напряженность и направленность лада» (<?, с. 153).
4. С. Григорьев: «Ладотональность есть ладовая структура в определенной (абсолютной) звуковысотной позиции, обладающая элементарной музыкальной осмысленностью, выразительностью, известным музыкально-семантическим значением» (22, с. 126).
5. Н. Гуляницкая: «...мы будем означать термином "тональность"
определенный тип звукоотношений, наиболее существенным признаком которого является централизация.
Тональность — это централизованная звуковысотная система,
в функциональной структуре которой ведущее значение имеет тоника
как главенствующий элемент. <...>
Суммируем. Термины "тональность", "тональный" могут быть
отнесены: а) к высотным связям, имеющим системно-структурный характер; б ) к "целостности" звуковысотной системы в отличие от "суммарности" (обособленности); в) к централизованной системе на основе
мажорно-минорных ладов ( X V I I - X I X вв.), собственно "классической
гармонии"; г) к централизованной системе, не основанной на мажороминорных ладах (другие ладовые формации или хроматическая шкала)» (24, с. 116-117).
Как видим, и в трактовке самого понятия «тональность» налицо
существенные расхождения. Так, определения 1а, 2,3,4 выводят понятие тональности в сферу абсолютной высотности, отделяя его от понятия «лад» (развитие концепции Б. Яворского). Определения же 16,1в, 5
такой дифференциации не дают, и тональность характеризуют опять
же через феномен функциональных отношений, или «вообще отношений» (16, 56), или отношений конкретных — мажоро-минора (1в, 5в).
Тональность в этих случаях либо отождествляется с ладом, либо оказывается одной из форм его проявления. Первое положение вызывает
вопрос: зачем нужны разные термины для определения одного и того
же явления? Второе же противоречит вынесению тональности в число
общих категорий. Следование ему неизбежно сводит понятие «лада»
к уровню звукоряда (см., например, определения Н. Гуляницкой). Но
О понятиях, терминах у определениях...
15
это опять же вступает в противоречие с функциональным пониманием
лада, как видно из приведенных определений — общепринятым, в отечественном музыкознании.
Разночтения наблюдаются и в раскрытии многих других понятий и соответствующих им терминов теории музыки. Приведем некоторые из них уже без комментариев.
Аккорд
1. Музыкальная энциклопедия: «Созвучие из трех и более различных (разноименных) звуков, которые отстоят друг от друга на терцию или могут быть (путем перестановки) расположены по терциям»
(41, т. 1, стб. 81).
2. Ю. Тюлин: «Логически дифференцированное созвучие, являющееся определенным представителем присущей нам ладогармонической системы» (65, с. 28).
3. Ю. Тюлин и Н. Привано: «Созвучие, которое является представителем ладогармонической системы и имеет определенное строение, подчиняющееся ладовым и акустическим закономерностям. Эти
закономерности сказываются прежде всего в терцовом строении аккордов. В качестве представителя лада аккорд должен содержать не менее
трех различных признаков» (67, с. 33-34).
4. Ю. Холопов: «Всякое самостоятельное созвучие, независимо от
его структуры <...> Все звуки (аккорда) являются частями целого, а не
изолированными и не соприкасающимися друг с другом элементами»
(77, с. 24).
5. Т. Бершадская: «Созвучие, которое функционирует как целостная конструкция и представляет собой самостоятельный элемент музыкальной системы. Интервальная его структура может быть различной» (16 у с. 31).
Гармония
1. Музыкальная энциклопедия: «Выразительные средства музыки, основанные на объединении тонов в созвучия и последовательности созвучий. Подразумеваются созвучия в условиях лада и тональности» (41у т. 1, стб. 907).
2. Ю. Тюлин: «В вертикальном аспекте возникает координация
тонов различной высоты, образующая объем звучания. Эта область
координации соответствует понятию гармонии в самом широком смысле слова» (65, с. 18).
16
I. Общие проблемы теории
3. Ю. Холопов: «Гармония есть высотная организация музыкальных звуков»; «гармония — это звуковысотная организация музыкального произведения»; «гармония есть высотная структура»; «...определение относится и к вертикали, и к горизонтали» (71, с. 43-44).
4. Н. Гуляницкая: «Гармония — это звуковысотная система, реализующаяся в музыкальной ткани произведения; единораздельная целостность, предполагающая связь качественно различных противоположных элементов. В более специальном аспекте: гармония — это
структура звуковысотной системы, определяемая составом гармонических "единиц" (тонов, интервалов, аккордов) и их функциональными
отношениями. Кроме того... это компонент стилевой системы, глубоко
связанный с воплощением художественного замысла» (24, с. 18).
5. Т. Бершадская: «...система отношений тонов в их одновременном звучании. К гармоническим связям принадлежат все те отношения, которые сопряжены с вертикальным разрезом музыкальной ткани и выступают как реальная или подразумеваемая... одновременность...
Именно эффект сливаемости, объединения сознанием в слитный комплекс даже последовательно появляющихся тонов свидетельствует о наличии гармонического начала» (16, с. 12-13).
Мелодия
1. Музыкальная энциклопедия: «Мелодия... одноголосно выраженная музыкальная мысль» (41, т. 3, стб. 511).
2. Ю. Тюлин: «Мелодику в наиболее широком смысле надо понимать как область координации тонов в их последовательном движении
(горизонтальном аспекте). В горизонтальном аспекте... последование
двух тонов уже образует мелодический минимум» (65, с. 19).
3. М. Арановский: «Мелодия есть развертывающаяся во времени
и воспринимаемая как линия последовательность объединенных интонационной связью тонов, обладающая единством структуры и содержания». Окончательное определение: «Мелодия есть развитая замкнутая интонационная структура. Недопустимо отождествление мелодии
с горизонталью» (3, с. 37-38; сравнить последнее определение с определением Ю. Тюлина).
4. Т. Бершадская: «Мелодия... как общее понятие типа сопряжения связана с последовательностью тонов... Самое существенное для
мелодического начала — принципиальная неслитность тонов, исключающая восприятие их как целостного комплекса вне искажения интонационно-логического смысла текста» (16, с. 12).
О понятиях, терминахуопределениях...
17
Не следует думать, что такая противоречивость и неоднозначность
расшифровки свойственна только русской терминологии. Есть основания упрекать в этом и зарубежное музыкознание. Так, например, в немецком языке нет единства в понимании термина Tonalitat, меняющего
свое содержание не только диахронически, но и синхронически. «"Tonalitat" — тональность, лад, — читаем у Балтер, — понимается в широком
смысле слова как единство какой-либо музыкальной системы с функциональным значением отдельных звуков. С этой точки зрения, он соответствует русскому понятию лада, однако в силу своего исторического возникновения применяется по отношению к мажоро-минорной
системе... Если Фетис, исходя из исторических и этнических предпосылок, говорит о разных типах (курсив мой. — Т. Б.) тональности, то
Риман сводит эти "types de tonalites" к единому принципу... мажороминорной системы... В дальнейшем термин Tonalitat трактуется многими теоретиками более широко как "принцип упорядочивания" в любой ладовой системе» (10, с. 224-225). Из сказанного следовало бы
заключить, что термин Tonalitat аналогичен нашему русскому понятию «лад» в широком, функциональном его смысле, на что сделано указание в тексте словаря. Далее, однако, в словаре сообщается, что понятие
Tonalitat противопоставляется понятию Modalitat как система гармонических отношений — мелодическим (там же, с. 226). Таким образом, содержание термина Tonalitat то расширяется до общего понятия
функциональной системы, то сужается до определения ее частной формы — мажоро-минора. Нет четкого единства и в определении содержания термина Tonart, особенно в его сопоставлении с термином Tonalitat,
ибо Tonart в одних случаях трактуется как понятие более узкое, нежели Tonalitat, обозначая конкретную интервальную структуру и высотное положение звукоряда, в других же «некоторые теоретики расширяют термин Tonart до понятия функциональной системы», сближая
его содержание с содержанием термина Tonalitat. Таким образом, есть
основания утверждать, что неупорядоченность терминологии — общая
«болезнь» музыкознания.
Разнобой в трактовке ключевых понятий, отсутствие единых исходных позиций при выведении терминов влечет за собой, как уже говорилось, сложность взаимопонимания, а порой приводит даже к существенным ошибкам. Убедительно ли, правильно ли, грамотно ли в свете
интонационно-функционального понимания лада звучит прижившийся термин «искусственные лады», обозначающий такие интервальные
ряды, как например, тон-полутон, целотонный ряд и т. п.? Во-первых,
I Чяк 597
I. Общие проблемы теории
18
в условиях функциональной трактовки лада интервальный ряд вне указаний на функциональную роль тонов — не более, чем просто звукоряд; во-вторых, если лад понимается интонационно и функционально,
то есть как выражение взаимосвязи тонов, то может ли он быть искусственным? И, наконец, в-третьих: эти «искусственные лады» встречаются в самом «безыскусственном» искусстве — народной музыке1.
Широкое распространение получил термин «натурально-ладовая
гармония» применительно к ладогармоническим системам с сильно
выраженным проявлением переменности функций. Иногда такие системы называют даже просто «ладовая гармония» в противовес гармонии «функциональной» (но из этого должен последовать вывод, что
лад — категория, исключающая функциональность) или «модальной».
Вдумаемся в эти термины. Какие свойства системы должны отразить
часть определения «натурально»? Разве не натурален, согласно самой
традиционной, даже «школьной» теории, например, соль мажор в Сонате № 20 Бетховена? В натуральности ли здесь дело? Весьма сомнительна правомерность применения к таким системам и термина «модальная гармония», если речь идет о музыке XIX века — Чайковском,
Мусоргском и др. Ведь модальность — это целая система мышления,
порожденная культурой определенной эпохи и служащая отражением
в музыке эстетических установок этой эпохи. При возможном наличии
некоторого чисто внешнего сходства отдельных гармонических оборотов логика гармонии и Мусоргского, и Чайковского совершенно иная.
Впрямую ошибочным, искажающим и историю, и реальное положение вещей, является проникшее во все учебники элементарной теории музыки определение системы средневековых ладов профессиональной музыки (дорийского, фригийского и т. д.) как ладов народной
музыки. На недопустимость подобного определения еще в 1968 году
указал В. Вахромеев (21, гл. 3, § 13). Однако это «недоразумение, ставшее традицией» (там же, с. 58), по-прежнему наводняет музыкальнотеоретическую (прежде всего — учебную) литературу.
Примеры неточностей, неувязок, пересечения понятий можно было
бы продолжить. Но их достаточно, чтобы сделать следующие выводы:
1. Нашему понятийно-терминологическому аппарату недостает
четких исходных позиций, четких методологических установок при
рассмотрении явлений, выведении тех или иных его определений и установлении соответственного аппарата. Недостаточно четко проводится
разграничение аспектов организации, уровней системы, нарушается
1
См., например, песню «Светлая гридня» («Песни Пинежья», № 42).
О понятиях, терминах у определениях...
19
порядок классификации терминов2. Например, определяя лад как «системность высотных связей, объединенных центральным звуком или
созвучием», то есть подчеркивая его функциональную сущность. Музыкальная энциклопедия предлагает классифицировать ладовые системы по принципу, полностью игнорирующему какие бы то ни было функциональные признаки: «Целесообразно (при классификации. — Т. Б.)
ограничиться указанием на наиболее важные типы ладовых систем как
на точки концентрации основных закономерностей ладообразования
(курсив мой. — Г. Б.): экмелика; ангемитоника; диатоника; хроматика;
микрохроматика; особые виды...» (41, т. 3, стб. 137). При этом диатоника
и хроматика трактуются интервально, без соотнесения их с функциональными значениями составляющих звукоряд тонов. Категория лада
при такой классификации сводится к уровню интервального строя —
то есть одного из элементов (так как нет указаний ни на объем, ни на
наклонение)звукоряда.
Нередко определение общего порядка дается на основании свойств
частного случая, отдельного, конкретного, исторически ограниченного
явления. Такими, выведенными на основании частных форм, представляются, например, определение лада как системы с четким тоническим
центром, тональности как системы мажоро-минора, определение ладовой (в некоторых определениях — тональной) функции как только
субдоминанты и доминанты и т. п. С таким смешением общего и частного тесно связана и еще одна посылка к понятийно-терминологическим неувязкам: определение сущности явления через внешне структурный признак. Таковы, например, определение аккорда как созвучия,
тоны которого должны укладываться в терцовый ряд; определение подголоска как обязательного варианта основной мелодии; определение
диатоники как шестиквинтового ряда и т. п. Сошлемся еще на один
пример из Музыкальной энциклопедии. В параграфе «Классификация
ладов» в разделе «Ангемитоника» читаем: «Ангемитоника (точнее,
ангемитонная пентатоника)... составляет всеобщий этап в развитии ладового мышления... Ангемитоника может быть неполной (три, четыре,
порой и две ступени), полной (пять ступеней), переменной (например,
переходы c-d-e-g-a
к c-d-f-g-a).
Полутоновая пентатоника (например, т и п а h - c - e - f - g ) классификационно составляет переходную форму к диатонике» (там же). Здесь налицо: а) отождествление общего
2 Небезынтересна в этом отношении этимология слова «термин». Термин {лат.
lerminus) в римской мифологии — божество границ. Название «термин» получали камни, служившие разграничением земельных владений.
20
I. Общие проблемы теории
принципа (ангемитонности) с частным случаем (пятиступенным бесполутоновым рядом); б) смешение качественного (интервальный состав)
и количественного (число ступеней) признаков; в) смешение категориальной данности и возможных форм интонационного и исторического
развития. Это приводит к тому, что элементарная логическая операция заставит признать, что пять может равняться двум, а бесполутоновая шкала содержать полутоны. Добавим к тому же, что данное определение ангемитонности не совпадает с определением в специальной
статье на эту тему в том же издании Музыкальной энциклопедии (т. 1,
стб. 146), что не способствует прояснению вопроса.
2. При выведении определений теоретическое музыкознание подчас прибегает к механическому перенесению понятий из одной конкретной системы в другую, что нередко искажает существо определяемого явления. Так, недопустимым искажением существа монодических
ладов народной музыки представляется бытующее почти во всех учебниках теории указание на три устоя в пентатонной ангемитонике. Ведь
речь идет о ладовой системе монодического типа, в которой каждая
функция, в том числе и устой, выражается только одним тоном, и выведение устойчивого трезвучия является не чем иным, как уступкой
традиции — в привычной для школьной теории системе мажоро-минора устойчивым, действительно, является комплекс трезвучия. Не менее ошибочно определение верхнеквинтового тона монодического лада
(антитезы, по X. Кушнареву) как второго устоя. Ведь сущность антитезы заключается именно в ее неустойчивости. Искажением существа
функциональных связей представляется умозрительное, иногда на основании чисто внешнего сходства структуры элемента, иногда и без
этого, на основании «арифметического» подсчета возможного ступеневого положения тона или аккорда, выведение доминантовых и субдоминантовых функциональных значений в системах монодийно-гармонических, где все связи определяются только мелодическим фактором,
или в системах центрального созвучия (по Г. Эрпфу), организованных
по принципу тоника — нетоника. В подобной умозрительности можно
упрекнуть даже такого теоретика, как Лендваи, стремящегося привести к тонико-доминантовой системе бартоковские тритоны.
Следует подчеркнуть, что механическое перенесение, о котором
идет речь, ничего общего не имеет с вполне правомерным расширением содержания понятия, рождающимся вместе с развитием музыкального мышления и музыкальной практики. Но в этом последнем случае
старый термин требует новой доказательно аргументированной рас-
О понятиях, терминах у определениях...
21
шифровки. Например, понятие аккорд относилось традиционной теорией музыки только к созвучиям терцового строения, разумеется неслучайно. Именно терцово-квинтовый комплекс стал впервые осознаваться слухом как нечто целостное — как устойчивое в своих фонических
качествах (а оттого и в качествах функциональных — как ладовое единство) созвучие. Исследователи по-разному объясняют этот факт3. Думается, что первостепенную роль в выдвижении терцового комплекса
сыграли все же акустические причины — «подтверждаемое^» терцово-квинтового созвучия обертоновым рядом. Но сейчас не об этом даже
речь. Художественная практика закрепила терцовый комплекс как стабильную форму аккорда на многие столетия, и музыкальная теория не
замедлила отразить этот факт в своих концепциях и определениях: «аккорд — то, что можно привести к терцовому ряду»4. Однако музыкальное мышление, музыкально-интонационная система развивается, и
в роли целостности начинают выступать другие созвучия — сначала исподволь, как «аккорды с заменными тонами», «аккорды с внедряющимися тонами», в которых достаточно ясно проступает терцовая основа.
Вслушаемся и задумаемся. Всегда ли уж так последовательно отделяем мы сознанием эту терцовую основу от «прилепившихся» к ней побочных тонов? Например, шопеновский V7 с секстой. Не воспринимается ли он слухом как вполне самостоятельное, целостное, единое
созвучие? Или рахманиновский VII7 с квартой? Ведь эти по интервальному составу нетерцовые комплексы давно перестали вызывать ощущение необходимости разрешить побочный тон в основную конструкцию
(разве только при «арифметическом расчете», требуемом в школьном
анализе) и воспринимаются как таковые. Музыкальная практика сегодняшнего дня полностью отринула терцовость как обязательную
форму аккорда и использует в качестве функциональной целостности
созвучия самого различного строения. Теория музыки совершенно обоснованно откликается на это явление возникновением новых концепций, новых определений и новых принципов классификации аккордов
(например, теория П. Хиндемита, классификация Ю. Холопова, теория «плотности» Ю. Кона и др.). Соответственно, и сам термин должен получить (и во многих случаях получает) иную расшифровку, охватывающую все, как бытующие сегодня, так и бытовавшие ранее формы
3 См., например, теорию «терцовой индукции, выдвинутую Л. Мазелем (35,
с. 168-169).
1 Об ограниченной, неабсолютной действенности «закона терций» см.: 16, с. 37-38.
22
I. Общие проблемы теории
аккорда, выделив то главное, что их объединяет: аккорд — комплекс
тонов, функционирующих как целостная единица5. Расширения содержания, а иногда и полного пересмотра требуют, на наш взгляд, и многие другие понятия теории музыки, такие, например, как лад, тональность; диатоника, хроматика; подголосок, гетерофония; гомофония и т. д.
Но об этом — ниже.
3. Во многих случаях краткие глубинные определения подменяются пространными описаниями истории термина, эволюции его содержания, существующих и существовавших его трактовок. Сведения
подобного рода сами по себе и интересны, и очень важны. Они помогают понять исторический путь осознания явления, историю формирования теоретических представлений, а нередко и историю самой музыкальной системы. Но, тем не менее, такая историческая информация
не должна поменять определение содержания понятия с точки зрения
самого автора концепции, без четкого и ясного формулирования которого расплывчатой становится и вся концепция. Особенно это заметно
в тех случаях, когда при изложении различных расшифровок одного
и того же понятия автор воздерживается от критических замечаний.
Тогда возникают многоступенные и «многопунктные» определения,
в которых нередко пункт второй противоречит пункту первому, а пункт
третий опровергает сказанное и в пункте первом, и в пункте втором;
при этом отдельные пункты определения значений одного понятия
часто пересекаются с пунктами определения другого (см. приведенные
выше определения лада и тональности).
Рассмотренные выше «огрехи» понятийно-терминологического
аппарата имеют, как представляется, достаточно четко обнаруживаемые корни. Многовековое господство в европейской профессиональной музыке (а именно профессиональная музыка и являлась в первую
очередь базой для возникновения теоретических представлений и концепций, а отсюда — и для установления терминов) стабильно-стереотипной системы мажоро-минора, в любом аспекте которой каждая
функция «закрепляла за собой» жестко определенную структуру (аккорд — терцовый ряд; доминанта — тон, расположенный на квинту
5 Тем более огорчительно, что не только в школьных учебниках теории, но даже
в Музыкальной энциклопедии мы до сих пор читаем: «Аккорд — комплекс тонов, приводимый к терцовому ряду», — определение, совершенно дезориентирующее читателя
и ученика, которые постоянно сталкиваются с нетерцовыми созвучиями, выступающими в функции аккорда.
О понятиях, терминах у определениях...
23
выше тоники и построенный на нем аккорд), «приучила к мысли», что
функцию элемента можно определить через его структуру: малый мажорный септаккорд — доминанта (септаккорд V ступени); созвучие,
состоящее из двух кварт, — созвучие с неаккордовым звуком; звукоряд
с одним диезом — соль мажор и т. п. Эти свойства систем стабильных
стали переносить и на различные другие системы — народной музыки,
профессиональной музыки, предшествовавшей мажоро-минорной эпохе, современной профессиональной музыки и др. Такое механическое
перенесение приводило к искажениям существа систем, о чем уже говорилось, или к появлению определений «через отрицание» типа «атональность», «аладовость» и т. п. — терминов, которые никак не отвечают требованиям научности. Более того, даже в случаях осознания тем
или иным теоретиком ограниченности действия (значимости) мажоро-минорной системы, при попытке выйти за ее рамки и дать позитивные характеристики отмечаемым новым явлениям, наблюдается тенденция все же непременно стабилизировать, унифицировать, привести
к единственно возможному структурному (интервальному) виду найденные новые формы организации. Такова, например, концепция
Б. Яворского, сделавшего огромнейший, важнейший шаг на пути к функциональной теории лада, но тут же и ограничившего свою теорию конкретной, единственно с его точки зрения возможной интерваликой, что
немедленно преградило этой теории путь к всеобщности значения.
Пожалуй, впервые только у Б. Асафьева мы встречаем достаточно определенно высказанное утверждение возможности бесконечно разнообразных форм проявления неизменных в своей функциональной роли
ладовых категорий: «Такие понятия, как устой, тяготение... объединяют собой как все соотношения тонико-доминантовой системы... так
и все более давние системы интонаций и все те, которые еще могут возникнуть» (6, с. 206; курсив мой. — Т. Б.); «Лад — организация составляющих данную эпохой систему музыки тонов в их взаимодействии.
11о такое статическое определение не должно затенять главного качества лада: исторические конкретные причины, вызвавшие к жизни ту
или иную систему организации тонов... действуют в процессе, то есть
никогда эта система не является абсолютно завершенной. Она всегда
находится в состоянии образования и преобразования... даже с трудом
стабилизируясь в самом сверхакадемически совершенном произведении, если оно не безнадежно мертво» (5, с. 196).
Асафьевский подход к определению важнейших категорий музыкальной системы, в частности, системы ладовой организации, во мно-
24
I. Общие проблемы теории
гом указывает путь к преодолению тех понятийно-терминологических
противоречий, о которых выше шла речь. При выведении определений
ключевых понятий теории музыки надо подняться до такого обобщения, которое обеспечило бы адекватность этих определений максимально большему (и «вглубь» и «вширь») количеству разновидностей единой сущности, отразив то главное, что объединяет эти разновидности,
роднит их между собой в музыке самых различных эпох и направлений. Основным для возможности такого обобщения представляется выполнение двух условий. Первое — это четкое разграничение аспектов
и уровней музыкальной системы, точность в отнесении данного понятия к определенному аспекту и определенному уровню. И прежде всего,
следует разграничивать уровни отношений от уровня материала, выявляющего эти отношения, уровень логический от уровня чувственноконкретного, уровень общего от уровня частных случаев, частных форм.
Недопустимо смешение аспектов — аспекта организации музыкальной
ткани с аспектом организации звуковысотных отношений, аспекта композиционной структуры с аспектом звуковысотной системы и т. п.
Попробуем рассмотреть с предложенных позиций, например, систему логической субординации звукового состава музыкального текста. В чувственно-конкретном явлении — интонационно содержательном музыкальном тексте — тоны, его составляющие, могут вступать
в двоякие отношения: отношения последовательности и отношения одновременности. Третьего в столь же реальной форме звучания не дано.
Таким образом, выделяется самый общий уровень разделения типа связей — мелодический и гармонический (теория предельно традиционная,
но от этого не менее справедливая). Мелодические и гармонические
связи могут проявляться и становиться действенными дифференцирующими силами в самых различных аспектах организации музыкального
текста: в аспекте музыкальной ткани (склады монодический или многоголосные разных видов), музыкальные композиции (например, различная природа расположения цезур, различная форма их выявления и соотношения в разных голосах), наконец — в аспекте логической системы
субординации отношений тонов. Сосредоточим внимание на этом последнем. Здесь также можно выделить разные аспекты и разные уровни, не расчленяющиеся в конкретном художественном явлении, но подлежащие непременной дифференциации в научном определении.
Первый уровень абстракции — приведение к логически, в определенном порядке, выстроенному ряду использованных в тексте тонов (система звукоряда). Второй уровень абстракции — установление суборди-
О понятиях, терминах у определениях...
25
нации во взаимоотношениях между этими тонами (система функций).
Интеграционное обобщение обоих уровней дает представление о целостной системе — «лад» («лад — свод, строй и вместе с тем система соподчинения тонов; 6, с. 230), то есть о системе «отношений тонов данного звукоряда, логически дифференцированных по степени и форме
их тормозящей и движущей роли» (16, с. 64). Однако звуковысотная
система может быть рассмотрена и в другом аспекте — с точки зрения
абсолютно-высотных параметров звучания. Этот аспект характеризуется категорией тональности: «Тональность — окраска (тембр), высотность, а следовательно, напряженность и направленность лада» (<5,
с. 153). Указанные аспекты и уровни характеристики ладотональной системы, во-первых, являются неотъемлемыми, атрибутивными свойствами всякого ее вида, ибо нельзя представить себе музыку, не содержащую тонов, не выражающую функциональную связанность между
ними, расположенную вне абсолютной высоты. Во-вторых, они исчерпывают собой все возможные «направления» рассмотрения ладотональной организации — любое другое будет лишь или детализировать
результаты одного из них (например, предложенный в «Лекциях по гармонии» второй уровень рассмотрения звукового материала с точки зрения функционально информативной единицы (16, с. 91-94) или более
детализированная дифференциация ладовых функций (35, с. 198-204;
/6, с. 70-74), или фиксировать большее или меньшее интонационное
и формообразующее значение (или, напротив, нейтральность) какоголибо аспекта для того или иного конкретного материала или той или
иной исторической эпохи (например, усиление значения именно звукоряда при нейтральной роли абсолютной высоты — тональности —
для модальных систем X I I - X V I вв.; напротив, возрастание роли абсолютно-высотного положения системы и интервального соотношения
положения тоник для музыки X V I I I - X I X вв. и т. п.). Разноуровневой
системой является и организация музыкальной ткани, неисчислимое
многообразие фактуры которой (конфигурация, изложение, рисунок
сплетения голосов) управляется высшим логическим уровнем — складом, дающим вполне исчислимое количество — три основные разновидности (там же, с. 17).
Систематика понятий и их реализация в непересекающихся терминах, предложенная применительно к ладовой и тканевой организации музыки, — лишь отдельные примеры аспектно-уровневого подхода к рассмотрению текста и созданию того, что выше было названо
герминосистемой. В каждой из сфер музыкальной организации (в сфере
26
I. Общие проблемы теории
временных отношений — ритма, в сфере композиционной структуры —
формы и т. п.) может и должна возникнуть своя иерархическая система понятий, в которой, повторим, не будет места перекрещиванию ни
аспектов, ни уровней (функциональные отношения не будут определяться через звукоряд, абсолютная высота — через степень централизованное™; в других аспектах: раздел — через тему, цезура — через ладовую функцию, форма — через жанр и т. п.). Не должно иметь места
определение родовых понятий через свойства одной из разновидностей.
Таково, например, традиционное рассмотрение тональной модуляции
(общее, родовое понятие смены тонального центра) и отклонения
(скользящий, не закрепленный кадансом уход из тональности) как однопорядковых явлений; в результате, общее понятие модуляции получает определение, отвечающее лишь одной из форм проявления этого
общего — смене тональности, закрепленной кадансом.
Установление последовательного, логически выверенного классификационного порядка связано с выполнением второго условия для
достижения более широкой, относительно всеобщей значимости устанавливаемых теорией категорий и понятий (соответственно — и терминологии). При выведении определений сущности того или иного элемента системы в качестве исходной установки следует брать функцию
этого элемента в данной системе (или одном из ее аспектов, на одном из
ее уровней), но ни в коем случае не структурные (конкретно интервальные, конкретно интонационные, конкретно временные и т. п.) его признаки. Последние могут отразить лишь свойства, присущие частной форме этого элемента, ограниченной рамками историческими, социальными,
ареальными и т. п., но никогда не смогут раскрыть признаков существенных, общезначимых. Если аккорд — «совокупность тонов, располоагающихся по терциям», то такое определение справедливо только для системы мажоро-минора (эпохально — для периода от XVI до XX вв.). Если
аккорд — «комплекс тонов, функционирующий как целостное единство»,
то такое определение, отразив функциональную сущность феномена
«аккорд», окажется адекватным для любой эпохи, для любого аспекта
(ладового, тканевого) музыкальной организации. Если подголосок —
«вариант основного голоса», то такое определение впрямую подойдет
только к многоголосию русской народной песни, да и то не ко всем его
формам; если подголосок — «мелодически организованный голос-сопровождение», то такое определение охватит и подголосочность Чайковского, и подголосочность Шумана, Брамса, и подголосочность Мусоргского,
хотя в каждом конкретном случае структурные формы его и интонационное соотношение с основным голосом будет различным.
О понятиях, терминах, определениях..,
27
В заключение сказанного выше хочется подчеркнуть, что предлагаемый пересмотр и пути усовершенствования понятийно-терминологического аппарата полностью ложатся в русло общей тенденции и направленности музыковедения сегодняшнего дня. Они отвечают все
более и более завоевывающему господствующее место в науке методу
системного исследования, при котором функциональные связи ставятся
ио главу угла системного представления о предмете, помогающего раскрыть сложную структуру художественного произведения во взаимодействии всех уровней — от уровня выразительных средств до уровня
содержания. Достаточно вспомнить, какое распространение и расширение рамок своего использования получил сам термин «функция»,
•функциональность», в недалеком прошлом использовавшийся только
применительно к ладовым отношениям, да и то преимущественно лишь
одной определенной системы — мажоро-минора. Теперь же без понятия
«функциональности» не обходится исследование ни одного аспекта музыкальной организации. Мы читаем о функциональности формы у В. Бобровского (18,19), о функциональности тематизма у Е. Ручьевской (51)У
о принципе функциональности как всеобщем законе музыкальной организации у А. Милки (40). И это не случайно. К необходимости системного подхода, к выведению функции во главу угла представления
о предмете и его организации призывает сама специфика современного
материала: сосуществование неисчислимого множества самых различных конкретных форм, в которых предстают единые по своему функциональному назначению элементы музыкальной системы. Это многообразие самой единовременностью своего существования отрицает
стабильность структуры форм как некий обязательный закон и тем самым опровергает правомочность определений, выведенных на основании внешнеструктурных признаков. Функциональный же подход к определению сущности явлений с четким разграничением аспектов
и уровней музыкальной системы, в конечном счете направленный на
раскрытие содержательного слоя музыки, позволит поднять ключевые
понятия теории до значения категорий, отраженных в соответственной, логически выверенной и упорядоченной «терминосистеме». А это —
необходимое условие достижения «удовлетворительного состояния»
музыковедческой науки.
Принципы ладовой классификации *
1 j-режде всего остановимся на одном из кардинальнейших, с нашей
точки зрения, вопросов — правомерно ли утвердившееся в теории музыки разделение ладовых систем на профессиональные и народные и выделение последних в особую теоретическую категорию? Такое разделение
даже в специальных работах принимается почти как само собой разумеющееся, а в учебниках и учебных пособиях декларируется без оговорок:
тема «Лад» начинается с изложения законов на примерах и схемах мажоро-минорной системы, а все прочие лады (точнее — звукоряды, так
как специфика их функциональных отношений почти не рассматривается) объявляются ладами народными.
Такой подход представляется нам ошибочным. Разделение «мажоро-минор» — «народные лады» неверно уже потому, что нарушает
принцип научной классификации, требующий, чтобы явления разделялись на ряды по единому признаку. Между тем в данном случае одна
группа ладов (мажоро-минор) объединяется по форме организации;
другая (народные лады) — по условиям бытования, то есть скорее всего
по жанровому признаку. Кроме того, подобное разделение влечет за собой вывод, что фольклор обладает иной интонационно-логической сущностью, чем искусство профессиональное, а это в корне неверно.
Анализ образцов европейского народного и профессионального
творчества заставляет пересмотреть сложившиеся представления.
Вспомним, например, тему фуги b-moll Д. Шостаковича. Ладовая организация ее, несомненно, гораздо ближе русской народной песне, чем
мажоро-минору. В таких случаях справедливо говорить о влиянии народно-песенных интонаций. Но каковы бы ни были истоки фуги, она
остается произведением профессиональной музыки, а лад — сугубо мелодическим, разворачивающимся принципиально по тем же законам,
что и лады многих русских народных напевов.
* Статья впервые опубликована в изд.: Советская музыка. 1970, № 8 (прим.
ред).
Принципы ладовой классификации
29
Разумеется, сказанное выше не означает отрицания ладовых особенностей народной музыки как определенного жанрового круга. Но
раскрывать эти особенности следует в аспекте жанрово-этнографическом и стилевом, то есть с точки зрения того, как и какие общие закономерности проявляются в этом частном явлении. Выделять же их в особую категорию по принципу организации, на наш взгляд, неправомерно
(аналогично тому, как специфические особенности в сонатах Бетховена, например, не дают основания подразделять сонатный принцип оргаиизации формы на сонатное allegro вообще и сонату Бетховена).
Классификация многообразных ладовых форм, несомненно, необходима, но по иным признакам. Привести их в единую систему возможно лишь в том случае, если положить в основу классификации самые
общие качества, составляющие сущность ладовых отношений как логического начала музыкального языка. (Сразу же оговоримся, что при рассмотрении такого сложного понятия следует исключить всякую возможность какого-либо исчерпывающего перечисления видов; речь может
идти только об основных принципах классификации.)
Что же составляет сущность лада и каковы его основные свойства?
11есомненно, что решающую роль здесь играет дифференциация составля ющих музыкальное произведение элементов (тонов, созвучий) по их
значению и характеру соподчинения. Следовательно, в основу теории
лада должно быть положено три момента1: форма дифференциации (то
сеть форма функциональных отношений); форма выражения функции
(характеристика элемента, являющегося носителем ладовой функции, —
тон, созвучие и т. п.); наконец, «почва» разворачивания ладовых отношений, то есть звукоряд2.
В самом деле, как бы ни различались между собой в данном отношении, например, симфонии Бетховена, багатели Бартока, русская народная песня, — дифференциация функций, соподчинение элементов
и звукоряд будут иметь место в любом из перечисленных произведений, хотя в совершенно различных видах и формах.
По признаку характеристики того элемента, который является основным носителем, основным выразителем функций в той или иной
системе, ладовые системы в целом можно подразделить на два основ1 См. об этом статью А. Должанского на симпозиуме, посвященном вопросам
пда в Ленинградском отделении ССК (1965).
2 Звукоряд, таким образом, оказывается лишь одним из элементов лада, од11< >ii из сторон, в то время как (отметим попутно) во многих случаях исследование
шла почти подменяется исследованием звукорядов.
30
I. Общие проблемы теории
ных типа и один производный. Если функциональные отношения осуществляются преимущественно через связь тонов и, следовательно, носителем функции выступает тон, то мы имеем дело с мелодическим типом лада3.
Известно, что специфика мелодических ладов в основных чертах
сводится к следующему: они организуются как связь тонов, каждый из
которых имеет свою определенную, не повторяемую другим функцию.
В своем чистом виде они не октавны: тон, повторенный октавой выше
или ниже, несет совершенно иную функцию. Поэтому число тонов, составляющих звукоряд подобного типа, даже в условиях строгой темперации может быть совершенно различным. Многообразна и интервальная структура таких звукорядов. В то же время один и тот же звукоряд
может служить основой различных ладов в зависимости от местоположения тоники. Таким образом, мелодическим ладам абсолютно не свойственна та закрепленность определенного звукоряда за определенной
тональностью, которая отличает, например, лады мажоро-минора. Значение тоники определяется здесь сложным комплексом ритмоинтонационных условий, прежде всего — положением тона в форме (в мотиве,
фразе), следовательно — его соотношениями с другими тонами. Играют
роль и протяженность тона, и его повторяемость, и его отношение к ритму, к цезуре, в вокальной музыке — к ударению, акцентируемому по
смыслу слогу и т. п., но все это — в совокупности и в каждом случае
возможно по-разному. Так создаются условия для сравнительно легкого
смещения тоники, а потому и для некоторой тональной неустойчивости.
Как можно предположить, мелодические лады — исторически
наиболее ранняя форма ладовой организации, возникшая в одноголосной, и даже более точно — в одноголосной вокальной музыке. Ее интонационная основа — возгласы, кличи, плачи, наконец — пение. И, если
говорить о естественно-объективных предпосылках возникновения ладоинтонационных отношений, то, наряду с акустическими законами, следует назвать такие явления, как дыхание, напряжение голосовых связок, характер речевых интонаций и т. д., то есть явления в большой мере
индивидуально-характерные. Вероятно, именно этой ролью индивидуального начала в самой природе монодической интонации можно объяс3 Лады подобного типа называют также монодическими, и это, пожалуй, даже
более точно отражает сущность принципиально «горизонтальной» формы связи тона
с тоном. Но, поскольку такие системы с развитием многоголосия стали проникать и
в полифонию, и в другие сложные многоголосные комплексы, в настоящее время,
вероятно, уместнее применить к ним более широкое определение — мелодические.
Принципы ладовой классификации
31
нить ту множественность форм, то неисчислимое многообразие видов,
которые свойственны мелодическим ладам. Этим же обусловлена их
типичнейшая черта, на которой хотелось бы остановить внимание: абсолютная нестабильность, исключающая возможность исчерпывающего
перечисления всех разновидностей. Лады монодии, в принципе, неповторимы. Они допускают классификацию и систематизацию лишь по
некоторым существенным признакам, в первую очередь — по виду звукоряда и по характеру функциональных отношений 4 .
Звукоряды мелодических ладов можно предложить классифицировать по виду интервальной структуры, по наклонению и объему
С точки зрения интервальной структуры, звукоряды подразделяются прежде всего на ангемитонные и гемитонные, причем и те и другие
и свою очередь допускают разделение: ангемитонные — на структуры трихордово-пентатонные и целотонные, гемитонные — на «обычную» диатонику и различные более сложные формы, в том числе хроматические.
Под наклонением мы понимаем определенную окраску лада, зависящую от интервального строения и зафиксированную в нашем сознании благодаря ее повторяемости. Установившаяся традиция различать
только два наклонения — мажорное и минорное — теснейшим образом
связана с длительным господством объединяющей их системы. Однако
исторически стабилизировавшиеся звукоряды с той или иной окраской — не только мажор и минор. Не узнаем ли мы тотчас же фригийский оттенок во вступительных тактах «Лунной» сонаты Бетховена или
лидийский в отдельных оборотах, например, до-мажорной мазурки
I Иопена (ор. 24 № 2)? Вместе с тем произведения эти написаны на чисто
г армонической основе, с вводными тонами, и как система организации
их лад не имеет ничего общего с фригийским или лидийским ладами
н их мелодическо-полифонической сущности. Поэтому здесь можно говорить именно и только о наклонении. Как думается, такие стабилизировавшиеся явления — дорийская секста, фригийская секунда, лидийская кварта и т. п. — вполне заслуживают право быть определителями
соответствующего наклонения.
Последний пункт в характеристике звукоряда — его объем. Его
принято исчислять по интервалу между крайними тонами диапазона
1 В основу характеристики каждой, из этих категорий нами положены лишь
наиболее стабилизировавшиеся в художественной практике (и потому нашедшие
< нос отражение в теоретической терминологии) явления. Принципиально любой
пункт классификации может быть расширен и продолжен, что, несомненно, произойди г и в дальнейшем в связи с неисчерпаемым богатством видов и непрекращающимся развитием ладовых систем.
32
I. Общие проблемы теории
(звукоряд в объеме кварты, в объеме сексты или ноны и т. д.). Однако
к этому следует добавить показатель числа ступеней, заключенных в нем,
ибо не требует пояснения, что звукоряд в объеме кварты, например,
может иметь как четыре, так и две, три, пять ступеней. Предлагаем схему характеристик мелодического лада с точки зрения звукоряда:
Перейдем теперь к выражению функциональных отношений мелодических ладов. Наиболее общей формой таких отношений выступает,
как известно, соотношение устойчивости и неустойчивости. Здесь в первую очередь следует иметь в виду, что устой и неустой, помимо различия своих динамических качеств (торможение — движение, динамика),
отличаются друг от друга еще одним важным фактором: устойчивость —
функция ненаправленная и потому однозначная; это центр притяжения.
И, как всякий центр, устой сосредоточен только в одной точке5.
5 Если лад организуется как связь созвучий, то такой центр, будучи созвучием, может представлять собой одновременно несколько тонов, но обязательно только в комплексе, а не поодиночке. Чертеж, столь часто фигурирующий в учебниках
теории музыки, в котором устои мажорного лада представлены как последовательно
взятые три отдельных тона, ни в коей мере не отражает, даже, позволим себе сказать,
искажает сущность гармонического лада. Ведь только в комплексе тонического трезвучия тон g в C-dur звучит как устойчивый. В мелодических же ладах вне модуляционного процесса наличие одновременно нескольких устоев вообще невозможно:
круг не может иметь несколько центров.
Принципы ладовой классификации
33
Неустойчивость как функция движения, напротив, многозначна
и может выступать в самом различном качестве и количестве, как направленность к центру из различных точек. Таким образом, неустойчивые элементы даже неодинаковы в своем функциональном значении и,
и свою очередь, требуют дифференциации.
Как уже отмечалось выше, большую роль в характере тяготений
внутри мелодического лада играют интонационно-интервальные отношения данного неустоя к устою — тот «мелодический путь», в котором
реализуется тяготение. Поэтому весьма существенно положение каждого из неустоев по отношению к тонике, и следует различать неустои
нсрхне- или нижнесекундовый, верхне- или нижнетерцовый или квартовый и т. п.
Особо следует отметить такие случаи, когда неустойчивые тоны,
сохраняя в целом свою динамику направленности к тонике, в то же время
способны концентрировать вокруг себя движение остальных устоев и тем
самым как бы противостоять тонике. Их собирательная функция — отпюдь не тормозить, не успокаивать, но предельно активно стремиться
к тонике. Это так называемые побочные опоры, или ладовые антитезы
(см. об этом 33). Их интервальное положение по отношению к тонике во
многом определяет сущность лада, не менее значительно, чем наклонение, — и служит еще одним признаком классификации ладов.
Множественность и нестабильность мелодических ладов создают
условия для легкого модулирования — смещения центра6. В связи с этим
следует выделить еще одну категорию мелодических ладов — слабоцентрализованные лады, в которых дифференцированность функций ощущается меньше благодаря постоянному скольжению центра (см. схему
им стр. 34).
Второй основной тип ладовых систем составляют лады гармонические. Как известно, они представляют собой определенным образом оргаиизованную систему созвучий (см. об этом 67). Только тот лад «имеет
право» на отношение его к гармоническому типу, в котором данное определенное созвучие вызывает ожидание другого, также определенного
пшучия( V 7 —I).
(i Возможность смещения центра отнюдь не противоречит высказанному выше
ушержленню о невозможности нескольких устоев в монодическом ладу. Одно дело —
централизованный, устойчивый лад и, следовательно, основные функции. И друюг - скольжение центра, явление модуляционного порядка, связанное с переменностью функций.
» Члк я97
34
I. Общие проблемы теории
Гармонические лады — продукт длительного исторического развития, и прежде всего — развития многоголосной инструментальной
музыки, тесно связанной с акустическими законами, что отразилось и на
особенностях этих ладов.
В чистом виде к гармоническим ладам, с нашей точки зрения, могут быть отнесены только мажор и минор, о которых Б. Асафьев пишет,
что это, в сущности, — один лад, а «мажорность и минорность — скорее
наклонения» (б, с. 230).
В гармонических ладах особенно ощутимы естественные физикоакустические предпосылки, лежащие в основе ладовых отношений (подчеркиваем, что речь идет именно об основе ладовых связей; вообще же
акустические закономерности связываются в любом проявлении музыки как звучащего искусства).
Именно опора на акустические и, следовательно, предельно объективные законы отношений звуков и породила ту стабильность форм
звукоряда и функциональных связей, которая отличает гармонические
лады. Это лады октавные, и притом строго определившейся структуры.
Каждому данному звукоряду может соответствовать только одно положение тоники (даже параллельные тональности отличаются лишь случайными знаками), и всякое изменение положения тоники (модуляция)
влечет за собой изменения в звукоряде. Здесь наблюдается наибольшая
Принципы ладовой классификации
35
централизованность и наибольшая активность: любое нарушение ожидаемого последования вызывает острую реакцию Неслучайно именно
тонико-доминантовые отношения легли в основу самой динамичной из
музыкальных конструкций — сонатной.
Стабильность форм мажоро-минора исключает необходимость
каких-либо дополнений к издавна установленной классификации.
Третий тип ладовых отношений, обозначенный нами как производный, объединяет лады, которые можно назвать мелодико-гармоническими. Особенность их связей можно определить следующим образом: тон — функция; созвучие — «тембр», фонический «наполнитель»
гона. Иными словами, носителем ладовой логики здесь служит мелос,
и тон — как элемент этого мелоса. Созвучие же само по себе не несет
функциональной нагрузки, не требует после себя сколько-нибудь определенного нового комплекса, не тяготеет к нему, а целиком подчиняется
функции того тона, который оно поддерживает; явление, прямо противоположное гармонической мажоро-минорной системе, где созвучие
часто определяет функцию тона7.
Эта вторичность созвучия в функциональном плане приводит к совершенно новой его трактовке и к новым структурным формам по сравнению с фиксированно терцовым комплексом в гармонических ладах.
Здесь задача иная: не подчеркнуть объективно обоснованное «самотяготение» акустически подтвержденных комплексов, а находить все новые
и новые краски, «тембры» и звуковые «наполнители» тона — ведущего
ладового организатора. Отсюда обилие сложных, неединообразных «вертикальных» сочетаний. Отсюда так часто упоминаемая исследователями современной гармонии «диссонантность тоники». Термин не очень
удачный: не тоника диссонантна, ибо тоника — это тон, диссонанс же —
обертональная раскраска его, ничего общего не имеющая с диссонансом
функционально-ладового значения.
Основой анализа вертикали в подобных случаях должны стать,
и первую очередь, интервальная оценка созвучия, особенности его изложения, расположения по регистрам, удвоения и т. п.; и ни в коем случае не «цифровка», даже в тех случаях, когда состав созвучий формально позволяет ее применять. Ведь цифры П6—V7 в музыке, основанной на
гармонической мажоро-минорной системе, давно перестали быть мате7 Право же, стоит пересмотреть мнение о безоговорочной устойчивости какого бы то ни было отдельного тона, даже I ступени, в условиях мажоро-минора. Ведь
н|)яд ли устойчиво звучит прима лада, включенная в квинтсекстаккорд II ступени.
36
L Общие проблемы лада
матической единицей и выражают своего рода «семантику» функции,
ладовый смысл. При цифровке же, к примеру, начальных тактов «Мимолетности» № 1 С. Прокофьева ряд цифр — L, VII7, IV<t8 и т. п. — никак
не раскрывает функциональный смысл последования, так как логика
здесь — в исходящем движении мелодии нижнего голоса, данной в своеобразном «утолщении» неполными септаккордами.
Мелодико-гармонические лады, как и лады мелодические, абсолютно неединообразны и допускают классификацию лишь по тем же
признакам, но с поправкой, во-первых, на принцип октавности, почти
всегда имеющей место в таких случаях, и, во-вторых, на характер строения вертикали.
Такова, на наш взгляд, картина ладовых систем в самом общем
плане. Разумеется, в музыкальной практике они используются не только в «чистом виде», но и в различных сложных сочетаниях, смещениях,
перекрещиваниях. Однако рассмотрение таких сочетаний требует специального исследования и выходит за рамки задачи, поставленной в данной статье.
Функции мелодических связей
в современной музыке *
ч
J - т о б ы выяснить функции того или иного элемента, необходимо
прежде всего определить сущность самого этого элемента. О мелодии
написано много, немало существует и определений того, что такое мелодия, однако, если попробовать сравнить эти определения, то придется
признать, что единства мнений по этому вопросу не существует. «Мелодия — художественно осмысленный последовательный ряд звуков разной высоты, организованных посредством ритма и лада» (76, с. 303).
«Мелодия есть последование осмысленных по отношению друг к другу
гонов, подобно тому, как гармония есть одновременное звучание тех же
тонов. Основным принципом мелодического в музыке является движеиие голоса вверх и вниз (восхождение и нисхождение) и притом не
скачками, а последовательно, постепенно... В нашем гармоническом стиле
наименьшие шаги голоса (на тон или полутон) называются мелодическими, большие же шаги (на терцию, кварту и т. д.) обыкновенно называют
гармоническими» (47, с. 831). «Только процесс, совершающийся между
гонами, ощущение сил, пронизывающих их цепь, есть мелодия» (32, с. 36).
«Основой мелоса с психологической точки зрения является не последоиательность тонов, а момент перехода от одного тона к другому» (там же,
с. 35). «Мелодия есть последовательное звучание тонов, в отличие от
одновременного — гармонии» (60, с. 10). Мелодия — «многообразное по
ритму и высоте последование звуков» (там же, с. 11). «Мелодия — это
:жучащая в одном голосе музыкальная мысль... такой голос, который
обладает достаточной музыкально-выразительной характерностью» (36,
с. 30). «Мелодику в наиболее широком смысле надо понимать как область координации тонов в их последовательном движении (горизонтальном аспекте). Специфика этой координации заключается в энергетической связи тонов, которая является необходимой предпосылкой
* Статья впервые опубликована в изд.: Критика и музыкознание: Сб. ст. Вып. 2.
Д., 1980 (прим. ред.).
38
I. Общие проблемы теории
смысловой стороны мелодии. Под энергетической мы понимаем такую
связь, в которой присутствует напряженность энергетического перелива
одного тона в другой, образующая мелодическую напевность» (65, с. 19).
«Мелодия есть развертывающаяся во времени и воспринимаемая как
линия последовательность объединенных интонационной связью тонов,
обладающая единством структуры и содержания... Мелодия есть замкнутая интонационная структура... Недопустимо отождествление ее с горизонталью» (3, с. 37-38).
Как видно из приведенных определений, не существует даже единой исходной позиции, с которой музыканты наших и прошлых дней
подходят к определению сущности мелодии. Ее определяют, исходя из
структурных признаков (60), функциональных и эстетических (56,56),
психологических (32) и даже в связи с интерваликой (35,39, 47). Поставим в центр внимания именно структурно-логический аспект изучения мелодии. В этом аспекте оказывается весьма существенным то, что
при всем различии имеющихся определений, их роднит между собою
содержащееся в каждом указание на один и тот же признак: на то, что
мелодия есть последование тонов. Одними авторами он отмечается как
единственный, другими — как определяющий, третьими — как сопутствующий: в одних случаях он констатируется, в других — раскрывается
как процесс, но везде неизменно присутствует как обязательный атрибут мелодии. Наличие общности при столь разных подходах к явлению
наводит на мысль, что к определению мелодии следует подходить на двух
уровнях: мелодия (мелодическое) как принцип логики, организации,
как общее понятие типа сопряжения, как начало (структурное, конструктивное), связанное с последовательностью, противоположное гармоническому, принципиально одновременному. На этом уровне определяется
только общий принцип координационной логики. Конечно-структурной характеристики этот уровень не имеет. Зато он позволяет вывести
понятие мелодических связей не через какую бы то ни было конкретную интервалику, а как показатель принципиального направления этих
связей — горизонтального. Именно этот аспект мелодического начала
(при всем различии конечных выводов) освещен определениями Г. Римана, Э. Тоха, Э. Курта, Ю. Тюлина и др.
Другой уровень — это определение мелодии как конечной структуры, конкретного явления, структурно законченной данности. Так, например, целостной мелодией является напев песни «Не одна во поле
дороженька» или главный голос побочной партии «Неоконченной» симфонии Шуберта. К этому уровню ближе подходят определения, опира-
Функции мелодических связей в современной музыке
39
ющиеся главным образом на эстетически содержательную сторону мелодии. Таковы, например, определения Л. Мазеля, И. Способина, М. Арановского.
Если второй (конкретно-конечный) уровень специальных уточнений не требует, то на первом, общем, следует остановиться подробнее,
ибо им, с нашей точки зрения, и определяется специфически мелодическое\ мелодия как принцип соотношения и связи тонов. На этом уровне
мелодическое (в противоположность гармоническому) можно определить как системность последования тонов: мелодия — организованная
последовательность тонов. «В горизонтальном аспекте... последование
двух тонов уже образует мелодический минимум» (65, с. 19). Особо
подчеркнем, что мелодическим явлением система последования тонов
будет и в том случае, когда она реализует самостоятельный тематический замысел, когда она автономно значима как выразительный элемент (мелодия одноголосной песни, мелодия главного голоса гомофонной фактуры), и тогда, когда она является подчиненной, производной
и не несет самостоятельных выразительных функций (средний голос гармонического многоголосия). В любом случае рассматриваемая на этом
общем уровне горизонтальная линия тонов будет осуществлять собой
мелодический тип связей и в этом смысле будет являться мелодией.
Сказанным определяется и понятие мелодических связей. Выше
упоминалось, что эти связи подчас определяют через характер интервалики, противопоставляя секундовые связи как мелодические квартовоквинтовым как гармоническим. Интервальная дифференциация встречается даже в работах таких авторов, чей общий взгляд на сущность
мелодийного исходит из глубоко принципиальных позиций горизонтального типа связей (35,39,47,66). Представляется, что интервальный (количественный) подход к определению логического принципа (то есть
качественного отношения) вряд ли правомерен. Во всяком случае, можно
говорить о его стилистической ограниченности: о явной ориентации на
музыку эпохи господства мажоро-минорной ладогармонической системы. Конечно, отрицать различие естественных свойств интервалов, в силу акустических причин, тяготеющих в одном случае к сливаемости
(квинта, терция, в некоторых условиях — кварта), в другом — к «стиранию звукового следа» (выражение Ю. Н. Тюлина), принципиальной раздельности и потому к самозначимости каждого тона (секунда), было бы
попросту абсурдным. Но естественные посылки — это феномен лишь
физический, а мелодия как интонационная сущность и данность — продукт человеческого сознания, рожденный не только акустическими пред-
40
I. Общие проблемы теории
посылками. Это явление исторически и социально складывающееся
и развивающееся, и в этом своем развитии оно способно преодолевать
физические свойства «первотолчка». Неслучайно, например, квартовая гармония Бородина гораздо более «мелодийна» по своей сути, чем
насыщенная секундовыми внедряющимися побочными тонами аккордика Прокофьева. Для Бартока, для Слонимского сугубо мелодическими являются квартовые и даже тритоновые связи, поскольку этими
интервалами насыщена их мелодика. Поэтому мелодическими, если принять данное выше наиболее общее определение мелодического начала,
следует считать связи, рожденные взаимодействием тона с тоном по
горизонтали (образующие линию). Интервалика же может быть самой
различной, в зависимости от интонационного строя того музыкального
текста, о котором идет речь.
Противопоставление секунд квартам и терциям может определять
скорее интонационные истоки материала. Интонации, связанные с опорой на законы акустической природы звука, — интонации инструментальной музыки или инструментального происхождения, а также зовы,
кличи, «посылаемые» вдаль и рассчитанные на отзвук, — будут чаще
использовать кварто-квинто-терцовые ходы. Напротив, интонации, рожденные речью, — плачи, причитания, «вздохи» и т. п. — будут чаще
использовать секундовые ходы, а порою, в случае имитации натурального всхлипывания, рыдания, — септимы, ноны, тритоны и т. п. В конкретных художественных произведениях интонации, рожденные и теми
и другими предпосылками, сосуществуют и постоянно взаимодействуют друг с другом. В самых древних пластах народного искусства можно
обнаружить соседство интонаций квартовых и квартово-терцовых с секундовыми (например, «летний» звукоряд; см. об этом 48). В эпоху господства мажоро-минорной ладогармонической системы, основные логические законы которой определялись акустическими предпосылками,
для мелодии специфичными были именно секундовые шаги (отсюда
и пошло утверждение секунды как собственно мелодического интервала). Тем не менее, если опираться на европейскую профессиональную
музыку в целом, то общую историческую тенденцию к усложнению и расширению круга интервалики мелодической линии можно считать несомненной. Следовательно, и понятие мелодических связей стало более
широким и способным охватить более широкий круг интервалики, по
существу — неограниченный.
Мелодические связи, то есть связи, рожденные и продиктованные
взаимодействием тона с тоном, в разных музыкальных системах, в раз-
Функции мелодических связей в современной музыке
41
пых культурах, в разные эпохи занимают различное место. Они могут
быть «управляющими» и «управляемыми», могут выражать общую логику организации всей ткани, могут как автономные проявляться лишь
I* одном из ее пластов и даже в одной из линий, в одном голосе (например, в гомофонно-гармонической фактуре), в других пластах всецело
подчиняясь «диктату» связей аккордовых комплексов. Интересная взаимосвязь «управляющей» роли мелоса и конкретного мелодического
рисунка, степени его развернутости, широты и свободы раскрытия показаны Л. Мазелем, который отмечает, что переключение «грамматически управляющей» (читай — ладовой) роли с мелодического фактора
па гармонический как бы «развязало руки» мелодической линии, поаволив ей осуществить небывалую до того свободу и широту мелодического рисунка (35, с. 76). Думается, что «обратную пропорциональность»
н соотношении управляющей роли элемента и свободы от строгой обусловленности его структуры можно принять за некий общий закон. Не
породила ли стабильность и стереотипность строения аккордов и их
последовательностей гармонически управляющая система мажоро-мипора? И не связана ли свобода строения аккорда и его связей, наблюдаемая в современной музыке, с передачей (вновь!) управляющей роли
мелодии?
Разумеется, современная музыка и современная музыкальная система — явления далеко не однотипные и не единообразные. Массовая
песня (и некоторые «слои» народной), подавляющее большинство эстрадных песен, музыка к кинофильмам и многие другие произведения
(особенно массовых или, точнее, массово потребляемых жанров) базируются в той или иной степени на усложненной системе мажоро-минора
с сто «гармоническим управлением». И поэтому все то, что будет сказано
ниже о функциях мелодических связей в современной музыке, к этим
жанрам в полной мере отнесено быть не может. Речь пойдет о музыке,
огошедшей от мажоро-минорной системы и развивающейся по иным
лаконам. В этой музыке, на наш взгляд, функции мелодии w мелодического начала (понимаемого как система связи и взаимодействия тонов
t\ их последовательности) огромны и значимы именно как организующее
и управляющее начало. Автору этих строк не раз приходилось высказыиаться и писать о возрождении в современной музыке монодических
лаконов. Но ведь монодия — не что иное, как частный случай мелодии,
причем такой ее вид, в котором собственно мелодические связи (взаимодействие тонов, реализуемое в их последовании) являются единственными, исчерпывающими в самих себе все движущие силы.
42
I. Общие проблемы теории
В современной музыке роль мелодических связей как организующих (даже в условиях гармонической ткани) подтверждается множеством примеров. Один из показательных в этом отношении — сохранение ладового значения тонов мелодии при самом разнообразном
изменении структуры поддерживающей ее гармонии. На роли мелодии
как ладового (в тексте — тонального) организатора строится концепция
мелодической тональности Р. Рети (43). Этот же вопрос многократно
поднимался и раскрывался автором настоящей статьи (см. 16, а также
очерк « О гармонии Рахманинова» на стр. 90 настоящего издания).
Мелодическими связями как организующим началом управляется
в современной музыке и сложная полифоническая ткань. Мелодии голосов такой полифонии настолько автономны, настолько «освобождены»
от коррекции гармоническим (вертикальным) началом, что вся ткань
воспринимается скорее как полимонодийная, то есть разобщенная значительно сильнее, чем это допускается классической полифонией (см.,
например: Соната для фортепиано № 2 и Прелюдии для фортепиано
Г. Уствольской, Сонаты для фортепиано № 2 и 3 Б. Тищенко и т. п.). Такого разобщения не знает классическая полифония даже «свободного» стиля, являющаяся всегда конструктивно координируемым сочетанием мелодий (подчеркнем: именно конструктивно координированным, ибо
образная координированность — обязательное условие полноценности
любого художественного явления). И, возможно, именно вследствие
столь возросшей управляющей силы мелодических связей собственно
мелодическая линия современной музыки (мелодия второго уровня,
мелодия как целостная структура, как конечная конструкция) в общем
почти никогда не разворачивается в широкие кантиленные построения,
подобные таким, какие можно найти в музыке, например, XIX столетия.
В известном смысле это можно считать «узким местом» действующей
системы.
Особенно сложным оказывается осуществление сугубо мелодических связей в условиях многоголосия, ибо всякое многоголосие неизбежно порождает гармонические отношения в вертикали и потому
создает стимул к возникновению гармонических связей и в последовании. Может быть, именно поэтому в современной музыке широко используется монодический склад в его чистом (одноголосном) виде, или
такой гармонический склад, в котором вертикальные комплексы выполняют функции тембральной окраски по сути монодийно организованной и монодийно разворачивающейся мелодической линии, реализующей исключительно мелодические связи.
Функции мелодических связей в современной музыке
43
Истоки мелодической линии современной музыки, их связи с речью, причем речью часто «безынтонационной» 1 , по-современному быстрой, связи с урбанистическими шумами также не способствуют широкой, плавной кантиленности. Для современной мелодии более характерны
короткие фразы, «взрывчатые» интонации с сорванными кульминациями. Это мелодика короткого дыхания, нервная и прерывистая, с частыми
цезурами, незаполненными скачками, ходами на трудно сопрягаемые
интервалы. Сложные сопряжения соседних тонов (броски шире октавы,
увеличенные или широкие уменьшенные интервалы, например, уменьшенные октавы в нисходящем движении) создают трудности внутреннего пропевания, «соинтонирования» 2 и тем самым способствуют усугублению впечатления краткости фраз и мотивов даже в тех случаях,
когда реальное кадансирование, реальные цезуры расположены через достаточно крупные, протяженные во времени, отрезки текста. В этом —
одна из причин известной трудности восприятия некоторых образцов
и даже целых направлений современной музыки широкими слушательскими кругами. Слушательское восприятие, как и всегда в истории развития музыкального искусства направляемое художественной практикой, лишь очень постепенно эволюционирует в направлении слухового
освоения и осознания внутренней связности внешне разорванной мелодической линии.
Это может показаться странным, но в некоторых аспектах композиционной стороны современной музыки напрашивается аналогия с музыкой древнейших времен: народной, средневековой, музыкой «строгого
стиля». Речь здесь идет, разумеется, не об образных аналогиях. Это касается лишь вопроса о некоторых конструктивных моментах. Так, например, «строгий стиль», как и современная музыка, не знал широко развернутой, кантиленной мелодии, мелодии-разлива, что во многом
объяснялось «управленческой нагрузкой» мелодического фактора (35,
с. 71-108; объяснения аналогичных свойств старинных одноголосных
напевов см. на с. 76). При всем различии интонации, характера испольауемой интервалики (современная музыка далека от каких бы то ни
было интервальных ограничений, столь специфичных для строгого стиля) в отношении метрики, свободной, лишенной равномерной регуляр1 «...Мы теперь привыкли говорить "без тона", — отмечал Б. В. Асафьев, —
интонируя "черт знает как". Сочной, вкусной, напевно осмысленной еще бывает
чшмь народная, крестьянская речь, где она еще не утрачена» (6, с. 215).
2 О значении возможности соинтонирования для запоминания и восприятия
музыкального текста см. в кн.: 51, с. 77.
44
I. Общие проблемы теории
ной акцентности, опять-таки можно говорить об аналогиях с жанрами
глубокой древности — монодическими построениями псалмодийных
речитаций. Причина возможности возникновения таких аналогий —
в аналогичности основных действующих сил, в формонаправляющей
роли мелодических связей.
Обобщение сказанного приводит к выводу, что в современной музыке мелодические связи нередко выступают как одна из основных сил,
организующих и управляющих звуковысотными отношениями. Таким
образом, мелодическое начало, рассматриваемое на общем уровне как
тип связей, занимает ведущее положение в ее звуковысотной организации. С другой сгороны, мелодия как завершенная конструкция, как правило, не разворачивается в широкую кантилену, склоняясь преимущественно к речитативному типу. Можно предположить, что завоевание
кантиленности на новом интонационном уровне — один из возможных
путей развития современной мелодики.
ГАРМОНИЯ И ЛАД
ВСВЕТЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ
Б. В. Асафьев об интонационно-процессуальной
природе лада *
^ v / X очень много, долго и упорно размышлял над выразительной,
смысловой проявляемостью жизни лада» — эти слова, написанные Борисом Владимировичем Асафьевым в одной из заключительных глав
его капитального труда — «Музыкальная форма как процесс», — можно
было бы поставить эпиграфом ко всему последующему тексту настоящей работы. Не решаюсь назвать ее статьей, ибо то, что я собираюсь предложить вниманию читателей, почти полностью принадлежит Б. В. Асафьеву. Это выдержки и цитаты из его книг (преимущественно из книги
«Музыкальная форма как процесс» — б, и книги «М. И. Глинка» — 5),
отражающие взгляды Асафьева на проблемы лада.
Как известно, среди огромного наследия Б. В. Асафьева нет ни одной работы, специально посвященной проблемам лада (такой, например,
какой в области формы является упомянутая «Музыкальная форма как
процесс»). Но из отдельных высказываний, которые затрагивают лад по
ходу рассуждений о других, смежных вопросах (вопросах о соприкасающихся с ладом музыкальных структурах), складывается ясное представление о том, как глубоко волновали Асафьева проблемы ладовой
организации музыки, сущность самого явления лада, его интонационная
природа, его формообразующее и выразительное значение. Более того,
исходя из этих отдельно разбросанных страниц (и даже строк), можно
с уверенностью утверждать, что формирование у Асафьева представления о сущности ладовой системы прошло несколько этапов, неуклонно
направляясь в сторону интонационно процессуального понимания лада
(ср., например, определение лада в разных изданиях «Путеводителя по
концертам», 1919 и 1978 гг., последнее — публикация издания, подготовленного Асафьевым в 30-х годах), и постепенно сложилось в совершенно определенную и четкую концепцию, которая «только и ждала»
* Статья впервые опубликована в изд.: Вопросы интонационного анализа
и формообразования в свете идей Б. В. Асафьева: Сб. науч. тр. Л., 1985 {прим. ред.).
/>. В. Асафьев об интонационно-процессуальной
природе лада
47
своего оформления в специальную работу, к сожалению, так и не появившуюся. Свести вместе разрозненные высказывания Асафьева,
касающиеся лада, и на их основании попытаться воссоздать основные
положения его концепции как целого — задача настоящей работы. Главное, что отличает представление Асафьева о ладе, — это принципиально
функциональное понимание им существа ладовой системы. Лад в представлении Асафьева — не схема, не просто отобранный и устоявшийся
ряд звуков (тонов). Лад прежде всего — отношение и взаимодействие,
«система соотношений части тонов звукоряда» (S, с. 75). «Лад — организация составляющих данную эпохой систему музыки тонов в их взаимодействии» (5, с. 196). «Стоит только сложиться устойчивым тонам,
как каждый отдельный звук, взятый сам по себе, — сознанием мыслится
не иначе, как член отношения... ибо... отдельных, изолированных звуков
м музыке не существует» (б, с. 200).
Показательно, что в своих рассуждениях о проявлении лада, о его
становлении (как в историческом, так и в логическом аспектах), одной из
важнейших категорий, которой постоянно оперирует Асафьев, оказывается интервал, не просто тон, а именно интервал, то есть элемент музыки,
самой своей структурой предполагающий обязательность соотношения.
«Становление лада всегда выражается в последовательном чередовании или одновременном комбинировании его интервалов» (там же,
с. 347). «...Кто не ощущает... упругости и "весомости" связей в каждом
интервале, тому трудно, даже невозможно стать музыкантом» (там же,
с. 303). «...Взаимодействие интервалов и их выразительные качества —
чуткий барометр социальной значимости лада...» (там же, с. 351).
Даже сам исторический процесс зарождения лада Асафьев связывает прежде всего с возникновением у человека чувства интервала как
сопряжения тонов. «Музыка как искусство начинается с того момента,
когда люди усвоили во взаимном общении полезные звукопроявления
("сигналы"), когда эти звукопроявления отложились в памяти как постоянные основные отношения двух или ряда интонируемых элементов» (там же, с. 198)1. «...Только наличие длительной и сложной борьбы
лл место, сопряжение и смысл звучания каждого интервала в ладовой
системе, то есть за качество интервалов, как это происходило в истории
европейской музыки, вызвало столь интенсивный рост музыкального
искусства и обусловило его идеологическую значимость» (там же, с. 241).
4 Уточнить, когда появился интервал как зафиксированное в сознании
1
Здесь н далее выделения в цитатах сделаны согласно оригиналу.
48
//. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
расстояние звука от звука невозможно. Интервалы же как интонационно-выразительное качество — сопряженность тонов лада и при различных степенях этой напряженности — могли осознаться в таком содержании своем только уже при некоторой самостоятельности, независимости
музыки и от "немого языка" человеческих движений, и от слогоисчислительной (силлабической) ритмики речевой (поэтической) интонации
и. т. д., и т. д. А вне сознания музыкальной (не акустической только природы) сущности интервальности неосуществимо было выявление основного качества музыкального мышления, а следовательно, и нахождение
пути к монументальным формам как полноценному раскрытию художественной идейности» (там же, с. 333).
Это, прежде всего — интервальное восприятие, интервальное «ощущение» Асафьевым существа лада отчетливо выражено им в одном из
примечаний (давно и многими замечено, что примечания Асафьева нередко содержат едва ли не важнейшие и интереснейшие его наблюдения).
Рассуждая о сущности интонации Асафьев пишет: «Перехожу к области
интонации эмоционально-аффективного тонуса, то есть мелодико-гармонической сопряженности» и дает к этой фразе следующее примечание:
«В сущности — ладовой сопряженности, так как лад не механическая,
а интонационная, в общественном сознании коренящаяся совокупность
связей мелодико-гармонических — проявление интервальное™ — в разрезе горизонтальном (мелодическом) и вертикальном (гармоническом),
если выразить это графически» (там же, с. 282).
Кульминацией утверждения значимости интервала в ладовой концепции Асафьева становится его суждение о роли тритона в европейской ладовой системе. «...Важная в образовании европейской ладовой
системы борьба за внедрение в нее "тритона" как равноправного звукосочетания оставляется без внимания в отношении интонационно-смысловой сущности данного явления... Тритон, как никакой из традиционно
бытовавших в раннем Средневековье интервалов..., разрушил сложившиеся, особенно в культе, интонационные навыки... Но, разрушая, он
являлся прогрессивным для европейского слуха явлением: ...обострял
и закреплял в сознании ощущение полутона как вводного тона... При наличии сложившегося ощущения вводного тона тритон, состоя из смыкания
тона, замыкающего нижний звукоряд... и вводного тона..., организовывал звукоряд в напряженном восхождении как безусловное интонационное единство. В это единство, однако... тритон вносил "беспокойство",
своеобразное неравновесие, которое слух должен был выравнивать. Таким образом, этот... интервал организовывал лад, синтезируя составля-
/>. В. Асафьев об интонационно-процессуальной
природе лада
49
ющие его элементы и в то же время обостряя их взаимосопряжение
и составляя из ступеней лада не премыкающие друг к другу отдельные
звуки, а цепко связанные звенья, обуславливающие... безграничное разнообразие интонационных высказываний» (там же, с. 242-243).
Именно представление о тритоне как определяющем ладо-интоI [ационном элементе мажоро-минора становится отправной точкой в определении Асафьевым общей тональности марша Черномора как до мажора.
Асафьев считает лад неотъемлемым, обязательным свойством музыки и не представляет себе музыки как искусства осмысленного интонирования вне ладовых сопряжений. «...В мире нет ни одной системы
звукоотношений..., в которой не было бы закономерного распределения
связи и интонационно-динамической зависимости между включенными
в систему тонами. «...Такие понятия как устой, тяготение, напряжение,
разряд, сокращение и растяжение обусловлены объективными свойствами и проявлениями качества музыкального движения, его динамической природой, а отнюдь не субъективными представлениями. Эти...
понятия объединяют собою как все соотношения тоникодоминантовой
системы и ее учение об интервалах и их разрешении, так и все более
давние системы интонаций и все те, которые еще могут возникнуть, ибо
"безразличного", динамически нейтрального музыкального движения
быть не может. Существование его означало бы... победу над материалом..., превращение его в нейтральную материю, не вызывающую ни раздражений, ни реакций» (там же, с. 207). «Если бы предположить, ...что
только особо одаренные в музыке люди усвоили бы соотношение двенадцати семиступенных гамм мажора, а остальной массе тональное чувство в этой своей форме осталось бы чуждым, — ни музыка Баха, ни Бетховена... социально не существовала бы или была бы не той, какой ее
знало и знает человечество» (там же, с. 25). «Стоит только постигнуть,
что лады, как и интервалы, суть выразительные данности музыки, а не
формально структурные элементы, как наблюдательному слуху раскрывается многообразная и многоговорящая жизнь лада в любую эпоху становления музыки» (там же, с. 346).
Категория лада в концепции Асафьева занимает совершенно четкое положение среди других аспектов звуковысотной организации музыки. Во многих его высказываниях отчетливо выступает дифференцированность таких понятий, как лад и звукоряд, лад и тональность, лад
и гармония. «Лад — свод, строй и, вместе с тем, система соподчинения
гонов, выявляющая и сосредотачивающая в себе на каждой исторически сложившейся стадии музыкального искусства, закрепившийся в об4
Зак 597
50
//. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
щественном сознании отбор музыкальных звуков, в которых вращаются
интонации, определяющие эмоционально-образное содержание и выразительность музыки на данной стадии ее развития». «Лад — не теоретическое обобщение, и пожалуй, как таковой даже немыслим: получается,
лишь звукоряд» (там же, с. 230). «Звукоряд — поступенное графическое
изображение тонов, составляющих лад, но определяется лад только качеством сопряжений интервалов данной системы» (там же, с. 282, примечание). «Тональность — окраска (тембр), высотность, а следовательно, напряженность и направленность лада» (5, с. 153). «Тональность
может быть тембровым явлением лада..., интонируемого на той или иной
ступени звукоряда (под звукорядом здесь имеется в виду ряд звуков,
фигурирующих в музыкальной практике как целом. — Т. Б.) и определяется ее положением в квинтовом круге» (б, с. 223). «...Лад — не только
гармония. Лад — отображение всех выявлений, интонаций эпохи, сведенное в систему интервалов и звукорядов. А сущность интонации есть
мелодическая, ибо такова, то есть постижима в процессе, во временности — музыкальная и словесная речь человека» (там же, с. 231).
В дифференцированности понятий лада, звукоряда, тональности,
в отведении ладу совершенно определенного места в музыкальной системе — места функциональных сопряжений тонов — концепция Асафьева
является одним из ответвлений отечественного учения о ладе, становясь
в этом плане в один ряд с теориями Б. Яворского, Ю. Тюлина, X. Кушнарева. Можно только пожалеть, что эта концепция, помогающая избежать многих и многих перекрещиваний и путаницы понятий и терминов, тем самым выгодно отличающаяся от распространенных, в том числе
многих зарубежных, концепций, по традиции не делающих различия
между ладом и звукорядом, между тональностью, как категорией абсолютной высотности и тональностью как категорией определенного
типа функциональной системы, так мало развивается и даже просто игнорируется многими нашими музыкантами.
Несколько сложнее представлено в высказываниях Асафьева соотношение понятий (категорий) лада и интонации. Возможно, это связано с тем, что само понятие интонации ( в асафьевском представлении)
достаточно сложно и в словесном объяснении трудно уловимо, а также
с тем, что Асафьев придал ему совершенно новое, далеко уходящее от
традиционного (интонация — звуковысотная линия в ее абстрагированном от ритмического рисунка виде) содержание, выходящее за рамки
объективно звучащего, «надтекстовое» значение «осмысленности произнесения». Такое, по сию пору бытующее двоякое понимание термина
/>. В. Асафьев об интонационно-процессуальной
природе лада
51
«интонация» привело к тому, что многие исследователи стали толконать теорию Асафьева как полное отождествление категории лада с категорией интонации, понимая ее при этом нередко в традиционном значепии конкретного звуковысотного рисунка. Думается, такое толкование
идей Асафьева совершенно необоснованно. Действительно, в описании
процесса проявления ладовых отношений Асафьев часто прибегает к раскрытию этого процесса через исследование становления интонации (в его,
«асафьевском», понимании, то есть как напряженно выразительное продвижение от тона к тону), с непрерывным ощущением внутреннего смысла каждого звучащего мига. «...Каждый первый момент интонирования
имеет своей непосредственной целью включение сознания слушателя
и тон, в сферу музыкального становления на основе свойственной данной эпохе и социальной среде системы соотношения звуков» (там же,
с. 63). «...Всякая самая простейшая музыкальная интонация предполагает
наличие двух моментов: звукопроявление и отношение этого звукопроявления к последующему. Это последующее звукопроявление вступает
с предыдущим в ряд отношений. Следовательно, всякая музыкальная
подача звука, чтобы стать интонацией, не может оставаться обособленной; она или результат уже данного соотношения, или же вызывает своим
появлением последующий звук, ибо только тогда возникает музыкальное движение со всеми его свойствами» (там же, с. 198-199). «...Только
интонационно-качественная значимость интервала и его место в системе
сопряженных тонов (звукоряд — лад) определяют его жизнеспособность
к музыке» (там же, с. 121). «Интервал как выразительно-интонационный фактор может звучать как некое самостоятельное звукосоотношение наряду с другими, но может и становиться зависимым от рядом
лежащего опорного — по месту, занимаемому в ладе, — тона. Скажем,
секста... играет большую выразительную роль как звукоряд внутри лада,
но в любой момент один из ее элементов может стать приставкой, притягиваемой квинтой. Слух, воспринимающий тонко, различает интонационное "хамелеонство" интервалов, и в этой "игре в подмен" — одна из
иыразительных особенностей мелодического развития и "жизни лада"»
(5, с. 153).
В интонационном продвижении рождаются те связи, которые предстают затем как ладовая система — тоже выразительная, наполненная
«звучащим смыслом» отношений. Каждая установившаяся связь по
Асафьеву — это связь выразительная, интонационно-насыщенная, будь
то система мажоро-минора, или какая-либо любая другая. «Один из
характерных — в условиях европейского лада — показателей качества
52
//. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
и степени эмоционально-интонационного напряжения... — это взаимодействие доминанты и тоники» (6, с. 283). «Если... обратиться к культурам более первобытных звукорядов, то пресловутую пятитонную гамму
в различных ее стадиях точно так же можно наблюдать не как замкнутую сферу, а как полный жизни выразительный звукоряд. В нем далеко
интонационно небезразличны ни расположение элементов (например,
место малой терции), ни способы заполнения мелодических скачков...»
(там же, с. 349).
В теснейшем взаимодействии ладовых и интонационных связей
и закономерностей проявляется глубокая родственность процессов становления ладовой системы и раскрытия конкретного интонируемого
художественного текста, но именно только родственность, а не отождествление. Это отчетливо выражено в «Путеводителе», где специально
подчеркивается разница «субстанций» лада как обобщающей системы
отношений и конкретно его выражающего музыкального материала: «Лад
выражает себя конкретно (курсив мой. — Т. Б.) в характерных напевных
сочетаниях, суммирующих его состав — макомы восточных музык, мелодийные кадансовые обороты в византийской и славяно-русской системах осмогласия..., или в отвлеченно-логических формулах — звукорядах (например, европейские мажорные и минорные гаммы...) или даже
в господстве наиболее выразительного для данной интонационной области интервала» (5, с. 74). Позднее Асафьев пишет, что «каждая из
систем звуконапряжения...» возникает «в результате отбора тонов в сфере акустических явлений с целью возможности организации музыки
в пределах потребного данной среде круга интонаций» (6, с. 58). «Мы
просто с трудом можем себе представить, что отбор тонов и интервалов
как устойчивых комплексов звуковысказываний требовал, быть может,
вековых усилий, прежде чем звукоряды стали для нас едва л и не только
"зрительной формулой", за которой неопытному глазу трудно предположить сложность неизведанных слухом звукокомбинаций — звуковысказываний» (5, с. 146).
Постоянные переключения асафьевского текста при описании процесса ладового становления на категории мелодико-интонационные, а при
описании интонационного процесса — на категории лада, — это ни в коей
мере не смешение понятий, а лишь результат определенного метода исследования, при котором во главу угла ставится не столько итоговая
формула, сколько путь к достижению этого итога, то есть опять же процессуальность. В этих переключениях и кажущихся смешениях настойчиво звучит и пробивается основная мысль: лад, даже в тех случаях,
/>. В. Асафьев об интонационно-процессуальной
природе лада
53
ког да он представлен социально и эпохально «выверенными» и отобранными формулами, — не статичный заданный стереотип, а живая, в интонационном процессе рождаемая структура. «Несмотря на кажущуюся
неподвижность ("стабильность") ладовых формул каждой эпохи, лад
как отражение постоянно обогащающейся и утончающейся в выразительных возможностях интонации — всегда в становлении, в развитии,
и преобразовании» (8, с. 74). Примечательно, что это положение отсутствует в первом издании словаря, где лад представлен как система более
статичная и стереотипная. Вероятно, к пониманию лада как динамической системы Асафьева привело его напряженное внимание и вслушииание в самый процесс музыкального интонирования.
Именно понимание лада как отношений, рождающихся в интонационном процессе, заставляет Асафьева постоянно прибегать к такому понятию, как «жизнь лада». Снимает ли, отрицает ли такая характеристика
бытования лада положения той теоретической установки, с позиций
которой лад — это отстоявшаяся, абстрагированная система отношений
п, как система, не может развиваться (такой точки зрения придерживается, например, Ю. Тюлин). Думается, что одно не противоречит другому,
ибо речь идет о разных вещах, о разных «временных позициях» восприятия и проявления лада. Тюлин (условно обозначим его именем вторую
точку зрения) говорит о ладе как о системе отношений, сложившихся
и сознании в результате прозвучавшего текста (или его отрезка). В таких условиях, в такой «временной точке» восприятия лад, действительно, определяется как «некоторое последействие» (59, с. 178) и предстает
как завершенная структура. Асафьев же рассматривает вопрос о том,
как происходит сам процесс развертывания и восприятия слухом тех
отношений, которые затем складываются в сознании в целостную систему. В любой момент то, что уже отзвучало, предстает для слушающего
и виде замкнутой системы, но в любом случае для обнаружения системы отношений необходим некий интонационный минимум, и разворачивающийся текст может, во-первых, не сразу обнаружить всю систему
(Асафьев определяет это явление как «досказывание звукоряда»), а, вовторых, его течение может привести и к смене системы (модуляции).
Таким образом, эти две, казалось бы, противоположные точки зрения не
11 ротиворечат одна другой, а, скорее, дополняют друг друга.
Как прямое следствие интонационно-процессуального понимания
природы лада рождается такое важное положение, как признание неизбежности исторической изменчивости лада, обусловленной развитием
интонационного «словаря» эпохи. «Лад всегда находится в становле-
54
//. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
нии, в чутком соответствии историческим закономерностям интонационных кризисов. Поэтому "жизнь лада" никогда не останавливается»
(5, с. 229). И к этому — следующее примечание: «Лад неподвижен только в учебниках музыки, как язык в словарях. Но и то, пожалуй, словари
более чутко отмечают жизнь языка, повторными дополнениями и измененными изданиями, чем музыкальные учебники — жизнь лада» (там
же). «Лад — организация, составляющая данную эпохой систему музыки тонов в их взаимодействии. Но такое статистическое определение не
должно затенять главного качества лада: исторические конкретные причины, вызвавшие к жизни ту или иную систему организации тонов (как
и слов, и всех форм человеческой речи), действуют в процессе, то есть
никогда эта система не является абсолютно завершенной. Она всегда
находится в состоянии образования и преобразования, разложения и собирания, даже с трудом стабилизируясь в самом сверхакадемически
совершенном произведении, если оно не безнадежно мертво, то есть просто набор схем... Поэтому лад всегда живет, впитывая в себя новые интонационные соки и перерабатывая издавна его составляющие элементы.
Даже конструктивно наглядные "выражения" лада — основные звукоряды и гаммы, отрезки звукорядов прежних веков и новые тон-схемы —
находятся в постоянном переустройстве» (там же, с. 196). «...Жизнь лада
(в историческом смысле. — Т. Б.) непременно надо наблюдать в образовании и преобразовании опорностей, в прилегании, притяжении к ним
соседних звуков и в становлении новых опорностей или характерных
"неустоев", например, в европейской музыкальной интонации — в превращении полутона во вводный тон или эволюции тритонности» (6,
с. 348). «...Звукоряды, прежде чем появиться в работах теоретиков в виде
отвлеченных от музыки рядов (восходящие или нисходящие формулы
соотношения отдельных тонов), устанавливаются в памяти практически и бытуют в виде характерных для каждого лада мелодических формул-напевов, или попевок» (там же, с. 23). «...Эволюция музыкальных
форм и их укрупнение и усложнение стали возможными в Европе лишь
тогда, когда коллективное сознание шаг за шагом выковывало в интонационном опыте веков рациональнейшее соотношение звукоэлементов, из которых очень постепенно выработалась наша современная темперированная система» (там же, с. 25).
Как следствие.историзма в подходе Асафьева к рассмотрению природы и самого явления лада рождалась принципиальная допустимость
им нестабильности ладовых систем, нестабильности конкретных форм
этой системы при сохранении единой определяющей сущности — функ-
/>. В. Асафьев об интонационно-процессуальной
природе лада
55
ционально-интонационной сопряженности. «Степени тяготения как отдельных тонов в данной системе, так и комплексов звуков и их размещение в отношении "точек" или "узлов", воспринимаемых как устои
(они в разные эпохи могут меняться, но самый принцип различия звукоотношений в системе существует всегда, и в этом смысле греческий
тетрахорд и современный синтетический лад — солидарны), — эти степени и обеспечивают вполне достаточное число способов продвижения»
(там же, с. 86). «Устой вовсе не обязательно тоника (по-видимому, имеется в виду тоника в виде трезвучия на I ступени мажорно-минорной системы. — Т. Б.). Но, конечно, "финальные" тоны средневековых ладов —
устои. Устой не только консонанс, потому что он — понятие из области
музыкальной — кинетики и динамики, а не акустики и не учения об интервалах» (там же, с. 201). «Лады эти (средневековые. — Т. Б.) были
тесно спаяны с представлением о музыке как единстве ритмо-интонации-слова-тона, при господстве интонаций григорианского хорала.
Европейская же гармония вырастала из постепенно складывавшейся новой диатоники с подчеркнутым... вводным тоном... Из обостренности
интонации вводного тона... развивается... ряд... следствий: в отношении
ладовом стирается тетрахордность..., и звукоряд европейский становится
интонационным единством — гаммой...; в отношении эволюции гармонии возникает чувство доминантности, все более и более осознаваемое,
и ведет к ощущениям тональной дифференциации в нормах единого
"лада"» (там же, с. 334). «Мне кажется парадоксом выводить "кадансоную плагализацию" у Глинки из свойств русского народного мелоса, что
так упорно утверждали, потому что в мелосе одноголосной песни просто нет гармонических кадансов, а в многоголосии народном логика концовок обусловлена иными принципами, чем глинкинские плагальные
кадансы, в большинстве фигурирующие в обычном гомофоническом
стиле» (5, с. 81).
Б. В. Асафьев, возможно, один из первых обратил внимание на ладоинтонационные различия двенадцатизвуковых образований, подчеркнув возможность их диатонической трактовки. «В эпоху... романтизма...
европейской диатонике грозило растворение в тонально нейтральном
двенадцатиступенчатом хроматизме..., если бы в недрах того же процесса хроматизации диатонического лада не возникло как противоядие...
ощущение "конструктивно-интонационного значения вводного тона";
..."вводнотонность", как сильное своей "цементирующей" интонационной ролью качество, стала перемещаться с седьмой ступени мажорного
лада во внутренние его области, и, разрушая остатки "трихордовых ме-
56
//. Гармония и лад в свете индивидуальных
решений
жей" (оставшихся от средневековых ладов. — Т. £.), крепить единство
лада... Надо услышать процесс подобного рода, чтобы понять, как он привел к разнообразным по составу и распределению интервалов звукорядам, все-таки мажорным, или мажоро-минорным и все-таки диатоническим по принципам звукосоотношений, то есть без полутонов, как
"хрома", но с вводными тонами как явлением, скрепляющим тональные
связи. Не парадоксально назвать это "диатонизацией хроматической
гаммы", осмыслением ее как лада с четко разграниченными значениями
отдельных тонов» (там же, с. 197). «Возможны любопытные полутоновые
понижения или повышения ступеней лада, качественно-стилево различные: то как прежитки некоторых "ваганствующих" ("бродячих") полутонов средневековых культовых ладов, попавших в воинствующий мажор
и закрепившихся в нем в стадии его становления; то как "чувствительная
окраска", "хрома", возможно инкрустированная из восточной, особенно
арабской лютневой культуры мелоса в эпоху борьбы и соприкосновения в торговых связях; то как расширенное воздействие вводнотонности на диатонизм мажорного лада» (6, с. 349). И хотя Асафьев, говоря
о ладовых смещениях и взаимопроникновениях, оперирует определениями, заимствованными преимущественно из традиционного учения о ладах — мажор, минор, лидийскость, миксолидийскость и т. п., —
весь ход его рассуждений дает основание предполагать, что ему оставался лишь шаг до оформления теории беспредельной множественности
форм лада, таких, которые «не учтены», да и не могут быть полностью
учтены и «зарегистрированы» теорией в силу своей полной непредсказуемости, как непредсказуема музыкальная интонация завтрашнего дня,
и которые формируются в каждом новом тексте по-новому: ведь со времени написания основных работ Асафьева прошло более полувека, и многое
из того, что могло бы «подтолкнуть» окончательное оформление подобной концепции, просто еще не было написано. Да и мысль теоретическая
для полного перетягивания определенного рубежа традиций требует достаточного времени.
Заканчивая изложение основных мыслей Б. В. Асафьева по поводу
лада, хотелось бы бегло остановиться на тех его высказываниях, которые представляются несколько спорными, и попытаться аргументировать
возникающие возражения. Возражения эти касаются, главным образом,
«нападок» Асафьева на так называемую «функциональную гармонию»,
нападок, как представляется, не совсем справедливых, да и не всегда
последовательных у самого автора. Считаю необходимым остановиться
на этом вопросе по той причине, что гневные выпады Асафьева против
/>. В. Асафьев об интонационно-процессуальной
природе лада
57
«гармонии цифрованного баса» многими музыкантами-теоретиками
берутся на вооружение как якобы доказательство «ненужности» гармонии мажора-минора вообще (и изучения ее — в частности). Думается,
что вряд ли эти асафьевские строки стоит понимать буквально. Необходимо учитывать, что писалось это в годы, когда вся теория, все преподавание гармонии (а ведь Асафьев не случайно во всем посвященном этому
«опросу разделе постоянно обрушивается на учебники и преподавание)
сводилось к изучению мажоро-минора в жестких рамках его «школьного» понимания и преломления, без учета возможности существования
каких бы то ни было других форм гармонии и лада, и что с позиций
такой системы нередко делались попытки объяснить сложнейшие явления
современной музыки и музыки композиторов конца XIX века. Представляется, что резкий полемический тон Асафьева во многом был вызван
желанием нарочито заострить проблему, активно привлечь внимание
к интонационной сущности любой музыкальной системы, системы мажоро-минорной гармонии — в частности. Не мог Асафьев не осознавать
всей значимости мажоро-минорной гармонии, в том числе и цифрованного баса, и доминантсептаккорда «в основной позиции», как мощнейшего средства, как силы, «толкнувшей» музыку на путь «эмансипированного» существования в крупных формах. И это понимание им роли
гармонической функциональности (разумеется, не в виде «затверженных функциональных формул») вполне отчетливо высказано на страницах той же книги «Музыкальная форма как процесс»: «Критика "функционализма"... ни в какой мере не снимает исторического значения
генерал-баса и трансформации этой практики в музыке XIX века...» (там
же, с. 247).
Думается, что той же полемичностью, стремлением «заострить
внимание» на привлекшем его обычно (в отечественной теории — до
1>. Яворского) малоотмечаемом факте — роли тритона на вводном тоне —
вызвано и столь многократно подчеркиваемое им значение тритона
н вводнотонности как проявления доминантности, якобы главенствующими в этом плане над ролью доминантового баса. Представляется,
что одно не исключает другого, и что специфика доминанты вряд ли
объяснима одними мелодическими связями. Ведь сам Асафьев, говоря
о плагальных кадансах Глинки и оспаривая их прямую связь с кадансами русской народной песни (см. выше), противопоставляет мелодические и гармонические тяготения как разные типы связей.
Не вполне убеждает и безоговорочное определение Асафьевым
тональности марша Черномора как до мажора. Пожалуй, справедливее
58
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений^
здесь было бы говорить о нескольких уровнях проявления тональности:
в элементах текста (тогда нельзя не отметить постоянную модуляционность и смены тональных центров) и в Марше как целом (примерно так,
как мы говорим о тональности симфонии, содержащей разнотональные
части). В этом, последнем, случае можно представить себе до-мажорность Марша как некое обобщение, но это тональность уже «другого уровня». В анализе Марша такое понимание все время как бы «просвечивает»,
но до полной четкости его сформулированность не доведена.
Однако все это — уже детали. В целом же, учитывая почти полувековое расстояние, отделяющее труды Асафьева от нашей современности,
можно только удивляться тому, как многое в его учениях предвосхитило теории сегодняшнего дня. Это и идея возможности существования
множества форм ладовых систем; и идея различных форм выражения
единых в своей глубинной сущности ладовых сопряжений; и идея рождения ладовых отношений в процессе зависимости от конкретного интонирования, то есть идея возможности диатонического прочтения двенадцатиполутоновой шкалы («диатонизация хроматики») и многое
другое. Поистине, можно только преклоняться перед таким даром ученого «смотреть вперед».
Теоретическое «знамя», теоретическое кредо Асафьева — интонационность и процессуальность как сущность музыки — нашли свое отражение и в его учении о таком важнейшем аспекте музыкальной организации, как система лада. Лад по Асафьеву — важнейшая категория
музыки, живая, интонационно насыщенная исторически и социально
подвижная система, вне которой не может существовать музыкальное
искусство. Интонационно-процессуальный, принципиально функциональный подход Б. В. Асафьева к обнаружению различных форм и раскрытию самого существа лада как категории глубоко современны и открывают широкие перспективы изучения важнейшего и специфического
аспекта музыкальной организации — ладовой системы.
Типологические особенности
российской теории лада
и концепция Ф. А Рубцова *
1 ^ [ з у ч е н и е ладовой системы народной музыки — одно из важнейших направлений фольклористики. Нет ни одного народа, который не
смог бы назвать среди музыкантов своей страны ученого, обратившего
свои взоры на народное искусство и попытавшегося установить сложивишеся в этом искусстве закономерности, в том числе закономерности
ладообразования. И тем не менее, проблему нельзя назвать не только
исчерпанной, но даже в достаточной мере удачно разрешенной. Впечатляюще звучат слова Феодосия Антоновича Рубцова, открывающие его
ламечательную работу «Ладовое строение русской народной песни»:
«1 [ародную песню никогда не изучали как таковую, взятую в процессе
ее исторического развития. А всегда... через призму какой-то предвзятой теории... древнегреческой музыкальной системы... средневековых
ладов... профессиональной городской музыки» (48> с. И ) . Принципиально отрицая метод исследования песни путем приложения к ней каких-либо «предвзятых» теорий, сложившихся на совершенно иной интонационной основе, Рубцов предпринимает попытку пойти другим
путем. От представления о ладе как о закрепленной стереотипной схеме
Рубцов призывает к пониманию его интонационно-процессуальной,
функциональной системы, допускающей множество неповторимых ситуаций и конкретных воплощений. Такое понимание лада — плоть от
плоти сложившейся в отечественном музыкознании совершенно особо!! концепции лада. Эта концепция родилась в российской теории начала XX века в трудах Б. Л. Яворского, была далее подхвачена такими
выдающимися музыкантами как Б. В. Асафьев, Ю. Н. Тюлин, непосредственно в связи с фольклором — X. С. Кушнаревым.
Понимание лада как феномена в отечественной теории музыки
весьма специфично. Сам термин (его можно перевести как die Eintracht —
* Публикуется впервые (прим. ред).
60
//. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
нем. букв. — согласие, le concenement — фр., the concent — англ.) не имеет
точного аналога в западноевропейской теории музыки. Существующие,
на первый взгляд, сходные термины (mode, key, Tonart) отражают или
только один из его признаков, или сочетают в себе несколько разных, из
которых какой-либо не отвечает понятию «лад». Поэтому начнем с того,
что объясним содержание понятия так, как оно раскрывается в нашей
отечественной теории (подробно об отечественном понимании сущности
лада см. 14, 16).
Лад понимается как результат свойства музыкальной интонации
выявлять неоднозначность составляющих ее тонов не только по абсолютной высоте, но и по производимому ими психологическому эффекту — ощущению торможения или ожидания продолжения движения.
Это в свою очередь порождает их дифференциацию уже на другом уровне — логическом, их субординацию (главное — второстепенное). Лад
можно определить как «систему соотношений определенногорядазвукоэлементов (тонов, аккордов, соноблоков), логически дифференцированных по степени и форме их тормозящей или движущей роли» (16, с. 37).
Формулировка показывает, что ладовая система определяется двумя
факторами: тем, что участвует в ее образовании (звукоряд, «инвентарь»
аккордов), и тем, как фигурируют эти элементы — в какой субординации, каких функциональных отношениях. Формы функциональных отношений выведены в обобщенную схему:
опорность
неопорность
устойчивость
неустойчивость
Отсутствие в формулировке указаний на обязательность четкого
центра, на конкретный интервальный или аккордовый состав, на жесткую функциональную систему позволяет применить такую трактовку
лада к самым разнообразно организованным музыкальным текстам.
Подчеркнем четкую дифференциацию понятий.
1) Лад — звукоряд. Лад — не просто звукоряд, но звукоряд определенным образом организованный (один и тот же ряд звуков может принадлежать разным ладовым системам).
2) Лад — тональность. Тональность указывает лишь на определенную абсолютную высоту расположения системы (одна и та же система
может быть реализована в разных тональностях).
Типологические особенности российской теории лада...
61
3) Лад — гармония. Гармония — область пространственно-временной координации тонов (отношение тонов в одновременном звучании);
лад — логическая система субординации отношений.
4) Лад — интонация. Лад реализуется только в конкретной интонации, но ни в коем случае не тождествен ей, так как представляет собой
абстрактно-логическую систему отношений, складывающуюся в нашем
сознании как результат прозвучавшей интонации. Конкретная интоиация может содержать пять, шесть, десять звучаний, которые в системе
лада предстанут как две или три функциональные единицы.
В своих работах о ладе автор настоящего очерка предлагает поясняющую, как представляется, аналогию: ладовая система сопряжения
гонов в музыке и синтаксическая связь слов в вербальном языке. Ощущение устойчивости и неустойчивости, тяготений, их направленности,
возникающее в нашем сознании как абстрактное представление о соподчинении тонов в результате прослушивания конкретного текста во
многом аналогично восприятию также абстрактной системы соподчинения слов, их понимания как членов предложения, возникающего в сознании при прослушивании (прочтении) конкретного словесного текста.
Оно, ладовое чувство, необходимо для осмысленного восприятия интонации так же, как грамматическое соподчинение слов необходимо для
осмысленности речи. И так же, как неповторимы могут быть конкретные строения фраз, допускающие обобщение лишь в самом общем плане
(должно быть соподчинение, должна быть субординация), так же неповторимо могут образовываться каждый раз те или иные конкретные ладовые ситуации, те или иные ладовые системы, сохраняя лишь один
общий признак — функциональной неоднозначности.
Принципиальная допустимость многообразия конкретных форм
ладовых систем далеко не сразу была осознана теорией. Отсутствие,
недейственность веками работающих отношений вызвала к жизни такие
понятия как атональность, аладовость и т. д. Даже Ю. Тюлин, великий
теоретик нашего времени, не признавал лада как рождающегося в интонационном акте, считая лад апперцепционным явлением. В отношении
профессиональной музыки первым теоретиком, намекнувшим на допустимость нестабильных форм тоники (а отсюда и всей системы), как
можно предположить, был немецкий теоретик Г. Эрпф со своей концепцией центрального созвучия. Но дальше и результативнее в этом плане
пошли исследователи фольклора. Первым в их ряду назовем замечательного ученого, композитора, теоретика, педагога — X. С. Кушнарева.
1:го по праву следует считать создателем теории монодических ладов со
62
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
специфической функциональной системой опорности и неопорности,
тоники и антитезы, с присущим им многообразием конкретных форм.
Концепция Кушнарева, обогащенная идеями Асафьева, убежденного в интонационно-процессуальной природе лада, получила продолжение и развитие в трудах других российских ученых. На уровне общей
теории лада — это теория результативных ладов ( 1 6 ) . В фольклористике это, например, Э. Алексеев (теория «раскрывающегося лада» в якутском фольклоре), А. Друкт (опорность — неопорность в белорусском
фольклоре). Применительно к русской песне это — упоминавшийся в начале очерка — основополагающий труд Ф. Рубцова, на котором остановимся подробнее.
Лад в представлении Ф. Рубцова — явление результативное, нестабильное, рождающееся в интонационном процессе. «Поскольку... та
или иная ступень подчеркивается ритмически или "логически" как завершающая попевку, постольку она ощущается устоем данного отрезка
мелодии, способной выполнить функцию тоники. Перенесение упора на
другую ступень звукоряда изменяет и ощущение устоя» (48, с. 37).
Следуя декларируемым во введении принципам, Рубцов отказывается от установления жестко закрепленных ладовых схем и говорит
лишь о принципах их организации и возможных аспектах организации.
Кратко, установки эти сводятся к следующему. Народная песня — живой организм, рождающийся в непосредственной связи с жизненно необходимой ситуацией. Ситуации дают толчок определенному типу
формирования напева: от простейших форм речитации, порождающей
элементарные ангемитонные попевки, до «всплеска лирики», создающей распевную, «слитно диатоническую» мелодику. От различия «интонационной задачи» возникает разная мелодика песни, а отсюда
и разные ладовые системы.
Рубцов четко разделяет понятия лада как функционально сопряженной системы и звукоряда как шкалы тонов. Он специально подчеркивает, что один и тот же звукоряд может стать основой совершенно
разных ладовых систем.
Вполне традиционно подразделяя звукоряды на ангемитонные (бесполутоновые) и диатонические (с полутонами), он сам усматривает противоречие подобного разделения с конкретным материалом и рядом
оговорок пытается это противоречие преодолеть. «...Существо диатоники как определенной системы... кроется не в структуре звукоряда и не
в отсутствии хроматических ходов как таковых, а в ладовой организации тонов, составляющих звукоряд и приемах развития мелодии, придающих последней некоторые характерные черты» (там же, с. 47).
Типологические особенности российской теории лада..
63
Анализ ладов Рубцов начинаете «диатонических» песен. Особенно важным представляется определение им ладовых функций как тоники и побочной опоры. Существенно предложенное Рубцовым деление
ладовых систем по принципу взаиморасположения тоники и побочной
опоры (песни, реализующие такие лады, он называет соответственно
:>тому взаиморасположению «квартовыми» и «квинтовыми»). Подчеркиваем, что речь идет не о диапазоне напева, а именно о взаиморасположении тоники и побочной опоры, то есть о функциональном аспекте
лада. Примечательно упоминание о возможных смещениях опор, которые характеризуются Рубцовым как отклонения. Анализы ведутся в тесной связи с характером напева, с содержанием. И здесь порой избыток
достоинств оборачивается изъяном, четкость установок начинает изменять автору. Анализ лада как системы перекрещивается, а то и подменяется анализом собственно напева, то есть, скорее, жизнью лада в данном
конкретном тексте, а не сущностью системы как таковой. Так, говоря
о переменности лада в одной из песен, Рубцов, несомненно, имеет в виду,
что в процессе напева положение тоники и вся ладовая система меняются, то есть происходит то, что он вслед за X. С. Кушнаревым предлагает
называть модуляциями. Собственно же система лада в каждом данном
участке непеременна. Есть и другие примеры подобных логических «перекрещиваний». Однако это не умаляет значимости работы Ф. А. Рубцова. В анализе фольклорной мелодики он подходит к песне не как
к конкретно-этнографической данности, но как к «обобщенно музыкальному тексту», то есть с позиций общетеоретических, а не узкоэтнографических. Он записывает песни как логически обобщенную мелодию,
отбрасывая рожденные исполнительской манерой высотные нюансы.
«Мы имеем в виду напев как объективно существующий музыкальный
образ, не принимая во внимание манеру воспроизведения, часто приближающуюся к натуралистическому изображению плача» (там же,
с. 52). Об этих нюансах лишь изредка упоминается в теоретических рассуждениях. Это выводит его работу за рамки только фольклорного исследования на уровень общетеоретический.
Исследование Ф. А. Рубцова — яркое выражение специфического
для российской теории понимания лада как функциональной системы.
Функциональность исходных позиций Рубцова обеспечивает его концепции жизнеспособность, перспективность, раскрытость к продолжению и развитию.
Обработки Милия Балакирева
и звуковысотная система русской песни *
^-Девятнадцатый век в искусстве России — литературе, живописи,
музыке — богат немеркнущими именами. Одно перечисление самых
ярких из них заняло бы многие страницы. Милий Балакирев среди этого перечня — фигура не только значительная, но судьбоносная для российской (а если посмотреть вперед, то не только русской) музыки. Его
роль как деятеля, зачинателя и организатора великих дел, открывателя
новых путей не требует подробных описаний — она хорошо известна.
И настоящая статья будет посвящена лишь одному из направлений его
деятельности: сравнительно мало до настоящего времени освещаемого
музыковедческой литературой — его сборнику «Русские народные песни» (наиболее всеохватна замечательная статья Е. Гиппиуса, включенная в издание «Русских народных песен». М., 1957). Избирательным
будет и аспект освещения материала этого сборника. Речь пойдет не
о жанрах, не об этнографии, а о том, как слышит Балакирев народный
напев, какие логические законы в нем обнаруживает. И то, что можно
наблюдать в этом отношении, весьма любопытно и значимо.
Небольшой исторический экскурс.
Балакиревым было создано два сборника обработок русских народных песен. Первый — «Песни, записанные на Волге М. А. Балакиревым и Н. Ф. Щербиной», — будучи основан на материалах экспедиции
самого Балакирева 1860 года, вышел из печати в 1866 году. Второй, представляющий собой обработки заонежских северных напевов, записанных не самим Балакиревым, а Г. О. Дютшем и Ф. М. Истоминым, вышел
в 1900 году. В статье речь пойдет о первом сборнике.
1866 год — начало второй половины XIX века, эпоха, когда рост
национального самосознания вызвал к жизни огромный интерес к фольклору, и тяга познания народного искусства охватила весь европейский
континент. По-разному объясняют этот факт, указывая на причины и исто* Развернутый вариант статьи публикуется в изд.: Балакиреву посвящается:
Сб. ст. / Ред.-сост. Т. А. Зайцева. СПб. В печати.
Обработки Милия Балакирева и звуковысотная система русской песни
65
рические, и эстетические, и социальные. Думается, что в сфере музыкального искусства, помимо всего прочего, можно указать еще на один
факт, один весьма действенный стимул: стремление композиторского сознания вырваться из-под давления мажорно-минорной ладогармонической системы, почти два столетия цепко держащей в своей власти музыкальное мышление. Вряд ли нужно говорить о величии этой звуковысотной
организации, непревзойденной в силе своей чисто музыкальной логики.
Вспомним хотя бы характеристику, данную ей Ф. Э. Бахом: «Без гармонии, которой не знал ни один из древних народов, музыка не могла произнодить впечатление своими собственными средствами и почти всегда была
принуждена выступать не иначе, как в содружестве с пением, танцами
п т. п.» (цит. по: 68). Но сила действия этой системы имела и свою оборотную сторону Сама эта сила опиралась на присущую системе твердую
предустановленность ожидаемого, а потому во многом детерминировала
свободу ладоинтонационных поисков. Песни же многих народов, особенI ю далеких от европейской цивилизации, представлялись дающими (и они
действительно давали) возможность выхода в иную интонационную сферу, свободную от «прессинга» функциональных законов мажоро-минора.
И в этом плане, по сравнению с густонаселенной центральной и западной
Европой, народная песня которой в большинстве своем опиралась на все
гот же мажоро-минор, Россия и ее фольклор представляли собой особенно широкое поле выбора. Островки сельских поселений, отделенные друг
от друга и от культуры больших городов тысячеверстными расстояниями, сохраняли (а во многом сохраняют и до сих пор) свои напевы в первозданном виде, обнаруживающими примеры звуковысотных отношений,
принципиально отличных от гармонической мажорно-минорной системы — разнообразные в интервальном и ступеневом отношении звукоряды, особые функциональные связи, особые приемы становления мелодики. Рассмотрим три напева, записанные в разных концах России: на
крайнем севере (пинежская песня «Светлая гридня», запись Е. Гиппиуса
п 3. Эвальд — пример 1 а) } среднерусская («Не одна во поле дороженька»,
запись Е. Линевой — см. пример 1 на стр. 178) и донская («Былина об
11лье Муромце», записанная А. Листопадовым — пример 1 б).
Русская народная песня «Спет,чая гридня»
I
Спет - ла - я
^ Чак 597
грмл-пя. снег - ла - я грид-пя да На - си
-
лье - на
66
16
Лй
- Ро
стук
сту
При самом поверхностном ознакомлении ощутимы, как непохожесть
друг на друга, интонационное богатство и своеобразие российских напевов, так и их отличие от знакомых «классикам» немецких и австрийских
народных песен. Австро-немецкая песня (а во многом и французская,
и итальянская) в X I X веке в основе своей мажорно-минорна. Российская песня, помимо национальных особенностей, в силу историко-географических причин сохранила и в XIX веке свою немажоро-минорную
ладоинтонационную сущность — сущность, которую предлагается о б о значить кгкмонодийностъ мышления.
Монодия — это не только и не просто одноголосие, как ее иногда
определяют. Это совершенно особый тип мышления, где логической
единицей, не только тканевой (одноголосие), но и ладовой, логической,
является единичный тон, тон как таковой.
Что такое тон в мажорно-минорной системе? Как логическая единица он — ничто, он значим только как представитель и выразитель
целого гармонического комплекса (вспомним, например, унисонное до
в Первой симфонии Бетховена, представляющий до-мажорное трезвучие или тон «соль» в Скерцо Пятой симфонии, совершенно преображающийся в зависимости от звучащей с ним гармонии). В условиях монодического мышления тон — все! Тон действенен сам по себе, и монодийно
организованная мелодическая линия не «спровоцирует» наше восприятие на собирание звуков в аккордовые комплексы, как это происходит
в условиях мажорно-минорной системы. Достаточно сравнить тему Прелюдии к фуге ми-бемоль минор Д. Шостаковича (пример 2 а) с темой
II части Сонаты № 6 Бетховена (пример 2 б).
2a
р
Adagio
и
ш
и
Д. Шоапакович. Прелюдия es-moll
(«24 прелюдии и фуги*, ор. 87)
()6ра6отки
26
Милия Балакирева и звуковысотная система русской песни
Allegretto
67
Д. Бетховен, Соната для ф-п. № 6, ч. 11
Вот эту самоценность и самозначимость тона и ощутил М. А. Балакирев, воплотив их в своих обработках.
Известно, что сборники Балакирева, как и сборники Н. А. Римского-Корсакова, как и многие сборники их предшественников, современников и последователей, — это не просто записи напева, с той или иной
точностью воспроизводящие услышанный оригинал, а многоголосная
обработка, обычно в виде фортепианного сопровождения к народной
мелодии. И в этих многоголосных обработках особенно ярко раскрывается то, как услышал тот или иной композитор логику напева. Если слухом и сознанием композитора владеет гармоническая мажорно-минорная система (а это, повторим, система властная, сильная, от давления
которой очень непросто освободиться при малейшем намеке на появление сходных с ней оборотов — достаточно вспомнить строгие запреты
А. Шёнберга на использование в серии ходов по тонам аккордов), то
даже в интонационной системе другого плана слух будет настойчиво
искать отзвуки «привычных» гармоний. Убедительный пример — гармонизация песен композиторами XVIII века. Но и в X I X веке это проявляется достаточно часто. Так, например, Н. Римский-Корсаков, гармонизуя народный напев, тяготеет к объединению ряда тонов под эгидой
одной гармонии, чем выпуклость каждого тона затушевывается, нивелируется. Большинство кадансов в его сборнике «100 русских народных
песен» гармонизовано типичной «классической» последовательностью:
субдоминанта, кадансовый квартсекстаккорд, доминанта (часто септаккорд), тоника. Совсем иначе слышит гармоническое освещение мелодий М. Мусоргский, выбирая для каждого тона свой аккорд, свою гармоническую окраску в последовательности, не только не сливающейся
н характерный функциональный оборот мажоро-минора, но как бы нарочито ей противоречащей, благодаря чему самозначимость каждого
отдельного тона особенно подчеркивается 1 . И именно такое слышание
народной мелодии, такой подход к ее гармонизации, насколько можно
1 Подробно об этом см. очерк «Гармония М. Мусоргского и ее редакция Н. Римским-Корсаковым как "зеркало" авторского стиля* на стр. 70.
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
68
судить, впервые в истории — до «Бориса Годунова», до «Хованщины», —
мы находим в обработках песен «Сборника» Балакирева (особенно первого, что вполне объяснимо, если учесть обстоятельства его появления.
Подробно описанные в статье Гиппиуса).
Ощущение монодийной природы мелоса порождает особый тип
многоголосной фактуры обработок. Это не романсово-гомофонная, а чаще густая, плотная аккордовая фактура (пример 3):
М. Налакирев. «Калинушка с мал и мушкой»
За
I
Mt
Ш
кии
4k
шт
m
3 6
пьет.
m
f
j
М. Гхишкирев. «Не было нстру»
Larghetto
т
11с бы • л о
#
нет
V
1
г
мс бы - ло
ру,
,jl
П
I
Ы
't,
пе г
j
ру. вдруг..
j
Lgg^
О Д И Н ИЗ характерный приемов — октавы, «разбитые» терциями,
нередко еще и удвоенные. Прием этот перекликается, во-первых, со столь
характерной для истории народного многоголосия терцовой второй,
а во-вторых, со многорегистровым пением, естественным для смешанного хора (пример 4).
В первом сборнике мы почти не встретим мажорно-минорные «трехфункциональные» кадансы (сравнить с кадансами обработок РимскогоКорсакова, пример 5). Зато нередко кадансирование на «пустых» созвучиях: октавах или кварто-квинтовых аккордах (см. каданс в примере 4).
()6ра6отки Милия Балакирева и звуковысотная система русской песни
^
т
IJ1'
)
69
Л/. Гхиакырев.
Aii-да. ла ай-да.
aii да. да. Aii-да.
f
Ра-ло-пьем
injJifLjiJ
jfljj'^jjijjj
мы
ухяем!»
(к - рс - зу
m
П. Римский-Корсаков. «Ах, талап ли мои, тачан»
m
у-чагп» мо - я
Itj
ropi> -
w
ш
ка
-
я
Подытоживая сказанное, можно утверждать: М. А. Балакирев велик созданием своего Кружка, своей «Могучей кучки», ознаменовавшей
целое направление в русской (и не только русской) музыке. Но справедливость этой истины станет еще более явственной, если добавить к известному приоритет открытия им специфики русского народного мелоса не только в тематическом, но и в логическом плане — в плане его
особой, монодийной ладоинтонационной природы. Такое слышание звуковысотной системы народной мелодики можно считать судьбоносным
для российской, да и вообще для европейской профессиональной музыки. Оно было подхвачено и получило развитие у М. Мусоргского, А. Бородина, позднее — С. Рахманинова, С. Прокофьева и т. д. И, следовательно,
можно смело сказать, что услышанным в народной песне и претворенном в «Сборнике» М. А. Балакирев открыл путь в XX век.
Гармония М. Мусоргского
и ее редакция Н. Римским-Корсаковым
как «зеркало» авторского стиля *
м
одест Петрович Мусоргский и Николай Андреевич РимскийКорсаков... Два современника, во многом — по эстетическим установкам объединявшей их Могучей кучки — друг другу близкие, даже, как
известно, некоторое время жившие и творившие под одной крышей,
в непосредственном, ежечасном общении друг с другом. И вместе с тем, ~
две совершенно разные композиторские индивидуальности. Их художественные интересы, направления творческих поисков совершенно
различны, как различны и пути их новаторских устремлений, жанровая
и образная палитра сочинений, их музыкальный язык.
Удивительно ли, что так непохоже друг на друга слышат они и гармонию? Настолько непохоже, что один и тот же мелодический материал
предстает для каждого из них в различном, порой диаметрально противоположном, гармоническом освещении. Думается, что во многом именно в особенностях специфической для музыки каждого из этих двух
композиторов ладогармонической системы ярче всего отразились их
глубокие, подчас принципиальные расхождения во взглядах и творческих задачах.
Различия в ощущении и слышании гармонии, ее соотношения с мелодией, ее роли в этом соотношении особенно наглядно обнаруживаются при сопоставлении какого-либо участка текста Мусоргского и того
же фрагмента в редакции Римского-Корсакова. Просто поразительно,
насколько порой не совпадают прочтения гармонического содержания
одного и того же мелодического оборота у этих двух композиторов,
насколько по-разному у них выявляется смысл отдельных тонов. И в
этом сопоставлении, прежде всего, отчетливо вырисовывается дальнеперспективность мышления Мусоргского. Римский-Корсаков, при всех
* Очерк впервые опубликован в изд.: Бершадская Т. С. Гармония как элемент
музыкальной системы. СПб., 1997 (прим. ред.).
Гармония М. Мусоргского и ее редакция Н. Римским -Корсаковым...
79
своих новациях, — композитор XIX века. В творчестве М. Мусоргского
множество нитей протягивается к нашему времени, вплоть до конкретно
языковых аналогий.
В чем же видится близость ладогармонической системы Мусоргского системе XX века, что роднит эти системы? Для уяснения этого
вопроса выскажем несколько общих соображений. В теоретической
оценке существенных черт и движущих сил появления новой системы
XX века отчетливо выделились два направления. Одно направление первопричиной видит эмансипацию диссонанса, то есть изменение элемента системы. Другое усматривает новое XX века в новых силах и новых
формах сцепления элементов, то есть в новых типах функциональности
и, следовательно, в новых типах ладовой организации. Эмансипация
диссонанса входит в эту новую систему как один из характерных, но ни
в коем случае не существенных признаков. Доказательство этого положения может быть немногословным. Достаточно привести примеры из
музыки XX века, в которых использованы только консонансы (скажем,
тема Магары из оперы «Виринея» С. Слонимского или Adagio для струнного оркестра С. Барбера), и сравнить их с диссонантными темами Шопена или Вагнера. Эпоха написания сочинений, их стилистика совершенно очевидны вопреки степени диссонантности аккордов. В этой связи,
думается, что второе из указанных направлений вскрывает сущность
явления значительно глубже. В чем же видится сущность новой функциональности сторонникам второго направления? Ее обычно определяют
как функциональность мелодического сцепления тонов. Тон, а не комплекс, становится ведущим элементом системы. Думается, что это положение, совершенно справедливое в отношении истоков подобного типа
функциональности, в свете музыкальных систем сегодняшнего дня следовало бы несколько расширить, определив его как принцип равной логической весомости каждой временной точки текста. В такой формулировке
оно становится способным отразить и функциональность сонорного направления, и функциональность пуантилизма — характернейших систем
нашего века. К тому же явно обрисовывается отличие этой функциональности от функциональности систем гармонических и родственность
ее системам монодическим. Тон как движущая единица (порождение
монодического принципа мышления) становится прародителем функциональной значимости точки текста как логически самостоятельной
независимо от тканевой структуры этой точки. Гармоническое же мышление — это мышление блоками, при котором логически значим только
блок в целом, комплекс, и тон как точка может быть поглощен этим
72
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
блоком. В то же время в системах гармонического мышления выступает
и обратная связь: тон может «представительствовать от блока» (вспомним, например, унисонные окончания классических симфоний), самой
этой подразумеваемой включенностью в комплекс нивелируя собственную суверенность. И это обстоятельство с особой явственностью демонстрирует разницу между функциональной системой гармонических блоков — аккордов и функциональной системой сонорных комплексов —
«фонических пятен». Сонорный комплекс не равен аккорду. Поглощая
тоны, «звучания», составляющие его как единое фонически значимое
целое и в этом плане будучи родственен гармонической единице (аккорду), он, в то же время, не может выделять из своего состава какой-либо
элемент — тон, звук, — как от себя представительствующий. Он слышен,
и как логическая единица действует так же, как тон в монодии — только
моментно, только в точке. Именно в логической самоценности, суверенности, самозначимости каждой точки текста видится принципиальная
сущность новых систем XX века, возродивших к жизни монодию и монодийность, породивших сонористику и пуантилизм. В этой же значимости, ценности точки, созидательной функции звучащего момента обнаруживается теснейшая связь музыки XX века с музыкальной системой
Мусоргского.
С предельной ясностью новаторство Мусоргского, главенство в его
системе ладового значения тона над ладовым значением аккорда обнаруживается при сравнении его оригинальных текстов с редакционной
обработкой этих же текстов Римским-Корсаковым. Несколько слов
о последнем.
Н. Римский Корсаков — композитор принципиально гармонического
образа мышления. Для него гармония — фактор не только выразительности, но и красоты, прекрасного, носитель не только образного смысла,
но и фактор логически организующий музыкальную речь, фактор ладово
действенный, подчиняющий себе все остальные элементы музыкального языка и текста в целом. При всем ярком гармоническом новаторстве
Римского-Корсакова можно утверждать, что для него непреложно определяющей является тонико-доминантовая система мажоро-минора
(правда, в весьма широком ее понимании), определяющей даже в тех
случаях, когда он переходит границы ее элементарных форм. Известно,
что, начиная с оперы «Садко», в музыкальный язык композитора широко
включаются гаммы тон-полутон и целотонная, а с ними и так называемые «цепные», «уменьшенные» и «увеличенные» гармонические системы, в которых он явно перешагивает рамки простейших мажоро-минор-
79
Гармония М. Мусоргского и ее редакция Н. Римским -Корсаковым...
пых отношений (во многом опередив на этом пути Скрябина). И все же
сквозь все его новации просвечивает «мажоро-минор». Здесь-то речь
и должна коснуться различия между Римским-Корсаковым и Мусоргским в понимании ими значения гармонии как определяющего и организующего фактора, в понимании соотношения в этом плане гармонии
н мелодии.
1а
$
/У. Римский-Корсаков. «Царская исиепа», II д., ария Любашп
| La г ghetto)
Р
РГ
Г
О-на
''Г
ме-пя
кра -си - не-с
т
РР
т
ко
1б
-
dolce
длим-ней
сы
Римский-Корсаков. «Царская меиеста», IV д., Вступление
Lento
/
мо - их
АЛ
р
W*
/
lite-1:1
м=н=
т
р
/
чнц
р
/
Ш
Р
k t f k
\гЭ- жФ
Мелодика Римского-Корсакова (особенно в той сфере образов,
которая вызвала к жизни его новые гармонические системы, основывающиеся на так называемых «искусственных» звукорядах, но и не только
на них) как правило, целиком вытекает из диктующей ее гармонической
74
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
структуры. Это мелодические обороты, чаще всего идущие по тонам
аккорда, секвентно сдвигаемые по интервалам того же аккорда — терциям или квартам. Значимость для Римского-Корсакова того или иного
гармонического оборота как семантически важного, выразительно активного подтверждается многократными проведениями такой «полюбившейся» ему последовательности, как это можно наблюдать, например, в партии Любаши из оперы «Царская невеста». Репрезентирующий
тему (персонаж) гармонический оборот узнается «на расстоянии», через его повторность, при, возможно, достаточно активном изменении
мелодико-ритмического рисунка, фактуры и т. п. (пример 1).
Эстетическая самоценность и логически организующая сила гармонической структуры как таковой порождает сливаемость, фигурационность, «фиоритурность» самого мелодического оборота, как бы свертывающегося в поддерживающую (и породившую, «продиктовавшую»)
его гармонию (пример 2). Это требует концентрации слушательского
внимания именно на гармонической структуре: комплекс оказывается
важнее тона, ряд — важнее точки как логически значимой единицы.
Иное у Мусоргского. Для него, повторим, логически (а не только
эстетически, художественно, интонационно) важна и самозначаща каждая временная и звуковая точка текста. Это, прежде всего, — каждый
тон мелодии, но, что будет рассмотрено ниже, «принцип момента» коснется и гармонии. Итак, о мелодии. Ряд тонов, последовательность которых образует мелодический рисунок, мотив, попевку категорически «не
способен» у него свертываться в гармонический комплекс. Каждый тон
самоценен, каждый тон — логическая единица.
Принцип равновесомости каждого тона далеко не всегда совместим с почти единодушно признаваемой за метод Мусоргского речевой основой мелодии. Точнее, он может передать лишь речь определенного жанра — ритуально
размеренную, «псалмодическую». Бытовые же интонации неминуемо предполагают разную значимость акцентируемых и неакцентируемых тонов. Не потому ли мелодика Мусоргского нередко так далека от прямого следования
декламационной интонации, в отличие от мелодики, например, Даргомыжского или речитативно-ариозной мелодики Чайковского? Подробному анализу
интонационных истоков вокальной мелодики Мусоргского и роли в этом плане гармонии посвящена диссертация О. В. Рудневой «Интонационная основа
вокальной мелодики М. П. Мусоргского: к проблеме организующей роли гармонии» (49).
Ради выявления этой самоценности Мусоргский, в противоположность Римскому-Корсакову, меняет гармонию на следующих друг за
другом тонах мелодии, даже в том случае, когда они вместе взятые обра-
Гармония М. Мусоргского и ее редакция Н. Римским -Корсаковым...
79
:|уют целостный аккорд (пример 2 а). Показательно в этом отношении,
как прихотливо варьирует он мелодические попевки, например, в Прологе оперы «Борис Годунов», что особенно заметно, если сравнить его
интонационное решение с редакцией Римского-Корсакова, «выпрямляющего» мелодическое движение в простую секвенцию (пример 3).
(Larghetto alia breve|
AJ0
//. 1*имский-Корсаков. «Сказание о невидимом граде Китеже»,
I д., ариозо Фенронии
piano
l~~f
ьr v - f - Ш
1 hd
ту
-
ма
H
-
ны
ве
-
чер
^ ^П
^ П1
76
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
2б
(Allegro moderate)
,|()11,
t
К - го
1=
TP
м
я
шипя»
о
-
$
г
рин
J
-
бра
-
Ч
жа
-
ю.
ihnmi.
ш
ш
Л/. Мусоргский. «Сиротка»
(Довольно скоро]
г
г
.мой.
ми
-
лень - кий
ы
М. Мусоргский. «Ьорис Году и он». Пролог
(Andantej
Л
"Г Т
mm
1>а
л
-
ж
—
2в
^
но
красавица»
t.ft&|
Щ н
• pit
CtfPCr
1
1
Наглядно сравнение редакций начальных тактов «Рассвета на Москва-реке». Римский-Корсаков заменяет всего один звук, предлагая ре-диез
вместо до-диеза, стоящего в тексте Мусоргского. Но как преображается
Гармония М. Мусоргского и ее редакция Н. Римским -Корсаковым...
79
от одного этого звука весь напев! До-диез Мусоргского, отвечая верхней
точке мелодической волны, образует движение по тонам септаккорда
VI ступени. Аккорд этот, в силу самой своей смешанной функции склонный к переменности и тоникальности, «утяжеляет» нижний звук, делает его равновесомым, «равнопевучнм» с остальными. Аккордовость мотива преодолевается напевностью. Включенный Римским-Корсаковым
ре-диез магически переосмысливает мелодию. Ре-диез не входит в глаиенствующий аккорд. Он не равнозначен, он — типичная вспомогательная нота! И слух привычно «собирает» последующие звуки в знакомую терцовую структуру, превращая широкий распев в гармоническую
фигурацию трезвучия ми мажор с двумя опевающнми вспомогательными звуками сверху и снизу (пример 4):
Andante tranquillo
М. Мусоргский. «Хоиапщина», I д.
В многоголосии монодийность мышления проявляется у Мусоргского в разной фактуре и разных ладах, находя выражения опять же
в суверенности тона. Если склад при этом гармонический, то гармония,
будучи неповторимо своеобразной и глубочайше выразительной в образно-характеристическом и интонационном отношениях, в ладовом смысле оказывается «служанкой» тона. Рассмотрим, например, гармонию
и мелодию в разной редакции некоторых тактов «Хованщины» (примеры 5 - 8 ) . Сравнение помогает понять, как стремится Мусоргский подчеркнуть самозначимость каждого тона мелодии, словно нарочито «наступая» на законы мажорно-минорной системы, и как, в противоположность
.ггому, Римский-Корсаков «сворачивает» мелодические мотивы в единую гармонию или единый функциональный оборот. Так, в первом такте
примера 5 качание мелодии вокруг терции си-ре Римский-Корсаков
гармонизует выдержанным трезвучием VI ступени ре мажора, благодаря чему они сливаются в обобщенное звучание трезвучия си минор,
несмотря на включение опевающего проходящего тона до-диез.
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
78
В гармонизации Мусоргского каждый из звуков поддержан «своей»
гармонией, к тому же использующей «антипоследовательность» — V 6 -IV 64 .
Это, во-первых, делает тоны мелодии фактурно весомыми, и, во-вторых, приковывает внимание в их ладофункциональной самостоятельности, ибо в характерный функциональный оборот мажорно-минорной
системы аккордов их последовательность не укладывается (пример 5):
(Andante tranquillo]
М' мУ™Р'™й-
«Хованщина», I д.
Аналогично различие гармонического освещения начального возгласа Марфы «Силы потайные» (пример 6):
Ф
Ф
183
М. Мусоргский. «Хованщина», 11 д.
Meno mosso
Марфа
Си
л
-
лы
по-тай - ны-е,
$
си
-
лы
н
не-ли - ки-е,
Гармония М. Мусоргского и ее редакция Н. Римским -Корсаковым...
79
Редакция Н. Римского-Корсакова
Такое же гармоническое обособление каждого тона характеризует
отдельные строфы песни Марфы «Исходила младешенька» (сравнить
с объединяющей гармонизацией Римского-Корсакова, пример 7):
7
$
М. Мусоргский. «Хованщина», III д.
[Росо meno mosso - mistico)
Марфа
мы
j'HtfU
сто - бо - ю
за
-
теп
i W U f l l n
-
лим - ся;
П л
Марфа
е го - бо -
ю
ы
Редакция I!. Римского-Корсакова|
[Росо meno mosso - mistico]
мы
г
за
теп
лим - ся;
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
80
Не менее разительно отличие гармонической вертикали во вступительных тактах сцены гадания. Гармония Римского-Корсакова — типичный классический эллипсис — разрешение доминанты в доминанту
к ступени на кварту выше, хроматические последования с включением
альтераций и т.п., укрупняющие членения, объединяющие отдельные тоны
в слитные обороты. У Мусоргского — (опять же!) каждый звук — самостоятельный мелодический тон. Общая ткань — не последовательность
аккордов, а две гетерофонно или терцовой второй расслаивающиеся
линии на бурдоном басу. Логика — линеарная. Структура вертикали —
необычная (ненормативные удвоения, неполные аккорды). Строй — не
хроматический, а диатонический с высотно варьируемыми ступенями.
А в целом — принципиально разное слышание, принципиально разное
мышление (пример 8):
8
М. Мусор/ский. «Хованщина», N д.
Andantino, поп troppo lento
#
йг
"8— к»
е
Y f r
W W
Редакция Н. Римского-Корсакова
П
„• i
J.j j J
Ш
T
/Cs
^Hji
w
J = k
ТГГ
^
Идущий от монодийности принцип самозначимости тона (а отсюда — диатоничность в высшем, функциональном понимании этого слова)
часто оказывается несовместимым с трехфункциональной мажорноминорной ладогармонической системой. И вот парадокс: Римский-Корсаков — несомненно яркий и смелый новатор в области гармонии. Опираясь на хроматику уменьшенных и увеличенных систем, он сумел создать
такую гармонию, которая прямо вела к Скрябину в плане освобождения
от строгой централизации мажорно-минорного гармонического лада. Но
Гармония М. Мусоргского и ее редакция Н. Римским -Корсаковым...
79
и соприкосновении с мелодическими структурами Мусоргского, чисто
диатоническими по сути, его гармоническое новаторство гасло; оно не
могло найти своего выражения в этой сфере принципиальной диатоники и поворачивало гармонию вспять, к сугубо прямолинейно мажорноминорным функциональным оборотам. Для мелодики Мусоргского с ее
суверенностью каждого тона такая гармония нередко оказывалась губительной в силу «поглощающей» индивидуальность тона специфики мажорно-минорной гармонии.
Что собой представляет собственно гармония Мусоргского? Ее
ладогармоническая система?
М. Мусоргский — европейский композитор XIX века. Давно отошло в прошлое суждение о нем как о «гениальном самоучке» или чуть
ли не «недоучке». Помимо суровой школы Балакирева нельзя не учитывать его музыкантский опыт — опыт блестящего пианиста, исполнителя
Шумана, Бетховена, Листа и других европейских композиторов. Даже
без прохождения специальной теоретической школы этот слуховой багаж не мог не наложить свой отпечаток на мышление композитора, не
мог не «заставить» его слухово и «пальцево» (а это весьма существенно!) освоить и впитать логику последования вертикалей голосоведения
мажорно-минорной системы. И гений Мусоргского проявляется не в игнорировании ее законов и структур, а в умении поставить эти законы на
службу своему интонационному строю — строю, рожденному русской
речью, повторим, во многом речью церковного псалмодирования, а также речью размеренного «сказа» — в большей степени, чем речью бытовой. Но речь — явление по природе своей монодийное. И ради воплощения этой природы «на базе» мажорно-минорной системы Мусоргский
порой использует методы «от противного», то есть, как это было показано на примере «Хованщины», намеренно нарушает законы этой системы, вступает в противоречие с ними. Общеизвестно, что мажорно-минорная ладогармоническая система сильна, пожалуй, в первую очередь
своей ладоорганизующей, централизующей, системообразующей силой.
Мусоргский нередко пользуется этими ее свойствами, собирая в драматургически важных узлах действия все музыкальное движение на доминантовые органные пункты, создавая напряжение ожиданий и т.п. Но,
тем не менее, ладофункционально-организующее начало гармонии для
него не всегда самое важное, и роль эта нередко значительно снижается,
уступая в этом плане место ведущему значению тона. А это — уже крен
в сторону монодийных принципов организации ладовой системы. Отсюда — многие особенности функциональности: нестабильность, резуль6
Зак 597
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
82
тативность, активность переменных функций, частое превалирование
их действия над действием основных (пример 9):
тт
[Meno mosso)
М' мУсоРгский•
-«Борис Годунов», Пролог
J
т/
•0-
it «
ijPiJax.
Ч Н г
-
J J
^Tt
т.
•#•
— 1—
« J.
p
-J-4-
J7 -
Jh=
•
f
"
•f—' 5N
-4
ш
р
*fP
*i:. 1» I,
*
7•
1
^
—
—г-
'й» ,
J-4-
У*
9 f ш я
l U i f
J*
/
№
J
5
Акцент на тоне приводит к полному выключению из мажорно-минорной системы с привычными для нее структурами аккордов и вызывает к жизни созвучия нетерцовые (пример 10 а), так называемые «аккорды-интервалы», то есть двузвучия (примеры 10 б, в), появившиеся
уже в «Женитьбе».
Свободное маневрирование ладовыми системами различной природы вызывает к жизни постоянные ладовые модуляции в их высшей форме, — то есть модуляции не только наклонений, но в целом систем. Ярким примером может служить хотя бы Пролог оперы «Борис Годунов»,
где «чистый вид» мажорно-минорной системы представлен едва ли не
79
Гармония М. Мусоргского и ее редакция Н. Римским -Корсаковым...
единственным фрагментом — выходом Щелкалова. Такие множественные ладовые модуляции становятся характернейшей приметой музыкальной системы сегодняшнего дня. Не говоря уже о приемах полистилистики, эти модуляции из системы в систему необычайно характерны,
например, для Шостаковича, свободно переходящего от сложнейших
монодийных и монодийно-гармонических ладов к чистейшему мажору
или минору (особенно в кадансах: см., к примеру, Квартет № 14 и др.).
М. Мусоргский. «Светик Савишна»
10 а [Довольно скоро)
/?s
1
ш
PP<sf
1
У
j
г
М. Мусоргский. «Женитьба», Сцена II
[Скоро]
106Д
РРР
PPCsf
£
Ц]
ш
mf -
w
10 в
m
[Moderato|
ff-
5rTtt>
M. Мусоргский. «Хованщина», I д.
Монодийная природа мышления вызывает к жизни и особенности
строения звукоряда. При их характеристике исследователи творчества
Мусоргского нередко ограничиваются указанием на приметы так называ-
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
84
емых «особых диатонических» ладов — дорийского, фригийского и т. п.
и указанием на взаимопроникновение одноименных и параллельных систем мажоро-минора. Но думается, что здесь имеет место и другое: звукоряды Мусоргского — прямое порождение всей системы его ладового мышления, вытекающей из монодийности. Главное, что здесь следует отметить,
это производный от суверенности тона принцип свободной вариантности
ступеней, хорошо известный по народной музыке, то есть незакрепленность точной абсолютной высоты за той или иной функционально однозначной ступенью лада (какая принципиальная противоположность «искусственным», заранее предрешающим возможные варианты, звукорядам
Римского-Корсакова!). Именно этот принцип — допустимости высотного варианта — и порождает появление «фригийских» секунд, «лидийских» кварт, «сменных» терций и т.п., нередко появляющихся в непосредственной близости со своими «обычными» видами. И на один пример
хочется обратить особое внимание. Это один из клавирных вариантов
сцены « У Василия Блаженного» (пример 11 а\ приводится по изд.: Мусоргский М. «Борис Годунов». Клавир / Ред. Б. Асафьева и П. Ламма.
Пг.: Музгиз, 1931. С. 321). Правда, в окончательной редакции Мусорг-
11а
27
М. Мусоргский. «Борис Годунов», IV д., картииа 1
|Скоро. Темп отсюда вдвое скорее)
ttJ J J ^ J J . |J , , л г л вГ^
»r
г
Хде - ба
у
г 'т
г
[
'If *f ""r
им
го - :юд
J | П
»J
Щ
по -
|J n O T l J
127 ||Скоро. Темп отсюда вдвое скорее)
О *
Щ
\4
Ш
£
^
g
Ё
Г Т Т т тЧ Т
ii
г
щ
79
Гармония М. Мусоргского и ее редакция Н. Римским -Корсаковым...
Медленнее
^
—
ь
sf
t J » |J bbJ
« Ы
J
г
wi/* ihmm.
LJL
ский отказался от него, но кто знает, по каким причинам и под каким
давлением? И ведь самое главное, что этот вариант существовал! А вариант этот — не что иное, как будущий «лад Шостаковича» — минор
86
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
с низкими II и IV ступенями (он же — звукоряд «тон-полутон»). Его
отголосок (впрочем, если говорить о музыкальной драматургии оперы,
то скорее — его прообраз) можно услышать в характерных, носящих характер модуляционных сдвигов, сопоставлениях трезвучий фа минор —
соль-бемоль минор в кадансе первого хора «На кого ты нас покидаешь?»
(пример 11 б).
Что касается собственно гармонии, то, как говорилось, акценту Мусоргского часто падает не на ладовую функцию, но на функцию ее как
важнейшего образно характеризующего средства. И в этом аспекте Мусоргский часто непревзойден. На первый план выдвигается фоническая
сторона гармонии. Вспомним жесткие многотерцовые гармонии с включением остродиссонирующих больших септим в сцене Бориса с Шуйским (небезынтересно, что Римский-Корсаков заменил их на малые мажорные септаккорды), увеличенные аккорды в теме призрака и др.
(пример 12):
Гармония М. Мусоргского и ее редакция Н. Римским -Корсаковым...
79
Заметим, что в подобных случаях опять выступает роль точки текста: найденные гармонии действуют не как сила функционального сцепления последовательного ряда ладовых единиц, а как характеристический момент. В таких моментах, точках гармония (аккорд, комплекс)
способна определить рисунок мелодии (см., например, «Колыбельную»
н «Серенаду» из вокального цикла «Песни и пляски смерти»). В целом же,
и плане логики сцепления последований, логики ладовых связей гармония Мусоргского готова подчиниться приказу тона мелодии, лишь наполняя, насыщая и обогащая его фонизмом своего звучания. И именно
в этом факте — существо новаторства Мусоргского в области гармонии,
кстати, опять же сближающее его с X X веком (достаточно напомнить
влияние Мусоргского на французский импрессионизм), этим фактом
порождено все то ярко новое, необычное, специфически «мусоргское»
звучание, которое сразу адресует слушателя именно к этому автору.
Показательно, что в области собственно аккордики Мусоргский
за сравнительно редкими исключениями не изобретал каких-либо особых структур (имеется в виду именно аккордика как гармоническое единство, целостность, а не любая вертикаль, о которой будет сказано особо).
Более того, можно утверждать, что к концу творческого пути он отказывается от некоторых новаций своих творческих начинаний. Факт этот
хорошо известен относительно мелодики, но то же самое можно отмерить и в отношении гармонии. Однако, используя и обычные структуры,
Мусоргский нередко ставит их в такое положение, которое заставляет
слышать их как особые. Этому способствуют два фактора.
1. Фактор ладовый. Как уже говорилось, используя привычные
структуры (трезвучия, секст- и септаккорды), создавая при этом начальную установку и на привычную систему мажоро-минора, Мусоргский далее зачастую подчеркнуто «выбивает» из этой системы, ставя
аккорды в нетипичные ладовые ситуации, ненормативные последовательности, и тем самым заставляет слышать каждый аккорд «отдельно»,
опять же «моментно», благодаря чему внимание фиксируется на его фонических качествах, а логическая направленность передается тону. Так,
например, характерно последование аккордов в приведенном примере
из «Хованщины» с ходом субдоминанты после доминанты; показателен
пример из Пролога оперы «Борис Годунов» с обратным ходом альтерированных и неальтерированных ступеней (пример 13). В партитуре, как
и в клавире Римского-Корсакова, этот ход «исправлен» на нормативный. Таких примеров — множество.
II. Гармония и лад в свете индивидуальных
88
13
решений
М. Мусоргский. « Борис Годунов»
Кланпр М. MvcoprcKoio
la|»NNYJ>II
М. Мио^ГМИОИ K.iaiui|> N IH
' MCKOIO-Козакова
2. Фактор тканевый. Музыкальная ткань (склад) как сугубо гармоническое образование — не постоянное явление у Мусоргского. Гармонический склад появляется у него в те моменты (опять — моменты!), когда
собственно гармонический элемент — аккорд — действует как феномен
определенного фонического эффекта. В основе же своей ткань Мусоргского нередко организуется линейно и даже линеарно, хотя сами линии
эти зачастую не одноголосны, а или гетерофонны (пример 14 а), или
раздвоены терцовой втброй (пример 14 б, в), усложнены подголосками
и т.п. Такова, например, фактура многих разделов Пролога оперы «Борис Годунов», песен-сценок «Сиротка», «Ах, ты, пьяная тетеря», «Семинарист» и многие другие.
М. Мусоргский. «Семинарист»
14 а |Не очень скоро|
ёШш!
У
Се
ме
5
т ^ г т
л
Г
Г
г
£ 5
j
Т
J
U
U
[щГ]
[Andante]
по - па
-
на
доч - ка
л
и
М. Мусоргский. «Борис Годунон», Пролог
89
Гармония М. Мусоргского и ее редакция Н. Римским-Корсаковым...
14 в
М. Мусоргский. «Сиротка»
(Довольно скоро)
ш/
z
Ьрань - к», но - бо
*
М
-
Г " ч
я - ми.
? ы
i=i
Г М Г
пра - хом, у - гро
. 9—hS
И
:oii
г*-
От сочетания нескольких усложненных гетерофонией или подголосками линий и образуются «необычные» вертикали, порой, возможно, по интервалике и совпадающие с трезвучиями или септаккордами,
но имеющие совершенно иную природу, а потому и звучащие особенно,
необычно, что еще усугубляется частыми несовпадениями с нормативными удвоениями тонов. Подобная фактура тонов является следствием
сосуществования и взаимодействия разных принципов, определяющих
высший уровень логики организации ткани — склад; полипластовые наложения одного склада на другой, мгновенные модуляции из склада в склад,
интеграционное слияние и взаимопроникновение различных складов,
опять-таки, протягивают нити в век XX.
Краткий очерк не может, да и не ставит цель охватить полностью
все своеобразие ладогармонической системы Мусоргского. Но и приведенный материал позволяет с уверенностью утверждать, что гениальный русский композитор XIX века Модест Петрович Мусоргский, живший и творивший в эпоху господства зародившейся еще в XVII веке
мажорно-минорной системы, намного опередил свое время. Творчество
его, неповторимо самобытное, истоки которого — в древнейших пластах
национальной музыкальной культуры, перешагнув эти рамки, во многом определило пути развития музыкального языка и музыкальной системы века будущего — века XX.
О гармонии Рахманинова *
В
музыкальном языке Рахманинова гармонии принадлежит одно
из ведущих мест. Она определяет специфику его стиля не в меньшей
мере, чем мелодия. Пожалуй, в первую очередь именно в гармонии Рахманинов выступает как композитор, творчество которого складывалось
на рубеже столетий. Отсюда — особый интерес, который вызывает
гармония Рахманинова в свете проблемы преемственности, традиции
и новаторства.
Не ломая радикально сложившихся до него норм, композитор
вместе с тем сказал в этой области новое, яркое слово. Созданный им
своеобразный гармонический стиль во многом отражает некоторые
общие тенденции в развитии музыкального языка, характерные для его
времени. Гармония Рахманинова, эволюционируя в его творчестве, намечает один из возможных путей обновления музыкального языка, как
бы указывает русло, по которому развитие классических принципов
может привести к новому качеству.
К поздним опусам (не только в произведениях последнего периода, но во многом и в сочинениях, созданных накануне 1917 г.) в музыке
Рахманинова происходит заметное усложнение лада, состава аккордов,
повышается роль мелодического фактора в связи созвучий и ряд других явлений. При этом, однако, новое в языке его последних произведений не означает какого-либо резкого перелома, принципиального
отказа от старых средств и замену их другими, а представляет собой,
скорей, результат «количественного накопления» черт, свойственных и
более раннему Рахманинову.
Многое из того, что в гармонии Рахманинова появляется как отдельный прием, возникший на основе развития классической функциональной гармонической системы, в творчестве Прокофьева, Шостаковича, Стравинского становится нормой, образуя качественно новую
* Статья впервые опубликована в изд.: Русская музыка на рубеже XX века:
Статьи, сообщения, публикации. М.; Л., 1966 (прим. ред.).
О гармонии Рахманинова
91
систему, преемственная связь которой с традиционной основой обнаруживается не столь непосредственно. В этом отношении гармония Рахманинова, так же как и Метнера, Скрябина, позднего Римского-Корсакова, является как бы связующим звеном между музыкальным языком
XIX и X X столетий.
Настоящая статья, не претендуя на охват всех сторон рахманиновского гармонического мышления, является попыткой рассмотреть
лишь некоторые черты, наиболее существенные для характеристики
индивидуального стиля композитора и, вместе с тем, показательные
с точки зрения отражения ряда общих тенденций эволюции музыкального языка его эпохи.
Три основные черты характеризуют гармонический стиль Рахманинова. Это, прежде всего, функциональность как основа гармонических
связей и формообразования в целом; это, далее, огромное значение
мелодического начала в выражении этих связей, напевность гармонии
и всей музыкальной ткани; это, наконец, значительная роль фонической,
темброво-красочной стороны гармонии. В синтезе и равновесии этих
трех моментов — специфика рахманиновского гармонического стиля,
отражающая некоторые типичные особенности его творчества в целом.
Присущее музыке композитора характерное сочетание действенности — и созерцательности, динамики — и статики находит свое выражение в объединении ряда противоположных тенденций. Активности
функциональных связей созвучий, поддерживаемых часто упругим
ритмом и энергией поступательного мелодического движения, противостоит торможение этого движения, идущее от замедленности смены
гармонических функций. Последняя, будучи порождена вариантно-распевным развитием мелодии, влечет за собой внимание к фонической
стороне звучания аккордов.
Функциональная основа — это, пожалуй, главное, в чем выражается непосредственная зависимость гармонического мышления Рахманинова от классических традиций. В отличие от свойственных ряду современных ему направлений (импрессионизм, экспрессионизм) тенденций
к разрушению функциональных связей и тяготений, в гармоническом языке Рахманинова классические тоника, субдоминанта и доминанта остаются в большинстве случаев основными действующими силами. Однако
проявление функциональности, как и само выражение той или иной
функции, у него весьма своеобразны. Можно говорить, что в целом эволюция рахманиновского гармонического языка направлена главным об-
92
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
разом на усложнение и обогащение функциональных связей, в произведениях последнего периода выступающих часто в очень обобщенном виде.
Функциональность преломляется у Рахманинова на базе весьма
сложной ладовой основы. Не останавливаясь на этом вопросе подробно (трактовка Рахманиновым лада могла бы составить тему отдельного исследования), отметим только наблюдаемое у него сочетание простейших диатонических (подчас даже ангемитонных) соотношений
с широко развитой полной системой мажоро-минора, свободно включающей элементы одноименных и параллельных ладов, с подменой
трезвучий данного натурального лада на одноименные к ним и т. д. При
этом, наряду с аккордами натурального мажора и минора широко привлекаются созвучия с признаками и других натуральных ладов — фригийского, лидийского, дорийского и т. п. Особенно широко используется
мелодический мажор. В этих сложных системах взаимопроникновения
ладов, до тех пор, пока они не выходят за рамки функционально-гармонической трактовки, Рахманинов — прямой наследник традиций
второй половины XIX века (Лист, Вагнер, Григ, Бородин, Римский-Корсаков и др.).
Однако расширение мажоро-минорной системы у Рахманинова
не ограничивается только взаимопроникновением одноименных и параллельных ладов. В отдельных случаях (преимущественно в произведениях второго и последующих десятилетий XX века) лад его обогащается эпизодическим включением аккордов и более далеких, чуждых
натуральным звукорядам одноименных и параллельных ладов, — трезвучиями вводнотонными и однотерцовыми к главным ступеням. Это
способствует еще большему усложнению функциональных отношений.
Значение функциональности у Рахманинова далеко выходит за
рамки только прямого и непосредственного проявления связи между
рядом стоящими аккордами. Функциональность является у него фактором организующим, порой помогающим связать в стройное и единотональное целое самые смелые аккордовые образования, сложнейшие
альтерации, отклонения, на первый взгляд далеко уводящие от основной тональности. В этих случаях функциональность проявляется как
бы в крупном плане, крупным штрихом, «на расстоянии», связывая
и объединяя лишь опорные гармонические «узлы». Следование созвучий между этими гармоническими опорами может быть при этом весьма свободным, подчиненным уже не функциональным законам. В разделах, расположенных между такими функционально-гармоническими
О гармонии Рахманинова
93
«узлами», и проявляется, прежде всего, усложнение лада, принципов
гармонических связей, структуры вертикали, типов фактуры, — то есть
нее то, что роднит гармонию Рахманинова с некоторыми общими тенденциями музыкального языка его времени.
Особенности проявления функциональности выражаются у Рахманинова, прежде всего, в выборе самих созвучий, как с точки зрения
их ладового значения, так и с точки зрения их структуры. Господствующее место занимают у него аккорды смешанных функций. Благодаря
этому, одно и то же созвучие нередко служит выражению различных
функций (например, VI ступень может выступать в качестве Т или S,
VIL — D или S и т. д.). Иными словами, для Рахманинова не существует
того строгого распределения созвучий лада по определенным функциональным группам, как свойственно гармонии классической. В этом отношении он примыкает к одной из традиций русских композиторов
XIX века (прежде всего — кучкистов, в меньшей мере — Чайковского).
Такая многозначность трактовки созвучия дает возможность широкого
проявления переменности и красочности при сохранении в то же время
и функциональных связей, но выраженных более смягченно.
Нейтрализация функциональных тяготений во многом обусловлена специфичной для Рахманинова широтой и свободой распевания
мелодии, ее неспешным, вариантным разворачиванием. Активная, остро тяготеющая функция своей направленностью к движению, так сказать, «торопила» бы мелодическое движение и тем самым мешала бы
ого «распеванию». Поэтому столь велика у Рахманинова роль трезвучий побочных ступеней: VI, а также III и II, особенно в соседстве с VI
и мажоре или VII натуральной в миноре. Последовательность I—III, вообще характерную для русской музыки, можно даже назвать одной из
рахманиновских «лейт-гармоний» (см., например, романсы «Весенние
воды», «Сон» ор. 8, Третью симфонию).
Той же смягченности выражения функций и сосредоточенности
внимания на красочной стороне гармонии способствует и структура
используемых созвучий. Для Рахманинова необычайно характерно
использование аккордов и созвучий сложной многотерцовой структуры — септаккордов всех ступеней, нонаккордов, ундецимаккордов, при
этом не только в основном виде, но и в виде обращений. Можно привести множество примеров, где септаккорд, а иногда и нонаккорд являются основной «единицей» вертикали (главная партия I части Четвертого фортепианного концерта, прелюдии си-бемоль минор ор. 32 № 2,
ля минор ор. 32 № 8, Третья симфония — вступление ко II части и др.).
94
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
Собственно говоря, это развитие той же тенденции, которая лежит
в основе широкого использования трезвучий побочных ступеней. Подобно им септаккорды всех ступеней, кроме V и II, обладают смешанной
функцией, потому основная функция в каждом случае оказывается выраженной смягченно. Особенно это относится к еще более сложным созвучиям — нон- и ундецимаккордам, многосоставность которых приводит к соединению в одном аккорде признаков всех функций (см. об
этом ниже).
Насыщение гармонической ткани септаккордами и нонаккордами порождает, вместе с тем, преобладание диссонантности звучания,
сочетание которой со смягченностью функциональной направленности создает совершенно особый эффект.
В светлых, лирических темах смягченность функции септаккордов
способствует тонкости, акварельности красок, мягкости самого образа.
При этом весьма характерно в подобных случаях фигурационное изложение гармонии, сглаживающее диссонантность септаккордов. Благодаря появлению диссонирующих интервалов в последовательности,
а не в одновременном звучании, на первый план выдвигается функциональная нейтральность, «переливчатость» тех трезвучий, из которых
состоит септаккорд; гармонический фон приобретает напевный характер (см. прелюдии ми-бемоль мажор ор. 23 № 6, до мажор ор. 32 № 1,
романс «Островок» и др.).
Совершенно иначе звучит септаккорд в темах мощного, праздничного характера, как, например, в финалах Второй, Третьей симфоний.
В этих случаях смягченность функций вступает в некоторое противоречие с характером образа. Динамика достигается не функциональными,
а фоническими средствами — фактурой, оркестровкой, силой звучности.
Это придает всему звучанию некоторую затушеванность, специфичную
для многих «праздничных» тем Рахманинова. В темах же сурово-драматических или трагедийных (особенно в миноре) диссонантность септи нонаккордовой вертикали сообщает музыке особую напряженность
(см., например, вступительные аккорды Второго концерта, Музыкальный момент си минор ор. 16 № 3, этюды-картины до-диез минор ор. 33
№ 6, ми-бемоль минор ор. 39 № 5 и др.).
Использование аккордов многотерцовой структуры влечет за собой
и некоторые другие особенности, весьма характерные для гармонии
Рахманинова, вытекающие из самой природы таких созвучий. Одна из
них заключается в том, что в этих случаях теряется принципиальное различие между звуковым составом аккордов противоположных функций.
О гармонии Рахманинова
95
Это особенно выявляется в обращениях1 и ведет все к той же функциональной нивелировке созвучий, к способности одного аккорда выполнять разные функции в зависимости от его изложения2.
Поскольку многотерцовые аккорды могут включать в себя почти
все ступени лада (ведь, в принципе, весь диатонический семиступенный звукоряд можно расположить по терциям)3, возникает нивелировка различия уже не только состава разных аккордов, но и различия аккордовых и неаккордовых тонов. Такова, например, гармония в финале
Третьего концерта в проведении побочной партии из I части (пример 1).
В целом здесь — доминантовая функция на тоническом органном пункте: опорные моменты ясно очерчивают доминантсептаккорд. Но выражена эта функция через все ступени лада, так что моментами образуются аккорды то II, то VII ступеней. Таким образом, здесь имеет место не
аккорд V ступени, а скорее доминантная функциональная зона. Включение же всех ступеней лада создает здесь ту певучесть гармонии, о которой говорилось выше и которая позволяет в самый фон включать
тематические элементы.
Концерт для фи. с орк. № 3, ч. I
•Hfcrf
у
"
"
j
L
J
oJ1 J
J1 Ji J
dM
i
V —J/ n V -
-т
-я
1 Если трезвучия IV и V ступеней, наиболее ярко выражающие противоположные ладовые функции S и D, резко отличаются друг от друга по самому своему
составу, не имея ни одного общего тона, то септаккорды этих ступеней уже будут
иметь по одному общему тону, нонаккорды — по три, а ундецимаккорды совпадут
почти полностью — они отличаются только одним тоном. При добавлении к доминантовому ундецимаккорду сексты вместо квинты (ми вместо ре в до мажоре), разницы в составе аккордов не будет совсем и различаться они смогут только благодаря
расположению их тонов, в первую очередь — тонами баса.
2 Таким образом, расположение, характер изложения аккорда оказывается решающим для определения его функции — черта, прямо ведущая к одному из характерных свойств гармонического языка современной музыки (см. 70).
3 Например, в романсе «Крысолов» (т. 49) встречается гармония, включающая
псе ступени диатонического звукоряда: фа, ля-бемоль, до, ми, соль, си, ре в до мажоре.
96
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
Функциональной нивелировке созвучий и сглаживанию различия в восприятии аккордовых и неаккордовых звуков способствует
и использование Рахманиновым аккордов с побочными тонами. Теория музыки различает два вида побочных тонов: заменные и внедряющиеся (по терминологии Ю. Н. Тюлина, 62). Заменные включаются
в аккорд вместо одного из тонов терцовой структуры и звучат достаточно мягко. Внедряющиеся присоединяются к полному составу терцового аккорда, образуя сильно диссонирующие звучания. Из этих двух
разновидностей Рахманинову более свойственны именно заменные побочные тоны. Роль побочного тона обычно выполняет терция лада —
первичный мелодический признак тоники. Попадая в аккорды других
функций (в первую очередь — доминанты), она способствует все той же
их функциональной смягченности. В аккордах доминанты этот побочный тон, генетически восходящий к так называемой «шопеновской» доминанте, применяется уже не только в V7, но и в V g , а также в VII 7 , образуя VII 7 с квартой вместо терции.
Последний из перечисленных аккордов заслуживает особого внимания в качестве одной из особенно характерных рахманиновских гармоний, сохраняющих свое значение на всем протяжении его творческого пути (см. 13). Отметим, что Рахманинов использует этот аккорд
преимущественно во втором и третьем обращениях, то есть с субдоминантовым басом, и разрешает прямо в тонику. Таким образом, возникает
плагальный оборот, но совершенно особого рода (традиция его восходит
к Глинке, часто использующему VII 7 в роли субдоминанты). Плагальность, характерная для русской музыки вообще, в данном случае проявляется в типичной для Рахманинова непрямолинейной и отсюда смягченной форме. Септаккорд VII ступени сам по себе совмещает признаки
доминанты и субдоминанты, включение же в него тонической терции
О гармонии Рахманинова
97
приводит к совмещению в одном аккорде признаков всех трех функций
лада, — явление, аналогичное отмечавшемуся на стр. 94-95.
Аккорд этот применяется как в полном, так и в неполном виде,
с пропущенной квинтой. В этом последнем случае он совпадает по звучанию с так называемой «шубертовской» VI ступенью, встречающейся
также у Глинки, Листа, Римского-Корсакова и многих других композиторов. Однако у Шуберта и Глинки она используется преимущественно
как средство прерванного каданса (см., например, этот аккорд у Глинки — в арии Руслана «Времен от вечной темноты»). В таком обороте
функция этого созвучия явно субдоминантовая, как это свойственно
аккорду, подменяющему тонику в прерванном кадансе. В ладовом и акустическом отношении оно воспринимается как трезвучие с характерным терцово-квинтовым составом интервалов. Включение его в гармоническую последовательность создает впечатление неожиданности,
поворота, может быть подчас более холодного, более сумрачного, более
сильного, но, с точки зрения выразительных возможностей, лежащего,
в общем, в той же плоскости, что и обычный прерванный каданс.
У Рахманинова это созвучие используется при движении в тонику, носит явно вводнотонный характер, и в функциональном отношении очень сложно (аналогично функции VII*). Ярко выделяющаяся
уменьшенная кварта придает ему необычайную обостренность тяготения и диссонантность звучания, существенно отличную от «Шубертовского» трезвучия.
Эту излюбленную гармонию Рахманинов применяет для выражения наиболее трагических переживаний, острой тоски, щемящей боли
( « О нет, молю, не уходи», Элегическое трио № 2, вступление к Третьей
симфонии и т. п.). Однако при всей остроте звучания аккорд этот, благодаря своей функциональной двойственности, лишен значительного
напряжения и звучит скорей болезненно, чем драматично. Это во многом отвечает типичному для Рахманинова характеру трагических образов, выражающих протест скорее через крик боли, чем через активную действенность, борьбу.
Выше уже отмечалась свойственная Рахманинову замедленность
функционального движения. Она проявляется прежде всего в медленном уходе от начальной тоники, которая тянется часто на протяжении
ряда тактов, а иногда и ряда страниц музыки. Тоническая функция при
этом может быть выражена, как просто фигурированием трезвучия
I ступени, так и широко применяемыми тоническими органными нунк7
Зак. 5 9 7
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
98
тами или длительным остинатным движением на тонической основе,
в которых тоника царит, а все образующиеся в верхних голосах аккорды
выполняют чисто вспомогательную роль ее оттенения (см. Прелюдию
си-бемоль мажор ор. 23 № 2, побочную партию I части Второй симфонии, I и IV части «Колоколов» и некоторые другие).
Это стремление к протяженности звучания одной функции приводит к той черте рахманиновской гармонии, которая перекидывает
мост к характерному для музыки XX века явлению функциональных
зон (70), то есть выражению функции не четко зафиксированным и во
временном отношении ясно от других отделенным созвучием, а «переливами» одного аккорда в другой, близкий ему по функции, без определенных граней перехода.
Например, в Прелюдии ми-бемоль мажор ор. 23 № 6 довольно
обычная в общем гармоническая схема начального периода (модулирующего в соль минор) выражена крайне своеобразно и чрезвычайно
типично для Рахманинова. Здесь интересны и сами аккорды, и способ
показа каждого из них. Так, начальная тоника продолжается три такта
и в целом выражается не трезвучием I ступени, a VI y . При этом все время происходят переходы I ступени в VI и обратно, так фигурационно
завуалированные, что уловить между ними точную грань совершенно
невозможно. Тон до воспринимается то как аккордовый (при этом вносится некоторая доля минорной окраски), то как вспомогательная нота
к си-бемоль, подчеркивающая мажорность основной тоники (пример 2):
Прелюдия ор. 23 Н> б
•a
7
У ' *
Л.
F
— J
J
F
*
B F — - — J J L
«J •»R J
L
\
(Ьм
T1'7
rJ
лт
a
0 ф. 0
F
Р
*• 0
A
r Vf
1
—
Г Г Уlf< Г r r -
^
L Г Г f=>
4
-
О гармонии Рахманинова
99
В этот широчайший распев-разлив тоники включается не только
VI ступень. Многочисленные опевания тонов тонического трезвучия,
в том числе и хроматические, наряду с этим образуют вскользь более
сложные и далекие от тоники аккорды IV, II7, IV*8. Таким образом, господствующая в первом предложении тоника как бы изнутри обогащается возникающими мимолетно плагальными оборотами. Функциональность становится более активной лишь в кадансе, завершающем второе
предложение (IIG-—Vg—I соль минора), зато направленность модуляции
в тональность III ступени делает сам модуляционный поворот необычайно мягким.
Проявление функциональных связей в гармонии Рахманинова
может быть выражено еще более опосредованно. Так, подчас огромную
организующую роль начинает играть яркая функциональная последовательность основной тональности, призванная обобщить ряд отдаленных отклонений и аккордов, либо включающихся в данную тональность
из других ладов, либо образованных чисто мелодически и имеющих красочное, тембровое значение. В этой организующей роли выступает или
доминанта, или субдоминанта, в виде яркого и определенного в функциональном отношении созвучия. Например, во вступлении к Третьей симфонии (пример 3) последовательность унисона ми и трезвучия ля минор
в тт. 8 - 9 , благодаря централизующей и направляющей роли доминанты
ми, организует в ля миноре все предшествующее гармоническое движение ряда септ- и нонаккордов, далеких от натурально-гармонического
звукоряда.
Аналогичные явления имеют место в Этюде-картине до минор
ор. 39 № 7 (пример 4). Особенно интересны тт. 26-33, где движение,
развивающееся по сугубо мелодическим законам, обобщается ясной
субдоминантовой гармонией (1Ц), направляющей все, до той поры не
столь определенное в тональном отношении, развитие в до минор.
Симфония № 3, ч.!
1
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
100
Этюд-картина ор. 39 № 7
й
llJ'CfUU
I
"fff'f
n
l
n
Pffffrrjl'
Ш
ПГГГГ Г г г ггг
Г
^ J J
J
w
I
*
fTF*
Таким образом, особенно вырастает роль функциональных связей
созвучий в кадансовых оборотах. И именно в кадансах для выражения
той или иной функции Рахманиновым привлекаются наиболее «классические» гармонии — V 7 , Нб5> 1Ц и т. п., в то время как в некадансовых
О гармонии Рахманинова
101
разделах аккорды обычно значительно сложнее. В этом проявляется
и значение функциональности у Рахманинова как важнейшего формообразующего фактора — функциональные обороты разграничивают и организуют музыкальные построения.
Функциональность в гармонии Рахманинова проявляется не только посредством основных, но и, очень широко, посредством переменных функций. Это связано в первую очередь с опорой на интонации
народной и старинной культовой музыки, которым свойствен переменный лад. Но у Рахманинова переменность возникает и от других причин. К ним относится обилие аккордов смешанных функций со слабо
выраженным подчинением основному центру. При отмеченной замедленности смены функций такие аккорды, особенно трезвучия, начинают легко восприниматься как тоника.
Между этими двумя видами переменности есть существенная
разница. Первую из них, возникающую при гармонизации мелодий,
в своих истоках близких к народным, можно охарактеризовать как более активную. Она связывается обычно с натурально-ладовой гармонией. Активность ее заключается в том, что возникающие при такой
переменности вторичные функции, как правило, множественны, и проявление одним из трезвучий тоникальности влечет за собой и активное функциональное переосмысление других ступеней в субдоминанты, доминанты и т.п., образующие с временной тоникой и между собой
многообразные функциональные обороты (см., например, Прелюдию
си минор ор. 32 № 6, тт. 1 - 8 ) .
Другая форма проявления переменности функций менее активна. Ее специфика в том, что переменность здесь ограничивается лишь
проявлением тоникальности какого-либо трезвучия. Никакие другие
трезвучия в эту новую систему не вовлекаются, новые активные связи
не возникают. Не образуются и натурально-ладовые обороты. Такая
переменность может появиться внутри самого классического оборота
функциональной мажоро-минорной системы или, наоборот, при сложно-хроматических ладовых отношениях. Переменная тоническая функция, возникнув и оттенив своей иноладовостью или далеким строем
исходную тональность4, так же мягко включается в основной функциональный гармонический оборот (пример 5):
4 Чаще всего это происходит с трезвучиями медиант, то есть противоположными основному наклонению, или с трезвучиями, далекими от натурального
.чвукоряда данной тональности.
102
5а
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
Прелюдия ор. 23 № 10
ГПГЬ ГП Л|
гп#
к
TGcs
VI?Ges
Если первая форма переменности вообще широко распространена
в русской музыке, так как своими корнями уходит в ладоинтонационные особенности народной песни, то вторая особенно специфична для
Рахманинова. Она вызвана к жизни все тем же вниманием композитора к характеру звучания вертикали, мягкости выражения функциональных отношений, и, главное, огромной ролью мелодического начала:
часто именно распев мелодии вызывает необходимость остановки гармонического движения, задержку на одной гармонии, а это и способствует выявлению тоникальности последней. С другой стороны, восприятие гармонии как тонической делает особо значительным, мелодически
выпуклым, каждый входящий в нее тон и тем самым способствует осуществлению распевности мелодии даже в сравнительно быстром темпе
О гармонии Рахманинова
103
движения и смены гармонии («Весенние воды», «Я опять одинок», Прелюдия си-бемоль мажор ор. 23 № 2 и т. д.).
Протяженность гармонии — лишь одно из проявлений воздействия мелодического начала на гармонию. Мелодический фактор вообще играет у Рахманинова существенную роль в организации гармонического движения.
Свойственная его мелодии широта дыхания, проникая в гармонию,
выражается, прежде всего, в широко развитых мелодических связях
аккордов, а также в напевности всей музыкальной ткани. Мелодические связи аккордов приобретают часто значение в движении гармонии
между теми гармоническими «узлами», о которых говорилось выше, —
явление, имеющее давнюю традицию, широко подхваченную композиторами современности5. При этом часто образуются хроматическипроходящие или вспомогательные созвучия, логика возникновения
которых чисто мелодическая (пример 6):
4Колокола», ч. III
зрр
«Крысолов»
7а
V я я
ЩщФ
i h f r n i1 Д L,
J Р
1 П
де - иунже прич*нит - с я, чтоей лу-шу от-дал
'р
P"J "
1,
^r
tJ
1
№
я
ми-лой
1
ч
,
г
"г
\—*г—
Г
'Г
г
у
t
|
Г 'Г
гтЧЧ
1
* ^
5 Проходящие аккорды, функционально нейтральные, часто далекие но тоновому составу от основной тональности, нередки у Шопена, Листа, Брамса и др. (см. 6'2).
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
104
* Колокола», ч. III
76
ы
Т
Вновь спа
*
ft
*
Й
^
Именно при активности мелодического фактора в гармонии Рахманинова возникают созвучия, перекликающиеся с гармонией Прокофьева, Мясковского, Шостаковича — имеются в виду трезвучия, построенные на вводном тоне (верхнем или нижнем), трезвучия, однотерцовые
к главным ступеням и т. п. (пример 7).
В отдельных случаях встречаются даже аккорды, получившие в теории музыки название «прокофьевской доминанты», или очень к ней
близкие (пример 8):
Этюд-картина ор. 39 № 1
rt^Up г
щ
I -1
= : й:
1
• 1й
^ tii
i|3
3
F f H
^
р
Л
- f h
-рЛ
!з 3
t»— k j j tF
3
II'^
- ^^
j
ьХТП. г—I
г- - у
h
J
r
i
/Сs
^
1
О гармонии Рахманинова
105
В огромной степени ведущая роль мелодии сказывается тогда, когда сопровождающая ее гармония теряет самостоятельность движения
и превращается в «ленточную» поддержку мелодии быстро сменяющимися гармоническими комплексами. Этот прием, как и многие другие,
используемые Рахманиновым, имеет давнюю традицию. Однако у Рахманинова, особенно в поздних произведениях, он приобретает особую
специфику, в которой, несомненно, сказалось возрастание формообразующей роли мелодии и тембрального значения гармонии. В творчестве композиторов XIX века и в народной музыке «утолщение» мелодии делается, как правило, консонирующими интервалами и на основе
параллельного движения (особенно в народной музыке), либо с явной
ориентацией на образование функционально значимых вертикалей
(профессиональная музыка). У Рахманинова — иное. В таких темах,
как приведенные выше отрывки из этюдов-картин (см. примеры 4, 8)
или главная партия I части Четвертого концерта, аккорды, сопровождающие мелодию, даже фактурно как бы слитые с ней, не консонантны,
а почти сплошь диссонантны. При этом движение составляющих голосов часто не параллельно, благодаря изменяющейся структуре этих
аккордов. В результате, не только снимается значение функциональности аккорда, но ослабляется и ощущение полифоничности, неизбежно
возникающее при появлении голоса, вторящего основному в терцию
или сексту. Аккорд начинает восприниматься как фактор сугубо окрашивающий. Он теряет свое самостоятельное ладовое «лицо», свою активную формообразующую роль и подчиняется только одной задаче —
окраске тона, который он сопровождает. Форма в этих случаях, до тех
пор, пока не приходит «на помощь» функциональный каданс, организуется по сугубо мелодическим законам и гармония приобретает подчиненную роль.
Возможно, именно протяженность гармонии, длительное выдерживание одной функции, порождаемое неспешностью мелодического
развертывания, вызывает к жизни третью характерную черту рахмаминовской гармонии — внимание к краске звучания вертикали, к фонической, тембровой стороне аккорда. Характерное для композиторов
второй половины XIX века вообще и для композиторов русских — в частности, сочетание красочности и функциональности получает у Рахманинова специфическое выражение. Его интересует не только общий
колорит звучания, приобретающий иногда особо красочный характер,
благодаря использованию необычных последований, широкому выяв-
106
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
лению переменности лада и т.п. (такой тип красочности можно встретить, например, у Бородина или раннего Римского-Корсакова). Внимание Рахманинова особенно привлекает специфика звучания отдельного созвучия, своеобразное «самовыявление» этого созвучия. В подобном
стремлении зафиксировать, запечатлеть слухом краску звучания каждого отдельного аккорда можно было бы в какой-то мере увидеть аналогию импрессионистическому «любованию» гармонией, если бы не
одно существенное различие. Колорит звучания аккорда, при всем внимании к нему, никогда (или почти никогда) не становится у Рахманинова самодовлеющим, как это нередко имеет место у импрессионистов,
у которых сама мелодия часто определяется звучащей в этот момент
вертикалью. Для Рахманинова тембровая окрашенность аккорда выступает как элемент, хотя и очень существенный, но все же вторичный, будучи результатом указанных выше особенностей выражения функции
или следствием стремления подчеркнуть, усилить мелодический голос.
Привлечению внимания к фонической стороне звучания во многом
способствует преобладание аккордов смешанных функций: благодаря
функциональной нейтральности таких аккордов, их тембровая сторона выступает особенно подчеркнуто.
Именно стремлением «раскрасить» выражение функции можно
объяснить упоминавшуюся выше приверженность Рахманинова к аккордам многотерцовой структуры, создающим специфически-фонический
эффект преобладающей диссонантности. Однако в наибольшей степени
внимание к тембровой стороне гармонии проявляется у Рахманинова
в частом использовании созвучий, различных со стороны ладового значения и структуры, но одинаковых по своему акустико-интервальному
строению. Сюда относятся, во-первых, созвучия, соответствующие по
своему интервальному составу (иногда энгармонически переосмысленные) полууменьшенному (малому вводному) септаккорду, во-вторых —
созвучия, основанные на целотонном звукоряде, полном или частичном.
В этом отношении характерны, прежде всего, излюбленные Рахманиновым альтерированные аккорды. Среди них типовые аккорды «ложной» доминанты, уменьшенной субдоминанты и т.п. привлекаются им
сравнительно редко. Для его гармонии специфичнее ряд альтерированных аккордов, совпадающих с указанной выше типичной вертикалью. Таковы, например, IV*8 натурального мажора, VI*3 мелодического
минора при свободном движении его терции, VII*3 гармонического
мажора (прелюдии соль мажор ор. 23 N° 10, фа мажор ор. 32 № 7, романс «В молчаньи ночи тайной» и др.), II"8 мажора, VI r мажора, IV*®.
О гармонии Рахманинова
107
мажора, V +5 и V*5 мажора, V~5 минора (романсы «Утро», «Островок»,
«Давно ль, мой друг», «Давно в любви» и др.).
Полууменьшенные септаккорды и увеличенные трезвучия встречаются часто и в цепи секвентного или параллельного движения, подчас
без определенной функциональной роли (пример 9):
Этюд-картипа ор. 33 Jsfo (i
7
гJ
Ш
L/t
!
7
П
Н?Г
aii
i
Этюл-картииа ор. 39 М 1
Именно полууменьшенному септаккорду энгармонически равен
«рахманиновский» аккорд — Vlh*.
Энгармоническое равенство аккордов внутри этих двух групп
(полууменьшенный септаккорд и целотонный ряд) создает широкие
возможности энгармонических модуляций, которые часто испол ьзуются Рахманиновым, особенно в отклонениях, также способствуя обогащению гармонических красок (пример 10).
Такая «приверженность» Рахманинова к созвучиям определенной»
акустического строения, настойчиво повторяющимся на протяжении
всего творческого пути, от «Алеко» до Третьей симфонии, очень покази-
108
//. Гармония и лад в свете индивидуальных
решений
Концерт для фп. с орк. № 3, ч. 111
10
ш
=У
<*)
±
(А)
Il7rG ~ VII^ 3 r E
(II., G ~
V»(*E)
тельна с точки зрения указанного отношения композитора к фонической стороне вертикали. Явление это вообще характерно для гармонического языка конца XIX — начала XX столетия: достаточно напомнить
хотя бы мало- и болынетерцовые циклы у Римского-Корсакова в «Садко», увеличенное трезвучие в «Кащее», «Золотом петушке» и особенно
«прометеевский» аккорд Скрябина. Однако в отличие от Скрябина,
Рахманинову не свойственна тенденция вуалирования таким путем ладотональности, а, напротив, стремление тем или иным приемом (функциональной или мелодической направленностью тяготений) повысить
напряженность тяготения к тоническому устою, выделив в то же время
колорит звучания вертикали.
Зависимость гармонического стиля Рахманинова от определенных
общих тенденций его времени проявляется также в ряде особенностей
его фактуры, непосредственно связанных с особенностями гармонического языка.
Один из основополагающих признаков рахманиновской фактуры — главенство солирующей мелодии. Как бы ни были организованы
голоса многоголосной ткани, они, в большинстве случаев, в конечном
итоге, оказываются подчиненными главному голосу (исключения можно встретить лишь в произведениях поздних опусов, преимущественно
в разработочных разделах, но для фактуры Рахманинова в целом они
О гармонии Рахманинова
109
не являются определяющими). Это связано с общим значением мелодического начала, с ведущей ролью вокально-напевной, «бесконечной»
мелодии, призванной передать сугубо индивидуальное, лирическое
высказывание.
Во многих случаях (особенно в ранних произведениях) главенство мелодического солирующего голоса находит свое выражение в простейшем гомофонно-гармоническом складе. Однако в процессе творческой эволюции Рахманинова все более и более возрастает значение
полифонического начала, особенно усиливающееся в последних произведениях.
Полифонизация музыкальной ткани, в самом широком понимании этого слова, — не только как сочетание отдельных голосов, но и как
сочетание целых сложных пластов фактуры, — как известно, весьма специфична для музыки XX века. Собственно говоря, развитие гармонии
п фактуры, начиная с послеклассического периода, вообще проходило
под знаком полифонизации, первоначально на функционально-гармоиической базе как следствие фактурного усложнения изложения аккорда или обрастания контрапунктирующими голосами гармонической
основы, а затем, ближе к XX веку, в результате возрастающей тенденции
к линеарному развитию. Именно в этой полифонизации и нашло свое
выражение значение мелодического начала как ведущего в современной
музыке ладо- и формообразующего фактора.
При наличии связи указанной тенденции у Рахманинова с общими тенденциями эпохи полифония его отличается рядом индивидуальных признаков. Один из них заключается в том, что даже при густом
насыщении музыкальной ткани мелодическими линиями организация
вертикали в целом все же (за редкими исключениями в последних произведениях) происходит по гармоническо-функциональному, а не полифоническому принципу, в чем Рахманинов — прямой наследник именно XIX века и, прежде всего, — Чайковского. Очень характерна в этом
отношении фактура фортепианных концертов. Густая полифоническая
ткань в партии фортепиано, образующая часто сложнейшие вертикали, как бы «проявляется» партией оркестра, дающего простую и ясную
гармоническую поддержку (пример 11).
Далее. Рахманиновская полифония возникает как результат стрем
ления к мелодизации всех элементов фактуры, а не как активное проI ивополагание индивидуализированных линий. В основе своей прнн
цип его полифонии — подголосочный. Возникающие дополнительные
голоса играют роль сопровождения, досказывания, они как бы «полис-
110
II. Гармония и лад в свете индивидуальных
решений
Концерт для фи. с орк. № 3, ч. II
О гармонии Рахманинова
111
вают» друг другу, то есть выполняют типично подголосочные функции6.
С принципами народного многоголосия Рахманинова сближает, в частности, еще и то, что подголоски нередко представляют собой вариант
основной мелодии (см. пример 1).
Не менее характерен для Рахманинова такой вид подголоска, который образуется типичным рахманиновским «плетением» (Асафьев)
вокруг гармонических голосов сопровождения. Оплетение подголосками
и сложной фигурацией даже функционально яркого и определенного
аккорда также может смягчать и вуалировать его функцию, поскольку
многие аккордовые тоны оказываются сдвинутыми с ритмически сильных долей на слабые (см. побочную партию I части и финала Третьего
концерта, побочную партию I части Четвертого концерта, прелюдии
до минор ор. 23 № 7, ля-бемоль мажор ор. 23 № 8, соль-бемоль мажор
ор. 23 № 10), а также и благодаря проникновению в звучащий аккорд
чуждых ему тонов подголоска.
В рахманиновском «плетении» подголоска хочется отметить еще
одну черту, хотя и не имеющую прямого отношения к гармонии, но являющуюся необычайно характерной для стиля композитора, как и для
фортепианной музыки его времени вообще. Речь идет о полиритмии,
то есть ритмическом несовпадении отдельных голосов многоголосной
ткани, часто очень и очень сложном — 3 : 2 , 5 : 6 , 5 : 4 и т. п.
Такие ритмические перебои создают у Рахманинова особую трепетность фона. Сочетание активности сильных долей, совпадающих во
всех голосах, с некоторой сглаженностью остальных, порождает результат, аналогичный тому, который в гармонии создается сочетанием
функциональности и красочности, значимости основных и переменных
функций. Несовпадение ритмов отдельных голосов способствует впечатлению живой непосредственности выражения. Кажется, что такая
сложная и тонкая «вязь» голосоведения может возникнуть только как
живая импровизация7. В этой предельной детализации ритмических
соотношений голосов ощущается стремление композитора зафиксировать записью все тончайшие особенности своего исполнения (см., например, Прелюдию соль мажор ор. 32 № 5, Этюд-картину ля минор ор. 39
№ 2, II часть Третьего концерта, II часть Четвертого концерта и др.).
6 О нашем понимании подголоска, его сущности и форм образования см. ь работах автора настоящей статьи: 17, 16.
7 Недаром некоторые критики, слушая игру Рахманинова, замечали, что он «играет не то, что у него написано»-, подразумевая под этим, что написанное будто бы более бледно, чем исполненное.
112
II. Гармония и лад в свете индивидуальных
решений
Стремление к полифонизации порождает также многоплановость
фактуры. Здесь снова можно видеть точку соприкосновения Рахманинова с одним из приемов, свойственных современной трактовке многоголосия.
Расслоение гармонической ткани на бас и верхние голоса, своими
корнями уходящее в акустическую природу аккорда8, может преломляться по-разному. Однако в простейших случаях отделения баса от комплекса аккорда и этого последнего — от солирующего голоса все образующиеся фактурные пласты в функциональном отношении едины.
Противоречие между ними возникает лишь в случаях образования
органных пунктов, где функциональное значение движущихся голосов может не совпадать (точнее, совпадает только в опорных моментах) с функцией выдержанного тона (обычно — баса). В современной
музыке этот принцип расслоения фактуры на функционально и даже
тонально самостоятельные пласты проявляется уже не только в сочетании выдержанного тона и движения, но и значительно более свободно
(о расслоении диссонирующего аккорда см. 58, 70),
Рахманинов в этом отношении занимает как бы промежуточную
позицию. Если (кроме, разве, отдельных моментов в последних сочинениях) еще нельзя говорить о последовательно проводимой в его музыке функциональной многоплановости фактуры с подчеркнутой самостоятельностью каждого из пластов, то, во всяком случае, тенденция
к такому расслоению у него проявляется весьма определенно, начиная
с самых ранних опусов. Прежде всего, это выражается в широчайшем
использовании органного пункта, не только (и даже не столько) функционально-динамического, особенно доминантового, сколько тонического. Последний, будучи более вялым в функциональном отношении,
менее способен подчинить себе звучащую над ним вертикаль и потому
сильнее способствует впечатлению функциональной расслоенности
фактуры (см. органные пункты на тонике в Прелюдии до минор ор. 23
№ 7, в романсе «В моей душе» и др.).
Особенно ярко ощущается расслоение ткани на отдельные пласты в тех случаях, когда выдержанным становится не тон, а целый комплекс (пример 12).
В таких случаях возникает даже ощущение политональности
(пример 13).
8 Подробно об акустической природе терцового аккорда и установившихся
нормативах его четырехголосного изложения см. 64: Ч. I, гл. 2 § 9; Ч. II, гл. 10 § 22.
О гармонии Рахманинова
113
«У моего окна», ор. 26 № 10
'Г
У \ю - с - го ок- на
^
'Г
V р
че - р(
;-му-ха цве -тот.
^
1 */
—
r
^
z
]
§
—
- Т—тJ Ф пб
•0- -S
—с)®
Р '
'
£
" L—J-—*
1т•
Органные пункты используются у Рахманинова не только на тонике и доминанте, но и на других ступенях. Очень интересен, например,
8
Зак. 5 9 7
114
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
органный пункт в III части «Колоколов», где выдержан целый комплекс.
Тонально совершенно не связанный с движущимися голосами, он в то
же время не создает собственно политональности, а производит чисто
фонический эффект набатного гудения (пример 14):
«Колокола», ч. III
Особого рассмотрения заслуживают органные пункты на вводном
тоне. Например, в I части Третьей симфонии ля минор репризы подготовлен органным пунктом в басу на тоне соль-диез и движением верхних
голосов по излюбленному Рахманиновым септаккорду — VI7 мелодическому. Хотя участвующие в этой гармонии тоны можно было бы, расположив их по терциям, определить как обращение VI g мелодического ля минора, они, разумеется, совершенно не воспринимаются в таком значении,
а звучат как два различных плана гармонии: доминантовый (вводный
тон) и субдоминантовый (VI 7 ), с характерным для Рахманинова смягченно-мелодизированным выражением обеих функций (пример 15).
Помимо органных пунктов предпосылку для эпизодических функционально-гармонических расслоений в отдельных аккордах создает
также типичная для Рахманинова многотерцовая вертикаль. Фактура
изложения (разные фортепианные регистры, различные группы инструментов в оркестре) еще подчеркивает это расслоение (см., например,
Прелюдию си минор, особенно с т. 18, этюды-картины соль минор ор. 33
№ 5, ля минор ор. 39 № 2,1 часть Третьей симфонии тт. 5 - 9 , ц. 20, вступительные аккорды II части и др.).
О гармонии Рахманинова
11»
Симфония М« Л, ч, I
15
fiL V—£ —
1 '
'If
1
—
-щ
11
Г
—
1/
г ,
'
1
/
г. .: . *"
J
#Г» frn
—г
1
_ «I
г
rs
9
- 1
fm
_ Р 1- И
f j
*Гт
Гш
Р
Таковы, в наиболее общих чертах, особенности гармонического
языка Рахманинова. Опираясь на классическую функциональпу к> основу, композитор внес много нового, главным образом в отношении способов проявления этой основы. И если функциональность его гармонии
целиком исходит из традиций XIX века, то огромное, часто определяющее значение мелодического начала и роль тембровой стороны гармонии характеризует Рахманинова как художника нового времени, при
всем своем кажущемся порой «традиционализме» чутко откликающегося на тенденции в развитии гармонического языка современной ому
эпохи. В основном можно выделить две такие тенденции, на первый
взгляд прямо противоположные друг другу. С одной стороны, • :>томелодизация гармонических связей и отдельных голосов, приводящий
к преобладанию полифонического начала с индивидуализацией каждого голоса и, следовательно, к предельной дифференциации музыкальной ткани. С другой стороны, — это сведение роли созвучия к краске,
тембру, то есть, напротив, слияние голосов в темброво-выразнтельпый
комплекс. Сочетание этих двух тенденций рождает новый вид многого
лосия. Музыкальная ткань (вертикаль) приобретает сложный, «поликомплексный» характер, сочетая в себе принципы и полифонии, и rap-
116
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
монии, и развиваясь часто уже на основе и по законам не гармонических, а мелодических ладов, в которых гармония привлекается лишь
как средство тембровой окраски тона. Если у Рахманинова подобная
трактовка многоголосия и не является ведущей и преобладающей, то, во
всяком случае, тенденция такого понимания вертикали намечается у него
достаточно ясно, особенно в поздних произведениях, начиная с прелюдий ор. 32.
Новое и традиционное тесно сплетаются и в трактовке лада у Рахманинова. Продолжая традиции XIX века (особенно позднеромантического периода) в плане широкого использования взаимопроникания
одноименных и параллельных ладов, Рахманинов и здесь идет дальше,
обогащая лад включением (правда, эпизодическим) трезвучий вводнотонных и однотерцовых к главным ступеням. Это прием, типичный для
гармонии композиторов XX века — Прокофьева, Шостаковича, Мясковского. Наиболее существенным выражением у Рахманинова новых
тенденций эпохи является такая трактовка лада, при которой связь созвучий, как форма его обнаружения, подчас уступает место определяющей роли связи тонов, то есть мелодическому фактору ладообразования, выявления и утверждения тоники. Роль созвучия сводится в этих
случаях лишь к окраске тона, функциональное же его значение выступает только в обобщающих моментах — в завершающих построения
кадансах. Преобладание мелодических законов, как в принципах ладообразования, так и в принципах организации вертикали и формы в целом, составляет, на наш взгляд, основное качественное отличие музыкального языка XX века от «гармонического» XIX века. Вот почему
появление у Рахманинова признаков указанной трактовки лада можно считать одной из наиболее современных черт его языка.
Наряду с этим отмеченные выше особенности — многоплановость
вертикали, многотерцовые аккорды, функциональные зоны, способность одного и того же созвучия выполнять различную функцию в зависимости от расположения, обращения, последовательности, «приверженность» к определенного вида вертикали, вне зависимости от ее
ладового значения, — все эти средства точно так же явились откликом
Рахманинова на развитие музыкального языка его времени.
Вместе с тем необходимо подчеркнуть специфичное для Рахманинова подчинение всех свойственных ему гармонических фактурных
приемов важнейшей для него задаче свободы развития «бесконечной»
вокально-кантиленной мелодии. Национальная основа, проявившаяся у Рахманинова не в цитировании фольклорных тем и интонаций, но
О гармонии Рахманинова
117
в проникновении в самую суть коренных свойств русского народного
мелоса, народного музыкального мышления, определили собой твердость ладового начала и принципиальный тонализм музыки Рахманинова, сохраняющийся при любых усложнениях лада.
Широкая напевность, динамика мелодического движения поддерживает активность формы даже в моменты наибольшего ослабления
функциональных тяготений, способствующего выделению красочного начала гармонии. И в этой силе мелодического начала, в напевности, пронизывающей собой все элементы музыкального языка, наложившей отпечаток и на гармонию, — главное, важнейшее отличительное
свойство Рахманинова, ведущая основа его неумирающего искусства.
Еще раз о Рахманинове *
очетания музыкальных звуков бывают двоякие: такие, в которых звуки следуют один за другим, и такие, в которых они слышатся
одновременно» (74, с. 9). Петр Ильич Чайковский... Как просто! Как
верно! Ведь «третьего не дано»! Или одно после другого, или одновременно... И вместе с тем как невероятно сложно! Потому что, если первое
(«один за другим») вполне может существовать без второго будучи подлинно музыкой (вспомним замечательные протяжные мелодии народных песен, древние религиозные песнопения, выразительнейшие одноголосные высказывания-монологи, которыми изобилуют поздние
сочинения Шостаковича, произведения Тищенко, Шнитке и многих
других), то второе не станет музыкой без первого. Ибо музыка — процесс, и вне процесса она немыслима и невозможна. А когда эти, первое
и второе, — то есть, согласно Чайковскому, мелодия и гармония (см.
продолжение цитируемого текста) — объединяются в своем реальном
действии, то возникает такое множество форм, такое невероятное количество комбинаций, которое не исчислить никакой теорией сочетаний, до конца исчерпать не под силу никакому компьютеру. Но именно
это и есть музыка. И именно в бесконечности этой комбинаторики рождается то, что создает индивидуальный язык, неповторимо-индивидуальный почерк того или иного композитора.
Итак, о Рахманинове. Мелодийная сущность его музыкального
языка — давно признанная аксиома. Однако Рахманинов не единственный композитор, к которому приложимо определение мелодист. Разве
не мелодийно творчество Шопена, Римского-Корсакова, Бородина?
Того же Чайковского? Вероятно, существуют некие особые качества
мелодики и вообще роли мелодического начала в музыкальном языке
Рахманинова, которые заставляют выделить его имя в череде блестящих мелодистов, его предшественников и современников. Что же со* Статья впервые опубликована в изд.: Музыкально приношение: Сб. ст. СПб.,
1998 (прим. ред.).
Еще раз о Рахманинове
119
ставляет сущность этого качества и в чем она выражается? Попробуем
определить это через сравнение мелодики Рахманинова и мелодики
Чайковского, композитора, наиболее близкого Рахманинову по духу
н «школе» и поэтому наиболее часто с ним сравниваемого.
Самая широкая, самая кантиленная мелодия Чайковского всегда
в основе своей «подразумевает» аккордово-гармоническую опору, как
в ладовом, так и в структурно-синтаксическом отношении (опора на
гоны аккорда, как бы разнообразно они ни опевались; широкий охват
диапазона, связывающий разнорегистровые тона на основе октавной тождественности их ладовой функции; последования опорных гармоний
в явственной связи с нормативами сугубо гармонической мажорно-минорной ладовой системы; на тех же законах основанный синтаксис и т. д.,
и т. п.). Такого рода мелодии часто встречаются и у Рахманинова, особенно в раннем и «ранне-среднем» периодах творчества. Но специфична
для него мелодика другого типа — мелодика внегармонической природы,
интонация и синтаксис которой продиктованы не сменой гармоний, аккордов. А связью тона с тоном как таковым, то есть мелодикамонодического типа. В этой значимости тона как единицы мышления видится
родственность рахманиновского музыкального языка с монодийными
системами. Постоянно декларируемая близость его насыщенной секундами мелодики знаменному распеву, думается, порождена не только (а,
может быть, и не столько) интересом к жанру как таковому, но и тягой
к принципиально монодийной природе интонирования, свойственной
этому жанру. Ведь монодия — принцип мышления, ориентированный на
тон как на самозначащую интонационную единицу — не требует и не
подразумевает никакой, тем более, однозначно определяемой, аккордовой поддержки. Горизонталь («один за другим») — ее единственный
диктатор. И в мелодиях, «специфически рахманиновских», цепь секунд
невозможно объединить, слить в единый гармонический комплекс. Его
длящиеся гармонии, особенно тоники, часто — только фон, благодаря
своей ладовой статичности, «ненаправленности» лишь «не мешающий»
свободе мелодийного разлива. Мотивы, обычно, как это характерно
и для монодии. Несимметричные, разновеликие, нанизываются друг на
друга с возвращением (опять же характерным для монодии) к одному
и тому же тону (см., например, Прелюдию ор. 23 № 6 ми-бемоль мажор,
романс «У моего окна») 1 . Ради достижения выпуклости тона Рахмани' Отметим, что этими монотоновыми окончаниями мотивов мелодика Рахманинова отличается от тонических мелодий Шопена, суммирующего мотивы хотя 6м
при помощи их разнотонового окончания (см., например, Прелюдию си минор).
120
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
нов поддерживает его «стертыми» в ладофункциональном отношении
аккордами — трезвучиями III, VI ступеней, септ- и нонаккордами, созвучиями многотерцовой и нетерцовой структуры, как правило, слабо
тяготеющими. Широко используются переменные функции аккордов,
причем преимущественно — их тоникальность, то есть опять-таки ненаправленность. Как говорилось, этим также привлекается внимание
к тону, который этим аккордом поддерживается. Особо следует отметить случаи полного отказа от функциональной системы мажоро-минора и переключение ладовой и структурной активности на мелодическую линию. Так, в среднем разделе Этюда-картины ор. 39 до минор
весь ритмоинтонационный строй темы подчеркивает тоникальную опорность тона ре, чем полностью «гасится» доминантовость поддерживающего этот тон аккорда ля-бемоль-си-бемоль-ре-фа.
Отметим, что и общий звукоряд всей ткани темы, включающий ре-бемоль, тональности
ми-бемоль мажор, на которую как будто бы указывает первый аккорд,
никак не соответствует.
Организующая роль тона подчеркивается и фактурными приемами. Это, в одних случаях, «предельная» гомофонность (подобная «Вокализу») в сочетании с редкой сменой гармонии, фиксирующая внимание на мелодической линии. В других случаях, это, напротив, плотная
аккордовая ткань с новой гармонией на каждом тоне мелодии (например, тот же Этюд-картина ор. 39 до минор, Прелюдия ор. 32 № 4 ми
минор и т. п.), в условиях которой сама частота смены, иногда на достаточно мелких длительностях, «мешает» слуху (и сознанию) сосредоточиться на функциональной оценке каждого аккорда. Внимание опятьтаки приковывается к связям тона с тоном.
Таким образом, на самых различных уровнях, в самых различных
аспектах в музыкальном языке Рахманинова обнаруживается организующая роль тона, то есть главная черта монодийного принципа
мышления. Разумеется, это только черты. Рахманинов — композитор
рубежа веков и, более того, — дитя XIX века. Это, в частности, относится
и к ладу. В конечном счете, до конца он никогда не изменяет ведущей
системе XIX века — мажорно-минорной, а эта система — предельное
выражение гармонии. Но в музыке Рахманинова мажорно-минорная
функциональность нередко действует лишь на определенных, достаточно важных, но широко рассредоточенных участках, скрепляя важнейшие узлы формы. Внутри же этих узлов (и чем дальше в XX век, тем
сильнее) в его музыкальном языке начинают проявляться черты других
форм организации, среди которых одна из важнейших — монодийная.
Еще раз о Рахманинове
121
Тон в логическом отношении начинает подчинять себе аккорд, следование «одного за другим» как организующее начало главенствовать над
«одновременным». И это «одновременное» — гармония — становится на
службу окраске тона, его темброво-фоническому разнообразию. Иногда, как это характерно и для музыки современников Рахманинова, например, Прокофьева, взаимоотношение гармонии и мелодии проявляется в почти парадоксальной форме: мелодическая линия, будучи
поддержана созвучиями, по своей структуре — интервалике, тоновозвукорядному составу — далекими от «классических», благодаря характерному интонационному рисунку, ритму, синтаксическому положению
«настраивает» слух на восприятие специфически мажорно-минорных
ладофункциональных формул: субдоминанта — доминанта — тоника.
И нелегко бывает определить, что же здесь главенствует.
Так причудливо и неповторимо спелетаются гармоническое и мелодическое начала, реализуется синтез двух, согласно определению Чайковского, единственно возможных «сочетаний музыкальных звуков»
в музыке великого русского композитора рубежа веков — Сергея Васильевича Рахманинова, так складывается его совершенно особенный, индивидуальный мелодийно-гармонический стиль.
Аккорд в музыке Сергея Рахманинова *
" L J
± Х е однажды приходилось мне говорить и писать о Сергее Рахманинове. И каждый раз обращение к его музыке открывало новые черты,
новые оттенки, казалось бы, «вдоль и поперек» изученного материала.
Первая работа, написанная мною почти сорок лет назад, — статья « О гармонии Рахманинова»1, согласно названию, была посвящена общему обзору и характеристике его гармонического языка. С теоретических позиций, еще у самой не до конца сложившихся, используя во многом
веками действующую терминологию, я пыталась найти и раскрыть в гармонии Рахманинова, в те годы обычно относимой исследователями
к традиционно классической, те штрихи, те особенности, которые делают
ее специфически «рахманиновской», которые вносят индивидуально
новое в стабильно классические нормативы мажоро-минорной системы. В определенной мере это удалось. Специфическим для Рахманинова является его отношение к классической системе, сама форма выражения и представления ее трех главных ладовых функций, почти всегда
управляющих (пользуясь метким определением Ю. Тюлина,реконструирующих) его ладогармоническим мышлением.
Одной из характернейших черт рахманиновской музыки является
своеобразная замедленность функционального движения, функциональных смен, позволяющая, с одной стороны, сосредоточить внимание на
фонической стороне аккорда, а с другой — усилить действенность переменных функций. В этой переменности акцент у Рахманинова падает на
выявление в первую очередь тоникальности отдельных трезвучий, что
обеспечивается, во-первых, их протяженностью, медленной и редкой
сменой, а во вторых, — самим выбором их ступеневого состава (преобладанием аккордов смешанных и слабо выраженных функций — трезвучий III, VI в миноре — натуральных ступеней, септаккорды I, III, VI, IV
* Статья впервые опубликована в изд.: Грань веков. Рахманинов и его современники: Сб. ст. СПб., 2003 (прим. ред.).
1 См. стр. 90 настоящего издания.
Аккорд в музыке Сергея Рахманинова
123
п т. п.). Такой ступенево-функциональный состав аккордов, увеличение
значения тонакальности, протяженность и повторность гармоний, особенно трезвучий, естественно замедляло и, в известной степени, ослабляло организующую силу мажоро-минорной ладогармонической системы и вызывало необходимость привлечения других, уже гармонических
сил, обеспечивающих движение. Попытка обнаружить эти силы привела к появлению в моих работах идеи теоретического обоснования ладовой системы, позднее названной мною монодийно-гармонической (15,
16), то есть системы, в которой ладовую функцию выражает не аккорд,
а той, так же, как это происходит в подлинной монодии; аккорд же, участвуя в создании подлинной картины звукового состава музыкального
текста, в функциональном отношении совершенно нейтрален, неспособен направить ладовое движение и создает лишь окраску ладово-дей•
cm венных тонов.
В музыке все взаимосвязано. И процессы, происходящие в гармонии, неотделимы, а во многом и порождены тем, что происходит в мелодии. Наблюдения над мелодикой Рахманинова, над принципами ее организации, способами ее формирования и становления привели к мысли
о том, что эти принципы в своем существе в не меньшей степени, чем
гармонические, отличны от принципов строения классической мажороминорной мелодики и в гораздо большей степени перекликаются с законами строения мелодики монодического типа. Результатом этих размышлений явился ряд докладов и, наконец, статья «Еще раз о Рахманинове»*,
в которой главный акцент ставился на анализе именно этих монодических признаков.
И вот в третий раз (в печати) обращаясь к Рахманинову, я вновь
собираюсь осветить некоторые нюансы его языка, связанные с аспектом
гармонии, но не гармонии вообще, а направленно — с ее основным элементом — аккордом.
Начну со структуры. Следует сказать, что при всем внимании
к звукокрасочности, к фонической стороне звучания, преобладающей
интервальной структурой аккорда у Рахманинова остается терцовая,
как в непосредственно прямолинейном виде, так и в роли «режиссирующей» (имеются в виду аккорды с заменными или, реже, внедряющи
мися тонами; из первых — ярчайший и типичнейший известный VIЦ,
с квартой).
Терцовость, однако, усложняется не только побочными тонами, но
и просто количественным путем. Это частые септ-, нон-, ундецим- и терц2
См. стр. 118 настоящего издания.
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
124
децимаккорды, нередко выступающие как результат полиаккордовых
сочетаний (пример 1), но иногда и не столь явно фактурно разделенные
(см. пример 3 на стр. 99).
Концерт для ф-п. с орк. № 4
1
{Allegro vivace|
Г
v
Ч-7 ^
f pesante
1
Г1 l l
7
1
f - f i—
l
т г +
j j I j.
н ^ 1t
t i
- 4 ,
| J g
?i
i
i
il
f
9
•a•
Подчас терцовая вертикаль количественно настолько усложнена,
что может включать все тоны семиступенного звукоряда, как это происходит, например, в романсе «Крысолов».
Фоническая значимость терцовых гармоний, даже трезвучий, усиливается их отношением к ладовой функциональности. Обычно это аккорды «слаботяготеющие» даже в условиях достаточно ярко выраженной мажорно-минорной системы (см. пример 5 а на стр. 102).
Если же функция выражена менее явно, то фонический эффект от
сочетания трезвучий становится особенно сильным (например, броски
«далеких» трезвучий в «Колоколах», см. пример 5 б на стр. 102).
Подлинно нетерцовые гармонии для Рахманинова менее характерны, хотя на отдельные примеры можно указать (пример 2):
2
I1релюдия ор. 32 № 10
штттшш
Аккорд в музыке Сергея Рахманинова
125
Хочется подчеркнуть одну очень существенную деталь. При всей
значимости для музыки Рахманинова мелодического начала, при всей
роли собственно мелодической, нередко, по существу, монодической
энергетики в организации целого (см. об этом упомянутую статью «Еще
раз о Рахманинове»), Рахманинов любит аккорд! Музыка без гармонической координаты для него не жива, ведь даже длительные унисон ы
и его сочинениях почти не встречаются. Гармония может меняться редко, может быть только фоном, может быть лишь окраской тона, логически (ладово) нейтральной, но она должна быть, должна звучать. В этом
отношении интересным кажется такое наблюдение. Как гармонизовали
бы Дебюсси или Барток линейно организующуюся мелодию в условиях монодийно-гармонического лада? Вероятнее всего, они использовали бы параллельный ряд однажды избранного интервального комплекса
(«эстетически желанного», по Ю. Холопову; пример 3):
К. Дебюсси, «Затонувший собор»
Барток, baiirrcvn* XI
Рахманинов в подобных случаях к гармонизации каждого тона такой мелодии подходит избирательно, избегая чистого параллелизма
и стараясь найти для каждого тона свое звучание, свою структуру аккорда (см. пример 4 на стр. 100).
К свободному выбору структуры созвучия Рахманинов прибегает
порой в тех случаях, когда в целом в ладовой организации материала
явно ощущается трехфункциональность мажора-минора. Так, мелодический рельеф темы в вариациях на тему Паганини настолько явно обрисовывает тонико-доминантово-субдоминантовую функциональность,
что подстановка звукорядно совершенно не связанных с ля минором
аккордов (трезвучия до-диез минора), доминантового нонаккорда соль
мажора и т. п.) не нарушает «автентического слышания» заключительного каданса (пример 4):
126
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
С. Рахманинов, Рапсодия на тему Паганини, пар. XIII
Психологическая основа воздействия на восприятие в таких ситуациях мажоро-минорной функциональности мною (и моими учениками) давно и подробно описана (см. 1> а также статьи «Еще раз о Рахманинове» и «Ассоциативность как один из факторов ладогармонической
организации музыки Сергея Прокофьева», опубликованные в настоящем
издании). Здесь действует принцип ассоциативного слышания, и Рахманинов (как и многие другие композиторы, в частности, Прокофьев)
этим широко пользуется. Например, до-мажорное трезвучие, наложенное на доминантовый бас (ля -бемоль) и разрешающееся аналогично «прокофьевской доминанте» в трезвучие ре-бемоль мажор (II «неаполитанская» основной тональности), воспринимается как «утолщенный» вводный
тон (см. пример 8 на стр. 104).
Что же такое аккорд в музыкальной системе Рахманинова? Что
в аккорде привлекает композитора больше всего? Его функциональность? Его фонизм? Думается, и то, и другое в равноправной степени.
Но при этом, какой бы аспект ни превалировал в каждом конкретном
случае, своей любви к аккорду, к звучанию вертикали Рахманинов остается верен всегда, и это делает его гармонию такой неповторимой,
такой всегда узнаваемой, такой специфически рахманииовской.
Ассоциативность как один из факторов
ладогармонической организации
музыки Сергея Прокофьева *
тэ
А - Д о п р о с а м ладогармонической организации музыки С. Прокофьева
посвящено огромное количество работ. И это не случайно. Ладогармоиическая система Прокофьева отличается не только сложностью, но
и многообразием форм организации. Система звуковысотных связей
и «Сарказмах» или «Мимолетностях» не похожа на систему в Седьмой симфонии или балете «Ромео и Джульетта». И даже внутри цикла,
например, «Мимолетностей» ладовая система первой пьесы будет значительно отличаться от ладовой системы второй и т. п. Однако при всем
различии форм есть два момента, роднящие их, такие, в целом, непохожие между собой. Это, во-первых, тенденция кладовой устойчивости,
и какой бы форме ни был выражен сам устой (трезвучием или диссоплитной гармонией по типу «центрального созвучия» Г. Эрпфа), и, вовторых, диатоничность мышления как принцип, какой бы сложной ИИ
казалась шкала гонов. Оба эти качества неоднократно отмечались исследователями музыки Прокофьева.
Не останавливаясь на ладогармонической системе Прокофьева
в целом, в настоящей статье затронем только один момент, играющий,
как представляется, немаловажную роль для проявления обеих указанных выше характерных черт языка композитора: тоникальности (тональной устойчивости) и диатоничности. Это — важная роль ассоциативности в ладогармонической организации его музыки, точнее, ассоциативных
связей с мажорно-минорной системой, особенно ярко проявившихся
в творчестве зрелого и позднего периодов. В это время Прокофьев — особенно четко тонально и тоникально мыслящий композитор. Тяга к установлению тоники, и даже более определенно — трезвучной топики, отмечается и у Шостаковича. Но выявление тоникальности у них — разное,
* Статья впервые опубликована в изд.: С. С. Прокофьев: Сб. ст. СПб.: СП6ГК
им. П. А. Римского-Корсакова, 1995 (прим. ред.).
128
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
У Шостаковича ладовая организация часто (пожалуй, чаще всего) очень
далека от трехфункциональности мажорно-минорной ладогармонической системы. У него чувство тоники, пусть и выраженной трезвучием, рождается путем монодийно-полифонического приведения голосов к тоническому тону, который этим трезвучием как бы укрепляется,
подтверждается. Аккорд здесь — явление скорее фоническое, нежели
логическое. Как собственно носитель функции главенствует в этом случае все же тон, а не аккорд. Иное у Прокофьева. У него ладотональность
нередко (а для зрелого и позднего периодов творчества, пожалуй, можно
сказать и обычно!) выявляется именно через специфичное для мажорно-минорной системы трехфункциональное ее выражение, то есть
явно ощущаемые, слышимые субдоминанту и, особенно, доминанту1.
В то же время сама аккордика, включая подчас и заключительную тонику, и звукорядная шкала в целом нередко весьма далеки от структур,
типичных для мажоро-минора (о чем немало говорили и писали).
В чем же здесь дело? Что заставляет нас услышать созвучие, по
своему тоновому составу весьма далекое от IV ступени тональности,
как ее субдоминанту? Почему один и тот же по тоновому составу аккорд в одной и той же тональности мы в одном случае воспринимаем
как доминанту, а в другом — как субдоминанту? Вот эти случаи и позволяет объяснить фактор ассоциативных связей, который составляет
важнейшую черту ладогармонической системы Прокофьева, как и многих современных ему композиторов.
Что такое ассоциативность? На стр. 272 третьего тома Большой
Советской Энциклопедии (М., 1952) читаем: «Ассоциация представлений в психологии — связь между представлениями, выражающаяся
в том, что возникновение одного из них влечет за собой изъявление
связанного с ним в прошлом опыте другого. Факт такой связи представлений, обуславливающий собой воспроизведение (курсив мой. — Т. Б.),
был впервые отмечен Аристотелем... Обычно различают два вида А. П.:
по смежности, когда одно из представлений вызывает другое в силу
временного или пространственного совпадения их в прошлом (весна —
трава); по сходству (например, шум волн — говор людей); по контрасту
(например, белое — черное)». Иными словами, об ассоциации можно
говорить в тех случаях, когда отдельные черты, возможно, детали какого-либо явления в силу каких-либо причин, связанных в нашем созна1 Заметим, что у Шостаковича при возникновении связей с мажорно-минорной
системой более явно определяется субдоминанта.
Ассоциативность как один из факторов...
129
и ии с другим явлением, вызывав в памяти это другое и устанавливаются
в определенные связи по аналогии с тем, как они функционировали
в этом другом. В аспекте ладогармонических отношений такие связи,
установление функции элемента «по ассоциации» возможны только на
основании и при условии существования системы с достаточно жесткой закрепленностью структуры и функциональных значений, жесткой связью между структурой и функцией элемента данной структуры
(как, например, связь терцовости строения созвучия с его сущностным
значением как аккорда; связь малой мажорной структуры септаккорда
с его доминантовым значением и ступеневым положением в тональности). В европейской музыке на сегодняшний день, как представляется,
только одна система обладает столь жесткой закрепленностью — это
система мажорно-минорная, много веков господствовавшая и поныне
не утратившая своего значения.
Жесткость и стереотипность, а отсюда — сила и «живучесть» законов мажорно-минорной системы обусловлены, как полагают многие
теоретики (в том числе и автор настоящей статьи), опорой ее логических законов на объективно материальные (акустика, обертоны), законы природы (разумеется, необходимо учитывать воздействие сознания
человека на формирование этой системы как художественного феномена). Как следствие, в наиболее «чистых» видах этой системы закрепление устойчивых форм произошло не только на уровне самой системы как таковой, «внутриаспектно», но и на стыке разных аспектов
организации музыкального материала, так сказать, межаспектно: на
стыке ладогармонических законов и мелодии, ладогармонических законов и синтаксиса и т. п. За определенными мелодическими оборотами закрепились определенные формы организации, определенной гармонии стали требовать зоны кадансов, метрические точки такта и т. д.
(Следует учитывать, что лад в этой системе проявлялся только через
гармонические единицы, и поэтому понятие «определенная гармония»
в этой системе подразумевает и определенную ладовую функцию.) Эта
закрепленность настолько устойчива, что при окончании, например,
какого-либо построения мелодическим оборотом типа:
до-до-си-до,
слух, воспитанный в русле мажорно-минорной системы, если предварительно не будет дана иная активная установка, «гармонизует» его
в до мажоре последовательностью: тоника — субдоминанта — доминанта — тоника.
Небезынтересно отметить, что музыкальное мышление и, соответственно, композиторская практика, ощущая и сознавая силу мажорно9
Зак. 591
130
II. Гармония и лад в свете индивидуальных
решений
минорной стабильности, стали пользоваться феноменом ассоциативных связей задолго до Прокофьева и вообще до XX века. По существу,
тот вид шкалы аккордики, на котором эта система сформировалась («белоклавишная» диатоника, трезвучия главных ступеней) и которую,
вполне правомерно, до сих пор преподносят как ее основное содержание, не успев сложиться, сразу стал трансформироваться, развиваться
в сторону усложнения, варьирования, раскрашивания, усиления мелодических тяготений, оставаясь все той же трехфункциональной системой с гармоническим выражением главных ладовых функций. Мы нередко выказываем уважительное изумление перед тем, как венские
классики X V I I I - X I X вв., опираясь на стабильную шкалу и сравнительно небольшой «ассортимент» аккордов, построенных по единому терцовому принципу, создали такое невероятное богатство и многообразие
тематизма и форм. Пожалуй, не менее поразительно могущество мажорно-минорной системы, которая, будучи рождена на семи белых
клавишах и трех аккордах, смогла подчинить своей трехфункциональности самые разнообразные, далекие от «белоклавишной диатоники»
и терцовой аккордики, звучания. В самом деле, ведь «белоклавишный»
мажор можно встретить разве что в конце XVI — начале XVII вв. (см.,
например, клавирные пьесы Бёрда и др.). Но, задумаемся, что общего
с акустически выверенной субдоминантой ре-бемоль мажора имеет, например, кульминационный аккорд темы II части Аппассионаты Бетховена (си-дублъ-бемолъ-ми-солъ-ре-бемолъ)? А для нас она звучит
бесспорной субдоминантой потому, что стоит на том месте формы, в том
гармоническом окружении, в том метрическом положении, в которых,
в условиях всесторонней стабильности внутриаспектных и межаспектных связей, должна стоять и обычно стоит субдоминанта. Не менее
интересно и показательно в этом отношении использование аккорда
VI ступени Шопеном, придающим этому аккорду самые различные
функциональные значения, что подробно проанализировано автором
настоящей статьи в «Лекциях по гармонии» (16, с. 194). Пользуясь понятиями и терминологией, предложенными в «Лекциях», можно констатировать, что в подобных случаях в сферу действия безусловно автономных систем, таких, какой в первую очередь и является мажор-минор,
начинают вторгаться приметы систем результативных, то есть воздействие на восприятие ладовой функциональности внеладовых и незвукорядных факторов: места в форме, синтаксического положения, метроритмических условий, гармонического окружения и т. п. В рассмотренном
же случае, несомненно, имеет место фактор ассоциаций «по смежности», аналогия с «нормативом».
Ассоциативность как один из факторов...
131
Огромную особую роль в создании эффекта действия мажорном и норной функциональности при помощи ассоциативного фактора
н при, возможно, совершенно «немажорно-минорном» звукоряде играют типовые мелодические обороты. Парадоксально, но факт: самая
«гармоническая» из всех ладовых систем — мажорно-минорная, —
и классическом виде выявляющая ладовые функции только через аккорды определенного строения и тонового состава, в условиях усложненного звукоряда и множественных структурных форм аккорда, оказывается способной проявить себя именно через типичные мелодические
обороты. Что, как не мелодическая линия, удвоенная басовым голосом, заставляет нас услышать ми минор и даже ощутить прерванный
каданс внутри построения в одной из тем, характеризующих Меркуцио в балете «Ромео и Джульетта» (пример 1)? Можно утверждать,
что именно этой формой обнаружения ладогармонических функций
Прокофьев пользуется особенно широко. Часто при сложной, завуалированной гроздьями внедряющихся побочных тонов аккордике, при
сложных полифонических сплетениях побочных голосов именно мелодия главного, ведущего голоса позволяет и даже заставляет услышать четкую функциональную последовательность мажорно-минорной
системы. Обратимся хотя бы к примеру, о котором вскользь говорилось в начале статьи. Сколько раз уже писали теоретики о трезвучиях
большого терцового круга (.ля-бемоль-до-ми-бемоль,ми-соль-диез-си,
до-ми-соль), как выражающих субдоминантово-доминантово-тоническую последовательность в теме «Джульетты-девочки»! Но ведь эти
аккорды по своему строю (кроме последнего трезвучия) никакого отношения к до мажору не имеют и в других условиях в том же соотношении могут выражать совершенно другие связи (см. подробный анализ и аргументацию в 16, с. 115). Здесь же пробег по до мажорной гамме
и ее тоническому трезвучию, заканчивающийся типичным мелодическим оборотом до-до-си-до,
по ассоциации с типичной кадансовой гармонией придают этим трезвучиям конкретные ладофункциональные
значения до мажора. В таком же положении оказывается и до мажорный аккорд в кадансе фа-диез минорного Гавота (пример 2). Подчеркнутое в мелодии движение от соль-бекара к ми-диезу, до-диезу и далее
к фа-диезу в соответственном ритмическом и синтаксическом положении создает мелодическую ситуацию типичного каданса с последовательнотью: II «неаполитанская», доминанта, тоника. И до мажорный
аккорд (заметим, однотерцовый к V ступени тональности!) становится в положение субдоминанты.
II. Гармония и лад в свете индивидуальных
132
IModerato scherzando]
г М ; ft
4Ромео и
-a
Джульетта», Меркуцио
if „ц ^
4
1\Л
Г г "г'
#» V -
[Allegro поп troppo]
0
решений
1
7
Г
Гасот, ор. 32
i id 4
Развернутую кадансовую формулу 2 — широкий разлив субдоминанты, кадансовый квартсекстаккорд, доминанта, тоника — обрисовывает мелодическая линия Вступления к балету «Ромео и Джульетта».
И что бы ни происходило в средних голосах (появление доминантовых созвучий в зоне субдоминанты, чуждых строю тонов в зоне доминанты и т. п.), какие бы временные смещения ни происходили в басу,
общее ощущение именно такой последовательности сохраняется, потому что возникает ассоциация с «нормативной» гармонизацией такой
мелодической линии. Может возникнуть вопрос: при чем здесь ассоциация? Ведь мелодия просто обрисовывает соответственные тоны до
(впоследствии — си) мажора! Мелодия — да! Но музыка — это не только
мелодия, но вся музыкальная ткань в соответствии тонов и линий всех
голосов. И ощущение указанных ладогармонических функций в соответственном метрическом размещении происходит, благодаря мелодии,
2 В этой кадансовой замкнутости, функциональной «исчерпанности» исходной
фразы, как бы с самого начала предрекающей обреченность, не видится ли (не слышится ли?) аналогия с начинающимися кадансовым квартсекстаккордом лирическими темами Чайковского — темой побочной партии увертюры «Ромео и Джульетта»,
темой любви из «Пиковой дамы», также томами «обреченными»?
Ассоциативность как один из факторов... 134
по именно по ассоциации с тем, как эти функции должны бы были быть
размещены и звучать при гармонической поддержке данной мелодии
и «чистом» до (а во втором кадансе — в си) мажоре. Все же несовпадения
п хроматические звуки — лишь индивидуальная, специфически прокофьевская окраска простейшей ладогармонической формулы (пример 3):
-ля
F 9 (• ^ т f
U i Тг
=ы=
> ivc
-Р espress
1'
4
2•
t
f
с/^ц*
й.
,
—
4i
I
d
[->•
Анализируя музыку Прокофьева с указанной точки зрения, можно обнаружить некоторые типичные для мажорно-минорной системы
мелодические обороты, которые он наиболее часто использует и каче
стве своего рода функциональных ориентиров. Отметим некоторые*.
Один из них — это каданс «камбиатного» типа, очень часто встречай)
щийся в функциональном качестве: «доминанта — тоника». Конкретное гармоническое содержание вертикальных созвучий в таком кадии
се может быть различным (пример 4).
Другая типично доминантовая интонация — это вводпотоиоммг
сопряжения тонов. Вводнотонность вообще, как известно, очень характерна для интонационного строя Прокофьева, вплоть до стабилизации
вводнотоновых трезвучий и так называемой «прокофьевской доминаи
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
134
ты» — наложения вводнотонного трезвучия на септиму доминантсептаккорда 3 . Осмысление полутоновых ходов как именно вводнотонных
немало способствует «одиатоничиванию» прокофьевских хроматизмов,
о чем достаточно часто упоминается в теоретических исследованиях
его музыки. Примеров вводнотоновых доминантных сопряжении, нередко содействующих осуществлению модуляций, у Прокофьева такое множество, что специальные примеры, пожалуй, и не потребуются.
Приведем лишь один, интересный, на наш взгляд, и при том как раз
модулирующий: каданс из балета «Золушка» (пример 5). Он интересен тем, что именно мелодическое сопряжение тонов ми-бекар и фа,
хотя и сделанное «по-прокофьевски», в разных октавах, переосмысливает доминантовое трезвучие ми-бемоль мажора с внедренным побочным тоном ми-бекар в доминанту тональности фа минор. При этом доминантовость ощущается несмотря на то, что по тоновому составу этот
аккорд ближе к субдоминантовой гармонии фа минора.
4а
«Золушка»
[Moderato)
pochissimo nt.
46
[Adagiettoj
Ф
щ
Сонатина ор. 54, ч. II
*
рр
тр
рг
* Автору статьи уже не раз приходилось критически высказываться относительно
распространенной расшифровки этого аккорда как, якобы, доминантсептаккорда с альтерированными квинтой и септимой. Сошлемся на «Лекции» (16, с. 111).
Ассоциативность как один из факторов...
4в
135
«Мимолетности», № 8
Commodo
«.Золушка», акт 111
[Allegro scherzanido J = 7 e )
l i ^ i S
s J
Ф
,
mf
J
-\гш
,1
J
-
=M=
т
г
Г
1
Г H
•-—LJ—1—1—
Ш f i
:
P
I I
Г Г
г
I I
г
!
g
Г
g
Г
f
'
f
"
\ tг
1-
f f 4 — 1 — —jg—LJ—1—1—
l l l ^ f f H 1—I—LJ—1—— i j
1
ц
1
*
г
-
t гt
II
фффф
mШШМ
шш
Самым характерным для выявления субдоминантовых связей, пожалуй, можно назвать ход VI—I, иногда — VI—III в мелодии. Таков, например, каданс в I части Сонаты № 3 для фортепиано (пример 6):
Соната для фл. № 3, ч. I
(Allegro tempestoso)
p*m
Шшф
9-
л
а*-1
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
136
«Александр Невский», Мертвое иоле
[Adagio J=4#| Meno mosso
Mezzo soprano
* « ы
Я пойду
по
mm
(solo)
по-ле-чу п о по-лю
по-лю б е - л о-му,
Е
ИсХгГсГЛГ
смсрт - но - му.
Ш
г г гг
"ШГ
J=:
8
«Дуэнья», картина 2
Andantino
ino J=72
t
P
Ночь
ба
-
J
ю - ка - ст
,
U
P P P 'fr T P H'
С е - виль - ю.
j
мне
J
не
с п и т - ся.
J
г
Одним из доказательнейших подтверждений ассоциативного, внеструктурного и внезвукорядного восприятия ладовых функций мажорно-минорной системы в музыке Прокофьева является восприятие одной и той же гармонии (аккорда одной и той же структуры, иногда одной
и той же ступени) в разном функциональном значении — то субдоминанты, то доминанты, в зависимости от того, в какой привычной для
мажорно-минорной системы последовательности, в сопровождении каких привычных мелодических оборотов эти аккорды появились. Так,
трезвучие, известное под названием «шубертова VI» (минорное трезвучие на VI ступени минорного лада), в «Мертвом поле» из кантаты
«Александр Невский» звучит субдоминантово, чему способствует как
предварительный показ его в соседстве с секстаккордом III натуральной
ступени (намечаются переменные функции: I 6 - I V r ) , так и достаточно
Ассоциативность как один из факторов...
137
характерный для плагальных оборотов до минора мягкий поступенный
мелодический спуск к тоническому тону (пример 7). Такое же в ступеиевом отношении трезвучие при подчеркнутости вводнотонной связи
с тоническим тоном начинает звучать вполне доминантово (пример 8),
опять же по ассоциации с функциональным освещением подобного мелодического хода в мажорно-минорной системе.
Выше рассматривались примеры проявления у Прокофьева домимантно-субдоминантной функциональности на основе использования
in новых для мажорно-минорной системы мелодических оборотов, благодаря которым вся гармония окрашивается соответственной функциональностью. Однако следует отметить, что «одоминантование» и «осубдоминантование» вертикали происходит у Прокофьева не только от
собственно мелодических оборотов. Большое значение в этом отношении имеет и басовый голос. Движущийся по главным функциональным точкам лада, он также способен «повернуть» даже далекую от диатоники основного строя гармонию в русло одной из трех функций
мажорно-минорной системы. Так, в Вальсе из балета «Золушка» пробст мелодии и вертикальное звучание ре-бемоль мажора в ля миноре
звучит вполне субдоминантово, благодаря все себе подчиняющему ходу
баса ля-ре-ля, бесспорно плагальному (пример 9):
«Золушка», акт И
Allegretto
9
- £ ^fL
—
/
Шш
t
t r ^ I
г"
f I
рЫ
Не менее сильное воздействие производят и доминантовые тоны
в басу. Не говоря уже о таких, почти классических, органных пунктах
на доминанте, как, например, органный пункт в Финале Симфонии № 6
(пример 10), укажем на Мимолетность № 3, в которой басовый тон соль
заставляет «помнить» о до мажоре несмотря на то, что ряд факторов
(появление хода до-диез-ре, окончание фраз, а позднее и всей пьесы
трезвучием ре минора) упорно поворачивают наш слух к тональности
ре минор (пример 11).
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
138
Симфония №6,ч. III
[Vivace|
jj
к:
11
«Мимолетности», Mi 3
Allegretto
|ii J
ГШ
J
J1J
ш
J
Л Л
шшт
I rp
to
В примере 12 ход баса по главным функциональным точкам д о
мажора окрашивает одно и то же повторяющееся сложноинтервальное
созвучие в соответствующие басу функции — то субдоминанты, то доминанты.
Таким образом, рассмотренные выше примеры, на наш взгляд,
достаточно убедительно свидетельствуют о несомненном значении ассоциативности в осуществлении Прокофьевым трехфункциональности мажорно-минорной системы на основе сложного звукоряда и достаточно усложненной аккордики. Следует добавить, что, опять же,
особенно в поздних сочинениях, мажорно-минорная диатоника прояв-
Ассоциативность как один из факторов...
139
ляется у Прокофьева и более «откровенно»: ходами всех (или почти
всех) голосов многоголосия по тонам стабильных аккордов мажоромннора. Специфически «прокофьевское» в этих случаях выражается
в характерных несовпадениях отдельных точек одной линии с точками другой, образующих подчас интереснейшие примеры сложной полифункциональности. Но это уже другие приемы и, соответственно, тема
другого исследования.
|Assai mode г a to
«Ромео и Джульетта», Съезд гостей (Менуэт)
О монодийных принципах
музыкального мышления Шостаковича *
я
t^/аглавие настоящей статьи может навести на мысль, будто речь в ней
пойдет об одноголосных фрагментах, так часто встречающихся в поздних сочинениях Д. Шостаковича. На самом же деле — не только о них
и не в первую очередь о них. Хочу обратить внимание на особый тип
мышления, свойственный Шостаковичу вообще и особенно ярко проявившийся в позднем периоде его творчества, — тип, который можно
определить как монодийный.
Оперируя понятием монодии, надлежит помнить, что монодия
и монодийность не одно и то же. Монодия — это тип музыкального
высказывания, в котором единицей текста — тематической и логической — является тон как таковой, тон, за которым слуховое сознание не
выстраивает подразумеваемое созвучие (в противоположность тому, как
это бывает при унисонных окончаниях классических симфоний). Мышление тонами (а не созвучиями) как самозначащими, самоценными единицами — совершенно особый тип музыкального мышления, порождающий и особые системы ладовой организации, склада (организации
ткани), синтаксиса, тематизма. Ощущение тона как самозначащей единицы порождает его особую весомость и усиливает значение каждого
звучащего момента. «Событием» может стать (и часто становится) каждая «точка» текста. Ряд следующих друг за другом тонов не сливается
в логическую общность, как это бывает в музыке, основанной на мажорно-минорной системе, при движении тонов мелодии по звукам аккорда.
Музыкальное время уплотняется, сообщение становится предельно насыщенным.
Чистая монодия требует особого склада ткани и может быть воплощена только в одноголосии. Это монолог, обращенный к безмолвствующей (или невнимаю щей!) аудитории, а еще чаще — к самому себе. Вектор
* Статья впервые опубликована в изд.: Д. Д. Шостакович: Сб. ст. к 90-летию
со дня рождения. СПб., 1996 {прим. ред.).
() монодийных принципах музыкального мышления Шостаковича
141
содержания направлен «внутрь себя». Возможно именно особо обостренным ощущением и осознанием одиночества, непонятости мыслящей
п чувствующей личности в окружающем ее бездушно-жестоком, аэмоциональном мире можно объяснить то возрождение монодии как формы высказывания (в виде целого произведения или протяженного фрагмента крупной формы), которое наблюдается в музыке нашего времени.
Примеры здесь бесчисленны —назовем хотя бы несколько: К. Штокхаузен, «Атоиге», № 1; А. Кнайфель, Монодия; А. Тертерян, Вторая симфония, часть II; Б. Тищенко, Третья симфония, Postscriptum; А. Шнитке,
Диалог для виолончели и камерного оркестра, каденция.
Ни одно произведение позднего периода творчества Шостаковича
не обходится без подлинно монодических фрагментов — монологов. Если
же говорить о квартетах, то особенно ярко эта черта проявилась, начиная с Двенадцатого (хотя наблюдается и в более ранних). Но нас, повторяю, интересуют не только одноголосные вкрапления. Монодия как
форма высказывания, порожденная особым принципом мышления, способна перешагнуть рамки одноголосия и проявиться в музыке полифонического и даже гармонического, то есть сугубо многоголосных складов,
Тогда следует говорить уже не о монодии, но о монодийности (различие, аналогичное различию между понятиями «соната» и «сонатность*,
«вариация» и «вариационность», «разработка» и «разработанность» и др.).
В чем проявляются признаки монодийности в условиях многоголосия? Отметим важнейшие из них.
Интонационные особенности тематизма:
1) интонационное зерно обычно короткое, чаще неширокого диапазона, четко отчлененное;
2) характер развития мелодии — принцип сцепления интонационных зерен, то есть развитие от одной точки со все расширяющимся диапазоном или «нанизывание» мотива на мотив, попевки на попевку, причем
повторы, особенно точные, равно как и секвенцирование, не характерны;
3) ритмосинтаксическая структура характеризуется неравной продолжительностью мотивов, асимметричностью, апериодичностью.
Специфика ладовой организации:
1) организация ладофункционального строя по принципу «тоника — нетоника», недейственность ярко выраженной трехфункционал ыю
сти T - S - D - T , слабая централизованность, склонность к переменности,
скольжение опор;
2) структурное выражение ладовой функций (в том числе опоры,
в частности, тоники) единичным тоном, не комплексом;
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
142
3) нетождественность ладовой функции октавно соотносящихся
тонов;
4) расположение тоники обычно в нижней части звукоряда и, как
следствие, преобладание тенденции к нисходящим тяготениям, а отсюда — к образованию «суженных» (малых, уменьшенных) интервалов от
тоники (особенно показательны уменьшенная квинта, кварта, октава);
5) нестабильность звукоряда, тенденция к высотной вариантности
ступеней.
Специфика организации вертикали:
1) в условиях гармонического склада — полная свобода выбора созвучий, их интервальной структуры, нейтральность созвучия в ладофункциональном и формообразующем аспекте, его зависимость в этом плане,
подчиненность тому тону, который оно в этот момент поддерживает;
2) в условиях полифонического склада — независимость голосов
друг от друга и от образующейся при их сочетании вертикали в синтаксическом, композиционном, ладотональном, интервальном отношении
(заметим, что если синтаксис и композиция могут не совпадать в любом, в том числе классическом, полифоническом складе, то несогласованность ладотональная и интервальная наиболее специфичны именно
для полимонодии).
Вслушиваясь в последние квартеты Шостаковича, как и вообще
в его музыку, особенно зрелого и позднего периодов, нетрудно заметить,
что все вышеперечисленные черты, характеризующие монодийность, так
или иначе находят в них свое отражение. Таковы темы Двенадцатого
(тт. 1 - 2 ) , Тринадцатого (тт. 1 - 1 0 ) , II части Четырнадцатого (пример 1)
квартетов.
1
Adagio J -84
r * Jр
1
г
tenulo
g
|
M
P
r
у
i*f
»г
: -Jtf
тЛ
f*
РР
i>o
J^T^J
тт.
() монодийных принципах музыкального мышления Шостаковича
143
Остановлюсь на приведенной теме. Ее интонационное зерно — восходящий скачок на малую сексту, опевающий верхнеквинтовый тон.
Нообще говоря, этот скачок мог бы служить начальным звеном любой,
самой гармонической музыки (вспомним хотя бы «Тристана»). Но уже
следующий мотив, вершина которого образует, по существу, уменьшенную октаву к начальному тону, определяет тем самым характерную д л я
монодийности тенденцию к «сжатости» интервалики, «суженности»
диатоники. Создается неудержимое тяготение мелодического развития
вниз, в совокупности с интерваликой смещений вводящее в строй интонирования, принципиально отличного от интонирования в гармонических ладоинтонационных системах. Цепная связь мотивов, ни один из
которых не повторяет буквально другой; смещение их по совершенно
нестандартному звукоряду, наиболее стабильной, узнаваемой структурой которого является лишь интервал уменьшенной ( ! ) кварты, заполняемый последовательностью «полутон — тон»; скользящая опора, более или менее определенно устанавливающаяся лишь на краткий миг
(см. последние четыре такта примера 1), при этом совершенно непредсказуемо (.ми-бемоль, то есть на полтона выше намечавшейся вначале
о поры ре) и к тому же сугубо результативным путем (о результативных
ладах см. 16, с. 77); неравномерность продолжительности мотивов, совершенно нерегулярно меняющих и масштаб и интервалику, — всё это
черты, характерные для монодического ладо- и формообразования, порожденные свободой выбора движения единичного тона в единичный
тон, которое не требует поддержки и не подчинено диктату вертикальпых отношений.
Следует помнить, что все сказанное выше относилось к монодии
в чистом виде: до появления ми-бемоль минора приведенный выше текст
развивался одноголосно. Но и в темах многоголосных у Шостаковича
нередко можно наблюдать аналогичные черты интонации и ладовой организации, сходные приемы мелодико-интонацинного развития. Такова,
2
|Росо piu mosso J- = K |
mf i №
}
n
P e.spressivo
J= # = j
„
Л
t) : 5 f f ^ f ш, J J
Г
r
I I j h l щ, J>
1
Ш
Lf
p
r
ь
p
m
=
J1^и
Н fcfcfc
Л
f ч
ч з
Lnfr<
0-
г
A
Л
г
W 9
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
144
Ф
LiA.m п t f ш
YYVm'UlllL
|J ^=Ф=(==
1
п iш
л- г
г
т
]—[
ор
bjn
J1
V 'w
f
Р
Р
Р
PL
w
Ji
Ji
jijn
p
p p
¥ '¥
•0- • 9-
например, в I части Восьмой симфонии побочная тема с ее типично
монодийной асимметричностью, свободой модуляционных поворотов
и прочими монодийными чертами (пример 2).
О проявлении монодийных принципов организации материала
можно говорить и применительно к музыке гармонического склада. Так,
в отдельных вариациях «темы нашествия» из Седьмой симфонии (пример 3) аккорды, «подпирающие» мелодическую линию, в формообразующем и ладоорганизующем аспектах полностью ей подчинены и ею
направляются (так называемая, «аккордовая мелодия», по определению
В. Персикетти).
() монодийных принципах музыкального мышления Шостаковича
f
г
| »
«--г
r
| »
ffl
Ш у
r
145
f
I f
Г i
Почему в данном и аналогичном случаях я говорю о монодийных,
а не омонодическихпринципах? Убеждена, что это не просто игра терминов. Мелодия — понятие более широкое и более общее, чем монодия,
Мелодические связи могут проявляться и активно действовать в самой
что ни на есть гармонической музыке. Например, движение V4lJ фа-диез
минора в Н4з си минора в Мазурке № 1 Шопена или DD ля минора в его
же V7 в «Тристане» продиктовано чисто мелодическими импульсами.
Но ни в одном из этих случаев и речи не может быть о монодийжкти,
ибо выразителем, носителем ладовой функции, логической направлен
ности в обоих упомянутых фрагментах является только аккордовый комплекс как целое. Аккорд здесь является информативной единицей
10
Зак 5 9 7
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
146
(см. там же, с. 9 1 - 9 4 , 9 8 - 1 0 0 ) . В темах же Шостаковича аккорд в ладовом и формообразующем отношении пассивен — он только «подтверждает» то, на что указывало движение тонов ведущего голоса (например,
в «теме нашествия» — ряд механических параллельных мажорных трезвучий, функционально абсолютно безразличных к основной тональности — ми-бемоль). Носителем функции, ее информатором здесь становится тон как таковой.
Именно монодийное мышление нередко приводит полифонию
Шостаковича, по существу, к полимонодии ( о частном случае полимонодии — дуомонодии — см. 52, с. 9 0 - 9 9 ) или превращает внешне, казалось
бы, обычную гомофонную фактуру в полисклад: монодия + гармония.
Так, в финале Седьмого квартета (цифра 45) фактура хотя и напоминает своим рисунком «главный голос с сопровождением», но, по существу,
оказывается гораздо более сложной: пласт аккордов никак не аккомпанирует мелодии скрипки, а скорее противостоит ей самостоятельной
направленностью своего движения, ритмической обособленностью, ладотональными противоречиями (пример 4):
45
РР
tf:
щ
т
f==]
Гг
Ф
'
т
(Allegretto J-=w]
г
%
р
W
r"7
m У
[jp^
f
p
.h
9J
'
J*
I R L - J f 1 •s
ф
По моим представлениям, именно опора на монодийные закономерности помогла Шостаковичу — на фоне всеобщего бегства от мажорноминорной системы, характеризующего X X век, — избежать увлечения
додекафонией как принципом мышления и методом организации музы-
() монодийных принципах музыкального мышления Шостаковича
\ 41
нлльного материала. Он избрал другой путь — путь, идущий не от расчета
и комбинаторики, а от эмоционально-насыщенной «голосовой» интонации, способной воплотить и ораторски-проповедническую речь, и интимную лирику, и скорбный плач и тут же перерасти в широкую кантилену. Не эти ли жизненные интонации породили монодийную мелодику?
Гениальным предшественником Шостаковича на пути преодоления мажорно-минорной системы через внедрение монодийных интонации, а с ними и монодийных законов, был Мусоргский, в музыкальном
языке далеко опередивший свое время. В его творчестве (и, что очень
показательно, во многих эскизах и набросках) можно найти прямые предиосхищения интонационного строя Шостаковича, характерных для последнего ладозвукорядных оборотов. Возможно, это специфически русский национальный путь эволюции музыкальной системы.
Гармония как средство
характеристики действующих лиц
в опере П. Чайковского «Евгений Онегин» *
с
V ^ / р е д и великих творении прошлого не много найдется произведений, способных сравниться по своей популярности с «лирическими сценами» Петра Ильича Чайковского — оперой «Евгений Онегин».
«Жизнеспособность "Евгения Онегина" обусловлена тем, что
Чайковский нашел обобществляющие сочетания звуков такого качества, какие отвечали всецело и отвечают до сих пор самым желанным,
самым волнующим лирическим интонациям множества людей, пожалуй, миллионов слушателей (ведь уже которое поколение не хочет расставаться с этой, в сущности наивной, простодушной музыкой!), ибо
не только в сюжете тут дело и не в популярности пушкинского романа.
Боюсь сказать, но мне думается, что процентное соотношение между
читателями романа и слушателями музыки "Евгения Онегина" будет
не в пользу романа: слушателей (и среди них многих, увы, не читавших
романа) окажется больше». Такими словами охарактеризовал социальную
значимость оперы выдающийся исследователь, музыкант-мыслитель
академик Борис Владимирович Асафьев в своей поистине «звучащей»
работе — «"Евгений Онегин". Лирические сцены П. И. Чайковского»
(7, с. 75-76).
«Онегин» привлекает к себе не только массового слушателя. Заслуженным вниманием пользуется опера и в трудах музыковедов. Вероятно, нельзя найти ни одной работы, посвященной русской музыке
второй половины XIX века, будь то исследование или учебник, монография или очерк, в которой авторы не обращались бы к опере «Евгений Онегин», не анализировали бы те или иные стороны ее музыкального языка, стилистики, формообразования и пр. Особое место среди
трудов, так или иначе касающихся «лирических сцен», занимает упо* Очерк впервые опубликован в изд.: Бершадская Т. С. Гармония как элемент
музыкальной системы. СПб., 1997 (прим. ред.).
Гармония
как средство характеристики...
149
минутая монография Б. В. Асафьева — вдохновенная поэма об «онереромансе», тончайшее проникновение в тайны ее мелодико-интонационной драматургии.
Учитывая сказанное, можно ясно представить себе, как нелегко
вновь писать о «Евгении Онегине», не растворяясь лишь в восторженных похвалах гению композитора и при этом не повторяясь. Ведь, каялось бы, все исследовано, обо всем сказано, все аспекты затронуты.
Однако, при всей разносторонности анализа «Онегина», один аспект,
пожалуй, еще не получил достаточного, достойного себя освещения
даже в замечательной работе Б. В. Асафьева. Аспект этот — гармония,
ее роль в организации музыкального языка, ее значение в создании характеристик отдельных действующих лиц, ее участие в драматургичееком развитии оперы.
Попутно заметим, что гармонии Чайковского как специальной
теме посвящены всего лишь две научные публикации, появившиеся
к тому же сравнительно недавно. Это — очерки Н. Н. Синьковской
«О гармонии П. И. Чайковского» (53) и статья И. А. Истомина «Гармония Чайковского: Лады и звукоряды. Аккордика. Модуляционные приемы и др.» (27). Работы эти рассматривают гармоническую систему
Чайковского в целом и «Евгения Онегина» впрямую не касаются. Много точных и тонких наблюдений над гармоническим языком Чайковского можно найти в книге В. А. Цуккермана «Выразительные средства
лирики Чайковского» (73), где особое внимание уделяется плагальным
оборотам с движением альтерированной субдоминанты в тонику как
лейтгармоническим для композитора. Однако и там об «Онегине» говорится, по существу, лишь вскользь. Вообще же в исследованиях об
опере гармония освещена, главным образом, в плане тонального движения — тональных соотношений, тональностей-характеристик (например, многократно упоминается о сфере тональностей ми мажор ми минор как характерных для Ленского, ре-бемоль мажор — до-диез
минор как характерных для Татьяны и т. п.). Думается, однако, что краски тональных соотношений и система тональных арок — не единственный аспект гармонии, заслуживающий исследовательского внимании.
Многие более тонкие и более глубинные ее связи поставлены на службу музыкальной драматургии «Евгения Онегина». Как правило, они
остаются на периферии музыковедческих интересов, видимо потому,
что «гармония Чайковского обычно течет настолько естественно, как
резонатор, усилитель эмоционального тонуса мелоса, что слух не различает в ней "ухищрений" ума и таланта. При аналитическом вслуши-
150
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
вании обнаруживается щедрое и "вкусное" гармоническое изобретение,
вовсе не отвечающее представлению о пассивном, следующем подсказам "нутра" композиторском сознании... Поэтому вслушивание в "Евгения Онегина" требует сосредоточения внимания на многих деталях,
не замечаемых обычно, но воздействующих своим существованием, не
выделяясь, как во всяком естественно выросшем организме» (7, с. 97).
Высказав эту очень глубокую и очень точно характеризующую язык
Чайковского мысль (заметим: язык вообще, а не только гармонию!),
Борис Владимирович Асафьев выбирает «из подробностей самое (на
его взгляд. — Т. Б.) существенное» — жанрово-мелодические истоки
и мелодико-интонационные связи. В настоящей же статье делается попытка остановиться на подробностях гармонии.
Чем же обеспечивается та «естественность течения» гармонии,
о которой говорится в цитированном выше тексте? Прежде всего — самой ладогармонической организацией, «честнейшей» мажорно-минорной системой — типовой «языковой базой» европейской музыки
XIX века. Система эта даже не особенно усложнена каким-либо «изобретательством» — ни в области аккордики (неальтерированный септаккорд IV да нонаккорд II ступеней — едва ли не самые «особенные» аккорды «Онегина»), ни в области альтерации (и здесь более всего —
субдоминантовых аккордов: те же септаккорды IV—II, особенно с двойной альтерацией, да аккорды с увеличенной секстой, в роли как субдоминанты, так и доминанты, чаще двойной); ни в области последований
(прерванные кадансы с переходом доминантовых аккордов в трезвучие VI ступени, в мажоре — нередко низкой; движение от доминанты
к субдоминанте, особенно в миноре; эллипсисы да довольно обычные
энгармонические модуляции). Действительно, сами по себе средства
гармонии предстают достаточно стереотипными. И тем не менее, «распределенные по ролям», они становятся неповторимо индивидуальными
и начинают играть существеннейшую роль в характеристике персонажей и развитии музыкального действия. «Внимательное вслушивание»
в гармонию и ее тщательный анализ позволяют раскрыть такие тематические связи, которые не только углубляют представление об образной характеристике и взаимоотношениях действующих лиц, но подчас
идут кое в чем вразрез с распространенными представлениями о сходстве и различии характеров и душевного строя героев.
Начнем с утверждения, что наряду с мелодическими характеристиками, блестяще раскрытыми в работе Б. В. Асафьева, каждый из персонажей оперы имеет очень яркую, присущую только ему индивидуаль-
Гармония как средство характеристики...
151
ную гармоническую характеристику1. При сравнении последних и обнаруживаются родственные черты между такими персонажами, чьи мелодические характеристики, взятые изолированно от гармонии и фактуры, никак подобной родственности не предполагают. Так, родственность
Татьяны и Ленского, обычно подтверждаемая, действительно, поражающим сходством их мелодических интонаций, становится не столь безусловной, если вслушаться в гармоническое развитие их партий. И, как
пи удивительно может показаться, много общего обнаруживается между гармоническим языком Ленского и Ольги. В гармонии же Татьяны
выявляются общие черты с гармонией Онегина. Остановимся на сказанном более подробно.
Полярными по гармоническим средствам оказываются характеристики Татьяны и Ольги. Их различие выявляется во всех аспектах,
на всех уровнях гармонии — и в составе аккордики, и в типе функциональных последований, и в характере модуляционного движения, и,
наконец, в фактуре, о которой следовало бы говорить отдельно. Так,
в единственной «специальной» характеристике Ольги — ее арии из первой картины — все эти уровни выражены достаточно четко. Аккордика — самая обычная: трезвучия, секстаккорды и септаккорды наиболее
употребительных для мажорно-минорной системы ступеней. Привычная
альтерация — гармонические субдоминанты, доминанта с повышенной
квинтой. Более сложная вертикаль если и образуется, то преимущественно от мелодико-фигурационного движения (проходящие и вспомогательные ноты, в том числе хроматические). Функциональное движение внутри тональности в целом — довольно стереотипное, обычно
с тоническим завершением. Запоминающийся прерванный оборот (V 7
си-бемоль мажора — IV минорная) с одновременной ладовой модуляцией (в ми-бемоль минор) и единственной в арии Ольги «сильной»
альтерацией (IV*8, равный альтерированной двойной доминанте) по1 Оговоримся, что при рассмотрении характерных для того или иного персонажа
черт гармонии речь будет идти не обо всей партии целиком (включая диалоги, ансамбли,
реплики), но преимущественно о наиболее персонифицированных фрагментах их
партий — ариях, ариозо, монологах. Термин «партия» в дальнейшем изложении употребляется но той причине, что жанр подобных персонифицированных высказываний
и опере достаточно разнообразен и потому терминологически трудно обобщаем. К тому же, необходимо учесть, что характер гармонического языка того или иного действующего лица может несколько меняться в связи с развитием сюжета и приобретать уже
не только и не столько индивидуально-образный, сколько «ситуационный» характер
(например, бросающееся в глаза обилие уменьшенных септаккордов в драматургически напряженных сценах).
152
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
являются на словах, с легкой иронией изображающих Татьяну («вздыхать, вздыхать из глубины души»), и потому относятся именно к последней. Это еще раз подтверждает важность и действенность для Чайковского гармонии как средства образной характеристики.
Одним из наиболее ярких присущих партии Ольги тонально-гармонических средств является модуляционное движение. Тональности
«сверкают», мгновенно сменяя друг друга, появляясь неожиданно и как
бы «немотивированно», подчиняясь внезапным капризам «беззаботно
шаловливой» героини. Характерны и способы модулирования: энгармонизм, мелодико-гармонические связи, сопоставления; характерно
соотношение смены тональностей с формой, точнее, с синтаксическим
членением: тональности в арии Ольги появляются как бы сегментно,
возникая обычно на гранях синтаксических построений. Основная тональность арии замыкается длительным органным пунктом на тонике.
И эта приверженность тонике (отметим, что при всей модуляционной
подвижности арии функциональные обороты внутри каждой тональности обычно подчеркнуто тоникальны) раскрывает внутреннюю «психическую устойчивость» Ольги: при всей беспечности и ветрености она
«обеими ногами на земле»!
Совсем иначе охарактеризована Татьяна. Как известно, у Татьяны
множество тем. Это и символ юной девической мечтательности — тема
Вступления, неотступный спутник Татьяны в опере. Это и смятенность
еще неясного, не до конца осознанного нового чувства — тема вступления ко второй картине. Это и, первоначально до мажорная, страстная
«тема признания» (сперва только самой себе, затем — няне), и тема
мечты-воображения (соль-бемоль-мажорная и ре-бемоль-мажорная
темы письма). Это и исполненная достоинства и благородной сдержанности тема шестой картины (ре-бемоль мажор) и, наконец, траурный
монолог (до-диез минор) седьмой. Темы эти — разные: мелодически,
ритмически, тонально, фактурно; но при всем том — внутренне необычайно близкие, причем близость их во многом определяется гармоническим языком. И именно в гармонии особенно ярко выявляется глубинное различие языка Татьяны и Ольги и обнаруживаются совсем
иные связи.
В чем же заключается своеобразие гармонического языка партии
Татьяны? Начнем с аккордики. Хотя в целом ладогармоническая система «Онегина» определяет и в чем-то ограничивает состав вертикали, аккордика партии Татьяны все же отличается от аккордики партии
Ольги в сторону большей избирательности и большей заботы о фониче-
Гармония как средство характеристики...
153
с кой стороне аккорда. Так, прежде всего, обращает на себя внимание
наличие уменьшенных аккордов — как септаккордов (VII ступени, IV—II
с двойной альтерацией), так и трезвучий и секстаккордов: вспомним
тему Вступления, тему начала второй картины, сцену в саду, седьмую
картину и т. п. (заметим, что в партии Ольги уменьшенные гармонии
практически отсутствуют; в партии Ленского появляются только «в связи с ситуацией» — в четвертой и пятой картинах). Доминанта с пониженной квинтой (доминантовый аккорд с увеличенной секстой) — уже
не «случайно», изредка попадающийся аккорд, а созвучие (выступающее главным образом в роли двойной доминанты), переходящее на
уровень лейтгармонии. Следует отметить и такой редкий для господствующей в опере системы аккорд, как нонаккорд II ступени в мажоре
(сцена письма, на словах «незримый, ты уж был мне мил»). Именно
применительно к партии Татьяны можно говорить о лейтгармонии как
в области аккордики — упомянутые аккорды уменьшенной и увеличенной структуры, трезвучие VI низкой в мажоре, — так и на уровне
последовательности. Это — эллипсис (движение доминанты в доминанту, особенно с использованием уменьшенных гармоний); это — прерванный каданс с движением доминанты в VI, а в мажоре, особенно,
в VI низкую; это — половинные кадансы, заканчивающие построения,
более всего характерные с участием хода двойной доминанты в доминанту, то есть с выявлением переменных функций. Таким образом, палитра фиксированных, не случайных, не фигурационно образованных
звучаний в партии Татьяны оказывается гораздо богаче и «целенаправленнее» используемой, чем в партии Ольги.
Не менее существенны различия в сфере гармонических последований и модуляционного движения. Отмечалось, что «сверкание» тональных переливов в партии Ольги характеризуется пестротой красок,
неожиданностью смены тональностей, своего рода «немотивированностью» модуляционных сдвигов. При этом соседствующие тональности
не всегда тесно функционально связываются между собой. Преобладает движение вверх по малому терцовому кругу: ми-бемоль мажор —
соль-бемоль мажор — ля (си-дубль-бемоль) мажор — до мажор — мибемоль мажор. Если говорить о возможной родственности терцовых
связей, то в системе Чайковского ближе оказались бы тональности,
следующие по кругу большому нисходящему. Тональности же, расположенные по ряду восходящих малых терций, звучат достаточно отдаленно, и их неродственность как бы выдвигается на первый план, будучи к тому же подчеркнута, как говорилось, принадлежностью каждой
из них к своей синтаксической единице текста (пример 1):
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
154
Картина 1,ария Ольги (i-армоиимеская схема)
(Andante mosso|
ik 4 i к 4 i i iii
тщ
30
8*
г т
8*
8*
ya
г "г
8*
В партии Татьяны все обстоит принципиально по-иному. Тональное движение отличается глубинной функциональной связью модулирующих и посредствующих аккордов даже в тех случаях, когда «на
поверхности», на первый взгляд (первое «слышание») это — эллипсис,
то есть мелодико-гармоническая «принципиально нефункциональная»
форма модулирования. Так, в теме Вступления первый же модулирующий аккорд (ля-ми-ля-до-диез)
функционально связан и с предшествующим секстаккордом соль минора (как I V 6 - V ре минора), и с последующим уменьшенным секстаккордом (ля-до-фа-диез-до)
как
двойная доминанта — доминанта соль минора. Такой же тип связей
продолжается и в последующем движении. В теме, названной в настоящем Очерке «темой признания» (пример 2), непрерывно модулирующий ряд аккордов также обнаруживает теснейшую функциональную
связанность: следующий за начальным тремолирующим до мажорным
трезвучием увеличенный терцквартаккорд си-бемоль-реми-сольдиез с дальнейшим его переходом в трезвучие ля-до-диез-ми
определяет функциональное включение бывшей тоники — до мажорного трезвучия — во фригийский оборот ре минора в качестве VII натуральной
ступени. Переход V 2 ре минора в V 7 си минора образует еще один фригийский оборот (в си миноре), обнаруживая к тому же связанность
тональностей ре и си как параллельных в системе объединенного мажоро-минора (си минор как параллель одноименного к ре минору мажора).
Далее си минор оборачивается II ступенью ля мажора и т. д.
Как видно (и как слышно!), это модуляционное движение принципиально отлично от тональных сдвигов-всплесков в арии Ольги. Оно
Гармония как средство характеристики...
155
не «сверкает на поверхности», а раскрывает внутреннюю многозначность, богатство и бездонную глубину выражаемого чувства.
К а р т и н а 2, с ц е н а с Н я н е й ( г а р м о н и ч е с к а я с х е м а )
Moderato
Ф
J
0
j TJ
J , J
в
Г
Немаловажно и соотношение возникающих модуляций со структурой. Если в арии Ольги тональности менялись преимущественно
вместе со сменой (или, во всяком случае, на гранях) фраз, синтаксически разделенных отрезков текста, то в темах Татьяны модуляционностью насыщен каждый мотив и даже субмотив темы, более же крупные
построения либо остаются в одной тональности, либо обнаруживают
четко направленную устремленность функционально обусловленного
движения от одной тональности к другой (это можно наблюдать в различных проведениях как темы Вступления, так и «темы признания»
и других). Вместе с тем, никакого «тупика», заранее установленного
предела, заранее известного, «предрешенного» ответа, никакой «приземленное™» в этих темах не ощущается. Они почти всегда — сомнение, всегда — вопрос! Вопрос к жизни, к самой себе («рассудок мой
изнемогает!»). И в гармонии это выражено с предельной силой и ясностью. Как мало места в музыкальной характеристике Татьяны занимает
тоника! Во всяком случае, тоника, завершающая внутренние построения. В ее партии преобладают или половинные, или прерванные кадансы. Твердую убежденность и непреклонность Татьяна обнаруживает
только в одном: в сознании нерушимости долга. И ее гармония в шестой и седьмой картинах значительно меняется по сравнению с предшествующими. В ней меньше модуляционности, больше тональной
и гармонической устойчивости. Появляются даже органные пункты на
тонике, почти отсутствовавшие в первых картинах. Татьяна стала иной...
156
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
Изложенные наблюдения позволяют утверждать, что гармония
является важнейшим компонентом музыкальной характеристики Ольги и Татьяны, раскрывая существо их облика, их внутреннюю непохожесть с неменьшей действенностью, чем мелодико-интонационный
строй их партий. Попытаемся рассмотреть в том же плане гармонические характеристики других действующих лиц оперы, прежде всего, —
Ленского и Онегина.
Как говорилось, обычно при аналитическом разборе «Евгения
Онегина» особенно настоятельно подчеркивается родственность интонаций Татьяны и Ленского: секстовость, характерное для обеих
партий поступенное движение мелодии вниз от терцового тона тональности и т.п. Параллель Татьяна — Ленский постоянно звучит в замечательной работе Асафьева (7, с. 113-114, 120, 124, 139-141, 144, 151,
153-154) и обобщается утверждением, что «интонационно Чайковский
нередко подводит Татьяну к Ленскому» (там же, с. 154). Если усматривать интонационное, прежде всего, в мелодической линии, то это, бесспорно, так. Однако гармоническое содержание партий Татьяны и Ленского, как об этом уже вскользь было сказано, далеко не столь родственно.
Тип раскрытия тональности и соотношение тонального движения
с формой, характер функциональных последований, аккордика и даже
фактура (на которой, впрочем, автор настоящего очерка специально не
останавливается) в партии Ленского оказываются гораздо более близкими партии Ольги, нежели Татьяны. Темам Ленского не свойственна
та функционально сопряженная модуляционная насыщенность мотивов, которая отличает главные характеристики Татьяны. Его ариозо
в первой и четвертой картинах, его ария в пятой — значительно более
устойчивы в тональном и ладогармоническом отношении. Как и в арии
Ольги, в них много тонического звучания. Ариозо первой и ария пятой
картин завершаются развернутыми органными пунктами на тонике.
Модуляции размещаются в конце синтаксических построений. Более
того, модуляционные «взрывы» — внезапные вторжения далеких тональностей, вплоть до однотерцовых (до минор — си мажор) и вводнотонных (ля-диез минор — ля минор) — по способу модулирования, по
взаимоотношению с формой весьма похожи на те неожиданные модуляционные повороты, о которых говорилось в связи с гармонией партии
Ольги (пример 3). Что это? Случайность? Ни в коем случае! Скорее
в этом можно усмотреть (услышать!) некоторую аналогию, схожесть
если не существа души, совершенно очевидно более глубокой и теплой
у Ленского, — об этом говорит весь мелодико-интонационный строй его
Гармония как средство характеристики...
157
иысказываний (подробно см. цитированную работу Б. В. Асафьева), то
характера, стиля поведения, в которых находят проявление, в одном
случае, импульсивность, порывистость, экзальтированность романтической натуры поэта, в другом — беззаботная шаловливость Ольги.
Andante mosso
Картина 5, ария Ленского (гармоническая схема)
Иная картина наблюдается в гармоническом языке партии Онегина. Здесь следует начать с упоминания о том, как вообще показан
Онегин в опере. В отличие от Татьяны и Ленского, у него нет «своей»
лейттемы. Скорее, это круг интонаций (интонация в данном случае понимается достаточно широко, как понятие, обнимающее собой не только
мелодическую линию, но и гармонию, и ритм, и даже фактуру), которые Б. В. Асафьев охарактеризовал как менуэтно-реверансные 2 и даже
как «мелодии-позы» 3 . И действительно — реверансы! Не только в ритме
и фактуре, но и в гармонии: частое мягкое кадансирование (например,
при первом появлении Онегина в первой картине). Но «поза» ли это?
Ведь Онегин не всегда такой. Его образ в опере раскрыт значительно
шире и глубже, и достигается это, в основном, средствами гармонии.
Онегин предстает перед нами в двух ипостасях: в общении с собеседниками, «на людях» и наедине с самим собой, скрыто от собеседников.
Количественно — действительно, преобладает его «реверансная» характеристика, что вызвано самим строением либретто. Но и ее вряд ли
справедливо определить как позерство. Реверансность его — не поза,
а внутренне присущая ему, с младенческих лет привитая форма поведения в обществе. Это — норма поведения людей его круга. Ведь не
случайно и Татьяна, попав в этот круг (шестая картина), начинает сле2 У Асафьева эти два эпитета выступают раздельно: на с. 111 — «старомоднореверансная»; на с. 106 — «менуэтная».
3 Именно так — «мелодия-поза» — охарактеризована Асафьевым одна из самых
«непозерских» тем Онегина — появление его в саду (третья картина). Впрочем, здесь
можно усмотреть противоречие у автора, который на той же странице (7, с. 121) говорит об искренности, благородстве и сочувственности Онегина в этой сцене, что отмечается во вступительной статье Е. М. Орловой.
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
158
довать тому же типу поведения-высказывания (сравним тему ее появления в шестой картине с репликами Онегина из первой картины в его
диалоге с Татьяной; пример 4 а> б).
4а
I—I
'—'
Картина 1, Сцепа и ариозо Ленского
''fetesso tempo
С) н с г и н
иа - ет вам
про - скуч - но алел»,
i ?
Л J
4б
J
Щ
d
Hstesso tempo
г
т
Ф
о г.чу - ши,
Р
т
ш
Картина 6, Сцена и ария княля Гремина
Гармония
как средство характеристики...
159
Noblesse oblige, и воспитанность вовсе не обязательно предполагает позерство. Возможно, современному человеку, во главу угла ставящему «раскованность» и едва ли не отождествляющему эту «раскованность» со свободой личности, всякое соблюдение обязательных норм
поведения может показаться позерством. Но Онегин — дитя XIX века.
()н просто вежлив и хорошо воспитан. Примечательно, что интонации
его существенно меняются «наедине с самим собой», когда отпадает
необходимость соблюдать принятые нормы общения. И в подобные
моменты откровенности возникают интереснейшие тематические аналогии, причем прежде всего — в гармонии.
В этом отношении наиболее показательными представляются два
фрагмента, и в обоих случаях — оркестровые. Первый из них — тема,
сопровождающая появление Онегина в саду в третьей картине (пример 5). Именно этот оборот охарактеризован Асафьевым как «мелодия-поза». Действительно, если рассматривать только мелодико-ритмический рисунок, то о нем можно говорить, как о сохраняющем ставшие
уже привычными для Онегина «реверансные» интонации: мягко закругленные ходы по тонам аккорда, почти точная симметрия нисходящего и восходящего движения в каждой синтаксически отделенной
единице (мотиве, фразе), мягкие кадансы. Но гармоническое содержание этой темы по типу модуляционного движения оказывается неожиданно близким гармонии важнейших тем Татьяны: та же внутренняя
насыщенность модуляционными поворотами при теснейшей функциональной связи намечающихся тональностей, та же «глубинность»
гармонической перспективы, позволяющая услышать множественность
значений одного и того же оборота, включающегося в целое по принципу «функций высшего порядка». Так, первый же мотив, формально допускающий элементарную «цифровку» — I6—IV фа мажора, в действительности, благодаря окружающим си-бемоль мажорное трезвучие
фигурационным звукам (проходящим на сильной долеми и до-диезу),
звучит как движение от фа мажора к ре минору, показанному прерванным кадансом. Возникает двойная (и даже тройная) перспектива, ибо
следующий за си-бемоль мажорным трезвучием доминантовый терцквартаккорд соль минора заставляет переоценить это трезвучие как III
натуральную ступень, а соответственно, и все предыдущее как включающееся в соль минор, в свою очередь приобретающий в последующем
развитии роль субдоминанты ре минора. И так же, как в большинстве
тем Татьяны, все построение оканчивается разомкнутым кадансом —
160
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
D D - D (каданс темы Вступления). Не раскрывает ли рассмотренная
гармония этой оркестровой реплики не «внешне видимую», а действительную сущность онегинской натуры? Ее глубину, наполненность,
склонность к вопрошению? И — родственность Татьяне?
. ,
. .
А
Andante поп tanto
Картина
3, Сцена и ариозо
Онегина
у
1
Еще более интересна и неожиданна другая аналогия. В шестой
картине, в момент появления на столичном балу, Онегин вновь говорит «сам с собой», будучи внутренне свободным от условностей светского общения. Здесь начисто исчезает менуэтная реверансность (это
отмечает и Асафьев). И совершенно неожиданно в реплике оркестра,
предваряющей текст: «Убив на поединке друга», возникает оборот,
мелодически, ритмически и, подчеркнем особенно, гармонически почти
«списанный» с реплик Няни (пример 6 а, б). Думается, что появление
этой интонации не может быть объяснено только лишь воскрешением
в сознании Онегина внешних обстоятельств вспоминаемого события
(«быт селений»), или какой-либо случайностью композиции. Слишком искренна, слишком тепла эта реплика. Показательно к тому же,
что предвестник такого гармонического оборота возникает еще в четвертой картине в начале размолвки, на обращенных к Ленскому словах: «Довольно нам привлекать вниманье нашей ссорой». Здесь он звучит
задушевно, как прорвавшееся сквозь условности ласковое увещевание
(пример 6 в).
Гармония как средство характеристики...
(> a
161
Картина 2, Сиена и дуэт
|Andantc|
Няня
Be - чор
^^
уж
как Сю - я - лап» я...
Картина
|Andante|
Сцена и ария князя Гремипа
ф
р
"
8
Картина 4, Мазурка и сцена
(Moderato|
О неги н
До-воль-но нам при-п.ю-кать
П
\Ф
т
f
г
J - ^ J
г
ттщ
шш-ма-нье на - шоп ссо - рой!
а
Г
П
У
1
Нет, указанные аналогии неслучайны. Разумеется, речь не идет
(и не может идти) о какой бы то ни было индивидуально-характерной
близости образов Онегина и Няни. Дело, думается, в другом. Ведь
Няня — образ и характер особенный. Она не осознает и потому не про11
Зак. 5 9 7
162
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
тивопоставляет себя остальным как индивидуальность, исключительная личность. Она — образ-обобщение. Ее жизненное кредо: «Ведь все
так — ну и я так; значит так надо». Как пишет о ней Асафьев, «так всегда бывает, и как же может быть иначе?!» (7, с. 112). Поэтому и предстает
она как обобщенное проявление добра и сердечности, любви и сочувственности, тепла и искренности душевной, да еще свойственного миру
селений и усадеб простодушия (вспомним: «...а мы, ничем мы не блестим, хоть Вам и рады простодушно»). Поэтому неудивительно, что отголоски присущих ей интонаций мы слышим в редкие моменты интимных откровений у Онегина. В этих репликах начинают звучать, может
быть и глубоко скрываемые, но несомненно живущие в его душе лирические струны. В то же время, при всей похожести, гармония в партии
Онегина усложнена по сравнению с партией Няни. У Онегина активнее модуляционная насыщенность, каданс — половинный (а не полный, как в партии Няни). И в гармонии сразу возникают черты, родственные партии Татьяны. Эти детали еще раз подчеркивают, как важна
для Чайковского гармония в качестве образной и ситуационной характеристики, каким чутким барометром состояний представляются композитору малейшие, обнаруживающиеся в ней изменения.
Из остальных действующих лиц, как уже могло выявиться в ходе
предыдущих рассуждений, наибольшим своеобразием в гармоническом
(как, впрочем, и мелодическом, и ритмическом) отношении оказывается тематизм Няни. Он приобретает гораздо более широкое значение, чем
только лишь характеристика преданной и любящей деревенской нянюшки-кормилицы, становясь символом душевного покоя, нравственной чистоты, устойчивости жизненных взглядов, символом простодушия и безыскусности сельского бытия. Как было показано, это находит
отражение и за пределами сцен с непосредственным участием Няни.
Гармония партии Няни отличается простотой аккордики, склонностью к выявлению переменных функций, плагальности, диатоничности. Первый «хроматический» тон — соль-бекар в ля мажоре, образующий побочную доминанту к субдоминанте, возникает от мерно
и плавно нисходящего мелодического движения баса и воспринимается скорее как явление «миксолидийско-обиходного» звукоряда, нежели как модуляционная альтерация. Это подтверждается при проведении темы в миноре, где в соответственном аккорде структура обычной
доминанты полностью снимается (пример 7).
Примечательно, что, при всей своей диатоничности, гармония
партии Няни, часто именно через активизацию «на почве» диатонич-
Гармония как средство характеристики...
163
ности переменных функций, насыщена внутренней (по Ю. Тюлину —
«внутритональной») модуляционностью, и в этом смысле она обладает
таким же богатством тонального освещения, как и темы Татьяны, хотя
и звучащим в эпически сдержанном ключе благодаря специфике осуществления модуляций. Итак, и здесь гармония становится средством
обнаружения внутренней близости и «созвучности струн душевных».
7а
I
i
@
у
Картина 2, Интродукция и сцена с Няней
Moderato assai
Няня
О
тк
ни
ла
«
чем же, Ta-ня?
Я, бы - ва - ло.
£
хра-
ш т
впа-мя-ти
не
- ма
-
ло
ста - р и н - н ы х
бы - лей
Картина 2, Интродукция и сцена с Няней
164
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
Анализ гармонического языка партий главных героев оперы «Евгений Онегин» позволяет говорить о внутреннем родстве и связях, отличающихся от тех, которые обычно аргументируются сходством мелодических линий. Возникают иные параллели. Не Татьяна — Ленский,
а, скорее, Татьяна — Онегин, Ленский — Ольга. И невольно задумаешься: а, действительно, гак ли уж бесспорно правомерна аналогия романтически порывистый, экзальтированный, не умеющий сдерживаться Ленский и тоже страстная, гоже романтическая, но сильная непреклонностью воли («...но воля и рассудка власть превозмогли») Татьяна? При сходстве судеб (крушение любви и юношеских иллюзий)
натуры их — разные! И здесь хочется вспомнить Пушкина, его видение
персонажей романа, которое, как представляется, близко тому, что раскрывается гармоническим языком оперы. Сравним пушкинские характеристики Татьяны и Онегина, Ленского и Ольги. Не поражает ли сходство, а порой и полная тождественность эпитетов, характеризующих
каждую пару? И, напротив, не бросается ли в глаза полная противоположность характеристик Татьяны и Ленского?
Онегин
Мне нравились его черты.
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм.
***
1атьяна
За что ж виновнее Татьяна?
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
Л своенравной головой...
Нет рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум.
Дика, печальна. молчалива...
Ленский
Дух пылкий и довольно странный.
Всегда восторженную речь...
Она в горелки не играла,
Ей скучен был и звонкий смех
И шум их ветреных утех
Онегин слушал с важным видом
Как, сердца исповедь любя.
Поэт высказывал себя.
И были детские проказы ей чужды..
***
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна...
Ольга
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна...
***
«И молча гибнуть я должна».
(Естественно, такого рода аналогии в тексте романа далеко не
исчерпываются приведенными фрагментами.)
Гармония как средство характеристики...
165
Отраженные в гармонии и близкие пушкинским линии духовного родства персонажей находят яркое выражение и в таком аспекте музыкальной ткани как соотношение оркестра и вокальных партий. Каждое чувство, зарождающееся в душе Ленскогб, каждая возникающая
и его сознании мысль немедленно «выплескиваются наружу», произнесенные вслух («сердца исповедь любя»!). Появившаяся в оркестре тема в дальнейшем (сразу же, как в пятой картине, или «через сцену», как в первой) обязательно воплощается в его вокальной линии.
У Татьяны во многих случаях главная характеристика остается в оркестре. Так обстоит дело с «темой признания» (т. 147 второй картины),
лишь один раз из шести (первый) прозвучавшей в голосе, с «темой мечтаний» (Вступление), которая в вокальную партию переходит лишь отдельными мотивами; с «темой письма» (ре минор), лишь в оркестре
раскрывающейся в четкой мелодико-ритмической оформленности.
Аналогично этому обстоит дело и в партии Онегина. Он еще сдержаннее Татьяны, и самые сокровенные его темы звучат только в оркестре.
Исключение представляют лишь конец шестой и седьмая картины, когда Онегин (как, впрочем, на мгновение и Татьяна) теряет власть над
собой. Таким образом, и в этом аспекте нити общности протягиваются
в несколько ином направлении, чем в аспекте мелодического рисунка.
Отважимся высказать такую идею: в индивидуализации образной
характеристики персонажей в опере «Евгений Онегин» гармония порой оказывается важнее и действеннее, нежели мелодия. Секстовость,
разворот мелодии вниз от терцового к тоническому тону и далее — к тону квинтовому можно обнаружить во многих темах самых разных произведений Чайковского 4 (см. об этом цитированную работу Асафьева
и многие другие). Гармонический ряд «темы признания» Татьяны (пример 4) индивидуален и неповторим не только в рамках «лирических
сцен», но и вообще в творчестве Чайковского. Общность и различие,
близость и контрастность, родственность и чуждость — все оказывается
подвластным выражению средствами гармонического языка.
В предложенном кратком очерке были затронуты лишь наиболее
общие черты гармонической характеристики основных действующих
лиц оперы «Евгений Онегин», дающие представление о важной функ1 Обратим внимание и на фактуру. В темах Ленского фактура, как правило, «вальсовая» («бас — аккорд»), В мелодически сходной теме Татьяны (ре-бемоль мажор) фактура аккордово-хоральная, придающая ей гимнически приподнятый, возвышенный
характер.
166
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
ции гармонических средств, как в создании определенного облика того
или иного персонажа, так и в обнаружении сходства или, наоборот, различия между ними. Разумеется, это далеко не полное освещение значения гармонии. В стороне остался ряд существенных вопросов, связанных с ее формообразующей ролью: характеристика гармонического
развития повторяющихся тем; рассмотрение «ситуационных» средств,
то есть выявление некоторых типовых гармонических приемов, зависящих от определенных сюжетных ситуаций; не затронуты (или почти
не затронуты) вопросы фактуры и т. д. Каждый из перечисленных аспектов заслуживает особого внимания и подробного анализа. Как выразительны и драматургически значимы, например, изменения темы
ариозо Ленского из первой картины («Я люблю Вас!») при ее появлении в четвертой картине перед ансамблем «В вашем доме...» и, особенно, непосредственно перед дуэлью! Вместо мягкого распевания мажорной тоники (первая картина) в пятой картине — минор; слитная фраза
раздроблена на субмотивы, каждый из которых поддержан «своей» гармонией и сопровождается хроматическим «всхлипывающим» подголоском. Поистине — «осколки» некогда (давно ли?) целого.
Какой смягченной, как бы «отдалившейся» звучит во вступлении
к четвертой картине тема из сцены письма! Ля мажор в третьей — второй октавах, вместо ре-бемоль мажора во второй — первой октавах сцены
письма; мягкая, словно приподнятая, устремленная ввысь «уменьшенная субдоминанта», вместо глубокой VI низкой в первом проведении.
Там, во второй картине — сиюминутное страстное переживание; здесь —
временем сглаженное воспоминание, скорее мечта, чем реальность
(пример 8).
Подобные гармонические преобразования могут быть обнаружены в великом множестве (например, темы Татьяны, хотя бы в деталях,
меняются почти в каждом проведении), и все они имеют важное драматургическое и формообразующее значение.
Картина 2, Сцена письма
Гармония как средство характеристики...
Andante поп tanto
1Й
Р dolce
167
Картина 4, Антракт
^
Л
Немало интересных выводов могут подсказать и наблюдения над
фактурой, над общностью или различием характерных фактурных рисунков, над спецификой подголосков и т. д. Но такой полный анализ
требует специального подробного исследования и выходит за рамки
задачи, поставленной в настоящем очерке. Его цель — показать значимость, «небезразличность» гармонических средств в деле создания образных характеристик главных действующих лиц. И, как представляется, значимость эта действительно велика, при всей, казалось бы,
обыкновенности, «ординарности» для своего времени гармонического
языка оперы. Последнее было бы справедливо, лишь если смотреть на
гармонию как на «сумму аккордов и способов модуляций». Дело же
заключается в отборе и сочетании тех или иных, пусть даже достаточно привычных, средств при характеристике разных персонажей, а также в реализации различныхмежаспектных связей гармонии. И в этом
плане гармонические средства, как было показано выше, оказываются
в опере весьма действенным фактором.
Напомним слова Асафьева, во многом послужившие исходным
импульсом для написания очерка о гармонии «лирических сцен».
«...Гармония Чайковского обычно течет настолько естественно, как резонатор, усилитель эмоционального тонуса мелоса, что слух не различает в ней "ухищрений" ума и таланта» (7, с. 97). Это, действительно,
гак. Тем поразительнее впечатляющая сила создаваемых ею характеристик, ее роль в становлении художественных образов, в организации и развитии сценического действия. Поистине гармония является
уникальной сферой проявления композиторского гения и составляет
одну из важнейших граней могучего дара Чайковского — великого романтика, великого психолога, великого русского художника.
Татьяна Ларина и Владимир Ленский
глазами Пушкина и Чайковского *
л
- / А л е к с а н д р Сергеевич Пушкин... Не имею права говорить за всех,
но у меня, когда произносят имя Пушкина, первое, что возникает в сознании, это — «Евгений Онегин». Мне представляется, что «Онегин» —
главное произведение Пушкина. Возможно, потому, что роман этот автобиографичен, его герои как-то ассоциируются с самим автором. И не
только Ленский, в чьей судьбе поэт провидчески отразил свою собственную судьбу, но и Онегин, — во многих чертах характера, событий и образа жизни, поведения, впечатлений...
Но если при имени Пушкина в сознании, прежде всего, возникает
«Евгений Онегин», то сам «Евгений Онегин» в первую очередь ассоциируется с Чайковским. Здесь, думаю, можно с уверенностью говорить
за всех музыкантов, а возможно, и не только музыкантов. Ведь предложил же Б. В. Асафьев в своей замечательной работе «"Евгений Онегин".
Лирические сцены Чайковского», что «процентное соотношение между читателями романа и слушателями музыки "Евгения Онегина" будет не в пользу романа: слушателей (и среди них многих, увы, не читавших романа) окажется больше» (7, с. 75-76). Великий композитор
дал вторую жизнь произведению великого поэта. И потому так естественно возникает вопрос о соотношении трактовки персонажей романа и оперы, сходстве и различии в понимании и представлении их характеров двумя авторами, художниками-гигантами. Впервые этот вопрос
был поставлен Асафьевым, предложившим в упомянутой выше работе
свое понимание проблемы. Искрометно талантливый, поистине «звучащий» текст исследования настолько заворожил читателя, что все, сказанное о нем, стало приниматься безоговорочно, на веру, как аксиома,
и тиражироваться во многих возникших позднее (заметим: и не всегда
столь же талантливых!) работах.
* Статья впервые опубликован в изд.: Отражения музыкального театра: Сб. ст.
и материалов к юбилею Л. Г. Данько. Кн. 2. СПб., 2001 (прим. ред.).
Татьяна Ларина и Владимир Ленский глазами Пушкина и Чайковского
169
Будучи сама долгое время под гипнозом этого «третьего» «Онегина», отдавая дань его неповторимости, талантливости, во многом
с ним соглашаясь, я все же взяла на себя смелость поспорить с азтором
труда но поводу одного, как мне кажется, немаловажного вопроса.
Речь идет об освещении Асафьевым соотношения характеристик
главных героев оперы, его стремлении сблизить характеристики Татьяны и Ленского и как бы противопоставить их Онегину. В очерке «Гармония как средство характеристики действующих лиц в опере П. Чайковского "Евгений Онегин"» 1 я позволяю себе возразить Асафьеву и,
опираясь на пушкинский текст и сравнение гармонического языка
партий героев оперы, предложить свое понимание проблемы. Хочу надеяться, что мне удалось достаточно убедительно показать, насколько
гармонический язык Татьяны отличен от языка Ленского, какие параллели и аналогии возникают между партиями Ленского и Ольги, с одной стороны, и партиями Татьяны и Онегина — с другой. Ленский
п Ольга — преимущественная консонантность, преобладание трезвучий, подчеркнутая неустойчивость оборотов (завершающиеся тониками полные кадансы) и при этом — неожиданные тональные «броски»,
«функционально немотивированная» модуляционность. Гармония Татьяны (и во многом Онегина) — постоянное вопрошение: кадансы или
прерванные (в мажоре обычно с использованием VI низкой ступени),
пли половинные, подчеркнутые двойной доминантой, часто альтерированной; глубокая многослойная, многостепенная переменность функций, усиленная привлечением побочных доминант, «втягивающих» все
происходящие отклонения в орбиту одной основной тональности.
Здесь я затрону другие аспекты музыкального текста, о которых
в очерке только упомянуто. Это интонационный строй и соотношение
вокальной партии и оркестра, вопросы формы (синтаксиса) и фактуры. Как увидим, во всех трех аспектах партии Татьяны и Ленского разительно отличаются друг от друга.
Что представляет собой интонационная основа мелодики Ленского? Это, в большинстве своем, — романс, кантилена, что ощущается
даже в сугубо речитативных моментах. Вспомним, например, вступительные реплики, предваряющие ариозо первой картины («Как счастлив, счастлив я!») или четвертой ( « В Вашем доме...»). Ведь это чуть
менее распетые интонации будущей кантилены. Поистине, Ленский
поет даже тогда, когда говорит!
1
См. стр. 148 настоящего издания.
170
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
Вряд ли стоит останавливаться на характеристиках мелодики
партии Ленского, ибо ее романсовая сущность блестяще раскрыта в цитированной работе Асафьева. Но вот от дальнейших обобщений в этом
плане я бы, пожалуй, отказалась. Мелодика вокальной партии Татьяны далека от кантилены. Татьяна в большинстве случаев произносит
текст. Островки распевности прорываются в отдельных фразах, нигде
не вырастая в достаточно протяженные построения. Скорее, в некоторых ее репликах можно услышать признак причетности со свойственными последней повторами фраз, возвращениями к одной и той же
попевке, как, например, скорбные возгласы в третьей картине («Как я
несчастна») или горькая жалоба в седьмой ( « О н взором огненным...»).
Интонационные различия мелодики Ленского и Татьяны находят свое отражение и в соотношении вокальной и оркестровой партий,
что, подчеркну, очень точно отвечает пушкинской характеристике героев. Вспомним, что говорит о Ленском поэт, описывая его «дух пылкий» и «всегда восторженную речь» (в цитатах курсив мой. — Т. Б.):
Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкий,
И вечно вдохновенный взор —
Онегину все было ново <...>
Онегин слушал с важным видом,
Как, сердца исповедь любя,
Поэт высказывал себя;
Свою доверчивую совесть
Он простодушно обнажал.
И, в полном соответствии с пушкинской характеристикой, в опере Ленский постоянно стремится «высказать себя», произнести (пропеть!) вслух то, что накипело на душе. Как гениально выражает это
Чайковский! Каждая мелодия, как некий намек на только еще зарождающуюся мысль, прозвучавшая в оркестре, немедленно, с еще большим распевом и размахом «выплескивается» наружу, полностью раскрываясь в вокальной партии. Так происходит в ариозо первой картины
«Я люблю Вас...») и в арии пятой («Что день грядущий...»). Не правда
ли, какая тонкая и точная передача пушкинской характеристики?
В отношении Татьяны и в романе, и в опере ситуация прямо противоположна. В романе все время подчеркивается молчаливость героини, уходы «в себя», умение сдерживать душевные порывы. Напомню:
Дика, печальна, молчалива <...>
Татьяна Ларина и Владимир Ленский глазами Пушкина и Чайковского
171
И молча гибнуть я должна.
<...>
И, утренней луны бледней
И трепетней гонимой лани,
Она темнеющих очей
Не подымает: пышет бурно
В ней страстный жар; ей душно, дурно;
Она приветствий двух друзей
Не слышит, слезы из очей
Хотят уж капать; уж готова
Бедняжка в обморок упасть;
Но воля и рассудка власть
Превозмогли. Она два слова
Сквозь зубы молвила тишком
И усидела за столом.
<...>
О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал!
«...Воля и рассудка власть»! Как недостает их Ленскому! Может,
обладай он, как Татьяна, способностью сдерживать сиюминутные порывы, наутро радостно «прыгнувшая с крыльца ему навстречу» Оленька вернула бы спокойствие и мир его душе, отвратив кровавый конец...
Но в том-то и дело, что Ленский — другой, он не способен сдерживаться.
Это Татьяна умеет владеть собой и не давать вырваться наружу бунтующим в душе страстям. И эти черты ее натуры отражены Чайковским
не менее впечатляюще, чем душевная распахнутость Ленского.
Все главные темы Татьяны полновесно звучат только в оркестре.
За исключением страстного всплеска откровения («Ах, няня, няня...»),
длящегося всего несколько тактов, не замкнутого ни в какие «строгие»
периодические рамки, кстати, обращенного по пути «ни к кому» (Няня — не в счет!), да еще типично «арийного» высказывания «Пускай
погибну я...» (да простит меня великий Чайковский — наименее удачного фрагмента характеристики Татьяны!), ни одна из «лейтмотивных»
тем Татьяны ею не поется. Целостно и полнокровно они проходят только в оркестре. Татьяна же в это время лишь скупо речитирует. Кто, не
зная наизусть всю ткань «лирических сцен», только ориентируясь на
почти «secco-речитативную» мелодику в устах главной героини, может предугадать звучание в оркестре проникновенно-хрупкой темы
мечтаний в первой картине, теме письма во второй? (пример 1). Согласимся, что «музыкальное поведение» Татьяны совпадает с пушкинской ее характеристикой и совсем не похоже на «поведение» Ленского:
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
172
если он поет даже тогда, когда говорит, то о Татьяне можно сказать, что
она говорит даже тогда, когда по всем законам жанра оперы ей полагалось бы петь.
Картина 1, Сцепа и ария Ольги
1 a |Andante|
$
15
Т а т ьяи а
J J J* J* J
меч - та - мм
' П И Р '
v - но-сить-гя
п - ног - да
| Mod era to assai, quasi Andante]
poco rit.
ку
-
да - то.
Картина 2, Сцепа письма
T а т i) я н a
P P 7 FF
iio
-
иерь-тс.
V9 Щ
Mo-e-ro
пы-ла
Вы не
9
v - зна-.чиб
9 9 9~
ми-ког-да
Соответственно интонационному строю мелоса организуется и форма. В партии Ленского мы сталкиваемся с четко оформленными периодами, с тяготением к закругленности, к трехчастности. У Татьяны таких строго замкнутых построений нет вообще. Ее партия не содержит
ни арий, ни даже ариозо в привычном понимании. Это — монологи,
реплики, возгласы, из которых лишь редкие краткие фрагменты выстраиваются в симметричные периодические структуры. Высказывание героини — постоянное движение, поток мысли.
И наконец — фактура. Даже самый беглый ее анализ позволяет
установить яркое различие фактурных решений партий Татьяны и Ленского.
Фактура партии Ленского — почти неизменно в основе своей «бас —
аккорд», то есть так или иначе преобразованная «гитарность», а в соединении с пластичностью мелодии — типичная для Чайковского широко понимаемая вальсовость.
Фактура важнейших сольных высказываний Татьяны — гимнически-хоральная. Такая фактура в репликах Татьяны совершено преобразует мелодии, даже сходные по рисунку с темами Ленского (напомню, что именно на сходстве мелодических оборотов строит концепцию
их родственности Асафьев). Сравним хотя бы (вслед за Асафьевым, но
с совершенно противоположными выводами) совпадающие по рисунку мелодической линии фрагменты партий Татьяны и Ленского (пример 2). Действительно, в обоих случаях мелодия движется от терцово-
Татьяна Ларина и Владимир Ленский глазами Пушкина и Чайковского
.iOIICK 11 и
a piena voce
'-'то
ICIIII
К а р т ш т Л,
т
173
Интродукция, сцепа и ариозо Ленского
гря -ду-мшп мне ю - го
Andante, quasi Adagio
m
i £1 i I'
Картина 7
Т а т ь и и a
*
Он
изо-ром
j[8p]Andante
or - liCH-hWM
0-
мне
чу-шу
ноз-му
-
тил.
Ф
*
.
i
го вниз к квинте звукоряда (кстати, такого типа мелодические линии
можно найти во многих лирических темах Чайковского). Но разве близки по духу лирический вальс Ленского и гимническая торжественность
откровений Татьяны? А в седьмой картине, где мелодия реплик Татьяны
(«Он взором огненным...*) уже почти точно повторяет мелодию арии
Ленского («Что день грядущий...»), разве можно сравнить общий характер целостного текста их высказывания? У Ленского, повторю, кантиленно-распевные, симметрично закругленные романсовые фразы, подчеркиваемые, согласно жанру, «гитарным», по сути, аккомпанементом
(несмотря на оплетение подголосками), с подчеркнутой дифференциацией сильных и слабых долей. В партии Татьяны звучит как причет,
как стон повторяющаяся фраза со строго моноритмическим аккордовым сопровождением. Оркестр во втором такте вступает синкопой, от-
174
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
чего впечатление плача еще усиливается: словно рыданием перехватило выдох! Нет, и у Чайковского не близки друг другу Татьяна и Ленский ничем, кроме разве родственности их горячих, любящих сердец
да сходства судеб с горьким крушением надежд.
Таким образом, возвращаясь к проблеме, поставленной в начале
статьи, повторю: Чайковский не раз позволял себе свободно обращаться со взятыми за основу своих произведений текстами, как в литературном, так и в идейно-содержательном смысле. Ярчайший тому пример — «Пиковая дама». Но в характеристике главных действующих лиц
«лирических сцен» он не стал спорить с Пушкиным и своей музыкой
только подтвердил и гениально раскрыл пушкинское понимание образов героев.
Ill
О ФОЛЬКЛОРЕ
Некоторые особенности
русского народного многоголосия *
я
А Цля того чтобы составить полное представление о русском народном многоголосии, недостаточно рассматривать песни какой-либо одной области или одного склада, хотя бы и наиболее распространенного,
ибо русское народное многоголосие весьма разнообразно во всех отношениях, и само историческое его развитие шло, несомненно, различными путями.
Ограничение материала неизбежно привело бы к односторонним
выводам и к преувеличению значения отдельных композиционных приемов, характерных только для данного круга песен.
Необходимо рассматривать общую картину развития народного
многоголосия, по возможности начиная с наиболее ранних исторических форм и кончая развитыми. Сравнительный анализ народных песен
разных областей и разных жанров позволяет разобраться в принципах
строения многоголосия, его складах, дает представление о генезисе и его
развитии, о зарождении, трансформации, исторической стойкости и отмирании тех или иных композиционных приемов.
Все это имеет немаловажное значение для понимания стилистических особенностей русского народного многоголосия, которые, несомненно, так или иначе отразились и в творчестве русских композиторов.
В связи с этим, в основу настоящего очерка положен материал из
народных песен разных областей, наиболее характеризующих тот или
иной вид многоголосия, а именно: песни северных областей — Пинежья,
Новгородской и Вологодской областей, песни средней Руси — московские, воронежские, тамбовские, рязанские и песни Донской области.
Первые и последние наиболее различаются между собой. Песни
же средней Руси, обладая своеобразными чертами, в то же время включают в себя многие признаки, свойственные и северным, и южнорус* Статья впервые опубликована в изд.: Очерки по теоретическому музыкознанию / Под ред. Ю. Н. Тюлина н А. К. Буцкого. Л., 1959 (прим. ред.).
Некоторые особенности русского народного многоголосия
177
ским песням. Несомненно, что ладоинтонационное различие северных
н донских песен, так же как и различие говора, диалекта, обусловлено
определенными социально-историческими причинами, но рассмотрение этого вопроса не входит в задачу данной работы.
Северные песни отличаются преобладанием гемитонных ладов, то
есть диатонических с наличием полутонов, сравнительно небольшим
диапазоном и обилием длительных опеваний опорных тонов мелодии.
Южной песне, напротив, свойственно преобладание ладов ангемитонпых (бесполутоновых) или хотя бы сохраняющих черты ангемитонности, широкие диапазоны напевов, отсутствие попевок орнаментального
характера, столь свойственных северному распеву.
При всех специфических особенностях, можно установить некоторые общие принципы образования многоголосия и ладов, свойственные песням всех областей. На этих принципах следует остановиться
в первую очередь.
Прежде всего, является общим самый исходный принцип образования многоголосия. Он заключается в следующем: в народном хоровом исполнении каждый певец, хотя и в полном согласии с другими
певцами, но по-своему трактует мелодию песни. В отличие от пения
профессионального, эта индивидуальная трактовка обнаруживается не
только в манере исполнения, но и в моментах композиционного порядка, например, в неполном совпадении текста мелодии одного певца с музыкальным текстом других. Таким образом, при исполнении песни хором, то есть одновременно несколькими певцами, сочетаются творческие
трактовки, в той или иной мере различающиеся между собой, иначе
говоря — более или менее близкие друг другу варианты мелодии. В результате подобного сочетания, общий склад песни определяется как многоголосный.
В песнях разных областей можно наблюдать и общие закономерности ладообразования. Это, прежде всего, относится к положению основного тона в ладу. В отличие от профессионально-композиторской
музыки, тоника в народных песнях занимает единственное определенное место в ладу, тон же, повторенный в мелодии на октаву выше или
ниже тоники, не выполняет той же тонической функции. Таким образом, лад, охватывающий диапазон октавы или шире, включает фактически не семь, а восемь, девять и более ступеней, причем ступени, появляющиеся в новой октаве, обладают и своими особыми ладовыми
свойствами. Например, в песне «Ах, не одна во поле дороженька» (при12
Зак. 5 9 7
III. О фольклоре
178
мер 1) тоникой служит фа первой октавы. В процессе распева певец не
раз захватывает тон фа второй октавы, который не является опорным, а,
напротив, служит новым средством опевания второго, побочного опорного тона — до, способствуя расширению распева мелодии.
Ли-II, 7 1
f v И Д ГЗI (
Ах.
о по
т
Ф
к*
х,
е...,
ле
ель
-
нич
-
про-лег
ель
-
иич
-
ла
ком.
'гГ{*
ох,
-
ком.
бе
А
-
рс
р ircl^S
бе
-
ре
Характерной чертой ладов многих народных песен является наличие в них побочных опорных тонов. Тоны эти располагаются на разном
расстоянии от тоники — на расстоянии терции, кварты или квинты, в соответствии с чем возникают лады с терцовой, квартовой и квинтовой
побочной опорой.
В одних случаях побочная опора выявляется определенно на одном каком-нибудь тоне. В других же случаях она смещается с одной
ступени на другую, то есть носит переменный характер. Например, в песне
«С Костромы, Костромы» (пример 2) тоникой лада является тон си,
а побочный опорный тон отчетливо определяется на тоне фа-диез.
11,100
стро-мы,
СП ромы.
ро - да
Указатель сокращений, принятых в нотных примерах, см. на стр. 232.
Некоторые особенности русского народного многоголосия
179
Лад этой песни, таким образом, имеет квинтовую основу В песне
же «Вылетает мой да соколик» (пример 3), при определенной тонике
фа, побочная опора ощущается попеременно то на си-бемоль, то на до.
В ы - л с - та
-
ет мой
да с о - ко
-
лик.
вы - с о - ко
и
да
-
л с - ко
Опорные тона образуют как бы костяк лада, его основу. Следует
обратить особое внимание на то, что при наличии трех опорных тонов
в ладу тоны эти образуют чаще всего трихорд.
Эту весьма характерную черту русских народных песен модно проследить в самых ранних обрядовых песнях. В некоторых из них побочный опорный тон настолько подчеркивается, что принимает значение
противопоставляемого тонике опорного тона — своего рода антитезы
(по терминологии X. С. Кушнарева). Следствием этого является весьма
характерная для народных песен ладовая переменность, то есть наличие
в ладу нескольких тонов, попеременно принимающих значение тоники.
Например, в песне «Не одна во поле дороженька» (см. пример 1) тоника
ощущается то на ми-бемоль, то на фа. В одних случаях тоники соотносятся как равноправные. В других же случаях одна из тоник лада сохраняет
свое основное значение, и переменность приобретает характер модуляционного отклонения. Основная и переменные тоники также обычно располагаются по тонам трихорда. При секундовой переменности верхняя
тоника обычно бывает минорной, нижняя — мажорной. При терцовой —
наоборот: верхняя — мажорная, а нижняя — минорная. При квартовой
обе тоники чаще бывают одного наклонения. Иногда же переменный лад
имеет три тоники. Например, в песне «Горы» (см. пример 14) тоника
перемещается по тонам трихорда ля-до-соль. Принцип расположения
опорных тонов и переменных тоник по тонам трихорда, характерный
для любых ладовых систем русской песни, оказал большое влияние на
развитие многоголосия.
Как гемитонные, так и ангемитонные лады весьма разнообразны по
своей структуре и могут охватывать самый различный диапазон. Развиваясь разными путями, лады, характерные для одной области, оказываются малохарактерными для другой. Так, на Севере можно часто встретить песни с ладами малообъемными, но уже содержащими полутоны.
III. О фольклоре
180
Наоборот, песни Дона при больших объемах являются преимущественно ангемитонными; малообъемные диатонические лады для них не характерны. Например, в пинежской песне «Золото с золотом свивалось»
(пример 4) при диапазоне кварты ладж включает полутоны. В донской
же песне «Добрыня в поле и добры молодцы» (пример 5) ангемитонный
лад охватывает диапазон децимы.
11,119
Зо - ло - то
с зо-ло-том
сви - ва-лось.
Ох,
да
сви - ва-лось
Л-1,11
Да
сту
-
чит.
грс -
мит
Доб
ры
-
нюш
-
ка
Такое различие структур лада связано с характером распева, а следовательно, с интонационными особенностями мелодики песен в разных областях. Отсюда напрашивается предположение о возможности
двух основных путей развития ладов. Один путь — наслоение трихордов, создающее развитую пентатоническую систему и уже через нее приводящее к диатонике. Другой путь — развитие диатоники через опевание опорных тонов трихорда соседними тонами.
Весьма характерны также некоторые особенности мелодики народных песен. Наиболее примитивные, малоразвитые мелодии свойственны в первую очередь календарно-обрядовым, бытовым обрядовым
и некоторым эпическим песням. Эта примитивность мелодии выражается, как в небольшом ее диапазоне и малой распевности, так и в однообразии интонационного строя песен, в однотипности входящих в их
состав попевок. В наиболее старинных песнях с малоразвитым ладом
мелодия обычно носит характер блуждания, раскачивания вокруг одной-двух ладовых опор со слабо выраженной главной опорой, без каких
бы то ни было откристаллизовавшихся попевок.
Среди таких примитивных типов песен намечаются два типа мелодий: один тип, преобладающий среди северных песен, отличается интонациями, близкими к интонациям причета. Наиболее характерными
Некоторые особенности русского народного многоголосия
181
иопевками в такой мелодии являются опевания опорных тонов звуками,
расположенными от него на расстоянии большой или малой секунды.
11апример, в свадебной песне «По мосту, мосточку» (пример 6) все развитие мелодии сосредоточено преимущественно насекундовом опевании
опорного тона соль.
П, 102
№ ^Qi'S
I
По
МО
- сту,
сточ - ку
МО
де - во
ле
Другой тип мелодии старинных песен характеризуется использованием одной-двух трихордовых попевок с различным порядком последовательности составляющих их звуков. Например, в воронежской
свадебной песне «Не трубушка трубит» (пример 7) мелодия представляет собой ряд сочлененных трихордовых попевок. Только в кадансе
появляется обычная кадансовая формула.
РНП, 5
не
тру
-
бут
-
ка
Длительные опевания для последнего типа мелодии мало характерны. Такая мелодия свойственна главным образом южным, а также
и среднерусским обрядовым песням.
В более сложных случаях мелодия развивается по интонационным циклам (по треминологии X. С. Кушнарева). Каждый из циклов
в полном виде включает в себя три момента:
1) подъем от тоники к побочной опоре, в большинстве случаев
скачком;
III. О фольклоре
182
2) опевание этой опоры, принимающее в разных песнях самые различные интонационные формы;
3) спуск от антитезы к тонике или плавным движением, или скачком.
Примером строения мелодии по интонационным циклам может
служить песня «Во слободке, во новой» (пример 8):
8
П,13
pJ,r
Bo ело - бол
-
ке,
PpiJJiJir
во
по - пой
ла жи
pi
-
вет
маль
-
опевание
г-
чик
ла,
Г rf Г г
ах,
р'"
мо - ло - дой
Две первые фазы интонационного цикла являются моментами наибольшего напряжения. Спуск от антитезы к тонике представляет собою,
наоборот, момент развязки, успокоения. В каждом цикле опевание побочной опоры является кульминацией, но мелодия в целом часто еще не
имеет ярко выраженной наивысшей точки.
Строение цикла в смысле соотношения фаз может быть различным. В одних преобладает одна фаза, в других — другая. Встречаются
также неполные циклы, начинающиеся прямо с опевания антитезы, или,
наоборот, исключающие момент опевания, а представляющие собою
лишь подъем к побочной опоре и спуск к тонике.
Строение мелодии по циклам создает противополагание антитезы
тонике и отсюда способствует закреплению функции тоники. В интонационном отношении цикловое строение мелодии способствует появлению и закреплению некоторых устоявшихся попевок-формул, например, типовых попевок, подъема к антитезе, спуска к тонике, кадансовых
формул и т. д. Это выкристаллизовывание определенных попевок-формул является чрезвычайно важным, так как оно свидетельствует о накоплении типового попевочного материала, своеобразного попевочного
фонда языка русской народной музыки.
В более примитивных песнях еще не наблюдается объединение
циклов вокруг общей кульминации. Более сложным является такое цикловое строений мелодий, в котором отдельные циклы находятся в со-
Некоторые особенности русского народного многоголосия
183
подчинении. В таких мелодиях каждый новый цикл является не просто
повторением, а развитием предыдущего. Это достигается либо путем
изменения диапазона в распеве нового цикла по сравнению с предыдущим, либо появлением в новом цикле новых ладовых опор, что создает
переменный лад. При таком строении в мелодии создается одна общая
кульминация, способствующая организации формы песни. Рассмотрим,
например, песню «Ах, не одна во поле дороженька» (пример 9). Первая
фраза строфы на слова «Ах, не одна» носит явно экспозиционный характер. Она произносится как бы на выдохе, мелодически представляя собой спад от верхней квинты до к тонике фа. Вторая фраза, приходящаяся на распев слов «ах, во поле доро...», в музыкальном отношении является
кульминационной. Распеваясь, она поднимается до верхнего фа. Следующая фраза «а во поле дорожень...» является уходом от кульминационной точки:
Мелодии такого типа в наибольшей степени свойственны лирическим песням более позднего происхождения. К широкораспевным
песням относятся также и многие былинные и исторические песни Дона,
своей распевностью приближающиеся к лирическим, хотя и использующие другой круг интонаций.
При всем различии интонационного строя песен различных жанров и разных областей, особенно важно отметить те общие интонационные черты, обороты, попевки, которые свойственны всей русской песне.
Этот дает возможность обнаружить, хотя бы в самых общих чертах, попевочный состав языка русской народной музыки в целом, наиболее
III. О фольклоре
184
общие ритмоинтонационные особенности русского народного мелоса.
К таким особенностям можно отнести следующие:
1) характерные трихордовые попевки, главным образом типа:
10
j
I j j |J i
Тоны этих попевок проявляются, либо непосредственно следуя друг
за другом в любом порядке (см. пример 3), либо выделяются как опорные в интонациях, основанных на более сложных ладовых структурах
(см. примеры 1,9);
2) опора на верхнеквартовый тон, прямые ходы с тоники на верхнеквартовый тон и обратно, придающие интонации плагальный характер (см. пример 3);
3) при опоре на верхнеквартовый тон, что характерно главным образом для лирических песен, типичная интонация, содержащая скачок
с тоники на верхнесекстовый тон с последующим возвращением через
верхнеквинтовый тон в тонику:
Эх,
что ж
ты,
Ма
ша
Ли-1,2
1 2
ДГГГП
Снсж - ки
бе
-
ли - с
пу
-
ши
-
сты
4) характерное короткое по времени восхождение вверх, чаще всего
широким интервалом, и длительно поступенное или другим путем распетое возвращение к нижележащему опорному тону В целом это создает
преобладание нисходящих форм движения над восходящими (см. примеры 1, 9, И , 12 и др.);
5) формирование характерных формул запевов и кадансов:
Некоторые особенности русского народного многоголосия
О
Каляпсы
185
За пены
т
В области ритма можно наметить три типа ритмических соотношений, характерных для мелодии русских народных песен:
1. Ритм речитативного характера, вытекающий непосредственно
из метрики словесного текста. Такой тип ритма наиболее характерен
для песен обрядовых, причетных, а также для некоторых, главным образом северных, былин (см. пример 4).
2. Апериодический ритм распева, основанный на переменном метре, — на метре с изменяющимся размером тактов и, следовательно, с появлением сильных долей через неодинаковые промежутки времени (см.
пример 27). Такой тип свойствен протяжным песням, главным образом
лирическим, а также рекрутским, некоторым свадебным и т. п. На Дону
такой ритм характерен и для былинно-исторических песен, которые там
широко распеваются.
3. Ритм периодизированный, характерный для песен, связанных
с периодически повторяющимся движением, главным образом — плясовых, частушечных, маршевых, солдатских и т. д. (см. пример 52).
Протяжные песни распевного характера, имеющие в своей основе
равномерно пульсирующий метр, в русской народной музыке более редки.
Для формообразования русской народной песни характерна в первую очередь его связь со словесным текстом. Например, кадансы в мелодии песни обычно совпадают с окончаниями того или иного раздела
словесного текста.
В песнях менее распевных фраза текста весьма часто полностью
совпадает с музыкальной. В таких песнях наиболее наглядно обнаруживается зависимость музыкальной формы от словесного текста. Акценты
и моменты наиболее интенсивного распева в музыке таких песен, как
правило, совпадают с ударным слогом наиболее акцентируемого слова.
Кадансы совпадают с конечным слогом последнего слова фразы, иногда
и неударным. Например, в песне «Горы» (пример 14) трем фразам словесного текста соответствуют три фразы мелодии. Распев приходится
на ударный слог («Горы вы Валдайские»). Каданс совпадает с конечным
слогом последнего слова фразы.
В более распевных песнях нередко на одно слово текста приходится
целая фраза мелодии. Например, в песне «Не одна во поле дороженька»
186
III. О фольклоре
распевается слово «ах» (см. пример 9). В этом случае музыкальное начало в формообразовании выступает на первый план.
Ли-11,1
Интересно отметить, что в большинстве развитых песен даже среди многих протяжных наблюдается стремление к возможно более четкому донесению текста. Это выражается в том, что распев производится
на последнем, либо на ударном слоге акцентируемого по смыслу слова,
либо на вставном слоге; остальные же слова текста произносятся четко
и почти без распева (см. примеры 1,27,30). Такое стремление к доходчивости слова говорит о тесной связи музыкальной и словесной стороны народной песни. Эта особенность отразится и на закономерностях
многоголосия.
Одной из существенных черт народных песен является вариантность их исполнения. На особенностях и закономерностях образования
вариантов необходимо остановиться, имея в виду, что с методом образования вариантов тесно связано формирование того или иного склада
многоголосия.
В русских народных песнях наблюдаются два типа образования
варианта, соответствующие двум типам интонаций.
Первый тип варианта наблюдается в мелодиях, для которых характерны опевания опорных тонов. В данном случае варианты различаются формами опевания этих тонов.
В этом отношении наиболее показательно сравнение вариантов
мелодии, образующихся в разных строфах одной и той же песни. Из
сравнения разных строф одной песни (в одноголосном исполнении)
можно вывести заключение, что наиболее поддающейся варьированию
фазой интонационного цикла является опевание побочного опорного
тона. Выше указывалось, что опевание побочной опоры является мо-
Некоторые особенности русского народного многоголосия
187
ментом наибольшего напряжения в напеве, его кульминацией. Исполнители, стремясь усилить это напряжение и продлить кульминацию,
часто применяют множество самых разнообразных попевок вокруг опорного тона. Примером может служить песня «Нам не для чего в чужи
люди торопиться» (пример 15):
15
1*
и,8
J
JH
пить
Я
1 1
-
J
п
бу
-
-
(Я,
жить
1
-
-
дят,
на
J.
К to
г
j
•
ба
-
тюш
-
|j
j
J
^ J
•
ра - б о
-
туш
-
го - пят
у
toi
ку
J.J
в д о - ме
J.
x o - p o nj IUO,
J• MЦШдо
in
Л
за -
ри
Запевы и кадансы первых двух строф здесь почти полностью совпадают. Моменты же опевания побочной опоры сильно различаются.
Опевание побочной опоры в обеих строфах служит кульминацией. Во
второй строфе текст, совпадающий с опеванием антитезы, выражает, по
существу, основную мысль песни, и в музыкальном отношении именно
этот момент наиболее сильно варьируется во второй строфе.
Все это показывает, насколько в формировании напева и его вариантов велика организующая роль словесного текста.
Зависимость образования варианта мелодии от словесного текста
сказывается, в частности, в том, что тоны мелодии, совпадающие с произнесением слога, оказываются наиболее стойкими, меньше всего подвергаются варьированию при исполнении. Например, в песне «Против
нашего да высокого, нового двора» (пример 16) небольшие вариантные
изменения, которым подвергается напев от строфы к строфе, приходятся главным образом на распевы между слогами, моменты же произнесения слога интонационно совпадают:
III. О фольклоре
188
16
ит
[1,65
(то
-
ит
ла
та...
Таким образом, можно констатировать, что наибольшая вариантность приходится на междуслоговые части напева. Отсюда следует, что,
чем меньше распета песня, чем чаще слоги сменяют друг друга, тем короче опевающие попевки и тем меньше возможностей для варьирования.
Рассмотренный тип варианта не вносит существенных изменений
в мелодию в том смысле, что основные контуры ее и порядок последования в интонировании опорных тонов сохраняются.
Второй тип варианта характеризуется тем, что варьированию подвергаются порядок последования и ритмическое соотношение тонов по
сравнению с первоначальной попевкой. Если опевания здесь и появляются, то они отнюдь не являются типичными. Такой метод варьирования свойствен главным образом песням, интонация которых развертывается преимущественно на основе ладов ангемитонного типа и для
которой длительное опевание тонов не характерно. Основной контур
мелодии в таком случае изменяется значительно сильнее, чем при варьировании первого типа. Например, в песне «Ох, не белы снежки забелелись» (пример 17) кадансовые попевки первой и второй строф представляют собой вариант одной и той же попевки, взятой в разной
последовательности составляющих ее звуков. То же самое можно сказать в отношении каданса третьей и четвертой строф. Обе же пары попевок различаются тем, что в двух последних строфах попевка сокращена:
она составляется уже не четырьмя, а лишь тремя тонами.
Некоторые особенности русского народного многоголосия
17
189
А н а л о г и ч н ы е такты р а з л и ч н ы х п р о ф
1^1 III, 1
(тт. 7 - 8 )
В песне «Ох, не за речкою» (пример 18) вариант образуется путем
ритмического изменения мелодии от строфы к строфе. Слоги, соответствующие им тоны, бывшие в одной строфе ударными, в другой становятся неударными, и наоборот. Растягиваемый в одной строфе тон в другой
либо укорачивается, либо равномерно повторяется, а иногда и синкопируется и т. д.:
Р11Г1, 2
1Я
т
Выл
f
J
*
я
ни за
" j j j
гт
бы...
W
ftf
т
ШШ 0
т п т
бы.... я
низа..
шзт
"ГТ
В по-ле за-ша
В песнях более поздних жанров принципы образования вариантов
становятся еще более разнообразными. На построение вариантов начинает влиять исторически влияющее многоголосие. В варианте начинает
применяться принцип замены отдельных тонов основной мелодии консонирующими с ними звуками, находящимися чаще всего в соотношении терции. Например, в песне «Заболит головушка» (примерД9) вариант запева представляет собой видоизмененную терцовую втору по
отношению к запеву первой строфы.
В более сложных песнях часто встречается сосуществование различных принципов построения варианта.
III. О фольклоре
190
Принципы образования вариантов во многом определяют закономерности построения многоголосия.
19
Bp
строфа 1
За
но
-
бо - лит
с у - ла
го
-
вуш
ло
РУШ - КС
VI
и - лои
-
ка
сво - си
* * *
Общие закономерности многоголосия определяются основным
принципом его образования, характеризующим любой из складов русского народного многоголосного пения. В одних случаях этот принцип
является ведущим и определяющим, в других проявляется как одна из
специфических черт. Заключается он в объединении коллективного
и индивидуального начала, о чем не раз упоминается в исследованиях,
посвященных многоголосию русской народной песни. Вследствие этого,
каждый голос сохраняет в известной мере свою самостоятельность. В то
же время, при всей своей индивидуализированное™, мелодии отдельных голосов являются выразителями общего замысла, всегда находятся
в соподчинении и во взаимосвязи. Поэтому голоса всегда интонационно родственны друг другу и в большинстве случаев представляют собой
варианты одной мелодии. В тех случаях, когда подголоски выходят за
рамки простого варианта основной мелодии, генетически их образование тесно связано с постепенно усложняющимся принципом вариантности, что опять-таки обеспечивает их интонационную родственность.
Различают также многоголосные склады степенью индивидулизации голосов и большим или меньшим значением вертикальных соотношений. Естественно, что сам характер и принцип образования вариантов в свою очередь также влияет на характер образующегося при
сочетании данных вариантов склада многоголосия:
1. Голоса объединяются без подразделения на ведущий и подчиненный. Мелодии их соотносятся как очень близкие варианты. Этот
простейший склад называется гетерофонным.
Некоторые особенности русского народного многоголосия
191
2. В сочетании голосов образуется подразделение функций: один
из них выполняет роль ведущего, другие образуются в качестве подголосков. Подголоски могут быть верхними, нижними, поддерживающими, колорирующими или орнаментирующими, а иногда и противополагаемыми основному голосу. Они представляют собой более или менее
индивидуализированные варианты основной мелодии. В отдельных случаях, особенно при противополагании, подголосок может выходить за
рамки варианта основной мелодии. Склад такого рода называется подголосочно-полифоническим.
3. В сочетании голосов намечается тенденция к поддержке основной мелодии параллельным движением в консонирующих интервалах.
Мелодии отдельных голосов соотносятся как варианты одной мелодии.
Такой тип сочетания голосов характеризует склад со второй.
4. При подчинении главному голосу происходит образование определенных созвучий и намечаются определенные закономерности в их
последовании. Такой тип сочетания голосов характеризует аккордовый
склад.
Отдельным историческим слоям, отдельным жанрам, а также и различным по своей территориальной распространенности песням свойственны и различные типы многоголосия, различные его склады, наиболее характерные для песен именно данной категории. Если же в одной
песне используются одновременно разные принципы сочетания голосов
(что особенно часто встречается при общем количестве голосов песни,
превышающем два), то, следовательно, в данной песне налицо признаки
нескольких складов многоголосия.
Склад песни в основном определяется соотношением реальных
голосов. Остальные голоса соотносятся с реальными по принципу гетерофонного многоголосия, в результате чего эпизодически число реальных голосов песни увеличивается до трех, четырех, а иногда и более.
Количество голосов в любом из многоголосных складов произвольно и может меняться в процессе исполнения. Реальных, то есть различающихся по своей роли в многоголосии голосов обычно бывает два, реже
три, последнее в аккордовом или подголосочно-полифоническом складах. Четрех-, пяти- и шестиголосие встречается лишь эпизодически.
Особо отмечаем тип четырехголосия, наиболее распространенный
в донских песнях. Данный тип многоголосия можно назвать двухъярусным. Речь идет о сочетании двух аналогичных двухголосных групп: АВ/
AjB lt как, например, в песне «Шел милый со гуляньица» (пример 20).
В данном случае при постоянно полностью различающихся двух
голосах, эпизодически возникает четырехголосие — результат гетерофон-
III. О фольклоре
192
ных расхождений сходных голосов. По всем данным подобный тип многоголосия исторически положил начало реальному четырехголосию.
20
Л-IV, 20
li 1 1 1
И
тел
f
r
-
и со
гу
г
Ii! t t t f f
ля
ньи - на с о
ве
rbtrt
J J J pJ J j j J J j
Г г Г Г Г f г г f f г
*=J=
i
(Р1.'
ми-лень-ки
F
f
J j j Ij J j J j Ji
г г г p r f г f f f f f
В любом многоголосном складе запев обычно бывает одноголосным; чаще всего запевает главный, основной голос. Этот основной голос
может быть и верхним, и нижним, и средним голосом хора. В южной
песне наиболее типично положение главного голоса внизу. В северной
же песне положение главного голоса бывает различным. Изредка роль
главного голоса после запева может переходить к другому исполнителю.
В двухъярусном многоголосии после одноголосного запева главную мелодию ведут два голоса, соответственно расположенные в разных ярусах.
Для всех складов, хотя и в разной степени, характерны мелодическая осмысленность, самостоятельность и завершенность каждого из голосов.
В характере вертикали, при различном ее удельном весе в различных многоголосных складах, можно наметить следующие общие тенденции, наблюдаемые в песнях любого склада. Это, прежде всего, тенденция
к осознанию качества образующихся по вертикали созвучий, их выразительных особенностей, их ладовых функций. Эта черта, пусть в зачаточном
виде, присутствует даже в ранних формах многоголосия. В гетерофон-
Некоторые особенности русского народного многоголосия
193
ном складе это выражается в стремлении к достижению консонантного
звучания, особенно на акцентируемых моментах. В складах более развитых это приводит к отбору определенных созвучий и к установлению
их типичных последований. В складах с преобладанием полифонического начала этот отбор обнаруживается в созвучиях, имеющих опорное
значение. В складах с преобладанием гармонического начала отбору созвучий сопутствует закрепление за ними определенных ладовых функций и установление закономерности их последования. В обоих случаях
основные из упомянутых созвучий первоначально располагаются на
тонах трихорда, один из которых является тоникой.
К числу наиболее характерных особенностей любого склада многоголосия русской песни относятся унисонные созвучия или, как предлагает их называть Л. Кулаковский, унисонные «узлы», образующие в результате приведения всех звучащих голосов к одному тону. Такие унисонные
«узлы» в развитом многоголосии встречаются в опорных моментах песни. Опорными моментами являются, во-первых, все окончания строф
и фраз песни. Эти окончания остаются унисонными даже в наиболее
развитых складах многоголосия. Они являются типичными и обязательными для многоголосия русской песни. Но унисоны встречаются и не
только в моменты окончания, то есть каданса. Они встречаются и в тех
местах песни, которые исполнители почему-то считают необходимым
подчеркнуть, выделить. Это бывает обычно на ударных слогах или в моменты произнесения акцентируемого по смыслу слова. В этом отношении применение унисона определенно связано с текстом песни. Унисоны
последней категории, то есть не являющиеся окончательными, однако,
не обязательны и в отдельном случае могут быть заменены консонирующими созвучиями. Типичность унисонных окончаний для русской народной песни была прекрасно уловлена русскими композиторами и претворена ими в творчестве.
Для русской народной песни самых различных складов является
характерным стремление к четкому донесению до слушателя слов текста. Об этом свидетельствует согласность звучания в момент их произнесения. Например, в первоначальных гетерофонных формах многоголосия произнесение слога совпадает с унисоном. В более поздних складах,
где отдельные слоги выделяются не только посредством применения
унисона во время произнесения, но и путем применения консонирующих сочетаний, «согласие» подчеркивается тем, что все голоса произносят слоги одновременно.
13
Зак. 597
III. О фольклоре
194
Гетерофония
Гетерофонное пение — простейшая и древнейшая форма многоголосия.
В гетерофонном складе формы подчинения, разграничение более
или менее самостоятельных голосов еще не выработались. Все голоса, по
существу, исполняют одну и ту же мелодию с небольшими изменениями. Отсюда — преобладание унисонов. При этом наблюдаются две основные закономерности. Во-первых, моменты расхождения голосов чаще
всего приходятся на межслоговой распев, начальные же моменты слогов
обычно произносятся голосами в унисон. Например, в песнях «Как по
первому по Невскому проспекту» (пример 21) или «Ой, да чуяло мое
сердечушко» (пример 22). Незначительные расхождения (они взяты
в скобки) приходятся на межслоговые распевы, моменты же произнесения слога, за одним-двумя исключениями, совпадают в унисон:
21
,
,
п, 90
J J 1 л 17Ъ\ J J J J5^
[
ч
fi
fffl
1
И
¥4
по
Пси - ско - му
)
ла про - спек
i
-
ту
по
вто-ро-му
Эта особенность гетерофонии вытекает из особенностей образования варианта одноголосной мелодии. Как говорилось выше, моменты
наибольшей вариантности мелодии приходятся именно на межслоговые распевы.
Во-вторых, в соотношении голосов по вертикали в моменты их
расхождения наблюдается стремление к образованию главным образом
консонирующих созвучий. Показательно в этом отношении то, что рез-
i
J
Некоторые особенности русского народного многоголосия
195
кие диссонансы, образующиеся в результате опевания побочных тонов
в первой строфе песни, в последующих имеют тенденцию исчезать2. Очевидно, певцы уже в процессе исполнения вносят соответствующие коррективы, заменяя при повторении строф одни попевки другими с целью
устранения диссонирующих сочетаний. Впрочем, это обстоятельство не
препятствует возникновению в новых вариантах новых диссонансов, но
уже иначе образованных. В большинстве же случаев исполнители в конечном итоге находят соотношения попевок. Дающие более мягкие звучания, которых они и придерживаются в последующих строфах. Ниже
приводится песня «Зимушка-зима» (пример 23), в которой наглядно
виден процесс постепенного исчезновения диссонансов на сильной и относительно сильной части. Появившаяся в первом такте второй строфы
секунда до-ре в следующей строфе дает также секунду, но иначе образованную — ре-ми. В четвертой строфе опять образуется секунда, но
уже в косвенном движении, в последующих же строфах секунда избегается совсем:
11,66
23
Секунда п прямом движении
$
Сгрофа D
Секунды о прямоvi д в и ж е н и и нет
С е к у н д а образована иначе
f
Строфа Е
f
С е к у н д ы в прямом д в и ж е н и и нет
Такая замена в процессе исполнения одних созвучий другими говорит об осознанном отношении к качеству звучания отдельных интервалов.
Это обстоятельство отмечает и Л. Кулаковский (см. 31).
196
III. О фольклоре
Следует заметить, что песни гетерофонного склада отнюдь не стандартны и не однотипны. Тот или иной характер распева, тот или иной
принцип образования варианта соответственным образом приводит
к возникновению разновидностей гетерофонного многоголосия.
Выше указывалось, что русской народной песне свойственны два
основных типа ладоинтонаций — гемитонные с обилием полутоновых
опеваний опорных тонов и ангемитонные с преобладанием трихордовоквартовых попевок (см. стр. 177, 181). Соответственно, наблюдалось
и два основных принципа образования варианта одноголосной мелодии
(см. стр. 186). Отсюда, естественно, вытекают и два типа гетерофонного
многоголосия.
Гетерофония в гемитонных песнях, с опеванием опорных тонов при
участии малых секунд, образуется при сочетании вариантов, возникающих в результате применения различных способов опевания одного
и того же опорного тона. В ангемитонно-трихордовых песнях гетерофония образуется путем вариантной замены какого-либо тона первоначального мелодического ядра другим.
В первом случае внимание привлекается к опеваемому тону. Так
как этот тон для всех голосов общий, то в многоголосии преобладает
звучание унисонов. Звучание же промежуточных, иногда диссонирующих сочетаний голосов, имеет лишь второстепенное значение. Все
внимание сосредоточивается на соотношении мелодических оборотов,
образующихся при опевании опорного тона. В целом, в соответствии
с характером мелодии, интервальное сочетание голосов ограничивается главным образом секундой и терцией, реже встречается кварта, еще
реже — более широкие интервалы.
При другом типе гетерофонии, напротив, внимание сосредоточивается на интервальном согласовании возникающих вариантов. Это находится в соответствии с особенностями лада и характером распева подобных песен. Лад таких песен обычно не имеет антитезы, вследствие
чего обязательность одновременного прихода всех голосов к одному и тому же побочному опорному тону отсутствует. Добавим, что в таком типе
гетерофонного многоголосия уже на ранних ступенях развития возникает более дифференцированная слуховая оценка звучания вертикали.
Общий состав вертикали, благодаря опоре интонации на трихордовоквартовые попевки, отличается от состава первого типа гетерофонии. Во
втором типе преобладающее значение получают терцово-квартово-квинтовые сочетания. Первый тип гетерофонии наиболее характерен для северной, второй — для южной и среднерусской песни. Сравним две гетерофонные песни: пинежскую (пример 21) и донскую (пример 22).
Некоторые особенности русского народного многоголосия
197
В первой из них, при тонике ре, в мелодии явно акцентируется тон
ля как антитеза. Незначительные расхождения образуются преимущественно в результате применения разными голосами различных форм
секундовых опеваний этого тона. В вертикали преобладают унисон и изредка терция.
Во второй песне побочная опора перемещается с тона ре на тон до
и подчеркивается в мелодии значительно менее активно. Унисон для
нее уже необязателен, а в соотношении голосов по вертикали встречаются и кварты и квинты, что для северной гетерофонии мало характерно.
Два различных типа гетерофонии определили и две линии развития более сложных форм многоголосия. Первый тип гетерофонии в своем дальнейшем развитии приводит ко все усиливающейся индивидуализации голосов и к образованию более самостоятельных мелодий
каждого голоса, то есть к развитию подлинного полифонического фактора в народном песнетворчестве. Наибольшее распространение такого рода
многоголосие получает в северных песнях.
Второй тип гетерофонии, в котором особое значение приобретает
согласование попевок и тонов по вертикали, наряду с развитием интонационной самостоятельности голосов, приводит к раннему осознанию
значимости вертикалей, а отсюда и к отбору и закреплению некоторых
из них. На ранних ступенях развития такого многоголосия отбор происходит только путем вычленения определенных созвучий, на более поздних закрепляются и определенные формы последования этих созвучий.
Иными словами, данный тип гетерофонии в конечном итоге приводит
к формированию такого многоголосного склада, в котором, при мелодической самостоятельности голосов, опора на определенные консонирующие созвучия является в большой мере определяющей. В таком складе
ясно выделяется аккордовое начало. Сюда же можно отнести и некоторые типы подголосочно-полифонического склада, в которых момент
опоры на определенные созвучия в композиционном отношении является одним из основных.
Обе эти разновидности склада, в которых гармоническое начало
имеет определенное значение, в наибольшей степени распространены на
юге и, отчасти, в средней России.
Таковы основные виды и закономерности гетерофонного многоголосия, наблюдаемые в русской народной песне. Следует отметить, что
приемы гетерофонного пения не исчезают и в более поздних по своему
происхождению песнях. Они встречаются в большинстве песен и с более сложным многоголосным складом. Здесь элементы гетерофонии эпи-
III. О фольклоре
198
зодически возникают либо при варьировании главной мелодии песни,
либо в подголосках. Например, в большом хоре при сочетании двух мелодически-самостоятельных голосов каждый из них иногда исполняется гетерофонно, и, таким образом, реальное двухголосие эпизодически
превращается в трех- или четырехголосие. В двухрегистровых песнях
гетерофония образуется в сочетании соответственных голосов различных регистров — первый — третий, второй — четвертый (см. пример 20).
Таким образом, в гетерофонии, как в первоначальной ступени развития, имеются зачатки всех форм развитого многоголосия.
Подголосочно-полифонический склад
Подголосочно-полифонический склад — один из наиболее распространенных складов народной песни. Можно утверждать, что принцип
подголосочной полифонии в том или ином виде присутствует в любом
из многоголосных складов. Наибольшего развития и многообразия подголосочный склад достигает в лирической, особенно новгородской и вологодской песне, отчасти также и в среднерусской. Основной принцип
подголосочно-полифонического склада, уже сформулированный выше,
заключается в том, что при такого рода многоголосии имеется главный
голос и подголоски, из которых каждый выполняет определенную роль
по отношению к главному голосу, иными словами — определенную функцию в общем многоголосном складе.
В подголосочно-полифоническом складе индивидуализация, мелодическая самостоятельность голосов проявляется в наибольшей степени.
Подголосочно-полифонический склад имеет ряд разновидностей.
Наиболее примитивные формы подголосочной полифонии наблюдаются
в старинных лирических, бытовых, в некоторых свадебных или эпических песнях. Они являются часто как бы переходными от гетерофонии
к развитому подголосочному складу. В этих ранних формах границы интонационных циклов подголоска и основного голоса не совпадают, в результате чего опора на унисон заменяется в середине песни опорой на
какое-либо консонирующее созвучие, чаще всего на квинту или терцию, а в трехголосной песне — и на трезвучие. В этом уже проявляется
индивидуализация подголоска. Например, в песне «Нам не для чего в чужи люди торопиться» (пример 24) основную мелодию ведет один нижний голос, что делается ясным при сравнении с той же песней, исполняемой одноголосно в той же деревне (см. пример 15). Верхний же голос
Некоторые особенности русского народного многоголосия
199
опевает лишь верхнюю побочную опору, создавая движущийся органный пункт. Интонационные циклы верхнего и нижнего голосов этой песни не совпадают: в то время как в нижнем голосе на протяжении одной
строфы имеется три возвращения к тонике и, следовательно, три цикла,
а в верхнем вся строфа представляет собою один большой и распевный
цикл. В песне присутствует и третий (средний) голос; он не вносит новых интервалов по вертикали, образует отдельную мелодию:
25
Вл
В более развитых песнях подголосочно-полифонического склада
отношения подголоска к основному голосу можно свести к трем типам:
1) орнаментальный подголосок; 2) подголосок, вносящий элемент противопоставления; 3) поддерживающий подголосок. Все эти виды подголосков особенно характерны для лирических песен более позднего
происхождения. Орнаментальным мы называем такой подголосок, который образуется путем опевания тонов основной мелодии, задевая
другие тоны лада, украшая ее, создавая прихотливые мелодические узоры. Он не образует ни противопоставлений, ни поддержки, а лишь как
бы расцвечивает ее. При всей примитивности такого подголосочного
склада он отличается от гетерофонного отчлененностью орнаментирующего голоса от орнаментируемого, то есть разделением функций голосов. Очень часто он встречается одновременно с другими типами под-
III. О фольклоре
200
голоска. Таков, например, подголосок в песне «Комарочки, комары»
(пример 25). Здесь мелодия после запева образует орнаментированный
подголосок, в то время как второй (вступивший) голос поет основной
напев без орнаментации.
Другой формой соотношения голосов является такая, при которой подголосок вносит элементы противопоставления основной мелодии. Это особенно свойственно песням, содержание которых отличается большой грустью, печалью, наполнено жалобой.
В простейших случаях противопоставление осуществляется путем введения основной мелодии и подголоска в разных сферах (регистрах) лада. Примером такого многоголосия может служить песня «Не
меняйте-тко, девки, волю на неволю» (пример 26):
Вл
26
$
1'
Ф
$
>
J
вы
ЩП
Bo
де - пуш - ках
р
р
J
-
J
сплю - ся
р
жи-ти
-
J * ,J
p L_J\P
аи
P
' L f J
P Г'
J> iL
ла
ля - гу.
р Р РР
LI
'
ои,
я,
P
J
0 Р
U
b ь П
p
^
ла
во
J
-h b
P
" ~ T J
y c j
p If
Некоторые особенности русского народного многоголосия
utZft
Ф
i"--
L-f
га,
N
на - гу
ля
J
г
m
1
би
л р у ж - кам
J
Г Г Т
юл»
Г
О ,
-
U T
-
И Р Г
I
Л Г] J
201
J
г
£
п^р р
В этой четырехголосной песне проводятся различные противопоставления. Лад ее переменный (до минор и си-бемоль мажор), и две ладовые опоры все время противопоставляются друг другу. Характерно,
что песня эта, исполняемая одними женскими голосами, протекает
в двух регистрах. Такая двухрегистровость при однотембровых голосах
довольно редко встречается в северных песнях и подчеркивает противопоставление в соотношении голосов. Кроме того, мелодия нижнего в основном ориентируется на тонику до, лишь изредка поднимаясь до квинты
соль; мелодия верхнего подголоска, наоборот, сосредоточена главным
образом вокруг тона соль, лишь в моменты кадансирования спускаясь
к тонике. Средние голоса, идущие в той же октаве, что и верхний подголосок, интонационно почти все время самостоятельны и лишь изредка
примыкают то к нижнему, то к верхнему голосу. Роль средних голосов
интересна и в другом отношении: они часто являются гармоническим
заполнением квинт, образующихся между крайними голосами. В этой
песне явно ощущается опора на трезвучия: до-ми-бемоль-соль и си-бемоль-ре-фа. Это свидетельствует об осознании трезвучия как консонирующего опорного созвучия.
Можно предположить, что наличие противопоставлений некоторым образом связано с содержанием словесного текста, полного сравнений и противопоставлений: тяжелая женская доля в нем сравнивается
III. О фольклоре
202
с привольным девичьим житьем. Подголосок аналогичного типа наблюдается и в песне «Тошно, грустно мне, молодчику» (пример 27). Верхний
голос здесь проводится в сфере верхнеквинтового тона (соль), а нижний — в сфере тоники лада (до). Полифоничность этой песни усугубляется еще тем, что, помимо движения в разных сферах, голоса сильно
индивидуализированы как в высотно-интонационном, так и в ритмическом отношении:
И 111,28
27
о,
ла
ку - ла
тот
О Г г г Г и г
-
мне да ж и т ь и на
ио, о,
с ве
грусг - но
тшт
-
те
Отчленение такого рода подголоска от основного голоса выступает
вполне определенно. Здесь уже наблюдается преодоление принципа варьирования подголоском основного голоса. Благодаря этому, подчеркивается полифоничность в соотношении голосов. Противоположение
особенно свойственно верхнему подголоску.
Наконец, одной из наиболее распространенных форм соотношения голосов является такая, при которой подголосок как бы поддерживает мелодию основного голоса. Эта поддержка производится или параллельным движением, чередующимся с унисонами, или другим типом
варианта основного голоса, создавая «согласное» многоголосное пение.
«Поддерживающий подголосок» (по терминологии Л. Кулаковского) по своей структуре более сложен, чем другие.
Он также, в большинстве случаев, представляет собою вариант
основной мелодии песни. Однако, в отличие от орнаментального, поддерживающий подголосок является значительно более самостоятельным. Композиционно это сказывается в том, что он может во многих,
Некоторые особенности русского народного многоголосия
203
даже опорных моментах не совпадать с основной мелодиен, то есть отличаться от нее ритмически, избирать другое направление движения,
заменять один опорный тон другим, с ним консонирующим, и т. д.
Степень самостоятельности подголоска может быть различна. Иногда
он мало отличается от основной мелодии, иногда же образуется как напев, хотя и совпадающий в основных точках в основном направлении
движения с основной мелодией, но звучащей как более развитой, либо
как более сдержанный, сжатый вариант основной мелодии (см.31, с. 5 2 53). Такое строение подголосков говорит о том, что они имеют не просто
вспомогательное, сопровождающее значение, но развивают и дополняют высказывание основного голоса или, наоборот, дают более сжатую
формулировку основной мысли, заложенной в мелодии, которая в основном голосе более распета.
Иногда при такой форме многоголосия трудно определить, который из голосов является основным, который подчиненным — каждый
из них в таких случаях обычно бывает настолько мелодичным, что формы соподчинения остаются неуловимыми. В то же время от гетерофонии такой тип многоголосия отличается значительно возросшей индивидуализированностью голосов. Например, в песне «Ничто в полюшке
у нас...» (пример 28) из трех ясно выделяются два голоса (нижний и верхний), мелодии которых соотносятся как два по существу равноправных
варианта. Третий же голос присоединяется то к верхнему, то к нижнему
по законам гетерофонии.
^
й
Р cJdpN
груст-пыи
мои
на
пев
ЬI И
в по
-
ле
слы
-
ш
шит
III. О фольклоре
204
В песнях, где основным является верхний голос, нижний подголосок обычно более сжат по диапазону и в интонационном отношении как
бы более сдержан. Совпадая с основным голосом почти во всех нижних
опорных точках, до верхних кульминационных точек он не доходит, лишь
поддерживая их, чаще всего на терцию ниже основного голоса. Например, в песне «Лучинушка» (пример 29) в моменты многоголосного пения наивысшей точкой верхнего голоса является тон ля. Нижний же
голос в это время доходит лишь до тона фа-диез, образуя терцию с основным голосом. Крайний нижний звук до-диез чаще всего берется обоими голосами в унисон:
29
Лп-П, А
•'/
Вче - раш
-
-
вуш
б
ней
/
кро
жТ"' -
II1
I1
чи,
ох,
i'
-
ка
||'
лю
-
ку
-
та - я
сие
|
-
Sm^
'
в печ
/I'I1
ла
-
зи
-
ла
Для нижнего голоса характерен также прием упрощения мелодического движения. При таком упрощении голос теряет в своей распевности, но вместе с тем его значение как опоры, поддержки чрезвычайно
усиливается. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в случаях
упрощения голос этот движется по опорным тонам лада.
Что же представляют собой эти опорные точки мелодии, и какие
интонации при этом образуются? На анализе ряда песен можно убедиться, что опорной интонацией в большинстве случаев является попевка. Образованная тонами трихорда — типичнейшей для русской народной песни интонации. Примером этого служит песня «Лучинушка»
(пример 30). Здесь в нижнем подголоске движение по тонам трихорда
проявляется многократно. В четвертом такте каждой строфы, при узорчатой распевной мелодии основного голоса, мелодия подголоска представляет собою трихордовую попевку:
Подобное же явление наблюдается и в других песнях, например,
«Калинушка с малинушкой» (пример 31), «Стояла березонька» (пример 32), «Горы» (пример 33).
,' 1П!
Некоторые особенности русского народного многоголосия 206
30
I
о не
$
чи
Г
бы
не
Лн-И.2
-
J' ГЛн-Н, 9
31
Г-R-N
^J
j
пта
J
I
-
J
шеч-кои
..
за
П ?
ле
i
-
**
J
Л9- J
Jlf
с но
лом
*-
им
32
Л н - П , 22
Г uWWW
Ф
про-.ie
чу.
ся-лу
я
во
п
ба
-
тюш - кин
во
з е - л е - п ы и во са
т
Лн-П, 1
33
Г
реч
i i — Г
Р
-
ка
CJ/ff
быст
-
ра - я.
И
Ах,
рМ
да как па
IfP р Г
у - той
на
ре - ке
J I M
п
и
вы - рое куст
Г - J i f
ра -
ки...
P H P
Ой, да куст ра - кп
р
-
г
то-вый.
В песне «Горы» интересно проследить, как изменяется мелодия
нижнего голоса от строфы к строфе, из распевной широкой постепенно
III. О фольклоре
206
переходя в типичный трихордовый поддерживающий подголосок. Первые две строфы запевает нижний голос. Эти строфы идут в унисон.
Однако уже со второй строфы нижний голос начинает уступать инициативу верхнему. Запев становится двухголосным, верхний голос становится все более распевным, а мелодия нижнего, напротив, сокращается,
в кадансах переходя на трихордовые попевки. В примере 34, в котором
выписаны соответственные тексты строф нижнего голоса разбираемой
песни, можно видеть, как постепенно упрощается мелодия, в моменты
каданса приходя к трихорду:
34
Ли-II, 1
J j1
J
J
1
4
го - ры
ны.
Вал
-
ла...
го - ры,
не
спо
-
ро...
да
бел-
го
Те - чет
реч
^
w
ой,
Вы
-
рос куст
-
J j
-
ка
ра
-
рюч,
да вы, Вал - лай
ои, ла
j
не спо - ро
j
jgnj
jijji
ой,
бел- го - рюч
ка
бы...
ой.ла реч-ка
ки...
ой. ла куст ра -
быст
ки
-
-
ра
то
-
j
мепь
-
-
f
я.
вый
Прием упрощения мелодии в нижнем голосе часто приводит к образованию такого подголоска, который строится на самостоятельных
и вполне определяющихся интонациях — трихордовых попевках. Правда, такой тип подголоска, выходящий за рамки варианта основного голоса, — явление эпизодическое, встречающееся чаще в отдельных, обычно
кадансирующих тактах. Но он интересен как прием, вносящий новое
качество в полифонический склад народной песни и получивший широкое развитие в творчестве русских композиторов-классиков.
Некоторые особенности русского народного многоголосия
207
Движение по тонам трихорда и опора на трихордовую интонацию
являются типичными для русской народной песни всех областей.
Поддерживающий подголосок представляет большой интерес в том
отношении, что в нем возникают особые формы техМатического развития. На примере анализа такого подголоска можно проследить характерные приемы развития тематизма народной песни. Рассмотрим песню «Нельзя, невозможно мне без печали прожить» (пример 35). В ней
верхний подголосок, появляющийся во втором такте, совершенно определенно представляет собой вариант, интонационно развивающий попевку запева:
Такое соотношение голосов не является случайным. Об этом можно
судить, сравнивая первую строфу, как и в большинстве песен — укороченную, со второй строфой. В первом же такте запева второй строфы появляется попевка, очень близкая упомянутому подголоску (пример 36):
36
Вл
г
Т
*
J
j
без
не
I
-
fT
' L J
ча
-
-
-
лют
-
ки
мне
про - жить
Этот запев как бы сочетает в себе интонации запева первой строфы — характерный толчок от тоники вверх — и интонации верхнего
подголоска из второго такта первой строфы — скачок от тоники происходит уже не на верхнеквартовый, а на верхнесекстовый тон, как это
было в подголоске во втором такте, с последующим распетым спуском
к тонике. Напрашивается предположение, что в начале второй строфы
запевала для развития своей основной попевки использует попевку, уже
звучавшую в первой строфе в подголоске, либо певец, ведущий партию
I I I . О фольклоре
208
подголоска, использует интонации основного напева. И в том и в другом
случае родственность интонаций основного голоса и подголоска, и соотношение их как вариантов одной мелодии совершенно ясны. В предпоследнем такте первой строфы наблюдается сходное явление: здесь в среднем
голосе использованы ритмически измененные интонации запевающего
голоса из второго такта, в то время как основной голос лишь опевает тонику. Приводим всю первую строфу (пример 37):
37
Не - льзя,
Ф
f
не
-
$«
без..,
|
Й Р
р
мо-
воз-
т
iJ
Вл
то
мне
ш
т
i
ои,
без
пе
-
мне про
жить
Элементы тематического развития в подголоске и образование его
из интонаций основной мелодии можно проследить на многих песнях.
На основании всех этих наблюдений можно заключить, что соотношение основного голоса и подголоска как вариантов в развитой подголосочной полифонии бывает весьма разнообразным. Подголосок часто
возникает из интонаций, родственных основной мелодии, с использованием даже отдельных попевок основного голоса, но не в одновременном произнесении их с основным голосом, а на расстоянии, иногда даже
в новой фразе, в то время как основной голос поет уже новую мелодию.
Временное и структурное разделение исключает в таких случаях имитационность. Прием этот имеет чрезвычайно важное значение, создавая
единство основной мелодии и подголосков.
В соотношении основного голоса и подголосков по вертикали в подголосочно-полифоническом складе, как и в других складах, наблюдается стремление к благозвучию, к преобладанию консонирующих созву-
Некоторые особенности русского народного многоголосия
209
чий, особенно в опорных моментах, то есть на сильных долях, ударных
слогах или кадансовых окончаниях. Совершенные кадансы всегда приводят либо к унисонам, либо к октаве.
Особо необходимо подчеркнуть, что в подголосочно-полифоническом складе вырабатываются и закрепляются попевки, органично сочетающиеся по вертикали. Этот процесс тесно связан с выкристаллизовыванием типовых попевок и в одноголосной мелодии. Отсюда понятно, что
сочетание такого рода устоявшихся попевок в первую очередь свойственны кадансам и запевам. Так же как в одноголосной мелодии, здесь
создаются наиболее характерные формулы каданса, но уже двухголосные, в том числе и кадансовые формулы, образующиеся противоположным движением голосов (пример 38 а} б). Характерно также сочетание
типичной запевной формулы, представляющей собой скачок на сексту —
с тоники на верхнесекстовый тон — с попевкой нижнего голоса, движущейся с тоники на верхнеквартовый тон, после чего следует возвращение к тонике. Таким образом, возникает плагальный оборот, столь типичный для русской народной песни и, отсюда, для музыки русских
композиторов (пример 38 в).
38
>4 { Ч i
а)
б)
/
в)
г
I
" ^
'
П |
''
При всей мелодической самостоятельности голосов, при всем том,
что мелодии различных голосов часто проводятся в различном ритме,
произнесение текста во всех голосах в преобладающем большинстве случаев происходит одновременно. Это свидетельствует об организующей
роли словесного текста и о стремлении исполнителей к его доходчивости, на что мы указывали выше.
Итак, суммируем основные характерные черты подголосочной полифонии: 1) разделение функций голосов, наличие главного голоса и подголосков; 2) интонационная родственность подголосков и основной мелодии, построение их с учетом того, какую роль должен играть данный
подголосок в общей многоголосной ткани; 3) наличие в подголоскахвариантах развития интонаций основной мелодии песни; 4 ) возможность построения подголоска, выходящего за рамки варианта основной
мелодии, как следствие предельной индивидуализации голосов и раз14
Зак. 597
1
III. О фольклоре
210
вития полифонического начала; 5) наличие некоторых закрепленных,
удобно сочетаемых в многоголосии попевок; 6) дифференцированность
отношения к созвучиям, в частности — к консонантности и диссонантности сочетаний; 7) преобладание консонансов на сильных долях, в параллельном движении, в моменты опорного, акцентируемого характера;
применение диссонансов, главным образом на слабых долях, при помощи косвенного движения.
В заключение можно отметить: принцип мелодической осмысленности, самостоятельности каждого голоса, получивший столь широкое
распространение и явившийся определяющим в музыке подголосочного склада, обнаруживается в той или иной степени и в других складах
многоголосия русской народной песни.
Втора
Втора представляет собой подголосок, который наслаивается на
основную мелодию консонирующими созвучиями снизу или сверху.
Таким образом, основная мелодия излагается параллельными терциями,
реже другими созвучиями — квинтами, трезвучиями, эпизодически
и секстами. Втора не противополагается основной мелодии, что характерно для полифонии, но усиливает или окрашивает ее, создавая полную однородность движения. Вторящий подголосок применяется обычно там, где наличествует единодушие в трактовке того или иного образа.
Этот прием более позднего происхождения не случайно так широко распространяется и в старых революционных и современных массовых песнях, как чисто народных, так и сочиненных композиторами.
Для возможности применения вторы необходимо наличие ряда
условий. Втора требует мелодической линии — не может быть вторы
там, где мелодия еще не откристаллизовалась во всех своих деталях, где
интонации лишены четкости, определенности. Поэтому в песнях более
ранних жанров элементы вторы могут появляться лишь в кадансе, то
есть в тех разделах, где наиболее ясна направленность мелодического
движения, где все голоса устремляются к одному тону — тонике. Кроме
того, для последовательного сопровождения мелодии вторящим голосом необходима особая ладовая основа, не содержащая в себе пропуска
тонов, иначе говоря, необходимы полные диатонические лады.
Втора имеет сходство с поддерживающим подголоском в том отношении, что она усиливает основную мелодию. Однако она значительно
Некоторые особенности русского народного многоголосия
211
отличается от подголоска своей полной подчиненностью основной мелодии, отсутствием индивидуализации. Среди песен можно встретить
и такие, где параллельное движение голосов почти непрерывно, как например, в подмосковной песне «Что девица молодая» (пример 39):
Поспи подмосковные
Однако такая последовательно проводимая втора в русских народных песнях встречается нечасто. Втора преимущественно появляется совместно с другими приемами сочетания голосов. Например, в песне «Синий кувшин» (пример 40) параллельные терции в некоторых
местах перемежаются с другими интервалами:
40
РНГ1,64
В трехголосных песнях применение вторы более разнообразно.
Например, в песне «Ты, рябинушка» (пример 41) два голоса идут парал41
Г
Вл
"Г
Ли,
Pff
№
L j
Цф * г 1 1
V
вы
ког-ла
1
-
рос
к ч # 4
f
ой, да я
л a,
j—ih _r>
вес-
ной
Hitr
взо
• f H :
2гГ
шла
III. О фольклоре
212
лельными терциями, а третии, верхнии, ведет свою мелодию, попеременно совпадая то с одним, то с другим из голосов, идущих параллельно.
В песне «Как у наших у ворот» (пример 42) прием вторы сочетается с педалью в нижнем голосе:
42
W W РТР
п
ля,
i
J' J» 'j.
ох,
и
РНП, 40
ха -
fi J1 ' JJI'J
Нарушение терцового параллелизма вызвано стремлением к индивидуализации движения отдельных голосов и вносит в многоголосных склад элементы полифонии.
Аккордовый склад
Основной принцип аккордового склада заключается в следующем:
мелодии отдельных голосов строятся таким образом, чтобы сочетание
их друг с другом давало определенные созвучия по вертикали. Отличительной чертой аккордового многоголосия русской песни по сравнению
с подголосочно-полифоническим является преобладание синхронного
движения голосов, чем обусловлено восприятие многоголосной ткани
и как последования созвучий. Отсюда вытекает, что если при исследовании подголосочно-полифонического склада основное внимание надо
было обращать на мелодическое строение подголоска, то при исследовании аккордового склада необходимо остановиться также на выявлении
наиболее типичных из образующихся по вертикали созвучий, на закономерностях соотношения этих созвучий, на порядке их следования.
Многоголосие аккордового склада опирается в основном на консонирующие созвучия. Помимо унисона и октав здесь в первую очередь
характерны терции, квинты и трезвучия. Это можно проследить хотя
бы на примере таких песен, как «Вьется, вьется, стелется» (пример 43)
и «По полюшку по Куликовскому» (пример 44):
Некоторые особенности русского народного многоголосия
213
43
$
PI1II,40
1
Ш Ш Ш в М
Ш Т Г
Вьст-ся, вьст-ся, сте-лет-ся,
w—ё
вьет-ся, пьст-ся, сте-лет-ся.
но лу-гамтра-па шел-кова - я
Л Ш *
т*
ш
Р П
W
J
л-i, io
J J J^
id.M AU - тля Ж1 uui да млад ди -] брЫ
-
НЮШ * Ка. Да ГУЛЯЛ
it i i tt ffC (I
Из созвучий диссонирующего порядка чаще всего встречаются
септаккорды, главным образом малый минорный или малый мажорный.
Оба они применяются преимущественно в неполном виде. Изредка можно встретить также сочетание по вертикали двух кварт или двух квинт
(пример 45):
45
3
г г
Все эти созвучия встречаются на любых ступенях лада. Однако
в первую очередь они образуются на опорных ступенях — на основной
или побочной тониках, а также на побочных опорных тонах. Так как
побочные тоники, равно как и опорные тоны других функций, как уже
говорилось, располагаются чаще всего по тонам трихорда, то наиболее
закрепившиеся созвучия в каждом данном ладу располагаются на тонах
трихорда. Напомним, что такое расположение опорных созвучий в известных случаях имеет место и в подголосочно-полифоническом складе. Но если в подголосочно-полифоническом складе они появляются
только в узловых моментах песни, как замена унисонов (например, на
I I I . О фольклоре
214
завершающих кадансах), то в аккордовом складе они постоянно встречаются в процессе развертывания песни. Следуя друг за другом, они во
многом определяют интонации отдельных голосов. Выкристаллизовывание трезвучий на опорных ступенях лада легко можно проследить на
целом ряде песен. Рассмотрим, например, песню «Веселая беседушка»
(пример 46). В ней ясно ощущается опора на тоническое трезвучие или
на отдельные интервалы, входящие в состав этого трезвучия:
46
Bp
ла
ве - се
-
ла
-
я,
ой, да
бе
-
се
-
душ - ка
В песнях, имеющих переменный лад, с перемещением тоники образуется несколько опорных трезвучий, располагающихся соответственно расположению тоник. Например, в песне «Белый лебедь воду пил»
(пример 47) опоры перемещаются с трезвучия фа—ля-до на трезвучие
ре-фа-ля:
В более развитых песнях, помимо трезвучия на тонике лада, аналогичные созвучия выкристаллизовываются и на некоторых других ступенях, в первую очередь на верхнеквартовом тоне лада. Это характерно
и для мажорных и для минорных песен. Можно предположить, что образование трезвучия на верхнеквартовом тоне связано с характерным
мелодическим ходом на сексту, отмеченном выше (см. примеры 11,38).
Ход на сексту I—VI ступеней и опевание верхнеквинтового тона при помощи верхнеквартового и верхнесекстового тонов образуют основные
Некоторые особенности русского народного многоголосия
215
контуры трезвучия на верхнеквартовом тоне (прототип субдоминанты).
Переход же с этого созвучия в тонику создает плагальный оборот, столь
характерный для русской музыки. Например, в песне «Что ж ты, Маша,
приуныла» контуры плагальной последовательности ясно обрисовываются уже в одноголосном запеве, а в двухголосном припеве эта последовательность становится еще ощутимее (см. отчеркнутые такты в примере 48):
Bp
48
Р Г р +=4
Эх,
го
-
ло
If
-
сем
ICJ-
п
-
-
-
-
ку
1и
тво - го
п
не
. р
J
хать.
1
1
слы -
J
1
Преж - де
пе - ла
Ma - uia,
при - пе
-
ва - ла...
Для песен мажорного наклонения характерно вводное трезвучие,
образующееся на верхнесекундовом тоне лада. Для песен минорного
наклонения более характерно вводное трезвучие, образованное на нижнесекундовом тоне. Нетрудно заметить, что это одно и то же секундовое
соотношение, взятое в разном порядке.
Образование трезвучия на нижнесекундовом тоне мажорного лада
связано с опеванием тоники нижнесекундовым и верхнесекундовым
тонами. Трезвучие на верхнетерцовом тоне минора связано с образованием на этой ступени переменной тоники. И нижнесекундовое и верхнесекундовое созвучия имеют значение вводящих аккордов.
49
р ш
UD
Р И П , 32
Как указывалось выше, наиболее типично возникновение трезвучий на тонах трихорда. Например, в мажорной песне «Мала-то была»
III. О фольклоре
216
(пример 49) они образуются на тонике, верхнеквартовом и верхнесекундовом тоне.
В минорной песне «Мне не жаль того батьку» (пример 50) они
образуются на верхнетерцовом и верхнеквартовом тоне, при общей опоре
на тонический унисон:
50
РПП, 62
В минорной песне «Со любимой со сторонушки» (пример 51) отчетливо выделяются три созвучия — на тонике, верхнеквартовом и на
нижнесекундовом тоне:
51
там
жи
Ш ы т
вет, ж и - в е т
да
По
-
лин
ка
на - т а
РНП, 27
жи -
Такое расположение трезвучий по трихорду с мелодическим подчинением их тонике является одним из первичных проявлений их ладофункциональных соотношений, одной из закономерностей народной
гармонии.
Трихордовое последование трезвучий часто встречается в творчестве русских композиторов-классиков и является характерной национальной особенностью русской музыки.
Образование опорных созвучий отнюдь не исключает индивидуализированное™ мелодий отдельных голосов, при которой образуется
особый тип многоголосия — подголосочная полифония с опорой на опре-
Некоторые особенности русского народного многоголосия
217
деленные консонансы. Такой тип многоголосия наблюдается главным
образом в лирических песнях. В песнях небольшого диапазона все созвучия исчерпываются обычно тремя, реже четырьмя аккордами, как
это имело место в предыдущих примерах. В песнях с диапазоном, выходящим за пределы октавы, с переменным ладом, имеющим несколько
побочных опор, вокруг каждой опоры возникает своя система созвучий. Это наблюдается во многих донских песнях.
Но как бы ни был многообразен состав созвучий, в последовании
этих созвучий всегда наблюдается стремление использовать такой ряд
аккордов, основные тоны которых связываются между собой в трихордовую попевку.
Рассмотрим песню «Вышли с Дону казаки» (пример 52):
i'H
а
0
е - ге - ры
Л-1,207
р Р
велел за
р
на - ми
В этой песне определились в основном четыре трезвучия, применяющиеся в комбинациях, дающих квинты или терции. Основные тоны этих
трезвучий образуют два сцепленных трихорда. И последование этих трезвучий происходит по тонам то одного, то другого трихорда (пример 53):
53
т
Аналогичное явление наблюдается и в песне «Ой, в темнице несносной» (пример 54), в которой трезвучия расположены также по тонам трихордов:
218
111. О фольклоре
Порядок последования созвучий в значительной мере определяется интонационным строем народной песни, характерными для нее попевками. Подголосок обычно образует мелодию, тоны которой консонируют
с соответствующими тонами основного голоса. Таким образом возникает ряд консонантных вертикалей. Из образующихся таким путем последований наиболее типичными и закрепленными будут те, которые
возникают на наиболее типичных мелодических оборотах — на нисходящем поступенном движении мелодии, на квартовом ходе, соединяющем тонику с верхнеквартовым тоном, и т. п., но самой характерной из
всех перечисленных форм является опять-таки форма, образованная на
различных видах трихордовых попевок. Из других наиболее характерны
плагальные обороты, образующиеся при последовании тонического унисона и какого-либо созвучия, построенного на верхнеквартовом тоне.
Характерны также ряды параллельно нисходящих аккордов, а в кадансе — соединение тоники с трезвучием, построенным на одном из вводных тонов: при мажорной тонике — верхнесекундовым минорным, при
минорной тонике — нижнесекундовым мажорным.
В более поздних песнях аккордового склада, чаще всего игровых,
плясовых, частушках, а также в некоторых солдатских проявляются
и кварто-квинтовые взаимоотношения созвучий — тонико-доминантового и тонико-субдоминантового типа. Зачатки подобных соотношений
наблюдаются в строении мелодий очень ранних песен (вплоть до некоторых обрядовых), выражаясь в частых квартовых последованиях с акцентом то на нижнем, то на верхнем звуке кварты. Первоначально квартовые
связи отличаются переменным характером.
Если опорным тоном мелодии является верхнеквартовый тон, то
при этом возникают переменные доминантовые функции нижнекварто-
Некоторые особенности русского народного многоголосия
219
вого тона. Если же опорным тоном является нижнеквартовый тон, то
в последовании тонов получается характерный для русской народной
песни плагальный оборот, так хорошо уловленный Глинкой, Чайковским,
Мусоргским и другими русскими композиторами.
Совершенно естественно, что созревание тонико-субдоминантовых и тонико-доминантовых отношений в мелодии влекло за собою
и выкристаллизовывание аналогичных отношений не только между тонами, но и между созвучиями, на них образованными. Так, в песне «Заплетися, плетень» (пример 55) последования трезвучий носят явно плагальный характер:
Л 1911
55
т т¥
м т
Jl
За-пле
и
TV
тпсь, ла-млс
ГТ
ги-ся, иле
тень, 3ii - вя
жип». за - вя
жп-ся,
у
i n
Р РР1Р Р М Р
В песне «Коромысла» (пример 56) явно выделены тонико-доминантовые соотношения созвучий с характерным разрешением септаккорда доминанты в тонику:
56
[рииh-H-tfMrгИг
иш-щ
Эх.
1
А - чс - нуш - ка
во - ду
мо - сит
ко - ро-мыс - л а
РНП, 22
I4IVT
-
1
П
J
Здесь же проявляются и переменные функции тоники по отношению к верхнеквартовому тону субдоминанты. Характерно, что в этой
песне, как и вообще в русских песнях, созвучие субдоминанты не пере-
III. О фольклоре
220
ходит в доминантовое — как то, так и другое связываются непосредственно только с тоникой. Это подчеркивает мелодическую, вводящую
природу образования того и другого аккорда.
Таким образом, можно утверждать, что тонико-доминантовые соотношения отнюдь не чужды русской народной песне. Напротив, они
являются одной из существенных сторон ее многоголосия, а также обнаруживаются и в некоторых типах одноголосного мелодического движения. Характерно, что тонико-доминантовые отношения более всего развивались в песнях, связанных с движением, например в плясовых,
частушечных, маршевых. Это явление не случайное. Трихордовые и плагальные соотношения в последовании созвучий, служа преимущественно
средством распевности, не обладают, по-видимому, достаточной динамичностью, активностью, необходимыми для моторных песен. Соотношения же тонико-доминантовые, не являясь, может быть, в той же степени
средством распева, оказываются в силу своей прямолинейности более
пригодными для музыки действенно-волевого характера, почему и используются главным образом в песнях, связанных с движением. Не
случайно, что и в музыке русских композиторов плагальные обороты наиболее характерны для медленных, распевных тем, обороты же автентические — для тем моторного характера.
Метод использования созвучий в аккордовом складе русской народной песни весьма своеобразен. Количество голосов в песне может
быть самым различным и часто претерпевает изменения на ее протяжении. Звучание аккорда может быть осуществлено даже двумя голосами.
Ибо то или иное созвучие, состоящее, например, из трех или четырех
тонов, не всегда и не обязательно в народной песне интонируется одновременно, а может образовываться в последовании звуков, воспринимаясь в то же время как единое гармоническое целое. Например, в песнях аккордового склада созвучие ми -соль-си может быть ясно ощутимо
при следующих формах движения двух голосов (пример 57):
j
j
J I J J I J
J I
Такого рода движение голосов, с повтором созвучия в новых комбинациях, порождает ощущение его протяженности в более полном виде.
Некоторые особенности русского народного многоголосия
221
Другая особенность аккордового склада в русской народной песне
заключается в том, что обращения аккордов не выполняют тех функций, которые они несут в профессионально-композиторской музыке.
Слуховая оценка того или иного созвучия в русской народной песне
основывается лишь на его звуковом составе, взаимное же расположение
тонов по вертикали приобретает лишь второстепенное значение. Это
объясняется тем, что самое расположение тонов аккорда является производным от мелодического движения голосов. Отсюда и обилие неполных трезвучий и септаккордов, столь характерное для народного
многоголосия.
Указанные выше особенности приводят к тому, что в аккордовом
многоголосии русской народной песни ладовую функцию того или иного созвучия может выполнять часть этого созвучия — квинта, терция,
а иногда и кварта.
Следует подчеркнуть, что в аккордовом складе, так же как и в подголосочно-полифоническом, голоса в завершающем кадансе всегда сходятся в унисон или октаву. Эти интервалы остаются наивысшей формой согласованности голосов и завершения развития.
Таковы основные закономерности аккордово-гармонического склада
русской народной песни.
* * *
Русское народное многоголосие — явление весьма многообразное.
Исходя из одного общего принципа — сочетания коллективного и индивидуального начала, — оно дает многообразнейшие формы проявления
этого принципа в различных складах.
Приемы сочетания голосов образуют сложную музыкальную систему, непрерывно развивающуюся и обогащающуюся.
Народная музыка и, в частности, ее многоголосие — богатейший
родник, питающий всю национальную музыкальную культуру. Поэтому
изучение композиционных закономерностей многоголосия русской народной песни — насущная задача отечественного музыкознания и отечественного музыкального творчества.
К вопросу об устойчивости и неустойчивости
в ладах русской народной песни *
с
^ ^ о п р я ж е н и е устойчивости и неустойчивости — основной принцип
ладообразования, наиболее общая форма ладовых отношений. Важен
этот принцип и для ладов народной песни.
Между тем в существующей по этому вопросу литературе распространена точка зрения, которая представляется неверной. Речь идет о том,
что возникающие в ладах с определившейся тоникой побочные опорные тоны рассматриваются как устойчивые, и лад народной песни, лад
сугубо монодический, таким образом, оказывается имеющим одновременно два устоя.
Несогласие с такой точкой зрения и послужило поводом для написания данной статьи.
Лады народной песни организуются по законам монодии. Даже
в случае образования многоголосия сам принцип ладообразования продолжает оставаться монодическим, так как многоголосие это имеет полифоническую природу. Поэтому для уяснения вопроса необходимо
предварительно остановиться на уточнении двух в общем известных
положений: на различии между ладами гармоническими имонодическими
и на некоторых общих свойствах устоя и неустоя в ладу.
Если говорить о самой природе монодических и гармонических
ладов, то следует признать, что монодические лады родились, прежде
всего, в сфере вокальной музыки. Гармонические — в сфере музыки
инструментальной. Это, по-видимому, и определило существенное их
различие, заключающееся не только в том, что в них различен способ
выражения функции — через созвучие в гармонии и через отдельно
взятый тон в монодии, — но и в основной форме ладовых отношений,
значительно более стабильной в гармонических ладах и необычайно многообразной в ладах монодических.
* Статья впервые опубликована в изд.: Проблемы лада: Сб. ст. / Сост. К. Южак.
М., 1972 (прим. ред.).
К вопросу об устойчивости и неустойчивости в ладах...
223
К собственно гармоническим ладам в чистом виде можно отнести
только такие лады, основные функциональные отношения которых определяются квартово-квинтовыми связями аккордов с тоническим центром, также выраженным аккордом, то есть, прежде всего, — натуральногармонический мажор и гармонически-мелодический минор и лады,
сохраняющие их основную функциональную формулу, но усложняющие
различным образом звукоряд. Все остальные виды связей будут нести
признаки ладов монодических.
Причины этого единообразия кроются, вероятно, в том, что гармонические лады, как никакие другие, в основе своих ладовых связей имеют
не только социально-исторические, но и естественные, физико-акустические предпосылки. Подчеркиваем, именно в основе ладовых связей,
так как вообще акустические закономерности будут сказываться в любом проявлении музыки как звучащего искусства. Именно опора на акустические законы отношений звуков и породила ту «предустановленность» последований, которая свойственна чисто гармоническим ладам,
а отсюда — и их единообразие. И неслучайно именно гармонические
лады стали основой музыкального мышления композиторов-классиков:
классическое искусство — и это связано с его эстетикой — во всех своих
проявлениях и видах стремилось опираться на законы, имеющие максимум объективных предпосылок и потому допускающих минимум
индивидуальных отклонений в их трактовке и преломлении (симметрия в архитектуре, «золотое сечение» в скульптуре, соотношение света
и тени в живописи и т. д.).
В организации своих функциональных отношений монодические
лады в значительно меньшей степени опираются на акустические законы,
прежде всего, потому что они не связаны с таким акустическим феноменом, как обязательная координация тонов в одновременном звучании,
фиксированном, как ладовая единица. Разумеется, ладовые отношения
монодии также имеют естественные предпосылки, но эти предпосылки
в значительно большей мере связаны с физиологическими явлениями
и законами, нежели с акустикой (дыхание, напряжение связок, характер речи и т. п.), то есть с явлениями значительно более индивидуальными, чем акустика. Отсюда и множественность форм монодических
ладов, многообразие — в принципе, неисчислимое — их видов.
Единообразие, твердая установленность отношений породили еще
одну черту гармонических ладов, отличающую их от ладов монодических, — трудность, а потому и значительность всякого изменения этих
первоначально данных отношений: модуляции в новый тональный строй,
224
III. О фольклоре
хроматические изменения установившейся шкалы тонов, изменение
направления движения остро тяготеющего тона и т. п.
Модуляция в гармоническом ладу — значительно более сложное
(а потому и значительно более активное) явление, чем в монодическом,
так как для ее совершения, для утверждения новой тоники необходим
сдвиг целой функциональной группы аккордов. Особенно драматургически действенна модуляция в классической мажоро-минорной ладовой
системе, где стабильны не только функциональные отношения, но звукоряды каждой тональности (практически каждая тоника имеет свой звукоряд, не повторяемый ни при какой другой тонике: даже параллельные
тональности отличаются случайными знаками). Поэтому модуляция и даже просто хроматический сдвиг тона в гармоническом ладу — событие,
способное создать драматургию целой симфонии (например, знаменитое
до-диез в «Героической» симфонии Бетховена или ре-бемоль в его же
Четвертой фортепианной сонате), так как этот сдвиг нарушает твердо
установленное и потому привычно ожидаемое направление движения,
что вызывает как бы внутренний протест и отсюда — активность реакции.
Монодические лады, как уже говорилось, явление абсолютно нестабильное, как в отношении функциональных связей, так и в отношении
звукоряда. На одном и том же звукоряде может возникнуть множество
различных ладов, в зависимости от положения в нем тоники и взаиморасположения тоники и побочных опорных тонов. Поэтому и модулирование в монодическом ладу совершается значительно более легко, чем
в гармоническом, так как для того чтобы тон стал восприниматься как
тоника, достаточно иногда простого его ритмического подчеркивания
и не требуется ни завоевания нового звукоряда, ни сдвига аккордовых
комплексов. Зато и реакция восприятия, вызываемая такой модуляцией, значительно менее активна — не создается «внутреннего протеста»,
так как нет нарушения привычного, любой вариант одинаково возможен. Распевность и краска (а иногда одно из этих качеств) преобладают
над динамикой. Таковы основные различия между ладами гармоническими и монодическими.
Несколько слов о некоторых свойствах устоя и неустоя.
Не останавливаясь на том общеизвестном факте, что устойчивость — это функция «покоя», способность того или иного элемента лада
(тона или созвучия) к торможению, остановке, замыканию движения,
а неустойчивость — функция «беспокойства», тяготения, размыкания,
обратим внимание на свойства устоя и неустоя, менее отмечаемые теорией: устойчивость — функция однозначная, так как она «не тяготе-
К вопросу об устойчивости и неустойчивости в ладах...
225
ющая», и следовательно, не может иметь различных направлений движения; неустойчивость — функция разнозначная (или многозначная),
могущая иметь различные тяготения, различную направленность и потому вызывать различные формы движения. Именно поэтому в централизованном ладу устойчивость может быть сосредоточена только в одной
точке лада (в противном случае, она потеряла бы значение успокаивающей, тормозящей). Неустойчивыми же могут быть (и, действительно,
становятся) все те элементы лада, которые не являются устойчивыми.
Поскольку в гармонических ладах ладовые отношения проявляются как
связь, прежде всего, созвучий, постольку ту или иную функцию в них
выражает комплекс топов (например, функцию доминанты — септаккорд V ступени, функцию субдоминанты — квинтсекстаккорд II ступени, функцию тоники — трезвучие I ступени и т. п.). Отдельные же тоны
хотя и могут проявлять функциональную самостоятельность (например, доминантовое тяготение нижнего вводного тона в мажоро-минорной системе), все же в большинстве случаев зависят от того, в какое
созвучие они включены (например, V ступень лада в аккордах тонической функции звучит как тонический устой, в аккордах же доминанты
теряет всю свою устойчивость и становится ярчайшим выразителем
доминанты; II ступень лада в аккордах доминанты звучит доминантово,
в аккордах субдоминанты — субдоминантово и т. п.)1.
В ладах гармонической музыки выражение функции через комплекс тонов обусловливает возможность выражения одной и той же функции одновременно несколькими тонами, что (в известной мере!) может
проявляться и тогда, когда эти тоны звучат без гармонической поддержки. Однако определенность их функции при одноголосном звучании во
многом зависит от мысленной гармонизации и без нее теряется. (Так,
например, окончание одноголосной мелодии на тонеми в тональности
до мажор звучит устойчиво только потому, что при этом подразумевается его гармоническая поддержка тоническим трезвучием. Без этой
мысленной аккордовой поддержки ми перестает быть устоем.)
В монодии, где лад проявляется только как связь тонов и ту или
иную функцию выполняет уже не созвучие, не комплекс тонов, а отдельно взятый тон, такое явление, как выражение одной функции несколькими тонами, совершенно невозможно. Здесь каждый тон — носи1 Противоречия между мелодическими и гармоническими тяготениями, рапно
как и переменные функции, в данном случае, разумеется, не принимаются в расчет,
так как рассматривается явление в его чистом виде.
15
Зак 5 9 7
226
III. О фольклоре
тель определенной функции, не повторяемой никаким другим тоном,
каждый — самостоятельная единица, имеющая собственное «лицо».
Из сказанного выше следует, что и функцию устойчивости, тоники в ладах гармонической музыки выполняет созвучие (в простейших
случаях — трезвучие I ступени), а в ладах монодии — один тон, который
в данный момент способен остановить, замкнуть движение, то есть выступить в роли ладового центра.
Выяснив ряд предварительных положений, перейдем к непосредственно интересующему нас вопросу — к вопросу об устойчивых тонах
в ладах русской народной песни, точнее — о возможности в этих ладах
наличия нескольких устоев при едином положении тоники.
Русская народная песня, как уже говорилось, развивается по законам монодии. Поэтому выразителем функции в народной русской мелодии продолжает оставаться тон. Следовательно, и функцию устоя, то
есть тоники, в этой мелодии выполняет тон, а не созвучие, не несколько
тонов. Остальные, даже наиболее подчеркиваемые, могут временно концентрировать вокруг себя мелодическое движение, оттягивая появление тоники, но не перестают при этом оставаться неустоями, направленными к продолжению движения и тяготеющими в тонику. Определение
их как устоев равносильно признанию возможности образования в однотональной мелодии одновременно нескольких разнорасположенных тоник, что само по себе абсурдно. К тому же функция этих временно собирающих движение тонов прямо противоположна тонической, ибо они
не тормозят, а двигают развитие, не успокаивают, а требуют движения,
подобно тому, как требует движения в тонику, например, органный пункт
на доминанте, каким бы продолжительным он ни был. И чем дольше
оттяжка, тем острее ожидание тоники, тем напряженнее становится напев. Ни один из этих временно концентрирующих вокруг себя движение тонов ни в одном из голосов не способен остановить, замкнуть движение. Именно этим и объясняются столь специфичные для народного
многоголосия унисонные окончания в кадансах, совершенно обязательные даже при развитом многоголосии — функцию завершения, устойчивости способен выполнить только один тон лада; к нему, являющемуся
единственным выразителем тоники, и сходятся все голоса хора в момент
завершения напева.
Приведем в качестве примера песню «Долина» (пример 1).
В этом напеве происходит длительное опевание верхнеквинтового
тона (ми2 при тоникеля'), многократно повторяемого в разных ритмических и мелодических вариантах. Тормозит ли этот тон движение, создает
К вопросу об устойчивости и неустойчивости в ладах...
227
ли ощущение покоя? Является ли средством замыкания? Разумеется,
нет. В нем нет ни одного из этих признаков устойчивости. Он весь —
направленность, весь — динамика, весь — тяготение к устою ля. Если бы
он воспринимался как устойчивый, то пропала бы вся напряженность
и страстная порывистость этого тоскливого напева-причитания, остановилось бы мелодическое развитие.
1
Лн-1,72
О
-
х, на э-том
накус-ту да на ка - лин
-
-
-
-
-
ке
Почему же так «устойчиво» держится в музыкознании мнение
о наличии в ладах народной песни одновременно нескольких устоев?
Причин для этого, на наш взгляд, несколько — по меньшей мере, три. Две
из них непосредственно связаны с особенностями ладов песни и потому
заслуживают более пристального рассмотрения. Третья — сугубо механическая, причина «инерции»: изучение ладов народной музыки долгое
время велось с позиции музыки гармонической, и привычная для гармонии терминология механически переносилась на лады народной песни.
Отсюда тоны, которые так или иначе выделяются в своем ладовом значении из остальных, подобно тонам трезвучия I ступени мажоро-минора
стали называть устойчивыми.
Значительно более важно вскрыть те причины ошибок, которые
связаны с самой сущностью ладов народной песни. Таких причин две.
Первая из них заключается в том, что неустойчивые тоны монодии (а неустойчиво в ней все, кроме тоники) могут быть неоднородными
в своем функциональном значении. Одни из них способны концентрировать вокруг себя мелодическое движение, создавать центр опевания и тем
самым как бы противополагать себя тонике. Значение таких тонов —
собирающее, концентрирующее, но не тормозящее, не успокаивающее,
а следовательно, и неустойчивое. Именно неустойчивость этих тонов
в ладу и создает динамику ладовых отношений — устоя тоники и неустоя
всей сферы опевания. Эти тоны приобретают значение временных, побочных опор лада, центра его неустойчивости.
2
Указатель сокращений, принятых в нотных примерах см. на стр. 232.
III. О фольклоре
228
Такие тоны монодии X. С. Кушнарев предлагает называть антитезами3, то есть противополагаемыми тонике ладовыми точками. Они неустойчивы, но активны в своем ладовом значении. Их интервальное
положение в ладу по отношению к тонике определяет сущность лада, и не
менее, если не более, значительно, чем, например, ладовое наклонение.
При варьировании напева от строфы к строфе положение побочной опоры никогда не меняется, в то время как высота тонов, определяющих
наклонение, может изменяться — см., например, «Сёгодёшной дён скука» (П-И).
Именно активностью своей роли в ладу побочные опорные тоны
резко выделяются среди остальных, также неустойчивых тонов лада.
Эти прочие неопорные тоны неспособны концентрировать вокруг себя
движение, а могут только «вовлекаться» в него, участвовать в опевании
либо побочной опоры, либо (реже и меньше) тоники (сравнить в приведенном выше примере 1 значение топов си, до, ре с тоном ми). Даже их
связь с тоникой часто выявляется не непосредственно, а через опеваемый ими побочный опорный топ. Например, в песне «Вылетает мой соколик» (пример 2) направленность опевающих тонов — до и ре-бемоль —
в тонику осуществляется через побочную опору — си-бемоль:
Вы-ле - та - ст мой
ла со - ко
-
лик »ы - со - ко
и ла
-
ле - ко.
При варьировании напева от строфы к строфе опевающие тоны
часто не сохраняются, а свободно заменяются одни другими, выпускаются или заменяются новыми.
Таким образом, функции неустойчивых тонов монодического лада
могут быть неоднородными. Видимо, эта неоднородность и послужила
поводом для обозначения побочных опорных тонов как устойчивых,
3 См.: Кушнарев X. С. Вопросы истории и теории армянской монодической
музыки {33). В этом исследовании, проводимом на материале армянской народной
музыки, автор излагает теорию монодических ладов, значение которой далеко выходит за узконациональные рамки, так как вскрывает сущность ладообразования монодии вообще. Роль этой теории в познании законов монодического лада равноценна
роли теории функций в гармонии, и она должна была бы быть положена в основу
изучения народных ладов.
К вопросу об устойчивости и неустойчивости в ладах...
229
с целью выделения их особого значения. Однако обозначение побочных
опор как устойчивых противоречит сущности их ладовой роли, и правильнее дифференцировать неустойчивые тоны монодического лада по
изложенному выше принципу — на тоны опорные и неопорные, то есть
па побочные опоры и опевающие тоны.
Остается вскрыть последнюю причину, породившую ошибочную
версию о возможности нескольких устоев в ладах народной песни. Эта
причина кроется в смешении принципиально разных явлений — функциональных отношений тонов лада при едином положении ладового
центра (то есть основных функций) и вторичных связей, возникающих
при перемещении положений ладового центра, или просто в случае возникновения переменных функций.
Смена тонального центра (то есть смена положения тоники) в народной музыке — явление, как известно, весьма частое. Эта смена тоники может иметь самые различные формы проявления. Первая из них —
полная модуляция в новую тонику в конце напева (пример 3):
3
Лн-11,1
лам...
ла
вы Вал - лап
-
п<и
-
с
Вторая — временный уход на новую тонику с последующим возвращением к исходной (пример 4):
Ка-ли
-
нуш-ка
сма-ли
н у ш - к о и , л а - ;ю
-
ре
-
мый
иве г.
Наконец, третья — наиболее сложный случай — как специфически
переменный лад, то есть такой, в котором несколько тонов оспаривают
друг у друга значение тоники, причем ни один из них не получает главенствующего значения (пример 5):
111. О фольклоре
230
$
§ ^
И, 131
W
Как
у
с т о л - б ы i u - ка
> j
л о л - па
у
}
кл ю
pip
ду
-
т
бо
по
-
го
ла
у
ко
ш
-
мс
но
-
го
да
туг
и
и т. л.
Во всех этих случаях в напеве, действительно, возникает несколько
устоев, но именно в напеве, а не в ладу, в последовательности, а не в одновременности, так как в каждый данный момент тоникой является только один тон, и при выявлении его тонического значения все другие тоны
сразу же изменяют свою функцию и перестают быть устойчивыми. Так,
в примере 3, при смещении тоники на нижнесекундовый тон соль, первоначальная тоника ля теряет свое устойчивое значение и превращается
в неустойчивый верхнесекундовый тон к новой тонике. В примере 5 мы
попеременно ощущаем тонику то на си, то на ми, что в каждом данном
случае хоть на момент вызывает ощущение изменения тональности. В одновременности же несколько устойчивых звуков возникнуть не могут —
это противоречило бы сущности монодии.
Таким образом, приданном определенном положении тоники монодический лад, в том числе и лад народной песни, не может иметь несколько устоев, и эта тоника является единственным устоем, единственным
тоном, способным завершить, замкнуть движение. Несколько устоев может образоваться в напеве только в случаях переменного лада, то есть
при условии временного смещения тоники (не в одновременности). При
едином же положении тоники все тоны лада, кроме нее самой, являются
неустойчивыми, но, особенно в ладах более развитых песен, могут дифференцироваться на побочные опоры, способные «оттягивать на себя*,
концентрировать вокруг себя мелодическое движение и тем самым противопоставляться тонике, и тоны неопорные, опевающие, неспособные
к такой собирающей роли.
Побочные опорные тоны могут быть выявлены в ладу с большей
или меньшей степенью определенности, их может быть несколько (в таком случае — чаще всего два), они могут быть в различном интервальном
соотношении с тоникой. Между тонами лада, особенно между побочной
опорой и тоникой, могут возникать различные переменные взаимосвязи,
значительно усложняющие простейшие первичные ладовые отношения.
К вопросу об устойчивости и неустойчивости в ладах...
231
В рамках короткой статьи все эти вопросы невозможно не только
раскрыть, но даже поставить, так как каждый из них может стать темой
самостоятельного исследования. Остановимся лишь на одном моменте.
Все сказанное выше в своих основных положениях справедливо не
только для ладов народной песни, но и вообще для монодических ладов.
В частности, описанные выше закономерности находят отражение в произведениях современных композиторов, поскольку в ладообразовании
современной музыки, несмотря на ее многоголосный склад, во многом
действуют законы монодии. Если для произведений полифонических
проявление законов монодии не является особенностью, так как полифония складывается как координированное сочетание мелодий, то проявление законов монодических ладов при наличии гармонической вертикали — особенность, отличающая именно современную музыку и имеющая
лишь отдаленного предшественника в старинных органумах гармонического склада. Лад в этих случаях организуется по законам монодии,
как связь тонов, но каждый из этих тонов окрашен гармонией, то есть
гармония включается не как функциональный, а как фонически значимый элемент. Именно этим свойством ладов современной музыки можно объяснить такое явление, как возможность появления диссонирующего созвучия в качестве тоники. Как ладовое явление, ладовая единица,
диссонирующий комплекс не может быть устойчивым, и следовательно, не может быть и тоникой. Но как акустический феномен, создающий
определенный фонический эффект наполнения звука, диссонирующее
созвучие вполне может поддерживать тонический тон.
Функциональную роль устоя в этом случае и выполняет только один
тон, так же, как это имело место в приводимых примерах народной песни.
Вертикаль же имеет значение лишь раскраски этого тона (пример 6):
Широко развитая переменность функций и отсюда — легкость
модулирования, свойственная монодическим ладам, также находят свое
232
III. О фольклоре
отражение в современной музыке, в частности — в музыке серийной,
где более длительная остановка на одном из тонов серии сразу фиксирует
внимание на нем как на временной, «скользящей» тонике (пример 7)?
Э. Денисов. «Вариации»
Таким образом, целый ряд свойств монодических ладов, наблюдаемых в народных песнях, находит отражение в профессиональной музыке современности. Поэтому изучение монодических ладов, в частности ладов народной песни, изучение не только (и не столько!) звукорядов,
сколько самих ладовых отношений, насущно необходимо, так как оно
может дать ключ к пониманию многих явлений ладо- и формообразования современной музыки.
Указатель сокращений
Вл —
Гиппиус
Е. В., Эвальд
3. В. Н а р о д н ы е п е с н и В о л о г о д с к о й о б л а с т и . С б о р н и к
ф о н о г р а ф и ч е с к и х з а п и с е й п о д ред. Г и п п и у с а и Э в а л ь д . М.: М у з г п з , 1938.
Bp —
Р у с с к и е народные песни В о р о н е ж с к о й области. С б о р н и к ,
подготовленный
Д о м о м н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а . М . ; Л.: М у з г и з , 1939.
Л - I , II, III, I V — Листопадов
А. П е с н и д о н с к и х казаков. Т. I—IV. М.: М у з г и з ,
1949-
1954.
Лн-1 — Линева
Л н - I I — Линева
Е. В е л и к о р у с с к и е песни в народной гармонизации. Вып. I. С П б . , 1904.
Е. В е л и к о р у с с к и е п е с н и в н а р о д н о й г а р м о н и з а ц и и . В ы п . II. П е с н и
новгородские. СПб.,
П
—
Гиппиус
Е. В., Эвальд
1909.
3. В. П е с н и П и н е ж ь я . Кн. II. М а т е р и а л ы ф о н о г р а м м а р -
хива, с о б р а н н ы е И р а з р а б о т а н н ы е Е. Г и п п и у с о м и 3. Эвальд. М.: М у з г и з ,
1937.
Р Н П — Р у с с к и е н а р о д н ы е п е с н и . С б о р н и к Главного а р х и в н о г о у п р а в л е н и я
МВД.
IV
АНАЛОГИИ
И ПАРАЛЛЕЛИ
О некоторых аналогиях в структурах
языка вербального и языка музыкального *
в
1 * познании мира человечество, как и каждый отдельный человек,
проходит путь от восприятия предметов и явлений как обособленных
чувственно-конкретных частностей к постепенному пониманию глубинных связей между этими предметами и явлениями, от констатации
различий к установлению общности между, казалось бы, совсем не схожим между собой. Сколько столетий (и даже тысячелетий!) понадобилось человечеству, чтобы, подметив зависимость свойств вещества от
его атомного веса, построить, исходя из этого веса, таблицу, позволившую классифицировать вещества по сходству их химических качеств —
таблицу Менделеева? Кто из мудрейших ученых-философов древнего
мира согласился бы признать, что «мертвые» камень, железо, песок
и мозг человеческий в конечном итоге имеют одну субстанцию — элементарные частицы, лишь компонующиеся в каждом отдельном случае по-разному, «по-своему»? В Средневековье за подобные предположения сжигали на костре.
Путь от конкретного к абстрактному, от констатации особости
к установлению общности проходит каждая наука1. И тем естественнее представляется попытка установления общего между явлениями,
в том или ином отношении «наглядно» обнаруживающими свою похожесть, свое внутреннее родство. Таковы музыка и речь.
Музыка и речь... И то, и другое — продукт высокоразвитого человеческого сознания, человеческого интеллекта. И то, и другое — средство
общения, средство выражения себя, своих помыслов и чувствований
в звуках. Может ли не быть общего и между теми формами, в которые
* Публикуется впервые (прим. ред).
1 Не об этом ли говорит А. Реформатский, утверждая в своей статье «Опыт анализа новеллистической композиции», что «всякая наука переживает обычно три стадии: 1) хаотическое накопление материала, 2) классификация и накопление множества
мелких законов (период плюрализма), 3) обобщение и сведение к немногим общим
законам (стремление к монизму)» (45, с. 557).
О некоторых аналогиях в структурах...
235
они эти звуки облекают? Обобщению известных музыкознанию и установлению некоторых до сего времени остававшихся в тени признаков этой общности форм и посвящена настоящая работа.
Введение
Представление о том, что такое язык вообще и вербальный язык
в частности исторически менялось вместе с эволюцией общих представлений о мире и человеке. К настоящему времени более или менее четко
и сходно во многих работах сложилась традиция рассматривать язык
двусторонне: с точки зрения его функции и с точки зрения его структуры.
В функциональном аспекте язык рассматривается как средство и способ формирования мысли и осуществления передачи ее другим людям,
то есть генерации и коммуникации. В структурном аспекте язык определяется как сложное многоярусное и многоаспектное образование, представляющее собой единство словарного состава (по Ф. Соссюру, «инвентаря» — 55) и грамматических законов («правил»). В самом общем
плане те же представления можно распространить и на язык искусства,
в частности — на язык музыкальный (см., например, определения музыкального языка в работах: 2,4,12,25). Ибо все искусства содержательны
(содержат, выражают «мысль»), все направлены на коммуникацию
(иначе само их существование теряет смысл), все имеют в той или иной
степени сходную многоуровневую структуру.
Настоящая работа не ставит своей целью дать философско-лингвистическое определение музыкального языка. Ее ракурс совсем иной.
Отталкиваясь от некоторых неоспоримо сходных черт вербального языка и музыки, она обращена к уровню именно формально-структурному.
Вполне разделяя точку зрения тех ученых, которые указывают на неправомерность сведения понятия «язык» только к системе материальных
элементов (например, в отношении музыкального языка — к системе
выразительных средств; убедительную критику подобной точки зрения см. 25, с. 20-25), обратим, однако, внимание на то, что, не исчерпывая сущности категории «язык» полностью, круг средств, тем не менее,
как форма воплощения содержания оказывается весьма существенной
составляющей языка и вполне заслуживает исследования, специально
направленного на изучение ее законов. И если по степени соотношения семантически-предметной конкретности музыка и вербальный
язык оказываются на разных полюсах (там же, с. 63-65), то в отноше-
IV. Аналогии и параллели
236
нии системы средств между ними на всех уровнях, от морфологии и синтаксиса и до крупных композиционных структур возникает неисчислимое множество аналогий и параллелей, подтверждающих их глубинную родственность.
Было бы странно, если бы ситуация сложилась иначе. Вербальный язык и музыка теснейшим образом связаны между собой именно
в способах и средствах выражения, в способах передачи заложенной
в сообщении информации. И вербальная речь и музыка — системы временные, что, естественно, предполагает наличие сходных черт в формах их протекания (обязательность членения, определенность композиционных структур и т. п.). И вербальный язык, и музыка воплощают
свои сообщения в звуках. Органы, осуществляющие как вербальную
речь, так и музыкальную интонацию также едины: это, в первую очередь, органы голосового аппарата и дыхание. Говорить о роли в формировании и осуществлении музыкальной интонации таких составляющих речевого аппарата как связки и дыхание вполне правомерно
применительно не только к вокальной музыке, что само собой разумеется, но и к музыке инструментальной (кроме, разве, «стохастических»
опусов, реализующих в нотной записи контуры разлитых чернил или
чертежей архитектурного сооружения). Общеизвестно и многими опытами доказано, что музыка, написанная даже для оркестра, в сознании
(и организме!) композитора/слушателя внутренне интонируется, связки и дыхание реагируют, пусть и «про себя», на реально воспроизводимое или мысленно представляемое себе звучание. Так что органические
связи здесь несомненны.
Интересно в этом плане обратиться к истокам сигнально-звукового общения человека (напомним, что даже долгое время не подвергавшееся сомнению утверждение, якобы музыка родилась из эмоциональной речи и как бы «вторична» по отношению к ней, в настоящее
время не представляется бесспорным). По утверждению лингвистовантропологов первичными формами звукового общения были звучания нечленораздельные, и, тем не менее, способные передать информацию2. Звучания как таковые были содержательны! Разумеется, автор
настоящего текста далек от мысли приравнять мычание первобытного
еще-не-человека к музыке как искусству. Но ведь и «речь» этого еще-
2
« М о ж н о с б о л ь ш о й у в е р е н н о с т ь ю с к а з а т ь , ...что на р у б е ж е н е а н д е р т а л ь с к о г о
и с о в р е м е н н о г о периода человек у ж е говорил п р е д л о ж е н и я м и , но едва ли м о г п о с л е д о в а т е л ь н о р а с п о л а г а т ь з в у к и в н у т р и с л о в а » (34, с. 1 1 2 ) .
О некоторых аналогиях в структурах...
237
не-человека тоже не была еще полноценной вербальной речью. И пафос высказанного положения направлен лишь на то, чтобы указать на
некоторые нюансы возможных параллелей: нужная информация (кстати, заметим, продиктованная более ощущениями, нежели разумом и содержавшая, скорее, не логически оформившуюся мысль, а эмоцию, психическое состояние, например, тревоги) сообщалась через определенным
образом сформированное звучание. Разве не напрашивается здесь,
пусть и отдаленная, но все же аналогия (подчеркнем, только аналогия!)
с тем, как воздействует на нас музыка?
Наука как о языке, так и о музыке, разумеется, не прошла мимо
указанных фактов. Сошлемся, хотя бы, на слова виднейшего языковеда и филолога А. Реформатского, который в своей статье «Опыт анализа новеллистической композиции» (45) неоднократно обращается
к рассматриваемой проблеме. Приведем несколько выдержек из этой
статьи. «При полном отсутствии в русской поэтике твердой терминологии приходится прибегать в поисках номенклатуры к самым различным областям: к теории музыки, живописи, театру... Меня интересует...
систематика вопросов новеллистической композиции, как приема сюжетосложения, как тенденции, пронизывающей собой разные формы,
точно так же, как в музыке "сонатная форма" играет ту же роль по отношению к собственно сонате, к симфонии, к концерту (там же, с. 558).
<...> Конструкция новеллы во многих отношениях близка конструкции сонатной формы. Тематически для сонаты каноничны две темы
(главная и побочная)... Для новеллы также канонично двучленное строение тематики... Два героя (героини) — главный и побочный... это, по
определению М. А. Петровского "сюжетное построение на дуэльном
мотиве столкновения двух тем"» (там же, с. 560). Описывая функции
разделов формы Реформатский замечает: «Spannung [напряжение]
разработки — характеризуемая перебоями внутреннего ритма повествования (т.е. чередования устойчивых и неустойчивых моментов — статики и динамики) и торможением разрешения, как в музыке скопление септаккордов, не разрешающихся долго в тонику. <...> С точки
зрения сюжетного ритма Pointe [соль]3 — окончание на неустойчивом
моменте, как в музыке окончание на доминанте» (там же, с. 563).
Аналогии между отдельными элементами и структурами вербальной речи и музыки издавна возникают и на страницах музыкально-тео3 Pointe — ударное место новеллы — обычно короткая фраза, характеризуемая
остротой и неожиданностью.
238
IV. Аналогии и параллели
ретических исследований. Много интересных сведений по этому поводу
можно почерпнуть в работах, посвященных истории теоретических учений, как, например: «История учений о гармонии» Л. Шевалье; «Очерки по истории теоретического музыкознания» Л. Мазеля и И. Рыжкина; «История теории музыки» (Geschichte der Musiktheorie) Г. Римана
и др. Так, например, все исследования упоминают французского органиста, издателя и теоретика Ж. Моминьи (1762-1838), который, разрабатывая учение о фразировке, проводит параллель между разными
кадансами и предложениями словесной речи. Ф. Бюссе (ум. 1847 г.) во
второй части книги «Упрощенная гармония в ее теоретическом и педагогическом освещении» (La musique simplifiee dans sa theorie et dans son
enseignement), написанной в 1839 г., говорит: «Музыка есть особый язык,
в котором аккорды — слова, отдельные звуки — буквы» (цит. по: 75,
с. 166). В указанной выше работе «Очерки по истории теоретического
музыкознания» Л. Мазель, рассматривая учение Римана, считает нужным отметить, что «в функциональной концепции музыкальной формы не меньшую роль (а пожалуй, большую), чем аналогии с архитектурой, играют сравнения музыки с речью и понятия, заимствованные из
поэтики (сюда относится, конечно, в первую очередь метрика)». И далее он приводит «беглое замечание» Римана, гласящее, что «в совершенно "правильно" построенных восьмитактах следующие знаки препинания: на 8-м такте как бы стоит точка (период), на 4-м — точка
с запятой (предложение), на втором — запятая; шестой такт, в том случае, если с ним совпадает кульминация периода (что случается часто),
соответствует двоеточию» (37, с. 164).
Вряд ли надо говорить, что прямолинейность, которой грешат все
приведенные выше примеры аналогий, ставит под сомнение признание их правомерности. Совершенно на другом уровне преподносится
аналогия членораздельности вербального и музыкального текста в работе Ю. Тюлина «Музыкальная форма». Упоминая о некотором сходстве функций цезур в музыке и знаков препинания в вербальном тексте, Тюлин настоятельно подчеркивает условность такого сравнения:
«Благодаря сходству в этом отношении (членораздельность. — Т. Б.) со
словесной речью, музыкальное развитие... называется музыкальной
речью. По этой же аналогии из учения о словесной речи и заимствованы такие понятия, как фраза, предложение, период. Пользуясь этими
терминами, следует, однако, остерегаться слишком прямолинейного
проведения указанной аналогии, при котором могут быть упущены
существенные особенности музыкальной речи, значительно отлича-
О некоторых аналогиях в структурах...
239
ющейся от словесной. В частности, музыкальной речи свойственны
и совсем другие признаки членения по сравнению со словесной речью»
(66, с. 41-42).
Членораздельность — не единственная проблема, привлекающая
внимание ученых своим сходством в словесной и музыкальной речи.
Пристальному изучению подвергается также интонационная сторона
речи и музыки.
Отражение в мелодической линии ритмозвуковысотных параметров речевого произнесения слова — явление давнее, распространенное,
и достаточно широко и разносторонне изучаемое. Аэмоциональный
моноритмический cantus planus средневекового хорала призван был
отразить речь, сосредоточенную на духовно-возвышенном, очищенную
от земных страстей. Риторические фигуры барокко создавались по образу и подобию как символических жестов и движений, так и определенных речевых возгласов. За многими мелодическими и ритмическими
оборотами утвердились почти «знаковые» характеристики, рожденные
сходством с интонацией речевого произнесения. На рубеже XX века
возникает учение об интонации, первоначально (у Б. Яворского) подразумевающее лишь горизонтальное «сцепление» ладово сопряженных
тонов, а позднее, в имеющей эпохальное значение работе Б. Асафьева
«Музыкальная форма как процесс» (Часть И: Интонация), прямо посвящаемая анализу семантики музыки как связанной с выразительностью речи: «интонация — осмысленное произнесение», «звуково выраженная мысль».
Небезынтересно, что филологи-лингвисты со своей стороны отмечают роль музыкального начала в определении не только эмоциональной, но и структурно-смысловой функции элементов вербальной
речи. Так, например, Ю. Маслов указывает, что фразовые (синтагматические) ударения «достигаются при помощи средств музыкальных
(курсив мой. — Т. Б.) — повышением или понижением тона, динамикой и т. д.» (38, с. 88). Перемещение ударения способно коренным образом изменить смысл слова (например, мука и мука, замок и замок
и т. п.). Происхождение целого ряда слов языкознание связывает со звукоподражанием, то есть попыткой обозначить явление через имитацию
характерного для нее звукового образа (например, кукушка, шипение,
жужжание и т. п.). Существует даже уходящая своими корнями в глубокую древность так называемая ономатопоэтическая (звукоподражательная) теория, согласно которой «язык возник в результате того, что
человек подражал звуковым (и незвуковым) признакам называемых
240
IV. Аналогии и параллели
объектов» (77, с. 165). Справедливо критикуя ограниченную правомерность такой теории, нельзя не признать, что для образования значительной части слов звукоподражание играет определенную роль. Здесь же
особо хочется отметить, что концепция, рассматривающая звукоподражание как источник возникновения музыки (например, имитация
пения птиц), имела свое место и в музыкознании (см. об этом: 23). Звукоподражательная теория указывает на образование некоторых слов,
рожденных хотя и не прямой имитацией, но желанием найти средство
«изобразить» звуками характер предмета. В качестве примера подобного явления Р. Будагов приводит отрывок из «Повести о настоящем
человеке» Б. Полевого. Один из лежащих в госпитале раненых взялся
изучать немецкий язык по словарю и, пораженный непривычным звучанием иностранных слов, делится впечатлениями со своими товарищами: «А знаете, ...как по-немецки цыпленок? Кюхельхен..., что-то такое маленькое, пушистое, нежное. А колокольчик, знаете как? Глёклинг.
Звонкое слово, верно?» (цит. по: 20, с. 108). Не говорит ли это о музыкальном начале в словообразовании? Ниже, на стр. 126, Р. Будагов устанавливает параллель между музыкой и вербальным языком уже на
структурном уровне: «Количество букв в алфавите обычно очень ограничено... Между тем звуков очень много. Но подобно тому, как музыкант при помощи семи нот гаммы передает огромное многообразие звучаний, так и пишущий на современных высокоразвитых языках вполне
может обходиться тремя десятками букв для выражения на письме самых сложных мыслей».
При всем том, что, как следует из сказанного, музыковедение не
раз обращалось к параллелям «музыка — вербальный язык», внимание
исследователей в наибольшей степени было обращено к семантиковыразительному аспекту и к проблеме аналогий членения музыкальной и вербальной речи. Вопросы структуры элементов и формы их логического соподчинения, которые можно отнести к синтаксическим
почти не поднимались4. Исключение составляет замечание JI. Мазеля,
брошенное им (опять же, заметим, вскользь) на стр. 82 книги «Проблемы классической гармонии» о грамматической роли классической гармонии (35).
4 «Синтаксис — грамматика связной речи, грамматика единиц, больших, чем слово» (38, с. 163); «Синтаксис — 1) характерные для конкретных языков средства и правила создания речевых единиц; 2) раздел грамматики, изучающий процессы порождения речи: сочетаемость и порядок следования слов внутри предложения, а также общие
свойства предложения как автономной единицы языка и высказывания как части текста» (76, с. 148).
О некоторых аналогиях в структурах...
241
Принципиально иной ракурс исследования ставит своей целью
настоящая работа. Оставляя в стороне проблемы содержательного порядка — интонационная выразительность, семантика, проблема знаковой или незнаковой сущности музыки и т. п., — она направлена на аспект сугубо «формальный», на сопоставление структурно-логических
закономерностей образования и формирования звукового материала
как функционально действенной единицы языка/текста музыкального
и языка/текста вербального. Как конечная цель предполагается изучение аналогий и параллелей на трех уровнях: морфологическом, синтаксическом и общекомпозиционном. Но в данной статье, как первом этапе
работы, проблемы общей композиции пока оставлены в стороне и внимание сосредоточено на аналогиях и параллелях научного аппарата музыковедения и языковедения (терминология, методы исследования),
аналогиях морфологии и аналогиях в системах логического соподчинения элементов (ладовая система музыки — синтаксические соподчинения вербального языка). Еще раз подчеркнем, что речь пойдет только
об аналогиях. Ни о какой прямой тождественности, такой, как наблюдалась, например, в приведенных выше суждениях Бюссе или Римана,
разговора быть не может. Слишком многое, при всем обилии общих
черт, разделяет музыку и вербальную речь, о чем убедительно говорит
Ю. Тюлин (см. стр. 238). Начнем с того, что музыка — искусство, а разговорная речь (в ее бытовом предназначении) — лишь средство сообщений. Вербальная речь основана на законах семиотики, музыка же
в своем «чистом» виде — система принципиально незнаковая. Вербальная (нехудожественная!) речь допускает разделение плана выражения
и плана содержания (синонимию). Для музыки то, как сказано, всегда
равно тому, что сказано, и всякое изменение «как» влечет за собой новый вариант того, «что» сказано. Сопоставления можно было бы продолжить, но достаточно и приведенного. Итак, только аналогии, никогда не тождество!
Приступая к выполнению поставленной задачи, автор вполне отдает себе отчет в возможности появления упреков и критических замечаний по поводу скромности круга использованной языковедческой литературы и малочисленности примеров из нерусских языков. Заранее
признавая их справедливость, отметим следующее:
1. Настоящая работа, насколько известно автору, едва ли не первая в ряду подобных по определенной и последовательно проведенной
направленности избранного ракурса темы. Ее первоочередная задача —
поставить проблему, пробудить к ней интерес и тем самым дать толчок
к ее полноценному разрешению.
16
Зак 5 9 7
IV. Аналогии и параллели
242
2. Уровень, на котором в данном случае исследуется вопрос, настолько «всеобщ», что не предполагает (и даже более того, отрицает
правомерность) скрупулезной конкретизации частностей. Приведем
одно из положений языковедения, в определенной мере отвечающее
на предполагаемые замечания по этому поводу «Смысловые блоки одного языка неэквивалентны смысловым блокам другого... еще более
языки различаются по способам деления универсума значений на
лексические и грамматические значения. Однако при всем разнообразии лексических и грамматических значений, в конкретных языках обнаруживается в то же время и удивительная их повторяемость. Языки
как бы... открывают одни и те же элементы смысла, что позволяет говорить, в применении к различным языкам, о тех или иных фиксированных смысловых блоках универсума значений (предопределяемых в конечном счете свойствами отражаемого в мышлении человека и независимо от него действующего мира предметов, событий, отношений и т. п.
<...> Поэтому несопоставимость семантических членений естественных языков не следует преувеличивать» (77, с. 605). Полагаем, что приведенные суждения подтверждают правомерность некоторых, достаточно широких, обобщений.
I. О терминологии
Согласно намеченному плану статьи, первый ее раздел будет посвящен сопоставлению научного, в первую очередь терминологического, аппарата языко- и музыковедения, в отношении которых наблюдается множество поражающих аналогий. Суть сказанного относится
к факту не только «лексических» совпадений, которые можно наблюдать в самом широком круге явлений, разных сферах человеческой деятельности. Речь пойдет об аналогиях (а подчас и более прямых совпадениях) не только термина как слова, но слова как собственно термина,
который отражает сходные явления и процессы, имеющие место как
в области вербального языка/текста, так и в области языка/текста музыкального.
Термин (если он действительно научный термин!) — не просто
условное название, клише, «ярлычок». Термин только тогда можно считать термином, когда он входит в систему терминологии какого-то круга
явлений, прежде всего — какой-либо науки. «Терминология лингвистическая, как терминология любой научной области, — это не просто спи-
О некоторых аналогиях в структурах...
243
сок терминов, а семиологическая система, то есть выражение определенной системы понятий, в свою очередь отражающей определенное
научное мировоззрение. Возникновение терминологии вообще возможно лишь тогда, когда наука достигает достаточно высокой степени развития, то есть термин возникает тогда, когда данное понятие настолько развилось и оформилось, что ему можно присвоить совершенно
определенное научное выражение» (77, с. 609). Весьма образную «формулу» упорядоченной терминологии предлагает Н. Юшманов, утверждая, что «упорядоченная терминология должна дать двустороннее соответствие:
Зная термин, знаешь место в системе.
Зная место в системе, знаешь термин» (цит. по: 44, с. 124-125).
Учитывая сказанное, можно представить себе, во-первых, какое
важное значение для науки имеет четко упорядоченная терминологическая система, а во-вторых (если система упорядочена), насколько
возможность использования одинаковых терминов способна отразить
близость отражаемых ими явлений и процессов.
Для создания более наглядной картины терминологических аналогий предлагается своеобразный «словарь соответствий», в котором
алфавитный перечень совпадающих в науке о языке и науке о музыке
терминов будет снабжен краткими аннотациями, комментирующими
«нюансы» значений этих терминов в условиях разных наук. Отдельный раздел будет посвящен описанию сходных явлений и процессов,
обозначаемых, тем не менее, разными названиями. И, наконец, в нескольких словах будут отмечены те (немногие!) случаи, когда совпадающие в музыкознании и языкознании термины будут относиться к разным по сути явлениям.
Словарь соответствий
Акцент (лат. accentus — ударение). В музыковедении используется как термин главным образом слово «акцент». В языковедении —
оба термина (и акцент, и ударение), но, пожалуй, чаще — ударение, хотя
обычно, как его синоним, тут же приводится «акцент», с указанием на
происхождение от латинского слова «accentus». Расшифровка термина совпадает почти буквально:
Акцент — «выделение звуков или аккордов. Создается... усилением (динамический акцент, ударение)... иногда увеличением дли-
244
IV. Аналогии и параллели
тельности (агогический акцент). <...> Объединению мотивов во фразы
служат фразовые акценты» (42, с. 24).
«Ударение (акцент) — выделение в речи той или иной единицы...
с помощью фонетических средств. <...> Ударения различают словесное, синтагматическое, фразовое. <...> Выделяется 3 фонетических
компонента ударения...: 1) интенсивность... (основанное наэтом свойстве ударение называют динамическим); 2) высота голосового тона (по
этому признаку выделяется музыкальное ударение...); 3) длительность... — количественное... (77).
К сказанному необходимо сделать примечание, смысл которого
распространяется не только на термин «акцент», и потому во многих
аналогичных случаях повторяться не будет. Суть в следующем. Понятие «акцент» как указывающее на выделение какого-либо элемента из
общего ряда, действенно для огромного ряда разнообразных явлений.
Можно говорить об акценте на каком-нибудь элементе картины, здания, на существенной мысли научного трактата, на важнейшей черте
характера литературного персонажа и т. д. Но музыка и вербальная речь
объединяются идентичностью форм существования и осуществления
этого акцента в определяющей точке текста: динамикой, повышением
тона, увеличением длительности. Именно это и дает основания для
включения термина «акцент» в предложенный «словарь соответствий».
И только при подобных условиях будут включены в этот «словарь»
остальные совпадающие термины.
Диалект (греч. dialektos — разговор, говор, наречие). В языкознании термин определяет «разновидность данного языка, употребляемого в качестве средства общения лицами, связанными тесной территориальной, социальной или профессиональной общностью. Различают
социальные и территориальные диалекты (77, с. 132).
В музыковедении понятие диалекта находит наиболее широкое
применение в фольклористике, составляя один из важнейших аспектов исследования народного творчества. Диалект в музыкальной фольклористике исследуется, прежде всего, как явление территориальное
и предполагает изучение не только на линейно-звуковысотном уровне
(строение мелодических оборотов, попевок и т. п.), но и, особенно, подобно лингвистике, на уровне фонологическом — манера произнесения, интонирования отдельных тонов (и звукотонов).
Инверсия (лат. inversio — перестановка, переворачивание). В музыке относится к изменению порядка следования тонов исходного пост-
О некоторых аналогиях в структурах...
245
роения (обращение, ракоход). В ЯБЭС читаем: «1) любое отклонение
порядка членов предложения от наиболее распространенного; 2) в узком понимании: такое отклонение от порядка членов предложения,
которое не связано с изменением синтаксических связей и актуального членения предложения» (77, с. 176).
Хотя в этом случае аналогию нельзя признать столь прямой, как,
к примеру, в отношении понятия «акцент», все же она, несомненно, имеет место. Значение инверсионных форм в полифонических формах
и серийной технике не требует объяснений. В вербальных языках дело
в разных случаях обстоит по-разному. В языках, где действует так называемый твердый порядок слов (английский, французский, немецкий,
казахский и др.), его изменение может повлиять на логический смысл
фразы. В языках же, в которых «порядок слов свободен, перестановка
слов... инверсия — очень сильное стилистическое средство; сравнить в русском: Я видел отца — Видел отца я — Отца я видел и т. п.» (44> с. 305).
Интонация (лат. intonio — громко произношу) — понятие, наиболее близко совпадающее в теории музыки и теории вербального языка.
В обоих случаях получает многостороннюю и многоаспектную характеристику. Прежде всего, это характеристика «материально-техническая», связанная с конкретными акустическими и временными параметрами (высота тона, точность тона, соотношение тонов по высоте
и длительности, наличие пауз и т. п.): «Высотные отношения звуков
в процессе музыкального движения; качество исполнения музыкальных звуков в отношении высоты, особенно при пении или игре на струнных инструментах» (26); «единство взаимосвязанных компонентов: мелодики, интенсивности, темпа речи и тембра произнесения. Некоторые
исследователи включают в состав компонентов интонации паузы. Вместе с ударением интонация образует просодическую систему языка»
(77, с. 197).
В то же время в обоих случаях имеется тенденция к указанию на
смысловую, содержательную сторону интонации: «многозначное понятие, выражающее воплощение музыкальной мысли, которая трактуется как проявление социально и исторически детерминированного
человеческого сознания. <...> Интонация — носительница музыкального содержания» (42} с. 214); «Интонация выполняет следующие функции: различает коммуникативные типы высказывания — побуждение,
вопрос, восклицание, импликацию... Выражает конкретные эмоции;
вскрывает подтекст высказывания; характеризует говорящего и ситуацию общения» (77, с. 197).
246
IV. Аналогии и параллели
Совпадает и тот факт, что определения, данные как музыковедами, так и языковедами в разных источниках не идентичны: в одних акцентируются «технические», в других — содержательные, семантические характеристики. Но задача настоящей работы — не установление
определения истинного «в последней инстанции», а лишь указание на
родственность явления, настолько явную, что аналогия возникает даже
на уровне научных дефиниций.
Контекст (лат. contextus — соединение, связь). Понятие, широко
используемое и в музыкознании, и в языкознании. Одно из удачных
определений контекста как его соотношения с действием грамматических «правил», дает М. Арановский: «Контекст — система отношений,
определяющая поведение элемента в тексте» (4, с. 51). И далее Арановский указывает на три возможные соотношения конктекста и грамматики: 1) контекст подтверждает грамматику; 2) контекст отрицает
грамматику; 3) контекст преобразует грамматику. Всем трем случаям
можно найти подтверждение, как в вербальной речи, так и в музыке.
Так, например, трезвучие си-бемоль мажор в оркестровом вступлении
к арии Онегина из третьей картины «Лирических сцен» (см. пример 5
на стр. 160 настоящего издания) «грамматически» является трезвучием
IV ступени фа мажора, которым начинается это вступление. Но окруженное опевающими тонами ми и до-диез, в контексте с ними, создает
впечатление прерванного каданса (VI ступень) ре минора. В вербальном языке грамматические «коллизии», возникающие от контекста, неисчислимы и во множестве приводятся в самых различных языковедческих работах.
Мелодика. В музыковедении термин используется как обобщающий свойства некоторого ряда мелодических явлений: свойств, присущих мелодическим образованиям какого-либо композитора (мелодика
Чайковского, Прокофьева и т. п.), стиля (мелодика классицизма, романтизма, современной музыки и т. п.). Производное от греч. melodikos,
в музыкознании понятие «мелодика» как обобщение отличается от
понятия «мелодия» как предмета обобщения. Мелодия же, в свою очередь, может рассматриваться на двух уровнях: 1) как принцип связи тонов — последовательности (в отличие от гармонии — связи в одновременном звучании; см. у Ю. Тюлина: «Последование двух тонов образует
мелодический минимум» (64, с. 19). Пожалуй, в этом смысле точнее была
бы форма прилагательного — мелодическая связь); 2) как мелодия —
О некоторых аналогиях в структурах...
247
конкретная данность — определенным образом оформленное одноголосное музыкальное построение («одноголосно выраженная музыкальная мысль» — 42).
В языкознании употребляется в основном термин мелодика, хотя
в расшифровке близко совпадает со вторым значением музыковедческого понимания «мелодии». Определяя мелодику речи как «основной
компонент интонации» ЯБЭС указывает: «При лингвистическом анализе мелодики речи учитываются мелодические диапазоны (разница
между высшей и низшей точкой изменения частоты основного тона), интервалы (соотношение между этими точками в музыкальных терминах октав, квинт, кварт и т. д.), пики, степень крутизны повышения и понижения тона, направление движения частоты основного тона (вверх,
вниз, ровное), уровни (от трех до шести в различных школах» (77, с. 292).
Как подобный метод анализа вполне аналогичен музыковедческому.
Орфография (греч. orthos — правильный и grapho — пишу) — исторически сложившаяся система единообразных написаний, которая
используется в письменной речи» (77, с. 350). Это определение, как
относящееся к вербальному языку, можно считать вполне действенным
для языка музыкального. Оно постоянно используется как в учебных
курсах, так и в теоретических исследованиях именно с таким смыслом.
Как представляется, понятие «орфография» в его прямом значении (не
метафорически) приложимо только к системам вербального языка и музыки как требующих наличия способа фиксации звуковой («сиюминутной») информации в формах, позволяющих закрепить ее во времени.
Как в вербальном языке, так и в музыке орфография включает
в себя графику, то есть систему начертаний отдельных единиц текста
(в вербальном языке — фонем, знаков препинания, в музыке — отдельных
нот, пауз и т. д.) и особенно орфографию, систему написания в вербальном языке «значащих единиц языка — морфем, слов, словосочетаний,
предложений (38, с. 306), в музыке — правил записи организованного
текста. Аналогичность форм и функций орфографии в вербальном языке и музыке очевидна.
П о в ы ш е н и е / п о н и ж е н и е тона. Понятие, используемое аналогичным образом в обеих системах (вербальной — музыкальной). Различие
кроется, прежде всего, в свойствах самого тона, обладающего точно фиксированной (особенно в европейской профессиональной музыке X V I I XIX столетий) высотой и высотой приблизительной (речь). Однако
248
IV. Аналогии и параллели
соотношение высот, то есть собственно повышение и понижение, всеми филологами признается и отмечается как важный фактор и на уровне интонации, и на уровне значения отдельных слов. Последнее — главным образом в образовании так называемых музыкальных ударений:
«Музыкальные ударения выделяют звук уже не силою звука, а его высотой» (20, с. 108).
Период, предложение. В функционировании этих понятий аналогия обнаруживается лишь на самом общем уровне: и в музыковедении, и в языковедении они используются для обозначения структурных единиц речи. Вообще, применительно к вербальному языку термин
«период» фигурирует более в литературоведении, чем в лингвистике
(например, говорят о длинных периодах у Гоголя). В некоторых специальных языковедческих словарях рубрика «период» вообще отсутствует. Его можно найти лишь в «Словаре современного русского литературного языка»: «сложное синтаксическое построение, состоящее из
одного сложного предложения или из соединения группы предложений, характеризуемое подробным развитием мысли и ритмической законченностью интонации» (54, т. 9, с. 1026). Конкретная структурная
характеристика этих элементов как и их соотношение друг с другом не
адекватно в языке и музыке, что будет подробнее рассмотрено в соответствующем разделе.
Синтагма (греч. syntagma — вместе построенное, соединенное).
Языковедение дает двоякое определение синтагмы. Одно — с акцентом на структурной стороне: «Последовательность двух (и более) языковых единиц (морфем — «дом-ик», слов — «старый дом», словосочетаний, предложений), согласованных определенным типом связи
(например, определительной)» (77, с. 447). Другое — с акцентом на содержательной стороне: «Интонационно-смысловое единство, которое
выражает в данном контексте и в данной ситуации одно понятие и может состоять из одного слова, группы слов и целого предложения... Членение потока речи на синтагмы достигается, как особым оформлением
границ между синтагмами, так и объединением слов внутри синтагмы.
Основное средство членения на синтагмы — пауза, которая выступает
обычно в комплексе с мелодикой речи» (там же). Именно это последнее
определение наиболее близко к тому, как проявляются синтагмы в музыке, где они отделяются друг от друга не только прямо обозначенными паузами, но и «дыханием», цезурами, возникающими при повторе-
О некоторых аналогиях в структурах...
249
нии сложных мотивов или фраз, например, при секвенцировании (см.
о синтагмах в музыке: 69, с. 57; 50, с. 144).
Синтаксис (греч. syntaxis — построение, порядок). Грамматика
«связной речи», «грамматика единиц более высоких, чем слово». Синтаксис начинается там, где мы выходим за пределы лексической единицы — слова или устойчивого сочетания слов, там, где начинается связная речь, с ее свободной комбинацией лексических единиц в рамках
переменного словосочетания и предложения» (20, с. 219). «Раздел грамматики, изучающий процессы порождения речи: сочетаемость и порядок следования слов внутри предложения, а также общие свойства предложения как автономной единицы языка и высказывания как части
текста» (77, с. 448). В музыкознании к синтаксическим законам относят все формы, признаки и принципы членения материала, соподчиняемость отдельных структурных единиц текста, принципы объединения
более мелких построений в более крупные. Иными словами, сущность
понятия «синтаксис» вполне идентична в языко- и музыкознании.
Соподчинение (подчинение, согласование). Термин употребляется, как в музыкознании, так и в языкознании. В широком смысле —
выражает связность и иерархичность сопряжения частей целого. В музыковедении — используется больше всего применительно к характеристике ладовой организации (см. ниже, стр. 280). В языкознании —
наиболее определенно относится к соотношению главного и придаточного предложений: «В случае, когда имеется два и более придаточных
(предложения), но они подчинены одному главному, имеет место соподчинение» (44, с. 142). Но, по существу, это понятие обнимает собой
и такие формы отношений, как подчинение, согласование, управление.
Подчинение состоит в том, что «один элемент... является главенствующим, определяемым..., другой элемент... — подчиненным, зависимым,
определяющим... Согласование во многих языках используется как средство выражения подчинительной связи... Управление состоит в том, что
одно слово вызывает в связанном с ним другом слове появление в нем
определенных графем» (20, с. 221-223). Таким образом, глубинная сущность термина во всех случаях весьма близка.
Текст (лат. textus — соединение, связь, ткань) — «1) последовательность предложений, слов (в семиотике — знаков), построенная согласно
правилам данного языка, данной звуковой системы и образующая сооб-
250
IV. Аналогии и параллели
щение. 2) Словесное произведение; в художественной литературе — законченное произведение либо его фрагмент, составленный из знаков
естественного языка (слов) и сложных эстетических знаков (слагаемых поэтического языка, сюжета, композиции и т. д.)». Это определение «Музыкального энциклопедического словаря» (42, с. 1327) вполне аналогично определению текста в ЯБЭС: «Объединенная смысловой
связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами
которой являются связность и цельность» (77, с. 507).
В современной теории текста, в связи с развитием семиотики,
появилась весьма широкая трактовка понятия, позволяющая применить термин «текст» к любой знаковой системе («текст танца», «текст
города» и т. п.). Представляется, что такая расширительная трактовка
термина несколько размыкает его границы (понятие «текст» как бы
приравнивается к понятию «содержание»), что в определенной мере
приводит к метафоричности. Бесспорно же одно: на сегодняшний день
«текстовость» слова и музыки отличается от других коммуникативных
систем возможностью фиксировать звуковой материал в «отличной по
способу, но адекватной по содержанию», письменной форме. И это вновь
подтверждает внутреннюю близость системы выражения5.
Тембр (франц. timbre) — окраска звука; одни из признаков звука
музыкального (наряду с высотой, громкостью, длительностью; 42, с. 541).
В языкознании: «Акустика различает в звуке следующие признаки:
1. Высоту... 2. Силу... 3. Длительность... 4. Тембр звука, то есть индивидуальное качество его акустических признаков. <...> Тембр звука —
явление сложное, содержащее в себе основной тон и шум (или их комбинацию), гармонические обертоны (если есть основной тон) и резонаторные тоны» (44, с. 159-161).
Тон (греч. tonos — натяжение, напряжение). Термин, широко применяемый и в музыке и в языкознании. Определяется одинаково, как
звук, образованный периодическими, равномерными колебаниями
(в отличие от шумов, образуемых непериодическими колебаниями).
В языкознании подробно анализируется при исследовании гласных звуков и при изучении так называемых тональных языков. В тональных
языках, как известно, изменение высоты тона, его «высотная кривая»,
:> Специально музыкальному тексту и его соотношению с текстом вербальным
посвящена уже упоминавшаяся книга М. Арановского (4).
О некоторых аналогиях в структурах...
251
обладает лексическим и грамматическим значением. Тон и его возможности в языкознании безусловно относят к музыкальным свойствам языка.
Фраза — см. комментарии к термину «период».
Эллипсис (греч. elleipsis — опущение, недостаток). В языкознании — «пропуск в речи или тексте подразумеваемой языковой единицы, структурная "неполнота" стилистической конструкции... В сфере
предложения... : пропуск того или иного члена предложения, компонента высказывания... легко восстанавливается из контекста» (77, с. 592).
В качестве примеров обычно приводят высказывания такого типа: «Еще
тарелочку!» (И. Крылов), в котором налицо одно дополнение, а сказуемое и второе дополнение (чего именно тарелочку) опущены, или:
«Татьяна — "ах!", а он — реветь» (А. Пушкин). Примеры приведены по:
44, с. 144.
В теорию музыки термин «эллипсис», как известно, был включен
для обозначения пропуска разрешающего аккорда, при мелодико-гармонической модуляции, в цепочках неразрешающихся в консонансы
диссонирующих созвучий, то есть, в широком смысле слова — как также опущение подразумеваемой, в данном случае — ладовой, единицы
текста. Добавим, что в стабильной системе мажоро-минора, к которой,
собственно, и применяется этот термин, пропускаемая тоника обычно
также легко устанавливается из контекста.
Предлагая «словарь соответствий», необходимо отметить и такие
случаи, когда одним и тем же термином в языкознании и музыкознании обозначаются разные явления, во всяком случае, такие, которые
имеют лишь отдаленную общность. Сохраним принятый алфавитный
порядок и продолжим перечисления.
Аранжировка (франц. arranger — букв, приводить в порядок, устраивать) — «переложение музыкального произведения для иного по
сравнению с оригиналом исполнителей» (42, с. 37). В языкознании используется для указания на порядок слов, см. у Ю. Маслова: «...обозначение синтаксических связей с помощью аранжировки, то есть расположения, порядка слов» (38, с. 225).
Вариантность, вариант, вариация (лат. variatio — изменение).
В самом общем плане, в той мере, в какой термин применим (и приме-
252
IV. Аналогии и параллели
няется) к самым различным явлениям действительности («вариант
романа», «вариант костюма» и т. п.) содержание термина близко и в вербальном языке, и в музыке: разные формы выражения единой сущности; видоизмененные повторы данного; различающиеся проявления
исходного варианта. Но как специфический термин имеет разное значение в языке и в музыке. В музыке понятие варианта, вариации и вариационности относится к уровню-мотивно-тематическому (как метод
развития) и композиционному (как принцип строения целостной формы). В языкознании понятие варианта, вариации, вариантности первоначально относилось к уровню фонем. Так, А. Реформатский, говоря о вариативности фонем, даже противопоставляет вариант вариации
фонемы: «Вариации (фонемы. — Т. Б.) не затрагивают смысла и обычно не замечаются говорящим... а варианты отражаются на понимании»
(44, с. 219). Заметим, что такое противопоставление варианта и вариации как различающихся по внешним формальным (не функциональным) признакам, встречается и в музыковедении, хотя представляется, что правильнее в данном случае был бы подход функциональный
(вариация — вторична; вариант — равноправен). «Под вариантами стали понимать разные звуковые реализации одной и той же единицы —
фонемы» (77, с. 81). Однако позднее из фонологии понятие вариантности было перенесено и на другие уровни языка: «Все единицы языка
вариативны, то есть представлены в множестве вариантов. <...> Само
бытие отдельной единицы языка есть ее варьирование, сосуществование множества ее вариантов» (там же). И все же, несмотря на все расширяющийся диапазон использования термина «вариантность», в языкознании он остается применимым главным образом к отдельным
единицам языка и не переходит на уровень композиции текста.
Дополнение. Понятие, относящееся к совершенно разным аспектам и уровням. В языкознании — указание на определенный член предложения (категория функциональная). В музыковедении — «послекаденционное закрепляющее построение», добавленное к завершенному
кадансом периоду (категория, прежде всего, структурная).
Консонанс (муз.), консонантизм (верб.) Хотя оба эти термина
происходят из общего источника (лат. consonans — согласно звучащий),
каждый из них отталкивается от разных производных и имеет совершенно разный смысл. В музыкознании термин берет за основу латинскую форму consonans, в переводе — именно «согласное звучание»,
О некоторых аналогиях в структурах...
253
и обозначает определенную степень акустической сливаемости тонов
в одновременном звучании. В языкознании за основу берется родительный падеж consonantis — согласный звук, и термин относится к системе
согласных данного языка. «Отношение количества согласных к количеству гласных в слове определяется как консонансный коэффициент»
(77, с. 237).
Модальность (лат. modus — мера, способ). При едином порождающем слове содержание термина, опять же, совершенно различно. В музыкознании под модальностью понимается техника, способ сочинения,
основанный на использовании определенных модусов — закрепившихся
попевок, ритмических формул, «правил» построения целого, фиксированных звукорядов. Как система — сложилась в западноевропейской
церковной музыке раннего средневековья, хотя термин нередко используется и в применении к современной музыке, особенно основывающейся на «изобретенных», так называемых «искусственных» звукорядах.
В языкознании под модальностью понимается «функционально-семантическая категория, выражающая разные виды отношения высказывания к действительности, гтгкже разные виды субъективной квалификации сообщаемого» (42, с. 303). Модальность в вербальном языке
подразделяют на объективную, выражаемую грамматическими способами (прежде всего, глагольным наклонением — изъявительным или
повелительным), и субъективную, главным способом выражения которой служит интонация (утверждение, сомнение, неуверенность и т. п.).
Наклонение. В музыкознании под наклонением понимается
«окраска звучания», впечатление, производимое характерной для данного звукоряда интерваликой. Наиболее устойчивым определителем
наклонения принято считать отношение терцового тона с тоническим,
позволившим разделить все многообразие возможных интервальных
характерностей на два основных — мажорное и минорное. Но еще Г. Риман в своем музыкальном словаре предложил дорийскость, фригийскость и т. п. определять как наклонение, что представляется вполне
оправданным, если учесть, что «дорийские сексты», «фригийские секунды», «лидийские кварты» мы различаем на слух не менее четко, чем
мажор и минор. Таким образом, наклонения в музыке образуют достаточно широкий спектр.
Языкознание определяет наклонение как грамматическую категорию,
выражающую «отношение действия, названного глаголом, к действи-
254
IV. Аналогии и параллели
тельности, с точки зрения говорящего» (там же, с. 321). В. Виноградов
считает наклонение «грамматическим способом выражения модальности» (там же). В разных языках устанавливается разное количество наклонений, от трех, как в русском (изъявительное, повелительное, сослагательное), до десяти (якутский), двенадцати (тюркские).
Не подлежит сомнению, что музыкознание и языкознание относят термин «наклонение» к разным структурам языка. И все же некоторую, очень отдаленную аналогию между ними можно подметить. Ведь
и здесь, и там речь идет о своего рода эмоциональной окраске высказывания. Кроме того, небезынтересно, что в обоих случаях понятие наклонения соприкасается с явлением модальности.
Форте (итал. forte — сильно, громко). Термин, в музыке употребляющийся для обозначения силы звучания, громкости звука. В языкознании обозначает силу выдоха (энспирации) при произнесении глухих
согласных, благодаря чему эти согласные и получили название fortes,
в противовес звонким согласным, у которых сила выдоха слабее, и они
называются cenes — слабые (44, с. 172).
Перейдем к рассмотрению аналогичных форм, явлений и процессов вербального языка и языка музыкального, обозначаемых несовпадающими терминами.
Узнавание некой данности как основы (инварианта) множества
производных. В вербальном языке — узнавание слова (лексемы) в его
различных грамматических преобразованиях, явление, получившее название деривации (лат. derivatio — отведение, образование). «Процесс
создания одних языковых единиц на базе других, принимаемых за исходные» (77, с. 129). В широком смысле слова деривация понимается
как «обобщенный термин для обозначения словоизменения (inflection)
и словообразования (wordformation) вместе взятых... В процессе деривации происходит изменение формы (структуры) и семантики единиц,
принимаемых за исходные» (там же).
Прямой аналогии с музыкой здесь быть не может, поскольку музыка не имеет закрепленных одинаково для всех художественных текстов семантически значимых единиц-знаков. Однако, параллели все же
возможны, если учесть, какое неоспоримо важное значение для формообразования и «сюжетного», событийного развития имеют в музыке преобразования исходного тематического материала, мотива, предстающего на протяжении текста и как «тот же самый», и в то же время
О некоторых аналогиях в структурах...
255
как совсем иной. Вряд ли здесь необходимы примеры. Мотивное развитие — важнейшее средство музыкальной драматургии.
Тем не менее, налицо и существенные различия. В суждениях о деривации применительно к вербальному языку речь идет о процессах
словопроизводства и словобразования на уровне данного языка в целом, уровне языковой системы, действенной для всех, использующих
этот язык, текстов. В музыке мотив, тематический оборот имеют значение узнаваемого элемента только в пределах данного произведения,
и потому все аналогии с «вербальной деривацией» возможны только
на уровне данного конкретного текста. Более близким к вербальной
деривации можно считать вариантное претворение отдельных оборотов-формул, закрепившихся в музыке как межэпохальные структуры
и приобретших статус знака — таких, например, как dies irae. Но это
все же частные случаи (подробно о параллелях с деривацией см. 4).
Несомненно, аналогичным для вербального языка и музыки является установление в каждой из систем фиксированных признаков
членения — знаков препинания в вербальном языке и закрепленных
кадансовых формул в музыке. Сходно с тем, что говорилось о деривации, и соотношение тех форм, в которых эти признаки выражаются:
более единообразных для разных (во всяком случае, европейских) языков и более эпохально, национально и стилево различных в музыке.
Конечно, повторим, всякие прямые параллели, такие, например, как
предлагаемые Ж. Моминьи или Г. Риманом, о чем говорилось выше,
здесь недопустимы. Но общий принцип, как и градация формул по степени интенсивности цезуры (например, различие кадансов в мажорно-минорной системе) безусловны.
Множество параллелей выявляется при рассмотрении вербального языка и музыки как систем, образованных сочетанием «инвентаря»
(конкретных, материальных звуковых единиц) и «грамматики» (правил
сочетания этих единиц) — определение, данное еще Соссюром (55; подробнее об аналогиях между системой соподчинения слов как членов
предложения и функциональностью ладовых систем см. ниже). И в этом
отношении, как и в явлениях, описанных выше, вербальный язык предлагает формы более «всеобщие», более стабильные как внутри национального языка, так и между разными языками. Музыка же представляет огромное множество и разнообразие форм преломления общих
законов. Однако принципиальное сходство, принципиальная родственность законов грамматического соподчинения и форм их обнаружения
подчас поражают своей почти тождественностью (см. раздел III).
256
IV. Аналогии и параллели
Наконец, хочется упомянуть об аналогиях очень далеких, вероятно спорных, парадоксальных, но тем не менее не безынтересных. Одна
из таких «аналогий» — аккорд в музыке и сложные слова, а также устойчивые лексикализованные (то есть стремящиеся стать одним словом) словосочетания, идиомы в вербальном языке.
Особенно останавливают на себе внимание фразеологические сращения(В. Виноградов), «максимально застывшие лексикологические
словосочетания, где понимание целого не зависит от непонятных слов
("попасть впросак")... или же, где слова и формы понятны, но смысл
отдельных слов не разъясняет целого» (44, с. 127-128). Идиоматичность — это «несводимость целого к сумме частей», пишет Ю. Маслов
(38, с. 145). Не так ли можно определить и суть аккорда как гармонического элемента? Ведь тоны до-ми-соль только вместе, в целом аккорде окажутся способными выразить тонику до мажора, по отдельности же каждый может представить совсем другую функцию: тон соль
может «войти» в доминанту и даже самостоятельно репрезентировать
ее, тон до свободно подчиняется субдоминанте. И только вместе, в целом они предстанут тоникой. Целое не будет равно тому, что каждый
элемент может представить собой в отдельности! Чем не аналогия?
Еще больше «сходства» с аккордом представляют собой сложные
слова, например: землепроходец, самовар, Vergissmeinnicht (нем. — незабудка), stow-away (англ. — безбилетный пассажир) и т. п.
В вербальном языке существует такое понятие как клитики — безударные слова, образующие с ударным словом ритмическое единство
типа: «да Бог с ним!» или: «я бы пошел...» Некоторую, пусть и отдаленную, аналогию можно увидеть в отдельных случаях использования
мелизмов, особенно на слабых долях и в музыке эпохи барокко, раннего
классицизма, когда мелизмы не выписывались и достаточно свободно
трактовались и расшифровывались.
Параллели между вербальным языком и музыкой, аналогичность
некоторых научных категорий музыко- и языкознания далеко не исчерпываются тем, на что указывал представленный выше текст. Немало
сходного обнаруживается и в самом процессе познания, в тех сложностях, которые возникают в науке при попытках точно определить какие-либо явления и структуры. Причем характерно, что трудности возникают обычно при обращении как раз к тем структурам, которые
оказываются близко аналогичными в вербальном языке и музыке. Приведем несколько примеров.
О некоторых аналогиях в структурах...
257
Мотив (муз.) — слово (верб.). Помещение мотива и слова в одну
«рубрику» ни в коей мере не означает признания их прямой тождественности. Они объединены лишь потому, что оба представляют собой наименьший отделимый элемент текста, обладающий индивидуальной
осмысленностью.
Как же определяется мотив музыковедением? «Мотив — наименьшая самостоятельная единица формы музыкальной. Мотив имеет один
ритмический акцент, то есть равен одному такту» (42, с. 357; курсив
мой. — Т. Б.). Как видно, во главу угла определения мотива ставится
его метрическая характеристика, что восходит к метротектонической
теории Г. Римана. Никакого внимания интонационно-выразительной
стороне здесь не уделяется (об этом свидетельствует сам приведенный
пример — III часть Сонаты ор. 14 № 1 Л. Бетховена, в котором указанные границы мотивов «безжалостно» разрывают интонационное целое,
и вряд ли отмеченный фрагмент может быть принят за «самостоятельную единицу формы»). Прямо противоположное определение находим
у Ю. Тюлина: «Мотив надо понимать как музыкально-смысловой выразительный элемент темы... а не как метрически структурную "единицу" ее построения» (66, с. 46). Как видим, здесь во главу угла ставятся
интонационно-выразительные свойства мотива, но зато совершенно
размытыми становятся его границы. Существует много попыток «примирить» оба метода определения мотива, но трудно утверждать, что
они достигают полноценного успеха, особенно если учесть историческую и стилевую изменчивость музыкальных структур.
Не менее «зыбко» обстоит дело и с определением категории «слово» в языкознании. «Понятие слова считается ясным; на деле же это
одно из наиболее двусмысленных понятий, которые встречаются в языкознании» (9, с. 315). «Слово даже в пределах одного языка, а тем более — при сравнении между собой разных языков, оказывается единицей очень неопределенной, как с точки зрения своей структуры и своих
формальных признаков, так и с точки зрения своего смыслового значения» (38, с. 28). «Слово — наиболее конкретная единица языка», — пишет А. Реформатский, хотя чуть ниже признается: «Однако дать точное определение слова очень трудно. Многие лингвисты готовы были
отказаться от этого понятия» (44, с. 54). Ю. Маслов пишет о полемике,
имеющей место в языкознании по поводу служебных слов. Одни языковеды признают их равными знаменательным, другие же отрицают
вообще их право именоваться словами. С точки зрения последних выражение «у стола» оказывается «не сочетанием двух слов (поскольку
17
Зак. 5 9 7
258
IV. Аналогии и параллели
"у" нельзя употребить самостоятельно), а либо сочетанием слова и неслова, либо же, — если не требовать от слова линейной нерасторжимости — одним (расторжимым) словом» (38, с. 107). Как это напоминает
разночтения в определении мотива!
Во многом упорядочить проблему помогает Я БЭС, предлагая, как
представляется, единственно продуктивный путь: рассмотрение слова
многоуровнево и многоаспектно. «Определение слова возможно, если
учитываются три обстоятельства, имеющие общеметодологическое значение: 1) признание отсутствия четких разграничительных линий между фактами языка, наличия промежуточных и синкретических явлений. <...> 2) В языковой системе и в речевой реализации слово имеет
разный объем признаков. <...> 3) Существенным для выделения и определения слова является фактор системности» (77, с. 466). Думается,
что подобный метод следовало бы применять при рассмотрении и определении любых, во всяком случае гуманитарных категорий.
Предложение, фраза, период, высказывание. Не надо удивляться объединению такого количества понятий в одну рубрику. Все они
имеют один общий признак — являются формами членения текста, хотя
нередко относящимися к разным аспектам (синтаксическому в одних
случаях, композиционному — в других), все (предположительно!)
в каждом из аспектов должны были бы соотноситься друг с другом
иерархически, и, наконец, в определениях каждого из них, как в музыковедении, так и в языковедении наблюдается изрядная неупорядоченность, разнобой, смешение частного и общего, языка как грамматической системы и текста как продукта речевого его выражения.
Настоящая работа, тем более, в данном ее разделе, вовсе не предполагает какой-либо дискуссии по конкретным утверждениям, направленной на выявление «правых и виноватых», на установление «истины в последней инстанции». Не ставит она и задач полноценного обзора
всех имеющихся концепций периода, предложения, фразы и т. д., раскрывающего их эволюцию в исторической перспективе. Речь пойдет
только о том, как близко аналогичны трудности, возникающие в теории членения музыкального и вербального текста, как схожи пути, которыми идут музыковеды и языковеды в поисках наиболее адекватных
явлению понятий и терминов. Приведем несколько примеров, иллюстрирующих сказанное, начав с музыковедения.
Каждому, даже начинающему, музыковеду известно, с какими
трудностями, с каким разнобоем во мнениях приходится сталкиваться
О некоторых аналогиях в структурах...
259
при попытках определить, что же такое «период». Наука о форме в своем стремлении определить период, бросалась от количественно-структурного — два, три, четыре (а то и одно!) предложения (Г. Риман, Г. Катуар) — к чисто «содержательному» (период — законченная мысль, по
И. Способину), затем к попытке объединить структуру и «содержательность» в одном определении, так в конце концов ни на чем и не остановившись. Например, Катуар, определив мотив как однотакт, фразу как
двутакт, построение (понятие «предложения» у него отсутствует) как
четырехтакт, утверждает: «Симметрию из двух музыкальных построений, завершающуюся полной (реже половинной) каденцией и имеющую значение более или менее самодовлеющего целого мы будем называть периодом» (29, с. 68). «Периодом называется относительно
законченная мысль, завершающаяся каденцией в первоначальной или
другой тональности» (57, с. 56). Оставим без комментариев «мысль,
завершающуюся каденцией»! «Период — это определенная (как правило, наименьшая из возможных) форма законченного изложения музыкальной мысли в гомофонной музыке... Части, на которые делится
период, называются предложениями. Предложение состоит из двух
фраз» (36, с. 155).
Итак, период определяется то как результат суммирования более
мелких структур, то, наоборот, сам служит отправной точкой для определения предложения, фразы, мотива. Попытку «спасти положение»
делает Ю. Тюлин, вообще отказываясь от «формульного» определения
периода и заменяя его подробным описанием различных возможных
случаев (66, с. 52-80). Кроме того, он «узаконивает» катуаровский термин «построение» как правомочный определять любой заключенный
между двумя (равновесными!) цезурами участок текста, независимо от
его внутренней структуры, что, конечно, облегчает практический анализ, но не вносит теоретической ясности.
Вполне аналогичную ситуацию можно наблюдать и в языкознании (причем, заметим, в том же самом аспекте исследований). Так, например, определение фразы выглядит следующим образом: «Фраза —
основная единица речи, выражающая законченную мысль; смысловое
единство... создается интонационными средствами... а также определенной синтаксической структурой... В нестрогой терминологии — то же,
что предложение» (77, с. 558-559). У А. Реформатского читаем: «Фраза — это самая крупная фонетическая единица... Ни в коем случае нельзя
отождествлять грамматическую единицу (предложение) и фонетическую (фразу)» (44, с. 190-191; курсив мой. — Т. Б.).
260
IV. Аналогии и параллели
Предложение в ЯБЭС определяется как «одна из основных грамматических категорий синтаксиса, противопоставленная в его системе
слову и словосочетанию... В широком смысле это любое... высказывание (фраза), являющееся сообщением... В узком... — это такая единица
сообщения, ...которая обладает предикативностью» (77, с. 395). Реформатский, критикуя «школьное» определение предложения как «сочетание слов или отдельное слово, выражающее законченную мысль»
(отметим, как это напоминает некоторые музыковедческие определения,
например, способинское определение периода!), предлагает определять
предложение чисто грамматически-. «Предложение — это высказывание, содержащее предикативную синтагму» (44, с. 332). Ю. Маслов, рассматривая предложение как «минимальную коммуникативную единицу языка и речи» (38, с. 232), именно коммуникативность считает его
определяющей чертой: «Специфика предложения по сравнению со всеми "нижестоящими" языковыми единицами заключается в том, что
предложение есть высказывание, что оно коммуникативно» (там же,
с. 334). Итак, А. Реформатский определяет предложение, исходя из
грамматически структурных характеристик, Ю. Маслов — из функциональных, а ЯБЭС предлагает объединить (как представляется, довольно
механически) оба критерия.
Весьма расплывчаты границы столь часто используемого языковедами термина «высказывание». Так, например, в ЯБЭС определение
высказывания оказывается, по существу, тождественным определению
фразы. Фраза, напомним, определяется как «основная единица речи»,
высказывание же как «единица речевого общения», и на какое-либо различие между этими категориями не указывает. Далее. Словарь прямо
говорит о неединообразности теоретического освещения проблемы:
«Высказывание определяется по отношению к понятию предложения.
В зависимости от разных... теоретических подходов отличие высказывания от предложения видят в объеме, структурном, содержательном
и функциональном планах. В первом случае, высказывание считается
единицей шире предложения...; в некоторых теориях... высказывание —
либо законченный в смысловом отношении текст между паузами (даже
целая речь или роман), либо единица уже предложения» ( 77, с. 90). Не
напоминают ли столь размытые, смешивающие разные аспекты и уровни, контуры термина «высказывание» музыковедческое понятие «построение»? Вспомним: «Формы строения музыкальной речи, называемые
просто построениями, весьма многообразны. К основным построениям относятся: фраза, предложение, период. Существуют также свобод-
О некоторых аналогиях в структурах...
261
пые и сложные построения, которые не принадлежат к основным» (66,
с. 52). На наш взгляд, аналогия напрашивается сама собой.
Изложенный выше материал был призван показать, какие близкие параллели возникают порой между явлениями вербального языка/речи и музыки, параллели, позволяющие науке о языке и науке о музыке нередко пользоваться сходными и даже одинаковыми терминами6.
В то же время, вопрос о сущностной стороне явлений затрагивался лишь
попутно, вскользь и во многом скорее декларативно, чем доказательно.
Следующие разделы посвящены рассмотрению аналогий между вербальным языком и музыкой на других уровнях — аналогии морфологические и аналогии синтаксические (последние — в аспекте логических систем соподчинения, аналогии между грамматикой предложения
в вербальном языке и ладовой системой музыки). И, как представляется, параллели, возникающие на этом уровне, не менее ощутимы.
II. О морфологии
Музыкальный язык, как и язык вербальный, обладает и своим
«инвентарем» — системой значащих единиц, и своей «грамматикой» —
системой «правил функционирования единиц, то есть правил порождения осмысленного высказывания и, соответственно, правил понимания этого высказывания» (38, с. 7). Единство звуковой (звучащей, озвучивающей) природы исходного материала вербального языка и музыки
предполагает наличие многих общих черт между ними, хотя знаковая
сущность языка и незнаковость музыки требует установления определенной границы возможных параллелей. Оставим пока в стороне вопрос о соотносимости смысла значащих единиц языка музыкального
и языка вербального, то есть об «инвентаре», и остановимся на вопросах грамматики.
6 Пожалуй, даже трудно установить, в музыкознании или языкознании тот или
иной термин впервые нашел свое применение. Предположительно, приоритет принадлежит языкознанию, хотя, заметим, что сами названия чаще всего корнями уходят
в средневековье и даже античность, где, вероятно, вряд ли существовала четкая граница между наукой о музыке и наукой об искусстве слова. Добавлю, что недавно в одной
из статей ЯБЭС мне попалось выражение «звукоряд», примененное к расположению
(последованию) фоном в слове. В других языковедческих работах я с таким термином
до того не сталкивалась. Нет соответствующей специальной статьи и в самом Словаре.
Можно лишь предположить, что со временем он станет общеупотребительным, придя
в языкознание из музыки.
262
IV. Аналогии и параллели
Грамматика (греч. grammatike — буква, написание) — «строй языка, т. е. система морфологических категорий и форм, синтаксических
категорий и конструкций, способов словопроизводства» (77). Не затрагивая пока проблем словообразования (словопроизводства), возьмем за основу традиционное «двучленное» представление о грамматике как объединяющей в себе морфологию и синтаксис.
Морфология — «грамматика слова» (38, с. 163), или, более развернуто, «система механизмов языка, обеспечивающая построение и понимание его словоформ» (77). Синтаксис, как уже отмечалось в разделе I, —
«грамматика связной речи (и вообще единиц, больших, чем отдельное
слово)» (38, с. 163). Более развернутое определение: «Синтаксис... —
1) характерные для конкретных языков правила создания речевых единиц; 2) раздел грамматики, изучающий процессы порождения речи:
сочетаемость и порядок следования слов внутри предложения; а также
общие свойства предложения как автономной единицы языка и высказывания как части текста» (77).
Музыковедение больше всего и подробнее всего изучало проблемы синтаксиса. Именно в этом аспекте проводилось особенно много
параллелей, в этом аспекте, чаще, чем в других, наблюдается наибольшее совпадение терминологии (см. раздел I). Сказанное нисколько не
противоречит утверждениям раздела III (см. ниже) о малой исследованности аналогий между ладовой системой музыки и системой соподчинения слов в связном предложении. Оно вполне справедливо, и указание на сходство терминологии и множество параллелей подразумевает,
скорее, чисто композиционный ракурс — членение, соотношение цезур, распределение тематического материала и т. п., но не уровень логической организации звуковысотной системы.
Значительно меньше разработан аспект морфологических аналогий вербального языка и музыки. И это вполне объяснимо. Морфология, как говорилось выше, это грамматика слова. Слово же — единица
вербального языка, хотя и не столь структурно однозначная, как это можно было бы предположить (см. раздел I), но все же достаточно определенная, хотя бы тем, что «накрепко» связана со своей знаковой сущностью, обеспечивающей его безусловную узнаваемость и вычленяемость
из контекста. Незнаковая природа музыки лишает мотив — ее элемент,
структурно допускающий сопоставление со словом, — подобной определенности, а поэтому и установление аналогий делается еще более условным, чем это возможно на уровне более крупных единиц построений. Тем не менее, некоторые аналогии все же попытаемся установить.
О некоторых аналогиях в структурах...
263
Итак, еще раз напомним, что морфология — грамматика слова.
Следовательно, для установления параллелей надо, прежде всего, найти тот структурный элемент музыкального текста, который был бы
аналогичен слову вербального текста. Ближайшим в этом отношении,
как только что было сказано, представляется мотив и структурно сходные с ним элементы, пусть даже именуемые по-разному: попевка, интонационный оборот и т. п. Существо вопроса заключается не в определении, а в важнейшем признаке: мельчайшая отделяемая и сохраняющая
узнаваемость на расстоянии и при преобразованиях частица музыкального текста. Приведем несколько определений, как представляется,
наиболее адекватно выражающих сущность мотива. «Мотив надо понимать как музыкальныо-смысловой выразительный элемент темы
(или тематического материала вообще)... В качестве такого выразительного элемента мотив всегда представляет собой мелодико-ритмический
оборот, в котором большую роль играет определенная гармония: в другой гармонизации он может приобрести совсем иное выразительное
значение» (63, с. 14). «Под мотивами надо подразумевать интонационные обороты, имеющие особое выразительное значение, и в том их объеме, в котором они придают теме характерные черты» (там же). «Мотив есть наименьшая часть музыкальной мысли, имеющая значение
смысловой (выразительной) и конструктивной (строительной) единицы» (36, с. 532). «Мотивом мы называем наименьшую музыкальную единицу, которая имеет значение характерной звуковой фигуры или последовательности тонов для композиции (произведения), или одной
из частей ее формы» (цит. по: 50, с. 68). Как можно заметить, при всем
различии формулировок, все они определяют мотив как наименьшую
отделяемую и при том обязательно тематически, то есть выразительно, содержательно, смыслово значимую единицу текста.
Сравним сказанное о мотиве с наиболее распространенными определениями слова, вспомнив при этом все то, что говорилось в разделе I
о зыбкости, неустойчивости этих определений и о том, что ими не
удовлетворены сами лингвисты (некоторые дополнительные рассуждения, касающиеся сущности понятия и определения слова см. далее).
Итак: «слово — наименьшая часть связной речи» (Дионисий Фракийский, цит. по: 77, с. 665). «Слово — основная структурно-семантическая единица языка... обладающая совокупностью семантических, фонетических и грамматических признаков... Характерные признаки слова —
цельность, выделимость и свободная воспроизводимость в речи» (77).
«Слово — минимальная относительно самостоятельная значащая еди-
264
IV. Аналогии и параллели
ница языка...», способная «функционировать в качестве минимального
(однословного) предложения либо в качестве члена предложения» (38,
с. 111). «Слово — минимально значащая, линейно нерасторжимая единица языка, обладающая синтаксической и позиционной самостоятельностью (может быть членом предложения и подвижно в предложении)»
(44, с. 54-55). «Слово — это кратчайшее самостоятельное сложное диалектическое и историческое единство материального (звуки, «формы») и идеального (значение)» (20, с. 99).
Даже самое поверхностное сравнение определений слова и мотива не позволит пройти мимо наличия безусловных совпадений. Это:
1) минимальность масштаба как отделимой единицы; 2) соединение
«материального и идеального», смысловой, содержательной (в музыке — тематической, узнаваемой) и структурной сторон. Посылки для
проведения аналогий налицо. Но не менее значительны и различия.
Наиболее существенное отличие вербального слова от музыкального мотива кроется в природе оформления и передачи информации,
знаковой в вербальном языке и принципиально незнаковой в музыке.
А следовательно, оно касается в первую очередь той части определений, которая говорит об «идеальной», смысловой, содержательной стороне «минимальных единиц» системы. Так, узнаваемость слова кж знака будет действовать безотносительно к границам какого-либо одного
конкретного текста, она распространяется на любой текст, составленный на данном языке. Иными словами, каждое слово является представителем глоссемы, общезначимого знака и элементом системы языка, выступая в тексте, в речи как единичная словоформа. Узнаваемость
на расстоянии и тематическая значимость мотива распространяется
только на данный текст, и каждый новый текст будет предъявлять свои
мотивы, свои значащие единицы. Поэтому каждый данный мотив —
категория не языка, а только речи, конкретного текста. Исключение
в этом соотношении составляют только совершенно особые случаи, как,
например: музыкальные цитаты, отдельные закрепленные эпохой интонационные обороты, «риторические фигуры» по типу барочных и т. п.
(подробно см. 25).
По-разному обстоит дело и в соотношении друг с другом различных, хотя и однокоренных слов вербального языка, с одной стороны, и видоизменениями вполне узнаваемого музыкального мотива — с другой.
Возможные изменения формы слов, происходящих от одного корня, так называемая деривация (от лат. derivatio — отведение, образование), относятся к системе языка как целостной абстрактной структуре
О некоторых аналогиях в структурах...
265
и представляют собой «процесс создания одних языковых единиц (дериватов) на базе других, принимаемых за исходные... В процессе деривации происходит изменение формы (структуры) и семантики единиц,
принимаемых за исходные» ( 77). При этом новообразованное слово может по смыслу далеко отходить от исходного образца (например, камень — каменщик, рыба — рыбак). Очевидно, что сам процесс деривации, повторим, относится к общему уровню языка как системы, но не
к уровню конкретного текста.
Принципиально иначе обстоит дело с видоизменениями мотива
как единицы музыкального текста — «мотивной работой». Будучи по
формальным признакам в чем-то близким, оно отличается по существу.
Как и в процессе деривации вербального языка, подобно сохранению
в этом процессе неизменяемого корня слова, в мотиве, чтобы он был
узнаваем «на расстоянии», должны оставаться неизменными какиелибо его составляющие: сохраняться ритм при изменении интервалики
(например, тема побочной партии увертюры П. Чайковского «Ромео
и Джульетта» при проведении ее в коде); сохраняться интервалика при
изменении ритмического рисунка (любое сочинение, написанное в додекафонной технике); сохраняться мелодическая линия при изменении фактуры и т. п. Самое же главное, что видоизменения мотива происходят и действуют всегда на уровне данного конкретного текста,
являясь важнейшим средством создания музыкальной драматургии.
Смысловые пересечения с другими текстами возможны только в тех
исключительных случаях, о которых говорилось выше.
Таким образом, подытоживая сказанное, можно придти к выводу,
что на уровне содержательном аналогия между вербальным словом
и музыкальным мотивом (попевкой, интонационным оборотом, и т. д.)
оказывается достаточно условной и требует множества оговорок, сводящих ее подчас к минимуму.
Несколько иначе обстоит дело с уровнем структурным, прежде
всего, в плане лежащей в основе, как вербального языка, так и музыки
«звуковой массы» и рождаемой на ее основе значащей (не обязательно
знаковой!) сущности. Лингвистикой, то есть наукой о «естественном
человеческом языке вообще и обо всех языках мира как индивидуальных его представителях» (77), этот вопрос разработан весьма подробно и тщательно.
При описании процесса перехода материальной субстанции (звучания) в идеальную, содержательную лингвисты выстраивают следующую схему:
266
IV. Аналогии и параллели
«Фон» (представитель фонемы в конкретной речи) — отдельный
звук (звучание); самостоятельно, изолированно незначим.
«Морф» (представитель морфемы в конкретной речи), изолированно, вне контекста — минимально значащая, неразложимая на более
мелкие значащие единица.
«Слово» (представитель лексемы в конкретном тексте) — линейно минимальное целое, но смыслово разложимое (разлагаемое) пъморфы, то есть более мелкие значащие единицы.
Далее следуют «предложение», «высказывание» и т. п., как уже
говорилось (см. раздел I), весьма неединообразно определяемые, но
в любом случае стоящие на новом уровне — уровне синтаксиса.
Каждый из установленных уровней оценивается с двух сторон,
лингвистами определяемых как план выражения — собственно звучание — и план содержания, — стоящий за этим звучанием смысл. Единицы, не несущие смысла, обладающие только планом выражения, называются единицами односторонними. Обладающие и планом выражения,
и планом содержания, относятся к единицам двусторонним. Таким
образом, к двусторонним единицам будут относиться слово (в тексте)
и морф (как двусторонние единицы речи), лексема и морфема (как двусторонние единицы языка). Односторонней единицей будет фон (в речи)
и фонема (в языке). Следует отметить, что на статус единицы количество составляющих его звуков не оказывает (или имеет весьма относительное) влияние. Так, например, в выражении «к столу!» и звук «к»
и окончание «у» будут морфами, то есть единицами двусторонними:
«к» — морф — предлог, имеющий совершенно определенный смысл,
«у» — морф, свидетельствующий о дательном падеже, также несущий
определенную информацию. Те же звуки «к» и «у» в слове, например,
«кукуруза», останутся лишь фонами, единицами односторонними, ибо
самостоятельно не несут никакого смысла. Статусом фона (и не более!)
может быть наделен дифтонг, а то и более сложные соединения звуков
(например, «ai» во французском языке и т. п.).
Не так ли в музыке ее физический материал, «звучащая масса»,
«звуковой поток» соотносится со структурой, высотно и временно организованной, приобретающей уже интонационное (по Асафьеву!) содержание, тематический, собственно художественный смысл? Представляется, что на этом уровне аналогия почти прямая (еще раз напомним,
что значимость самих выделяемых единиц, их «знаковость-незнаковость», языковая-речевая сущность в этом аспекте рассуждений в расчет не принимается).
О некоторых аналогиях в структурах...
267
Что такое тон, даже обладающий определенной высотой, тембром, длительностью и т. п., то есть всем тем, что позволяет считать его
музыкальным, вне контекста, вне сопряжения с другими тонами в ритмомелодическом единстве? Он остается единицей тематически незначимой, то есть, пользуясь лингвистической терминологией, аналогичной
фону, единице односторонней (о некоторой условности, детерминированности этой аналогии будет сказано ниже). Тот же тон, вовлеченный
в некое мотивное (попевочное и т. д.) образование, делается интонационно выразительным, несущим на себе «знак тематизма», то есть становится морфом, единицей двусторонней.
Аналогия простирается и дальше. Как и в вербальном языке, количество разных звучаний-тонов — не самый безоговорочный информатор о статусе единицы. Мы знаем мотивы, содержащие один тон (хрестоматийный тому пример — начало «Вальса-скерцо» П. Чайковского).
Единичный тон, тем более, ритмически организованный, образует вполне определенный мотив (например, известная детская песенка «Андрей-воробей»). О том, что один и тот же тон, попадая в разные условия,
может менять свой статус, не стоит и упоминать. Таким образом, в плане соотношения материи и смысла, причем именно на уровне структурном, вербальный язык и музыка предоставляют широкое поле возможностей для установления параллелей. Тем не менее, и в этом плане
требуется сделать некоторые уточнения. Они касаются все того же различия между вербальным языком и музыкой, которые проистекают из
их отношения к знаку. Целый ряд вербальных законов, действующих
и формулируемых на уровне системы языка, в музыке, как уже говорилось, действуют только на уровне текста, речи. Касается это и параллелей между фоном вербальных структур и тоном структур музыкальных, об условности которых только что упоминалось: фон в речи —
представитель фонемы в системе языка; тон в музыке в полностью аналогичном смысле (!) никогда не станет тонемой\ Рассмотрим этот вопрос более подробно.
Как говорилось выше, фон в системе вербального языка — единица односторонняя, то есть сама по себе, «не нагруженная» смыслом.
Это же можно сказать и о тоне в системе музыкальной, но лишь в определенном отношении, не безусловно! В вербальной речи фон как таковой — просто звучание, остающееся одним и тем же в каждом из морфов (или слов), в которые он попадает. В музыке тон просто звучанием
остается лишь как акустическое явление, звук, имеющий определенную
абсолютную высоту. Попадая же в конкретную интонационную ситуа-
268
IV. Аналогии и параллели
цию, он немедленно к своему абсолютному звучанию присоединяет
нагрузку ладовой функции (что особенно ощутимо в стабильных системах) и, оставаясь в тематическом отношении единицей односторонней,
становится единицей неодносторонней в отношении логическом. Тон
си в контексте тональности си мажор звучит (может быть, точнее было
бы сказать, воспринимается) иначе, чем в контексте ми мажора или,
тем более, до мажора, даже в сугубо равномерно-темперированном
строе, и в этом смысле его статус по сравнению со статусом фона несоизмеримо выше. Необходимо учитывать и еще одно обстоятельство: категорию времени, ритма. Тон в любом интонационном образовании —
мотиве, попевке и т. п. — всегда выступает как «нагруженный временной характеристикой», той или иной разновесомостью (своей абсолютной продолжительностью в условиях квантитативной ритмики и относительной в условиях ритмики квалитативной). Тем самым значение
одного и того же по высоте тона в разных интонационных оборотах
делается не столь безразличным к смыслу, сколь это присуще фону в образовании морфа или слова. Конечно, слова тоже имеют свой ритм и свою
временную протяженность, неодинаковую в разных, даже однокоренных словах (сравним, например, вода — водица; стол — столешница
и т. п.). Но не временная протяженность составляет главную часть узнаваемости смысла слова. Значение разной длительности и словесного
ритма имеет колоссальное значение в художественном, особенно стихотворном тексте. Здесь же речь идет о вербальном нехудожественном
языке/речи. И, возможно, именно «атрибутивность художественности»
для музыки делает обязательным введение оговорок. Тем не менее, во
многих аспектах функции тона и фона достаточно аналогичны.
Как же лингвисты определяют саму фонему и ее функции в системе языка? «Фонема (от греч. phonema — звук, голос) — единица
звукового строя языка, служащая для опознавания и различения значимых единиц — морфем, в состав которых она входит в качестве минимального сегментного компонента, а через них — и для опознавания
и различения слов. Фонема — инвариантная единица языка. Фонема —
основная незначащая единица языка, связанная со смыслоразличением лишь косвенно» (77). «...Фонема это как бы "кирпичики", из которых строятся экспоненты значащих единиц языка, в первую очередь —
морфем, а тем самым и слов. Но кирпичи... в принципе должны быть
одинаковыми. Фонемы же обязательно должны быть разными, различимыми для восприятия: они ведь должны не просто составлять некоторые последовательности ("цепочки"), а должны составить для раз-
О некоторых аналогиях в структурах...
269
ных знаков — разные последовательности, чтобы соответствующие знаки, морфемы или слова, отличались друг от друга на слух и распознавались... как нечто разное... Комбинируясь между собой, фонемы эти
дают тысячи сочетаний, служащих экспонентами для значащих единиц языка. Учитывая это, справедливо говорить о двух... функциях
фонемы: 1) конститутивной (курсив мой. — Т. Б.), то есть функции
строительного материала... и 2) дистинктивной (курсив мой. — Г. Б.),
или различительной, то есть функции различителя экспонентов» (38,
с. 50). Представляется, что обе указанные функции действительны и для
тона в музыке. Особо имеет смысл остановиться на таком свойстве фонемы, как ее инвариантность. Думается, что, опираясь на концепцию
Н. А. Гарбузова о зонной природе звука, а также, учитывая возможную
вариантность исполнительской интонации в нетемперированном строе,
и этим свойствам фонемы можно найти аналогии в музыке.
Фонетические, артикуляционные варианты фонем (так называемые аллофонемы) у языковедов пользуются пристальным вниманием.
В фонетических транскрипциях для одной и той же фонемы, в зависимости от особенностей ее звучания, связанных с ее положением между
различными другими, создан целый ряд особых значков, чем-то напоминающих многочисленные «плюсы» и «минусы», «полудиезы» и «полубемоли», используемые фольклористами при записи этнографических особенностей интонирования народных напевов. Так, объясняя
явление аллофонемности, Ю. Маслов приводит пример с разнообразно звучащим «t» в русском языке, зависящим от фонемного окружения и достигаемого различной фонетической позицией. «Фонема [t]
в русском языке, — пишет он, — выступает, по меньшей мере, в двух
вариантах: 1) как "обыкновенное" [t], например, в словах таз, ты, брат
и 2) как лабиализованный7, огубленный согласный [t°] — в положении
перед [и] и [о], например, в словах туз, брату, ток... Произнося этот
второй вариант, [t°], мы осуществляем аккомодацию согласного последующему гласному ("предвосхищаем" губную артикуляцию этого
гласного» (38, с. 53). Не напоминает ли это стремление к повышению
тонов, движущихся вверх, и к понижению тонов в нисходящем движе7 Лабиализация и палатализация — фонетические термины, определяющие различное произношение фонемы. «Лабиализация (от ср. лат. labialis — губной, огубление) — артикуляция звуков речи (как гласных, так и согласных), сопровождаемая округлением вытянутых вперед губ» (77). «Палатализация (от лат. palatium — нёбо) —
подъем средней части языка к твердому небу, сопровождающий губную, переднеязычную или заднеязычную артикуляцию согласного» (там же).
270
IV. Аналогии и параллели
нии, например, повышение нижних вводных тонов и понижение верхних, тем более, склонность к повышению и понижению альтерируемых
тонов? При этом филологи четко отделяют явление аллофонем (фонетических вариантов единой фонемы) от подлинной смены фонем.
«Одни звуковые различия, — пишет Ю. Маслов, — существенны с точки зрения дистинктивной функции фонем... а другие несущественны...
Так, в русском языке различие между непалатализованным и палатализованным согласным является фонологически существенным, т. е. выступает как различие между фонемами, или фонематическое различие
(см. пары брат — брать, лета — летя и т. п.), а различие лабиализованного и соответствующего нелабиализованного согласного ([t] и [t?])
оказывается всего лишь различием вариантов одной фонемы, различием нефонематическим, несущественным» (там же, с. 54). В целом
система аллофонем и их соотношения с основным ее видом напоминает известное теории музыки (и особенно широко, опять-таки, фольклористам и исследователям монодических нестабильных структур)
явление высотной вариантности ступеней, то есть принципиально допустимые колебания абсолютной высоты одной и той же логической
единицы лада. Таковы, например, «колеблющаяся» и «нейтральная»
терция, «неопределенный» нижесекундовый тон и т. п. В то же время,
полное изменение фонемного состава и даже замена одной фонемы на
другую (графически — одной буквы на другую) может в корне изменить смысл слова или морфа (например, рука — мука — лука, рука —
руке — руки). Не так ли и в музыке? Изменение тонового состава мелодического оборота, иногда даже одного звука, может кардинально преобразить его характер, его содержательную сторону, его тематический
смысл. Вспомним, например, проведение в разработочной части финала Четвертой симфонии П. Чайковского темы «Во поле береза стояла».
Ее изначально диатонический пентахорд (пример 1 я,) превращен здесь
в ряд, «втиснутый» в рамки уменьшенной квинты — «предполагаемый»
(по аналогии с первыми проведениями), тон соль заменен на соль-диез,
и... прощай лихой народный напев! Тема «сжалась» болезненным стоном (пример 1 б). А ведь изменился всего один тон! Одна фонема, говоря языком лингвистики. Почти как «рука» и «мука»! Конечно, в этом
превращении велика роль гармонии, но и мелодический оборот говорит сам за себя.
Кстати, о роли гармонии, о которой до сих пор не было сказано ни
слова. Думается, что при рассмотрении аналогий на уровне фонем, речь
должна идти не о гармонии как целостной системе, а, скорее, о гармо-
О некоторых аналогиях в структурах...
271
нической единице, аккорде, причем именно об аккорде, а не о созвучии
вообще, которое может быть (например, в полифоническом складе)
результативным, итогом сочетания в одновременности нескольких мелодических линий. В этом последнем случае каждый из голосов имеет
свою тоновую (читай: фоновую, фонемную) структуру.
//. Чайковский. Симфония .М» 1 ч. IV
[Allegro con fuoco|
цЛ"
< i. (К) mf
д»
ш/
шш
4-1
*
У
IP^P
ШФ
1 J J
ilJ-r
Ш ф
г г 'f
f
f
1
Итак, подводя итоги сказанному, можно констатировать, что на
низшем уровне перехода материального в идеальное, звучания в смысл
между языком/текстом вербальным и языком/текстом музыкальным,
при всем различии, проистекающем из их знаково-незнаковой природы, возникает немало аналогий, близких и неблизких, прямых и лишь
слегка обозначающихся. Следуя схеме, выстроенной лингвистикой (см.
стр. 266), обратимся к рассмотрению аналогий на следующей ступени
иерархии: морфеме и слову.
Следует сказать, что морфу, а тем более морфеме трудно найти
прямую аналогию в музыке, и все по той же (знаковость — незнаковость) причине. «Морфема (от греч. morphe — форма) — одна из основных единиц языка, часто определяемая как минимальный знак (курсив
мой. — Т. Б.), т. е. такая единица, в которой за определенной фонетической формой (означающим) закреплено определенное содержание (оз-
272
IV. Аналогии и параллели
начаемое) и которая не членится на более мелкие единицы того же рода»
(77). Соответственно морф — «минимальная значимая единица текста,
текстовый представитель морфемы» (там же). В музыке такой закрепленности содержания за конкретными звуковысотными образованиями, тем более, на общеязыковом уровне, наблюдать не приходится.
Следовательно, и параллели корректнее проводить на более конкретных, более близких к речевому уровню структурах. Итак, мы вновь
обращаемся к слову.
Почему же именно к слову? Потому, вероятно, что та нерезкость,
размытость определения, о которой говорилось в разделе I порождена
самим статусом слова — его принадлежностью «одновременно и к языковой системе, и к речи» (77,с.466) 8 . Именно эта двойственность делает возможными ассоциации с мотивом, так же, как говорилось, единицей весьма неоднозначной, а точнее, оцениваемой «двузначно» — и как
единица тематическая и как единица структурная. Как у тематической
единицы у мотива со словом могут возникнуть параллели только на
самом общем уровне, как у «мельчайших единиц, обладающих содержательной, смысловой функцией». На уровне структурном этих параллелей может быть больше.
Вспомним еще раз определения мотива (см. стр. 257) и его возможных функций в тематических и структурных образованиях.
1. Мотивы могут быть различны по протяженности и количеству
образующих их тонов, начиная от однотонового (вспомним начальный
мотив «Вальса-скерцо» П. Чайковского) и кончая простирающимися
до масштаба, превышающего несколько тактов (2,025 такта — начальный мотив главной партии I части Сонаты № 1 Л. Бетховена).
2. Мотив может быть слитно-целостным, но может иметь и тенденцию к расчленению на субмотивы, вычленяющиеся и узнаваемые
как части исходного в развивающих участках текста (например, завершающий группеттообразный оборот в той же теме сонаты Бетховена).
3. Мотив может «распространяться на всю фразу» (63, с. 17), то
есть по функции сливаться с фразой. Сравним сказанное с определением сущности и функций слова.
«Значение понятия слова именно в том, что оно объединяет признаки разных аспектов языка: смыслового, звукового, грамматическо8 «Слово является единицей как лексического, так и грамматического уровней
языка п обнаруживает признаки, свойственные единицам обоих этих уровней» (там
же, с. 113).
О некоторых аналогиях в структурах...
273
го» (77, с 466). Для наиболее полного определения слова необходимо
«признание отсутствия четких разграничительных линий между фактами языка, наличия промежуточных и синкретических явлений: Слово
может превращаться в морфему, словосочетание — в сложное слово»
(там же). Слово как лексическая и грамматическая единица языка обладает: «1. Экспонентом, включающим одну фонему или (чаще) несколько
фонем, расположенных в каждой форме слова в определенной линейной последовательности; 2. Тем или иным значением..., что составляет
содержание слова» (38, с. 104). Слово, в отличие от морфемы, допускает структурную и семантическую членимость: «есть слова, не членимые на меньшие значащие части, то есть состоящие каждое из одной
морфемы..., и есть слова, которые членятся дальше на значащие части,
то есть состоят каждое из нескольких морфем» (там же, с. 105). Слово
обладает позиционной самостоятельностью, то есть может свободно
перемещаться в предложении: «Слово может быть определено каклшнимальная единица, обладающая позиционной самостоятельностью...
морфемы внутри многоморфемного слова такой самостоятельностью
не обладают» (там же). Наконец, слово обладает синтаксической самостоятельностью, которая «заключается в его способности получать
синтаксическую функцию, в способности выступать в качестве отдельного однословного предложения, либо — в качестве отдельного члена
предложения» (там же).
Приглядимся теперь более пристально к возникающим здесь аналогиям, которые напрашиваются буквально по каждому из перечисленных выше аспектов. Итак, по порядку.
Слово — категория многоаспектная, объединяющая звуковой,
смысловой (содержательный) и грамматический параметры. Не то же
ли самое можно сказать и о мотиве? Об атрибутивности его звукового
параметра не стоит специально и упоминать. Обратимся к другим.
Мотив (особенно в «тюлинском» его понимании) всегда содержателен как интонационно выразительная единица музыкального текста.
Он наполнен музыкальным смыслом так же (точнее, аналогично тому),
как смыслом наполнено слово (о существенных различиях музыки
и вербального текста как знаково-незнаковой системы достаточно говорилось выше). Мотив, как известно, выделяем не только в экспонирующих участках текста, но и в разделах развивающих, разработочных.
Если в разделах, экспонирующих тему, мотив всегда тематически представителен, то в участках развивающих, будучи выделен из контекста,
он может не столь явно представлять определенную тему определен18
Зак 5 9 7
274
IV. Аналогии и параллели
ного произведения. В этом плане можно провести аналогию с разными
классами слов, классом слов номинативных, то есть внеконтекстно указывающих на конкретные явления, и классом слов служебных (например, союзы, предлоги), приобретающих полноценный смысл только
в определенном контексте, в связи с теми номиналами, к которым они
отнесены.
Несколько более опосредованы аналогии между мотивом и словом как выявляющими грамматическое содержание. Здесь слову, несомненно, принадлежит приоритет, ибо закрепленность номинативных
его форм в словаре того или иного языка при появлении звуковых изменений позволяет достаточно точно определять их положение в грамматической парадигме. В музыке такой языковой закрепленности мотивов нет, а потому и «грамматические показатели» его изменений более
расплывчаты, и действенность их зависит от контекста. На помощь здесь
приходят: а) фактор формы (местоположение мотива относительно расчленяющих цензур, особенно заканчивающих построение); б) фактор
лада (особенно в стабильных автономных системах); в) связанный
с пунктами «а» и «б» фактор сравнения.
а) Мотив, завершающий построение, всегда (при прочих равных
условиях) будет тяготеть к осуществлению грамматической законченности, устойчивости.
б) В ладах стабильных, автономных, особенно мажорно-минорной системы, мотив, оканчивающийся неустойчивой функцией, будет
указывать на грамматическую незавершенность, «требовать продолжения», подобно слову в «неустойчивом» падеже; мотив, оканчивающийся
тоникой, завершен и устойчив (вернее, устойчивее того, который закончен неустоем, ибо абсолютная закономерность здесь исключена,
многое зависит от ритма и формы).
в) Сравнение изменений мотива при его неоднократных появлениях, «на расстоянии», его «жизнь» в произведении — одна из наиболее действенных сил обнаружения грамматических функций мотива.
При обновлении ладофункционального состава или изменении порядка функций, при перемещении на другие ступени лада мотив из утвердительного может стать вопросительным, из завершенного (предполагающего точку) неоконченным (как бы с запятой), или наоборот, что
является важнейшим средством мотивной работы. Таким образом, одна
из важнейших характеристик слова как единицы, соединяющей в себе
звуковой, смысловой и грамматический параметры, позволяет провести достаточно параллелей с мотивом.
О некоторых аналогиях в структурах...
275
Перейдем к следующему вопросу — диалектике соотношения
уровней слова и морфемы, слова и словосочетания, слова и предложения. Лингвистика утверждает, что слово может превратиться в морфему, а может стать предложением, например: бег — бегом — Бегом!; словосочетание способно со временем превратиться в единое слово,
например: актер кино — киноактер и т. п. Примеры можно продолжать
без конца, в том числе и на других языках. В этом плане аналогии весьма
наглядны, при одной непременной оговорке: они правомерны только
на самом общем, так сказать, принципиальном уровне. Единица, в одном построении легко и четко отделяемая от целого, в следующем может стать неразрывно слитной с новым, более развернутым и сложным
мелодическим оборотом, подобно превращению самостоятельного слова в морф (бег — бег-ом). Возможна и обратная ситуация: сложное развернутое интонационное построение способно распасться на отдельные краткие мотивы, начинающие «жить каждый своей жизнью» (по
аналогии с: киноактер — актер немого кино). Вспомним, например, первые такты главной партии I части Первой симфонии Л. Бетховена.
Оборот соль-си-до (ситуация тождественности морфа и слова), повторенный дважды и тем как бы особо подтверждающий свою самостоятельно-мотивную сущность, далее становится частью более развернутого тематического элемента, сливаясь с восходящим ходом по тонам
трезвучия до мажор. Первый мотив («слово») стал частью («морфом»).
В дальнейшем развитии (разработка) происходит обратный процесс.
Родившееся в экспозиции сложномотивное образование распадается
на части, выделяя восходящие ходы по тонам трезвучия как самостоятельные мотивы («слова») — прием широко известный, один из важнейших принципов мотивной работы. Нужны ли здесь еще примеры?
Может быть, существеннее (и показательнее!) указание на то, что подобная работа с мелодическим материалом свойственна и текстам сугубо монодийного интонационного строя (см., например, Прелюдию
к фуге ми-бемоль минор Д. Шостаковича, тему его же фуги си-бемоль
минор и т. п.).
Рассмотренные особенности «поведения» мотива наглядно смыкаются с присущей вербальному слову структурной и семантической
членимостью. И эту форму жизни мотива можно наблюдать далеко за
пределами не только классико-романтической, но и вообще профессионально-композиторской музыки. Темы Д. Шостаковича только что
упоминались. Приведем еще более «неожиданный» пример — народную
песню «Калинушка с малинушкой» в записи Е. Линевой (пример 2):
IV. Аналогии и параллели
276
Русская народная песня «Калинушка с малинушкой»
2
$
Довольно медленно J
8в
в
С)н
Ис
пьет.
Ужом пить
не
пьет.
ла
не
пьет.
Уж он пить
не
пьет,
ла го-
он не
пьет.
РРГ"
Он мс
$
Р
иьег. не пьет,
го-
w
ла го-
ш
9~
луб
чик мой,
За
мной
За
мной
за
мной
мла
лои
мла
-
дои
шлет.
мла
-
дон
шлет.
11 т
луб
-
чик .мой,
луб
-
чик мой. Ох
шлет.
-
I гг
Р Р
Подголоски этой песни построены на мотивах, неоспоримо выведенных из основного напева, отделенных, свободно варьируемых. Впрочем, применительно ко всем аналогиям со словом, и в этом вопросе необходимо помнить об оговорках, сделанных на стр. 262. Вычленяемость
отдельных элементов слова, превращение морфа сложного слова в слово самостоятельное в вербальном языке осуществимо на уровне целостной языковой системы, безотносительно данного конкретного текста.
Так, слово «железнодорожный», например, само по себе, как таковое
предоставляет возможность выделить составляющие его части — «железо» и «дорога» — как отдельные значащие слова-знаки. В музыке переход статуса субмотива в мотив, частицы темы в самостоятельный
тематический элемент, осознание органической их связанности как
частей бывшего целого действительно только на уровне определенного
конкретного текста. В песне «Калинушка с малинушкой» связь попевок-мотивов подголоска третьей строфы с мелодией главного голоса
О некоторых аналогиях в структурах...
277
первой и восприятие их как частей-элементов бывшего единства могут
быть осуществлены (реализуемы) только применительно к данному
конкретному тексту.
Аналогию можно наблюдать и в самом конструировании слова из
составляющих его звуковых элементов (фонов) и конструировании
мотива (попевки, оборота и т.п.) из составляющих его музыкально-звуковых элементов (тонов). И в том, и в другом случае последовательность элементов (фонов в вербальном языке и тонов в музыке) небезразлична к содержательному аспекту (смыслу слова и тематической
определенности мотива). Известно, как важна определенная последовательность фонов для формирования того или иного слова-знака (см.
стр. 268-269). Одни и те же фоны, взятые в разной линейной последовательности, могут составлять совершенно разные по смыслу слова, например: сон — нос; гора — рога; трос — рост — торс; нем. Lied — Leid;
франц. tu — ut и т. п. Не так ли в музыке? Сравним (пример 3):
Ф. Шопен. Ноктюрн, ор. 15 № 3
3a
Lento
dc
Ш
Р lang ticio е rubato
36
I
i
ft
Русская народная песня «Прощай, радость моя»
т
Прощай, жизнь,
ра
Разная последовательность одних и тех же тонов, даже при ритмическом сходстве, создает совершенно различные по интонационному (читай: содержательному) наполнению мотивы. Подобных примеров можно привести великое множество. А ведь здесь оставлен в стороне
фактор и ладовый, и гармонический, имеющие огромное значение для
интонационной характерности, «семантики» (а следовательно, для содержательной стороны) мотива.
278
IV. Аналогии и параллели
В корне изменить «интонационную информацию» мотива может
изменение метроритмического размещения его тонов. Вспомним, например, как изменяется характер мотива восходящей чистой кварты,
в зависимости от метрического положения составляющих его тонов.
Активно маршевый, торжественно-гимнический при акценте на верхнем тоне, он становится мягко повествовательным при акценте на нижнем (разумеется, «при прочих равных условиях»). Сколько маршей,
сколько гимнов, сколько героических песен открывается восходящей
квартой с акцентом на верхнем тоне! «Марсельеза», «Интернационал»,
Увертюра к «Тангейзеру», глиэровский «Гимн великому городу», александровская «Священная война» и далее, далее, далее... И насколько
отличны по характеру темы, в которых в такой кварте акцентируется
не верхний, а нижний тон (например, Тема вариаций Сонаты № 12 Бетховена, его же тема главной партии II части Второй Симфонии и т. п.).
Не напоминает ли это изменение смысла слова при разном положении
в нем ударения? Например, мука — мука, лука — лука (родительный
падеж слова «лук»), добыча — добыча и т. п. Представляется, что аналогия здесь очень близкая.
Перейдем к рассмотрению еще одного аспекта аналогий между словом и мотивом. Речь идет о таком свойстве слова как его позиционная
самостоятельность, способность перемещаться в предложении (см. 38,
с. 104). Вторая часть этой характеристики (способность перемещения в
предложении) требует некоторых комментариев. Представляется, что
это положение надо понимать, опять же, не прямолинейно, не буквально, а лишь как признание за словом «отсутствия жесткой линейной связи
со словами, соседними в речевой цепи, в возможности в громадном большинстве случаев отделить его от "соседей" вставкой другого или других слов, и широкой (хотя и не абсолютной) подвижности, перемещаемости слова в предложении» (там же, с. 105). Напомним, что в некоторых
языках изменение порядка слов в предложении может кардинально изменить его смысл (например, в немецком языке так называемый обратный порядок слов делает повествовательное предложение вопросительным, в английском — помещение глагола перед существительным
вообще невозможно). То есть в виду имеется, скорее, принципиальная
возможность помещения слова как определенной структурной единицы в разные участки предложения. В этом отношении (все с той же оговоркой относительно уровня действия) можно наблюдать много параллелей между структурными единицами вербального языка и музыки.
О некоторых аналогиях в структурах...
279
Мотивы, как и слова, свободно меняют свое положение в более
развернутых структурах, как это было показано выше, могут отделяться друг от друга и жить самостоятельной жизнью. Например, в той же
I части Первой симфонии Бетховена восходящий ход по трезвучию
(с добавлением вводного тона к верхнему звуку), появившись сначала
в главной партии как завершающий слитное мотивное образование, в разработке отчленяется как самостоятельный мотив. Экспозиция I части
Сонаты № 6 для фортепиано Бетховена оканчивается нейтральным,
можно даже сказать, безличным, «внеинтонационным» ходом — до3-соль2-до2. В «тюлинском» понимании этот ход даже трудно назвать
мотивом. Но, уже начиная с первого такта разработки, этот оборот становится самостоятельным, заглавным мотивом, рождающим новые
интонационные структуры, секвенцируемым, развиваемым.
Яркий пример преобразования и переосмысления роли первоначально как бы «вторичного» элемента темы представляет главная партия первого раздела II части Пятой симфонии П. Чайковского (соло
валторны), в которой преобразование мотива и изменение его статуса
в тематической структуре ясно показывает и возможность превращения части мотива в самостоятельное целое и «свободу его перемещения» в структуре. Имеется в виду гаммообразно восходящий ход, начинающий второй (ответный) мотив валторновой темы (.ля-си-до-диезми-ре). При первом своем появлении этот оборот почти незаметен, он
лишь воплощает «ладогармонический ответ» первому мотиву (пример 4 а):
//. Чайковский. Симфония № 5, ч.
[Спокойно, певуче)
4а
РР Jok e
1
con mat о esprcs.sione
Г
=
г
w-
Весь интонационный упор в обоих первых мотивах приходится
на их вторые элементы, содержащие столь выразительное акцентирование «неприготовленное задержание» (вспомогательную на сильной
280
IV. Аналогии и параллели
доле), согласно определению Л. Мазеля — типовую лирическую полевку XIX века. Однако в дальнейшем развитии акцент, если и не полностью смещается на упомянутый гаммообразный ход, то, во всяком случае, уравнивает его интонационное значение со вторым элементом,
подчеркивая каждый тон восходящей гаммы, изменяя ее интервалику,
поддерживая остро напряженной неустойчивой гармонией (пример 4 б):
46
и
ы=Ц
1V
т. 38
г»
19
j.
r f
11
tfJ
J J
"
I-
1
j
M f
'
J
«J
ff
m
#V
9-.
J
•9
.>: fl„ llJ
'•
i
4
i
г
Ы
ЧН
—
*
i
-
-
4
J
}
»
ы
m
i
iJ
Заканчивая раздел об аналогиях морфологических структур вербального языка и языка музыкального, еще раз подчеркнем их условность, их только аналогичность у нетождественность. Различие многих из этих структур в плане уровня действия (языкового для структур
вербального языка и речево-текстового для языка музыкального) несомненно. И, тем не менее, аналогии эти существуют, они неоспоримо
реальны и еще раз подтверждают родовую близость музыкальной и вербальной системы общения.
III. О соподчинении
Во Введении достаточно подробно говорилось о причинах, порождающих (и объясняющих) аналогичность «форм выражения» и «форм
протекания» вербального текста и музыки. Указывалось и на многоуровневость и многоаспектность структуры языка/текста музыкаль-
О некоторых аналогиях в структурах...
281
ного и языка/текста вербального, во многом аналогичной, но не всегда
«прямолинейно-параллельной». Поэтому, при попытке остановить внимание на каком-либо конкретном аспекте и конкретном уровне, необходимо с возможной точностью установить, какой из них допускает
сравнение, на каком из них установление аналогий окажется достаточно правомерным. Так, если аналогия на уровне морфологическом — конструирование слова/мотива — вполне допустимы («значащие» единицы — морфемы, слова — из «незначащих» единиц — фонем; «значащие»,
тематически представительные, единицы — мотивы — из «незначащих»
единиц — тонов, то на следующих уровнях (фразы, предложения и т. п.)
прямые параллели могут оказаться недостаточно корректными. Поэтому уточним: речь пойдет об аналогиях между ладовой системой музыки
как выражающей определенную функциональную связанность составляющих ее тонов и грамматической соподчиненностъю слов в связном
вербальном высказывании.
«Грамматика есть логика, философия языка», — пишет В. Белинский (11, с. 759). Однако грамматика как «система правил функционирования» единиц языка («инвентаря», по Ф. Соссюру) сама сложносоставна и включает разные разделы, относящиеся к разным аспектам
языковой системы. «Грамматика как строй языка представляет собой
сложную организацию, сочленяющую в себе словообразование, морфологию и синтаксис» (77, с. 114). Именно синтаксис как «грамматика
связной речи, грамматика единиц, больших, чем слово» (Ю. Маслов),
как система отношения между словами и формы, выражающие эти отношения, будут интересовать нас в первую очередь. И, в связи с этим,
основное внимание следует уделить важнейшей синтаксической единице — предложению. Акцент на предложении обусловлен тем, что именно
его структура, основанная на четкой дифференциации функциональных значений составляющих ее элементов-слов, допускает близкое сопоставление со структурой ладовых систем музыки, хотя, конечно, аналогии функциональной связанности элементов музыкальной ладовой
системы в вербальном языке возникнут не только на уровне предложения. Так, возможность предикативности (предикация — «акт соединения независимых предметов мысли, выраженных самостоятельными словами»;77, с. 393) отмечается языковедами и на уровне синтагмы.
Отметим, что сами элементы сравниваемых систем существенно различны: слова (то есть имеющие самостоятельный содержательный
смысл) в вербальном языке — тоны («незначащие» единицы) в музыке.
Но параллель между системами, как объединяющими в единое целое
282
IV. Аналогии и параллели
ряд элементов на основе их функциональной дифференциации, несомненна. Как будет показано ниже, во многом окажутся аналогичными
и формы обнаружения функциональных значений этих элементов.
В рассматриваемой проблеме выделим три уровня: 1) сущность
и структура системы; 2) типология структур; 3) формы обнаружения
системы.
Сущность сопоставляемых систем (ладовой системы музыки
и синтаксической системы вербального языка) заключается в их функциональном статусе, в том, что составляющие их элементы (слова в вербальном языке, тоны в музыке) оказываются не индифферентными друг
другу, а связанными друг с другом определенными отношениями
(в «классических» случаях — иерархическими), причем, отношения эти,
выражаемые через материальную субстанцию, сами по себе представляют логическую абстракцию. В этом сочленении идеального и материального, абстрактно-логического по сути, но могущего быть выраженным только через чувственно-конкретное — особенно ярко проступает
родственность ладовой и синтаксической систем. «Лад есть система
идеальная... — в отличие, например, от звука, мелодии, гаммы, лад как
таковой нельзя спеть, сыграть, нельзя воплотить вне кокретной интонации. Мы воспринимаем слухом определенную мелодию, а сознание
наше отражает ту форму отношений тонов, которая проявилась в этой
мелодии, отражает как определенную систему соподчинения тонов уже
путем абстрагирования. Прослушав протяженное музыкальное построение, которое может и не запомниться сразу... мы в то же время легко
представим себе его тонику, доминанту и т. п. (14, с. 37). Это — в музыке.
Что же касается вербального языка, то соотношение абстрактно-логической системы и ее «материального носителя» блестяще и неповторимо
остроумно выразил академик Л. В. Щерба в своей знаменитой «глокой
куздре», модели предложения, составленного из «бессмысленных, но
грамматически правильно оформленных и поставленных (этим! — Т. Б.)
в связь слов» (44, с. 331): «Глокая куздра штеко будланула бокра...».
Аналогичность сущности определяет собой параллели в структуре. Что такое лай?9 Это «звуковысотная система соподчинения опреде4 Понятие лада, сложившееся вотчественнои науке, начиная с Б. Яворского, впервые разделившего понятия лада и тональности, развитое Тюлиным, Асафьевым, Кушнаревым и обобщенное в предлагаемой формулировке, достаточно специфично (см. 16)
и полностью «адекватного термина в зарубежной науке не имеет (о чем можно только
пожалеть). Термины, которые, на первый взгляд, кажутся близкими, на самом деле охватывают или лишь часть того, что содержит наша трактовка, или, наоборот, включают
\
О некоторых аналогиях в структурах...
283
ленного ряда звукоэлементов (тонов, аккордов, соноблоков), логически дифференцированных по степени и форме их тормозящей или движущей роли» (14, с. 37). Иными словами, структура лада предполагает
интеграцию конкретно-материального (звучания в различных формах)
и абстрактно-идеального, функциональных соотношений этих звучаний. Не то же ли самое в вербальном языке? Ведь и в нем ряд словпонятий лишен ясного смысла вне грамматического соподчинения, то
есть без выяснения логических функций. Конечно, как уже упоминалось выше, аналогия с ладовой системой в этом плане неполная, ибо
в речи отдельные слова все же наделены своим «номинативным», знаковым смыслом, свойством, которого лишены тоны ладовой системы.
Но смысл целого предложения станет ясным только при условии выраженного соподчинения, функциональной дифференциации слов как членов предложения или участников синтагмы. И дифференциация эта,
опять же, происходит на абстрактно-логическом уровне: как невозможно спеть тонику лада вне конкретного музыкального оборота, так же
невозможно «сказать подлежащее», не построив конкретного предложения, хотя бы и в виде «глокой куздры». Не подтверждает ли это аналогичность структур?
Перейдем к вопросу о типологии структур.
Во многих теоретических работах исследовательского уровня, не
говоря уже об элементарных учебниках, особенно прошлых лет, можно встретить точку зрения, согласно которой как обязательные для статуса лада утверждаются два условия: 1) закрепленность, стабильность
форм, обеспечивающая действенность этих конкретных форм для целых эпохальных пластов, передающаяся из поколения в поколение на
генетическом уровне; 2) обязательность наличия достаточно устойчивого крепкого центра. Так, Ю. Тюлин в своем «Кратком теоретическом
курсе гармонии» утверждает: «Лад... формируется в нашем сознании
как обобщенно абстрагированная апперцепционная система, то есть
в себя слишком много признаков, к ладу не относящихся. Например, термины mod или
modus, которые обычно переводят как «лад», в основном относятся к звукоряду (не
говоря уже о том, что современная медиевистика понятие «модус» вообще связывает
больше с полевками, нежели со звукорядами как таковыми), между тем как «лад» —
это вовсе не только звукоряд. Термины key или Tonalitat (примерно друг другу близкие) объединяют явление функционального взаимоотношения ступеней с какой-либо
совершенно конкретной структурой (например, key, прямо относится только к системе
с четко определившейся тоникой). В настоящей работе понятие «лад» трактуется в соответствии с формулировкой, данной в основном тексте.
IV. Аналогии и параллели
284
закрепляющаяся в зависимости от предшествующего опыта и служащая стереотипом» (61, с. 7). Большинство учебников в разделах, посвященных ладу, приводят некий конечный ряд схем, которые якобы
исчерпывают все возможные ладовые системы. Если исходить из подобной точки зрения (равно как и из позиции Тюлина), придется признать, что вся (или почти вся) музыка, выходящая за рамки мажороминора (в крайнем случае, за рамки европейской музыки VIII-XIX вв.),
не говоря уже о современной профессиональной, окажется лишенной
ладовой организованности, то есть главного выразителя логического
начала. Такую точку зрения вряд ли можно принять, и целый ряд ученых — Б. Асафьев, X. Кушнарев, Ф. Рубцов, Э. Алексеев и др. — признают лад как систему открытую, допускающую возможность бесконечного множества конкретных претворений ладовой организации
(подробно об этом см. 14).
В признании лада как системы открытой содержится ответ и на
«второе условие» — обязательность/необязательность четкого центра.
Лад признается как структура свободная, допускающая вариативность
не только звукоряда, но и форм функциональных отношений. Наряду
с классической централизованной трехфункциональностью ( T - S - D ) ,
допускается и двухфункциональность (тоника — нетоника) и вообще
системы подвижные, переменные, «колеблющиеся», в которых функциональная связанность выражается лишь в сопоставлении большей
или меньшей опорности. Проиллюстрируем сказанное примером 5:
5
А. Шнитке. Диалог для пиолонч. с орк. (каденция)
V-e solo
I(
^ Ц
ррр
<rr
рр
РР <
РР
РРР
Yi
y ' l ^ jjiJ A J i ^ V
ц
рр
В этом примере звук до выделяется как опорный, как более значимый, более «запоминающийся», чем остальные. Таким его делает начальное положение в мотиве, сильная доля, количество возвращений
к нему. И сознание сразу фиксирует его главенство в отношении тонов
ре и ре-бемоль, с которыми он связан (действуют психологические законы поля восприятия: «фигура и фон», «конфигуративность» и «категориальность»). Немаловажен и другой факт. В трех приведенных
тактах реализовано тринадцать звуковых «атак», но функциональное
О некоторых аналогиях в структурах...
285
различие устанавливается лишь на пяти: до -ре -ре-бемоль -ми-бемоль фа-бемоль как «главные», а остальные как «вторичные». Этим подтверждается абстрактность уровня ладо-функциональных отношений, выводимых сознанием на основе конкретного материально выраженного
текста, но не тождественных ему. Единиц интонируемых («речевых»)
здесь оказывается больше, чем единиц ладовых («языковых»). Вряд ли
можно в этом примере говорить и о твердом устое-центре. Вся система — подвижная, переменная (совсем не похоже на мажоро-минор!).
Ситуации, аналогичные сказанному выше о ладовых системах
музыки, можно наблюдать и в синтаксических связях вербального языка. Как и в ладовых системах музыки, синтаксические связи единиц
вербального языка весьма разнообразны как по сути, так и по формам
выражения. На самом общем уровне языковедение разделяет эти связи
на два типа: сочинительную и подчинительную. Сочинение предполагает рядоположенность элементов (например, «поэзия и музыка»), их
почти (!) равноправное значение. «Для сочинительной связи характерна
равноправность элементов, что внешне выражается в возможности перестановки без существенного изменения смысла (хотя, например, при
союзах "и", "или" первое место в сочетании обычно обладает большим
весом, чем второе)» (38, с. 220). Сравним словосочетания «поэзия и музыка» — «музыка и поэзия». Если проводить какие-либо параллели с ладовыми системами музыки, то наиболее близкими в функциональном
отношении окажутся связи в ладах слабо централизованных, результативных (подробно об этом см. 14, 16). Подчинительная связь — случай более сложный и более активный в функциональном отношении.
Как можно судить по языковедческим работам, первоначально понятие подчинения относилось преимущественно к уровню связи предложений (в противопоставлении сложноподчиненного и сложносочиненного предложений, о чем уже шла речь на стр. 249). Но «в современной
русистике термин "подчинение" широко применяется также по отношению к совокупности словосочетательных связей — управления, согласования, примыкания» (77, с. 380). Эта последняя расшифровка показывает, в каком разнообразии отношений предстает перед нами
функциональная система вербального языка. К тому же весьма существенно, что эти разные формы реализуют и разную степень зависимости, собственно подчиненности, связываемых в единую целостность
единиц вербальной системы. И, естественно, напрашивается аналогия
(а вместе с тем и подтверждается «право на существование») множественных, неединообразных, различающихся по «сцепляющей силе»
286
IV. Аналогии и параллели
форм функциональных отношений в ладовых системах музыки. Приведем определения каждого из упомянутых видов связи слов.
Согласование — «подчинительная связь компонентов словосочетания, при котором в зависимом слове повторяются граммемы или
часть граммем главенствующего слова» (77, с. 479): «Слушаю хорошую
музыку»; «Мало хорошей музыки».
Управление — «подчинительная связь, при которой главенствующий компонент словосочетания требует постановки зависимого компонента в определенной грамматической форме» (77, с. 537): «Изучаю
гармонию»; «Любуюсь гармонией».
Примыкание — «подчинительная связь, при которой форма подчиненного компонента словосочетания не зависит от господствующего компонента и не подвергается каким-либо изменениям. <...> Термин "примыкание" принадлежит, прежде всего, русской грамматической
традиции, поскольку в русском языке это явление отчетливо противопоставлено согласованию и управлению, в англ., франц. и др. грамматиках
соотв. термин, как правило, не используется. <...> Связь примыкания,
как правило, слабая, а распространитель главного слова факультативен» (77, с. 398-399).
Итак, языковедение не отказывает в статусе функциональной
системы и таким словосочетаниям, в которых зависимость между единицами системы выражена неярко, вяло и даже допускает «факультативность оценки». О тех способах, которые в подобных «стертых» случаях проясняют ситуацию, будет сказано ниже. Здесь же отметим лишь
еще раз возможность разной активности функциональной связи в синтаксических системах вербального языка, их вариативность.
Приведем несколько примеров.
«Как бессильный старец держал он (пруд. — Т. Б.) в холодных
объятиях своих далекое, темное небо, обсыпая ледяными поцелуями
огненные звезды, которые тускло рядели среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя появление блистательного царя ночи» (Н. В. Гоголь, «Вечер накануне Ивана Купалы»). В этом развитом сложноподчиненном предложении (которое вполне можно определить как период),
центральное подлежащее — он (пруд) — собирает «под свое знамя» не
только семнадцать слов главного предложения, но еще и тринадцать
слов придаточного — тридцать единиц! Настолько сильно и грамматически неоспоримо выражены в нем подчинительные функции управления и согласования. Но бывают и другие случаи. Синтаксис знает
формы, в которых главные члены могут вообще отсутствовать. Тогда
О некоторых аналогиях в структурах...
287
связи возникают уже между второстепенными членами предложения.
Художественные тексты особенно свободно используют такие формы.
Вот фрагмент из стихотворения М. Цветаевой «Крысолов»:
Замшею рук
По бархату красных перпл...
А по мне...
В этом тексте все четко функционально, но функциональность
эта — функциональность второстепенных членов предложения, согласующихся между собой без главных, «без тоники»! Не вызывает ли этот
текст ассоциаций с нецентрализованными, как бы ищущими тонику
(и не обретающими ее!) интонациями так называемой атональной музыки, а его синтаксическая система — с нецентрализованными, но несомненно функционально-дифференцированными ладовыми системами?» (14, с. 47). При отсутствии ярко выраженного центра в таких
системах (см. пример 5), тем не менее, все же есть ощущение соподчинения: точки, воспринимаемые как опоры, пусть не на длительный срок,
не на протяженный отрезок текста, все же отличаются функционально
от точек, еще менее устойчивых, «скользящих». Нередко можно услышать скептическое замечание: «Но ведь то, о чем Вы говорите, — достояние мелодии, ритма, текста, а не лада!» Странное возражение! Оно
могло бы иметь под собой почву только в том случае, если считать, что
лад — только закрепленный, апперцепционно-заданный стереотип, а это
отрицается многими современными учеными и, что особенно важно,
самой художественной практикой. Если же принять то понимание лада,
которое предлагалось выше, становится ясно, что лад и есть система,
возникающая в нашем сознании на основе прозвучавшего текста. И это
действительно даже по отношению к самой стабильной и жесткой системе — мажоро-минору. Два трезвучия, расположенные на расстоянии кварты друг от друга, никогда не определятся как тоника и доминанта до тех пор, пока один из них не выделится ритмически или не
появится еще одно (третье) трезвучие, которое и «расставит все по местам». Лад всегда есть некое «последействие», говорит известный психолог Б. М. Теплов. Так что приведенное предположительное возражение нельзя признать убедительным аргументом.
Перейдем к рассмотрению последнего вопроса — аналогии в способах выражения и обнаружения функций, ладовых — в музыкальном
языке, и синтаксических — в предложениях и словосочетаниях языка
вербального.
288
IV. Аналогии и параллели
Какими же способами выявляется ладовая функция в музыкальном тексте, что заставляет наше сознание, выстраивая определенные
иерархические отношения, оценивать одно звучание (тон, созвучие),
как устойчивое или опорное, другое — как неустой, требующий продолжения движения? Этот вопрос достаточно подробно освещен в работах автора настоящей статьи (14, 16), и наиболее концентрированное
выражение нашел в концепции разделения ладовых систем на автономные (то есть такие, в которых ладовая функция выражающего ее
элемента относительно независима от формы, от ритмоинтонационных
условий его использования, от его местоположения в музыкальном
построении) и результативные (то есть такие, в которых функциональное значение элемента определяется только в связи с ритмоинтонационными условиями его использования). Затронут и вопрос о причинах, позволяющих одним системам закрепляться как автономным,
другим — формироваться и становиться действенными только как результат этих конкретных условий.
Обобщим главное и наиболее соприкасающееся с проблемой сходства между музыкальной и вербальной системами.
Автономность лада опирается во многом: 1) на его стереотипизированность, вызывающую к жизни эффект психологической установки,
и 2) связанную с этим привычность сочетания определенной функции
с конкретной закрепившейся структурой выражающего ее элемента.
Так, структура малого мажорного септаккорда закрепилась в сознании
огромного социума как аккорд V ступени системы, «требующий» после
себя движения в трезвучие, лежащее квартой выше. То же можно сказать и о структурах малого минорного или полууменьшенного аккордов
(особенно в обращении квинтсекстаккорда) как аккордов II ступени.
Таковы закрепленные структуры звукорядов мажорно-минорных систем, положение тритона в которых безоговорочно заявляет о местоположении тоники. Относительно мажорно-минорной системы это известный факт. Небезынтересно, что аналогичные явления можно
наблюдать и в условиях таких, казалось бы, безоговорочно зыбких, переменных систем, как средневековая модальность. В модальных системах указателем на определенный лад (а, соответственно, и на положение тоники) являлся не звукоряд, как на это настойчиво указывают
работы некоторых исследователей, а определенные попевки, мелодические обороты. Как иначе можно объяснить указание И. Тинкториса на
двукратную смену модуса в построении, звукоряд которого полностью
отвечает модусу I — дорийскому (см. пример 6)?
О некоторых аналогиях в структурах...
с
ь
ш :•;
289
Примеры И. Тиикториса
-р—^—
m1
m1
m 7
ш1
in I
in 8
m2
m2
Очевидно, что мелодический ход соль1-ре2 был недопустим в дорийском ладе и указывал на «тон VII» — миксолидийский, сыграв роль
модулирующего знака, подобного «модулирующим аккордам» в модуляциях мажорно-минорной системы. К подобным «знакам» можно добавить, например, ход фа1-ля1-до2, принадлежащий «ладу V» — лидийскому, и др. (подробнее об этом см. 30). Подобные «указатели»,
вполне аналогично доминантсептаккордам, служили верным признаком определенного модуса, устанавливая, соответственно, и положение тоники (правда, в условиях относительно-сольмизационной системы, не всегда абсолютное) и приближая системы к автономным.
Итак, в автономных ладах о функции элемента говорит его структура. В результативных ладах функцию элемента определяет контекст.
Аналогичные способы выявления и обнаружения синтаксических функций можно наблюдать и в вербальном языке, точнее — в вербальных
языках, ибо в разных группах языков конкретные способы могут быть
различными. Однако они обязательно совпадают в главном: разделяются на формы однозначные и формы, допускающие вариативное толкование.
Стройную картину способов «формального выражения синтаксических функций», действенных для русского и сходных с ним по синтаксису, предлагает Ю. Маслов в своей, неоднократно цитируемой здесь
работе «Введение в языкознание». Так, говоря о выделении большинством ученых как наиболее общих отношений согласования, управления и примыкания, он сразу же указывает на нерядоположенность этих
форм, ибо «согласование и управление пользуются морфологическими
19
Зак. 597
290
IV. Аналогии и параллели
формами, формами слов, а примыкание — неморфологическими формами, аранжировкой (порядком слов) и интонацией» (38, с. 222; курсив
мой. — Т. Б.). Как представляется, здесь возникают явные параллели
с разными способами выявления/обнаружения ладовых функций в музыкальном тексте. «Ситуация 1», то есть морфологическое выявление
функции, означает, что при действии согласования и управления сама
морфологическая структура слова указывает на его синтаксическую
функцию. Например: «Книга лежит на столе», «Я читаю книгу». Об
изменении функции слова «книга» с подлежащего на дополнение свидетельствуют произошедшие в нем морфологические изменения: меняется окончание (с «-а» на «-у»), следовательно — падеж, следовательно — функция. В подобных случаях порядок слов, интонация их
произнесения, акцентуация не способны повлиять на функцию слова
как члена предложения, хотя эти факторы и могут изменить выразительность, модальность, наклонение, например, создать вопросительность: «Книгу читаю я?», «На столе лежит книга?» и т. п. Укажем на
аналогичность действия ладовых функций в автономной ладовой системе мажоро-минора: построение может окончиться доминантсептаккордом (вспомним, например, первое предложение Менуэта из Сонаты № 18 Бетховена, многие пьесы Шумана и др.), что придает ему
незавершенный, «вопросительный» характер. Но доминантсептаккорд
останется неустойчивой доминантовой функцией!
Покажем, сославшись на того же Ю. Маслова, примеры морфологического выражения функции в языках, синтаксис которых организован иначе, чем в русском. Так, в азербайджанском (а также в персидском, турецком и некоторых других восточных языках), падежные
изменения, а следовательно, и функция, указываются благодаря присоединению «показателя связи» не к зависимому, а к главенствующему слову. Например: «ат» (азерб.) — лошадь (именительный падеж),
«баш» — голова (именительный падеж); «ат баши» — голова лошади,
где «-и» — показатель связи. Турецкий язык: «iiniversite» — университет (именительный падеж), «kiitiiphane» — библиотека (именительный
падеж), «iiniversite kutiiphanesi» — университетская библиотека (или:
библиотека университета), где «-si» — показатель связи (см. об этом
38, с. 225). Как представляется, такая форма выявления синтаксической функции в чем-то близка формам служебных слов (см. ниже).
Совсем иначе синтаксические связи обнаруживаются в «ситуации 2» — в тех случаях, когда морфологические показатели функций
отсутствуют, и значение слова как члена предложения устанавливается
только путем определенной аранжировки (порядка слов). В отноше-
О некоторых аналогиях в структурах...
291
нии этой ситуации следует различать языки, допускающие свободное
перемещение слов в предложении, и языки, в которых сложилась система закрепления определенных мест за определенными членами предложения (так называемый фиксированный или твердый порядок слов).
Например, в английском и французском языках, не имеющих склонения существительных и требующих для уяснения грамматических отношений служебных слов (так называемые аналитические языки), порядок слов является безоговорочным определителем их синтаксической
функции, он один определяет эту функцию. «The father loves the son»
(англ.), «Le p< Vc aime le fils» (франц.) — отец любит сына. «The son loves
the father», «Le fils aime le реге» — сын любит отца. He аналогично ли
это тому, как в результативных ладах положение тона относительно
кадансов способно указать на его тоническую или нетоническую функцию? Похожие ситуации могут возникнуть и в русском языке в тех случаях, когда морфологический строй существительного в именительном
и винительном падежах совпадает: «Мать любит дочь» — «Дочь любит
мать», «Настроение влияет на здоровье» — «Здоровье влияет на настроение». В подобных случаях сохранение функции при изменении
порядка слов возможно лишь в условиях определенного контекста.
Ю. Маслов приводит два примера: «"В этой семье сына любит отец,
а дочь любит мать". Здесь сохранение за словом "мать" функции подлежащего обеспечивается "контекстом противопоставления". "Платье
порвало весло" — "весло" остается подлежащим по логике вещей: платье рвется, а весло нет» (38, с. 227).
Порядок слов может оказывать воздействие на установление функции не только главных, но и второстепенных членов предложения. Так,
А. Реформатский указывает, что для некоторых языков порядок слов
является решающим для уяснения отношения определяемого с определяющим. «Например, — пишет он, — в казахском языке (где существительные и прилагательные, как правило, не различаются) только по
порядку слов можно установить, что является определяемым ("существительным") и что определяющим ("прилагательным"): сагат калта —
"часовой карман" (карман для часов), а калта сагат — "карманные часы"...
Аналогичные явления встречаются и в английском языке, где есть особые прилагательные, многие существительные по конверсии могут
выступать в роли прилагательных» (44, с. 305). Watch-pocet (англ.) —
«часовой карман», pocet-watch — «карманные часы». Таким образом,
и в этих случаях логическую функцию элемента «диктует» место в форме, сама же материальная структура эту функцию не отражает. И в этом
292
IV. Аналогии и параллели
последнем обнаруживается сходство подобного выражения функции
еще с одним способом — интонационным.
На роли интонации как средства выражения логической функции следует остановиться особо, ибо из всех упомянутых выше «грамматических» способов (морфологический, аранжировка, служебные
слова и «показатели связи» в вербальном языке — закрепившиеся структуры звукорядов и аккордов в музыке) интонация наименее всего поддается однозначной «расшифровке», наиболее вариативно воспринимается и, следовательно, наиболее тесно связана с тем «таинством»
перехода идеального в материальное, «мысли в конкретный текст», о котором говорилось выше как о существе ладовой системы музыки и синтаксической системы вербально языка.
На стр. 245 достаточно подробно раскрывалась близость понимания термина в языкознании и музыкознании и, в частности, указывалось, что в обеих науках понятие расшифровывается в двух аспектах:
аспекте конкретных средств (мелодическая линия, ритм, паузы, тембр
и т. п.) и в аспекте содержательном (интонация как «воплощение мысли в звучании», как выражение подтекста в языке и т. п.).
В музыке интонационный аспект как средство выявления ладовых функций имеет место главным образом в результативных системах, где мелодико-ритмическое положение тона (аккорда, соноблока
и т. д.), его акцентирование, повторяемость, длительность звучания и,
что особенно существенно, совпадение его с расчленяющей цезурой,
паузой, окончание на нем тематического фрагмента — фразы, попевки — имеет важнейшее значение для восприятия его как опорного, устойчивого, «возвышающегося» как главный над остальными. На этой
роли «места в форме» 10 (форма здесь понимается достаточно широко —
как материальный комплекс выразительных средств) основаны все
концепции тоникальности (Шёнберг, Шенкер), концепция переменных
функций (Тюлин), концепция центрального созвучия (Эрпф).
Если интонационный фактор является единственным указателем
ладовой функции, как это имеет место в результативных ладах, то, будучи, как говорилось, достаточно вариативным, допускающим многообразие оттенков при конкретном воплощении текста, он и всю систему делает подвижной, неустойчивой, вероятностной, зависящей во
многом от индивидуального восприятия, а отсюда — и функциональной трактовки (в частности, это может касаться и столь важной для
,0 Заметим и подчеркнем: в музыке не действует закрепленный порядок последования тонов как всеобщий закон, и каждая интонация свободна в выборе их движения.
О некоторых аналогиях в структурах...
293
выявления функции расстановки акцентов и даже цезур). Поэтому результативные системы — системы кратковременного действия, распространяющегося на мелкие, порой, на микроучастки текста. Цветаевскому синтаксису он ближе, чем гоголевскому.
Пронаблюдаем теперь, как выявляет себя интонационный фактор в обнаружении синтаксических функций вербального языка.
Для действия языка как коммуникативной системы интонация
имеет колоссальное значение, и это широко отмечается языковедами.
Поэтому, трудно согласиться с Б. Асафьевым, бросившим упрек языковедам, якобы ограниченно освещающим роль интонации в своих работах: «Нельзя ограничивать, как это делают иногда филологи и литературоведы, область интонации интонациями вопроса, удивления, отрицания,
сомнения и т. п. Ибо область интонации как смыслового звуковыявления безгранична» (б, с. 240). Возможно, для эпохи написания Асафьевым его книги это и было в известной степени справедливо, но в настоящее время языковедческих трудов, изучающих проблему интонации,
великое множество, и рассматривается она в самых различных аспектах. Тем не менее, следует признать, что основное внимание языковедения направлено на «содержательно-образующую» роль интонации,
на значение ее как показателя модальности, актуального членения предложений, отделения главного от второстепенного и т. п. О собственно
синтаксическом значении интонации, о роли ее в определении функции слов как членов предложения или словосочетания, соподчинения
говорится значительно меньше. Так, в ЯБЭС в статье об интонации из
шести перечисленных функций четыре определяются как речевые
и лишь две как относящиеся к языку: 1) интонация «различает коммуникативные типы высказывания — побуждение, вопрос, восклицание,
повествование, импликацию (подразумевание)...; 2) различает части
высказывания соответственно их смысловой важности, выделенное™»
(77, с. 197). Как видим, и здесь вопрос о функциях соподчинений остается в тени. Более развернуто участие интонации в определении именно функций синтаксической структуры показано А. Реформатским.
Особое внимание в этом отношении уделяется паузам (цезурам). Пауза
показывает границы синтагмы, а отсюда — распределение функций
между словами, составляющим предложение. Реформатский приводит
такой пример: «Ходить долго V не мог» и «Ходить V долго не мог».
Определяющее слово «долго» в первом случае относится к «ходить»,
во втором — к «не мог». Функциональные отношения слов предложения меняются. Другой пример показывает превращение при помощи
смещения паузы простого предложения в сложное: «Вижу лицо в мор-
294
IV. Аналогии и параллели
щинах» — простое предложение. «Вижу: лицо — в морщинах» — сложное предложение. Перемещение паузы, в письменном виде выраженное знаком препинания — тире, — радикально изменило функциональную структуру целого и функции отдельных слов. Еще более интересен
пример, касающийся уже не пауз, а мелодического контура интонации.
«Интонацией можно отличить сочинительную связь от подчинительной при отсутствии союзов; например, с интонацией перечисления (то
есть с повторением той же интонационной волны; курсив мой. — Т. Б.).
Лес рубят, щепки летят — сочинение, а с контрастной интонацией обеих половин (первая на высоком тоне, вторая — на низком). Лес рубят —
щепки летят — подчинение, где лес рубят — придаточное предложение, а щепки летят — главное» (44, с. 309).
Вообще интонация в вербальном языке имеет настолько существенное значение и настолько близко смыкается с интонацией музыкальной, что вопрос об аналогиях в этом отношении требует (и заслуживает) специального глубокого исследования и не может быть исчерпан
в нескольких абзацах раздела статьи. Здесь он был поднят в совершенно определенном и достаточно узком ракурсе — ракурсе аналогий роли
интонации как функциональнообразующего фактора в ладовой системе музыки и синтаксической системе вербального языка. И эти аналогии, думается, очевидны.
Предложенная читателю статья является лишь начальным этапом
исследования проблемы. Само название ее — « О некоторых аналогиях
в структурах языка вербального и языка музыкального» — указывает
на эскизно-фрагментарный характер изложенных в ней наблюдений
и положений. Так, важнейшая как для музыкознания, так и для языкознания проблема интонации, проблема аналогий ее сущности и ее
функций в вербальном языке и в музыке, в статье только намечена.
Совсем не затронуты вопросы об аналогиях на уровне композиционных
структур (проблемы семантического порядка, как говорилось, остаются за рамками поставленных задач). Эти вопросы ждут своего исследования на самом глубоком уровне и в многочисленных ракурсах. И только тогда родственность музыки и вербального языка, интуитивно всегда
ощущавшаяся и ощущаемая любым музыкантом, поэтом, каждым мыслящим и слышащим человеком, сможет быть подтверждена и научно
доказана с подобающей значимости проблемы полнотой.
МОИ УЧИТЕЛЯ
Мои
(X. С. Кушнарев,
учителя
Ю. Н. Тюлин, Н. Г. Привано)
*
м
не , как и всем моим сверстникам, пришедшим в Ленинградскую
консерваторию в грозные предвоенные годы и закончившим ее в первые послевоенные, необычайно повезло. Как будто в награду за то, что
предстояло (а после 45-го — за то, что пришлось) пережить, судьба послала нам огромное счастье общения с целой плеядой замечательных
музыкантов, выдающихся ученых, творчески ярко одаренных преподавателей. Консерватория 30-х — 40-х годов была буквально наполнена талантом: Д. Шостакович, В. Софроницкий, В. Щербачев, П. Рязанов, И. Браудо, Н. Голубовская, Л. Николаев, Н. Рабинович, И. Ершов,
з. Лодий... да перечтешь ли всех! И во главе — молодой, полный сил,
энергичный, деятельный и бесстрашный директор — П. А. Серебряков,
личность, хотя и противоречивая, но, несомненно, незаурядная и яркая.
Разумеется, мы, студенты-теоретики, не со всеми из них общались
в тесном «внутриклассном» контакте, хотя двери классов были открыты
и, попросив разрешения, можно было присутствовать на любом уроке.
(Мне, например, посчастливилось не пропустить ни одного занятия
в дирижерском классе изумительного музыканта Николая Семеновича Рабиновича, общение с которым оставило неизгладимое впечатление.) Но даже и вне отдельных классов «дух творчества» витал в стенах консерватории.
Историко-теоретический факультет (так он тогда именовался),
возглавляемый в предвоенные годы С. Л. Гинзбургом, также переживал
период подъема. Правда, придя в консерваторию в 1940 году, я уже не
застала открытых лекций Б. В. Асафьева — он в то время занимался только с аспирантами. Но перечень преподавателей тогдашнего ИТФ, даже
не полный, говорит сам за себя: Ю. Н. Тюлин, X. С. Кушнарев, Р. И. Грубер, П. Б. Рязанов, А. К. Буцкой, Б. А. Арапов, Н. Г. Привано, М. Г. Герги* Статья впервые опубликована в изд.: Ленинградская консерватори в воспоминаниях. Книга 1. Л., 1987 (прим. ред.).
Мои учителя (X. С. Кушнарев, Ю. Н. Тюлин, Н. Г. Привано)
297
левич, А. Н. Должанский, А. Г. Шнитке, Р. И. Мервольф, С. Н. Соловьев
и многие другие замечательные музыканты и педагоги.
Невозможно в кратком очерке написать обо всех. Я остановлюсь
лишь на тех, под непосредственным влиянием которых сформировался мой «профессиональный профиль», на тех, благодаря кому для меня
на всю жизнь главным в музыковедении стали две проблемы: гармония и лад.
Христофор Степанович Кушнарев — это целая эпоха в Ленинградской консерватории и вообще в советской музыкальной культуре.
Ученый, педагог, композитор, он во всех сферах своей деятельности оставил богатейшее наследство, которым широко пользуются многие поколения музыкантов.
Имя Христофора Степановича обычно связывают с полифонией.
Это естественно, так как именно курс полифонии он особенно долго
вел в консерватории. Но научные интересы ученого и область его творческих открытий гораздо шире. Речь идет об изучении тех законов организации музыкального текста, которые рождены мелодийным началом,
мелодикой в самом широком смысле.
Исследования Кушнаревым принципов ладовой организации в монодических системах заложили основы теории монодических ладов,
нашедшей свое развитие и продолжение в работах многих музыковедов и фольклористов. Значение этого «первотолчка» для становления
общей теории лада трудно переоценить.
X. С. Кушнаревым впервые1 были высказаны мысли о связи семантической противоположности ладов с противоположностью их интервальной структуры (речь шла преимущественно о ладах монодического
типа). Вообще вопросам взаимосвязи композиционных приемов с содержательной стороной музыки Христофор Степанович уделял очень
большое внимание. Это нашло отражение, например, в его учении о фуге,
форма которой рассматривалась им как отражение свойственной эпохе
ее зарождения тезисной философии.
Христофор Степанович привнес новое и в педагогику. Его новаторская методика (плодотворность которой блестяще подтвердилась
многолетней практикой) произвела переворот в испокон веков установившейся традиции преподавания полифонии по фуксовскому методу
«разрядов».
1
Мне довелось об этом слышать в 1949-1950 годах.
298
V. Мои учителя
Вспоминая с неизменной и беспредельной благодарностью своего
незабвенного учителя, не могу найти слова, чтобы обрисовать, чем он
был для нас, его учеников. В нем все было прекрасно, и прежде всего
прекрасной была его душа, душа Человека с большой буквы, доброго,
отзывчивого, неподкупно честного. Мягкий в обращении, изысканно
вежливый, деликатный и чуткий до тонкости, он умел быть и непреклонно строгим, сурово осуждать то, что считал хоть в малейшей степени
проявлением непорядочности. Его называли совестью кафедры. Христофор Степанович был необычайно требователен, работу, выполненную не в полную силу, он воспринимал как огорчение и даже личную
обиду. И это действовало значительно сильнее, чем любое наказание.
Неповторимо оригинальный в своих суждениях, он всегда с необычайным вниманием и уважением относился к точке зрения другого.
Авторитет его для учеников был непререкаем, но он никогда не злоупотреблял им, не пользовался правом veto. Он старался убедить, если
бывал несогласен, но охотно уступал и соглашался, если приводимые
доводы его убеждали.
Щедро разбрасывая, раздаривая мысли и идеи, Христофор Степанович взамен желал только одного: чтобы они не оказались заброшенными, чтобы их подхватывали и развивали. И как ученый, и как
педагог он создал свою школу — школу Христофора Степановича Кушнарева.
Юрий Николаевич Тюлин — явление огромной значимости как
для Ленинградской консерватории, так и для теоретического музыкознания в целом. Это был человек многосторонне одаренный с многообразными, неожиданными в своем сочетании интересами. Выдающийся
музыкант, он в то же время имел университетское юридическое образование, был незаурядным шахматистом, увлекался легкоатлетической
гимнастикой, плаванием. И во всем и всегда — неординарный уровень,
«высокий класс».
Многосторонность отличала и его собственно музыкальную деятельность: это и композиция, и теория музыки во всех ее аспектах —
гармония, музыкальная форма, полифония. И исполнительский талант
был ему не чужд. Юрий Николаевич, переиграв в молодости руку, не
смог стать пианистом, но как тонко исполнял он на фортепиано то, что
хотел показать на уроках анализа! Его исполнительский замысел «проникал» даже сквозь несовершенство техники. Необычайно важную роль для
формирования облика Ю. Н. Тюлина как ученого-теоретика сыграло его
Мои учителя (X. С. Кушнарев, Ю. Н. Тюлин, Н. Г. Привано)
299
увлечение композицией. Творчество было для него важнейшей лабораторией, позволяющей ему в теоретических исследованиях раскрывать
проблемы со стороны, немыслимой вне непосредственных занятий композицией. Проникновение в психологию творчества сквозит в любой
из его теоретических концепций.
Может быть, именно понимание важности творчески активного
процесса для познания музыкальных закономерностей обусловило тот
акцент на творческих заданиях в курсе гармонии, на чем так настаивал
Юрий Николаевич в своей педагогической деятельности, проводя эту
идею в жизнь вместе со своим ближайшим учеником и помощником
Николаем Георгиевичем Привано.
При всем многообразии научных интересов Юрия Николаевича,
его исследовательская деятельность отмечена четким единством метода. Основная особенность этого метода — системность, системный подход к изучению явлений (хотя впервые работы Тюлина появились задолго до того, как теория систем заявила о себе в музыкознании и заняла
настолько прочное место, что сам термин стал почти дежурным). Возможно, в этом и коренятся удивительная жизнестойкость и современность его теоретических и творческих установок.
Системность и функциональная направленность мышления, стремление в изучении каждого аспекта музыкальной системы учитывать
общефилософские и общелогические законы позволили Тюлину создавать концепции, содержавшие богатые перспективы для развития. Такова, например, теория переменности функций, положившая начало
известности Тюлина как теоретика. Как известно, идея переменности
функций «носилась в воздухе» достаточно давно, начиная едва ли не с трудов Рамо, но именно Тюлин вывел ее на «передний план» теории гармонии. В дальнейшем распространение теории переменных функций
на лады нестабильные, монодические, слабоцентрализованные позволило раскрыть новые стороны действия переменных систем и по-новому
взглянуть на само понятие «переменный лад». Диалектическая сущность идеи переменности функций позволила этой теории перешагнуть
рамки гармонии. Кому не известны теперь работы В. Бобровского о переменности функций музыкальной формы? Но, может быть, не все знают,
что проблемы такой переменности и даже модуляции ставил уже сам
Тюлин! «Материал „по дороге" меняет свою функцию и из первоначально тематически устойчивого по типу побочной партии — перевоплощается в типичную связующую часть», — говорил Юрий Николаевич на
уроках анализа по поводу темы си минор из Сонаты № 7 Бетховена.
300
V. Мои учителя
В кратком очерке невозможно рассказать обо всем, что сделал
Юрий Николаевич для музыкознания. Его идеи будут долгое время,
долгие годы питать новые музыковедческие исследования. Примечательно, что в горькие дни прощания с Юрием Николевичем Л. А. Мазель в своей речи сравнил его роль в музыкознании с ролью Гуго Римана.
Общение с таким выдающимся ученым, с такой незаурядной неповторимо яркой личностью — счастье для музыканта-теоретика. Мы должны гордиться тем, что именно в Ленинградской консерватории создавалось основное ядро тюлинской школы.
У всех, кто знал Николая Георгиевича Привано, он и сейчас перед
глазами — невысокий, черноволосый, в сильных очках, с неизменной
папиросой в углу рта, несмотря на приближающееся семидесятилетие,
всегда подтянутый, быстрый в движениях, спортивный.
Если «ленинградская теория гармонии» — создание Ю. Н. Тюлина, то методика ее — истинное детище Привано. Он создал школу преподавания гармонии, школу, принципов которой придерживаются все, кому
посчастливилось ее пройти и даже с ней просто соприкоснуться. До сих
пор его ученики, сами давно уже немолодые, пользуются не только его
методами, но и созданными им заданиями — мелодиями, темами прелюдий, мотивами секвенций и т. п. Кому из тех, кто учился по «ленинградской школе», не знакомы длинные столбцы «цифровок»! 2 Истые последователи Николая Георгиевича заставляют своих учеников не только
играть их на рояле, но и записывать, учить наизусть, транспонировать.
А темы для прелюдий, большинство из которых сочинено Николаем Георгиевичем? И как же музыкальны эти темы, как выгодно отличаются
они своей интонационной выразительностью, безупречностью, строгостью вкуса!
Музыкальность... Это качество Николай Георгиевич в первую очередь ценил в своих учениках. И этим вниманием к музыкальности,
к творческому началу определяется основная направленность его методики. Можно утверждать, что весь курс гармонии Привано был направлен на постижение гармонии через творчество. Огромное место в его
заданиях отводилось сочинению. Сочинялись периоды, двух- и трех2 До последнего времени эти цифровки существовали только в рукописном
виде, многократно переписываемые с затертых «до дыр» ранних списков. В новое
издание «Учебника гармонии» Ю. Н. Тюлина и Н. Г. Привано (М., 1986) они вошли
в качестве приложения.
Мои учителя (X. С. Кушнарев, Ю. Н. Тюлин,Н.Г. Привано)
301
частные формы, сочинялись вариации и даже сонаты. Не так-то просто,
не погрешив против интонационной осмысленности, написать сонатную
форму в строгом четырехголосии, не выходя за пределы классического
голосоведения. Но Николай Георгиевич умел увлечь заданием и сделать
для своих учеников заманчивым и желанным достижение поставленной цели. И они писали, писали с увлечением, добиваясь контраста тематического материала партий при помощи различия регистров, характера
аккордики, контраста гармонической пульсации, степени фигурационной насыщенности; добиваясь различия между экспозиционным и разработочным, связующим и заключительным участками формы с помощью
различной интенсивности модулирования, акцентирования различных
гармонических функций и т. п. И какую же пользу в постижении собственно гармонического развития, роли гармонии в формообразовании
приносило это строгое четырехголосие3! Разумеется, курс в целом ограничивался в основном средствами классико-романтической гармонии.
Но зато законы этого стиля постигались глубоко и совершенно.
Пожалуй, только в ленинградской школе разрешается пользоваться инструментом при выполнении письменных и аналитических (даже
экзаменационных) заданий. Возможно, это идет вразрез с традиционной методикой, позволяющей одновременно проверять и технические
навыки и внутренний слух. Но ведь для этой последней цели существует
специальный курс — курс сольфеджио. В работах по гармонии главным для Николая Георгиевича Привано было развитие творческих
навыков, а их выявлению пользование инструментом нисколько не мешает. Так же и при выполнении гармонического анализа: анализироваться
должно реально услышанное, а не высчитанное арифметически.
Общий путь воспитания слуха, предлагаемый Николаем Георгиевичем, можно определить так: услышать реально звучащее; запомнить
это; суметь воспроизвести внутренним слухом.
Успехам в развитии творческих навыков способствовала и стройная, детально разработанная система упражнений. Методика их использования, порядок следования упражнений, градация их трудности, ком3 Помню, еще в музыкальном училище я однажды принесла Николаю Георгиевичу «сочинение», в котором некоторые аккорды повторялись на одном месте. «Для
ритмического оживления», — сообщила я Николаю Георгиевичу Он мягко, но в то
же время очень решительно раскритиковал мой «опус», сказав: «Видите ли, применением ритмической фигурации Вы пытались восполнить недостаток собственно
гармонического движения. Но ведь я учу Вас "гармонии" и хочу, чтобы Вы сумели
найти все импульсы развития именно в ней самой».
302
V. Мои учителя
бинация форм были продуманы и отработаны с такой тщательностью,
что следование этой системе само по себе уже могло обеспечить известные достижения. Обладая незаурядным педагогическим талантом, Николай Георгиевич умел выявить слабые и сильные стороны дарования
ученика, мгновенно определить и четко сформулировать достоинства
и недостатки выполненной работы, тонко и ненавязчиво подсказать
путь преодоления этих недостатков.
Методика Николая Георгиевича Привано стала явлением в сфере
преподавания гармонии. Поэтому повторю: если стало уже традицией,
говоря о Ленинградской школе теории гармонии, называть ее главой
Юрия Николаевича Тюлина, то с тем же основанием можно говорить
о школе практической гармонии, созданной Николаем Георгиевичем Привано — учителем гармонии в самом высоком смысле этого слова.
't
«Тюлинское братство»
*
колаевич Тюлин. А вошел он в нашу жизнь задолго до личной встречи
с ним. В то время, в «доконсерваторский», «училищный» период мы не
только не знали его работ, но даже имя его было нам еще неведомо. Как
некое высшее существо, как высший критерий истинности суждений
ввел Тюлина в наше сознание его верный ученик и последователь, а наш
в ту пору учитель гармонии Николай Георгиевич Привано, для которого Юрий Николаевич был и навсегда остался высшим авторитетом. Еще
ни разу не увидев Тюлина, мы уже благоговели перед его именем, а его
работы, тогда еще немногочисленные, воспринимались нами как Евангелие. Мы ждали встречи, жаждали общения... И встреча не обманула
ожидания. Юрий Николаевич сразу же покорил нас своей личностью —
необычайно яркой, разносторонней, многообразием интересов, своим
жизнелюбием и, конечно же, мощью своего интеллекта, смелостью суждений, убедительностью и логикой аргументаций...
В своем рассказе об этом человеке мне хотелось бы затронуть три
темы: 1) чему учил нас Тюлин; 2) как учил нас Тюлин; 3) каким он был
в общении с нами, учениками.
То, чему он нас учил, тесно связано с тем, каким был он сам и,
прежде всего, с тем, каким был его творческий метод. Общим местом
стало, говоря о Тюлине, отмечать многообразие его дарований: ученый,
композитор, педагог, юрист, спортсмен; и всегда, и во всем — высший
класс профессионализма. И мне думается, что, может быть, именно эта
разносторонность, осведомленность в самых разных областях подтолкнула его блестящий, склонный к обобщениям интеллект к тому методу
научного исследования, который стал для него ведущим, даже единственно возможным: методу рассмотрения любого явления с разных
сторон, во всех его сложных связях, постижения его глубинных, сущ* Печатается по изд.: Бершадская Т. Тюлинское братство / / Музыкальная
академия. 1994, № 4 (прим. ред.).
304
V. Мои учителя
ностных признаков, обнаружения того общего, что роднит между собой,
на первый взгляд, казалось бы совершенно различные явления. Из этого
стремления к философскому обобщению рождались многие концепции
Тюлина, и общность метода сказывалась во всех областях его научной
деятельности. Недаром в его работах (и устных лекциях) мы встречали
такие параллели, как, например, тема инструментального произведения — персонаж драмы; раздел формы — место действия; «жизнь» тематизма — драматургия оперы и т. п. В своей статье о Юрии Николаевиче1 я попыталась обобщить то главное, что отличает все теоретическое
наследие Тюлина, и определила это главное как соединение двух основных подходов — системного и функционального, что, впрочем, неразрывно связано одно с другим.
Системность мышления, как уже сказано, требовала рассмотрения любого объекта как многоуровневого и многоаспектного и при этом
соблюдения строгой логики классификации уровней и аспектов. Не дай
Бог, было сказать на уроке что-нибудь, вроде следующего: «В разработке появилась главная партия». Немедленно следовало: «Ну да, надев
широкий боливар, особняк Онегина едет на бульвар!» Этим язвительным искажением Пушкина Юрий Николаевич подчеркивал недопустимость смешения категорий темы и раздела формы (следовало сказать:
появилась тема главной партии). Смертным грехом было перечисление, как однопорядковых, модуляций и отклонений (отклонение —
видовой уровень родового понятия — модуляции). Безупречности логики суждений и классификаций Тюлин неукоснительно следовал сам
и требовал того же от своих учеников.
Следующее, на чем хотелось бы остановиться, — подход Тюлина
к выведению определений и понятий. Здесь сущность для Юрий Николаевича всегда стояла над явлением, и эту сущность он видел, прежде
всего, в функции элемента. Так рождались новые определения — «мелодико-гармоническая модуляция» (вместо традиционной «хроматической», отражавшей лишь внешне характерный, но не существенный
признак); «альтерированная субдоминанта» (вместо двойной доминанты)
при движении альтерированного аккорда в кадансовый квартсекстаккорд; семичастное «высшее рондо» (вместо рондо-сонаты в случае отсутствия заключительной части); «связующая часть» (вместо связующей
партии) и многое, многое другое. Так же родилось определение аккорда,
1 См. статью «Мои учителя (X. С. Кушнарев, Ю. Н. Тюлин, Н. Г. Привано)»
на стр. 289 настоящего издания.
«Тюлинское братство»
305
исходящее не из структурно-интервального признака, но из функции
аккорда как единицы музыкальной системы: «...логически дифференцированное созвучие, некое гармоническое единство, конструктивное
целое, действующее не своими составными частями, но в целом».
Системность и функциональный подход, стремление при изучении каждого аспекта музыкальной системы подняться до общефилософских обобщений позволяли Тюлину создавать концепции, способные к развитию, применению к объектам более высокого структурного
уровня. Хрестоматийный пример — теория переменных функций, перешагнувшая границы гармонии и ладотональности в лекциях уже самого Юрия Николаевича. Это давало и дает его идеям долгую жизнь,
а взятые вместе, они составили целое направление — школу Тюлина.
И, наконец, еще одно на тему «чему учил нас Тюлин», тесно смыкающееся с темой «как он нас учил».
Разные бывают ученые. Для одних на первом месте стоит книга —
стремление узнать, что говорят другие, что уже написано об избранном для исследования материале. Для других главное — сам материал,
собственное впечатление, собственное суждение об этом материале
и лишь затем — то, что об этом написано. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Юрий Николаевич принадлежал ко второму типу ученых. Мне
представляется, что его могучий ум даже как бы сопротивлялся воздействию чужой концепции: казалось, предварительное ознакомление
с мнением других мешало складываться независимому собственному
суждению. И потому на первом месте у него всегда была сама музыка.
Вспоминаю ироническое замечание, брошенное им как-то в адрес одного сверхэрудированного молодого теоретика, к научным изысканиям
которого Юрий Николаевич, в общем, относился с явной симпатией:
«Бедняга столько всего начитался, что не мог переварить!» А много позднее в одном из журналов мне попалось на глаза сходное высказывание
А. Эйнштейна: «Избыток информации убивает инициативу». Думаю,
что в этой мысли есть доля истины, и симптоматично, что родилась она
у мыслителя выдающегося.
Изучения музыки, особенно музыки классической, — вот чего,
в первую очередь, требовал от нас Юрий Николаевич. Мы должны были
анализировать все сонаты и симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена, составлять буквенные схемы всех форм и при этом обязательно высказывать собственное суждение, свое представление о данных формах.
Нередко результат наблюдений вступал в противоречие с распространенной традицией «освященной» точки зрения. В этих случаях Юрий Ни20
Зак. 597
306
V. Мои учителя
колаевич вступал в полемику с нами, учениками, словно бы мы уже были
его коллегами. «Рондо характерно для гайдновских финалов? Вычитала где-нибудь? А сама проверила? А я проверил и утверждаю, что
это для Гайдна вовсе не характерно! Почти все его финалы — сонатная
форма с теми или иными особенностями! Рондо гораздо более характерно для Моцарта... Финал Сонаты A-dur Моцарта — рондо? Так там
написано? Так ведь название родилось из-за жанрового характера тематизма, а форма — сложная трехчастная!» Так смело разрушал он традиционные представления и почти всегда оказывался прав. Тому же
учил он и нас...
Учитель в высшем значении этого слова — идеал, образец, которому хочется во всем следовать и даже подражать, — он в то же время
совсем не был учителем в обыденном смысле, не был «школьным педагогом», не был «репетитором». Он блестяще разрабатывал методику
обучения; свидетельством тому — его «цифровки» и мелодии для гармонизации, последовательное «включение» творческих работ, составляющих специфику ленинградской школы гармонии (нигде больше,
насколько мне известно, в курсе гармонии не уделяется столько времени и внимания сочинению), но скрупулезно следовать этой методике
было уже не его делом. Это превосходно выполняли его ученики —
Н. Привано, Т. Тер-Мартиросян и другие. Его же мысль бежала далеко
впереди... неслучайно он так рано (в возрасте около сорока лет) отказался от преподавания «тренажных» дисциплин и перешел на ведение
только специального класса, занятий с дипломниками и аспирантами.
Занятия эти проходили вне особо строгой системы. Нередко бывало и так: придешь с написанным фрагментом работы по Дворжаку или
Чайковскому, а Юрий Николаевич встречает словами: «Я сейчас смотрел Брукнера. Замечательная музыка. Давай поиграем». И весь урок
проходит за игрой в четыре руки. Или другой вариант: «Знаешь, я вчера передалал финал "Русской сюиты". Хочешь послушать?» И садится
играть свое сочинение. Я бы сказала, он не учил. У него надо было уметь
учиться. Его надо было заинтересовать — темой, материалом, рассуждениями. Он увлекался, начинал анализировать и тогда — только умей
слушать! Праздником бывали его «аналитические этюды» — Шопена,
Чайковского, Мусоргского. Переиграв в молодости руку, Юрий Николаевич не стал профессиональным пианистом, но все, что он хотел показать, — показывал блестяще. Напечатанные его анализы — лишь бледная копия тех вдохновенных творческих откровений, которых нам,
счастливцам, довелось быть свидетелями и слушателями.
Тюлинское братство»
307
Юрий Николаевич очень внимательно относился к текстам наших
студенческих и аспирантских работ. Здесь нужно было соблюдать все ту
же железную логику содержания, редакционную чистоту и ясность изложения. От работы требовались краткость, четкость и направленность
на главную проблему, умение «смотреть в корень». Смешение разных вопросов и даже просто «лирические отступления» в плане описательных
пассажей карались презрительным: «Щебетание!» или «Дамское рукоделье!», причем никакого отношения к полу критикуемого эта характеристика не имела. Так учил нас Юрий Николаевич Тюлин.
И последнее: каким был Юрий Николаевич в своем общении с учениками? Как и во всем — неповторимым. Его ученики были для него
близкими, родными, были «его детьми». В воспоминаниях о Тюлине
много написано о его доброте, отзывчивости, участливости. Все это так,
но мне хочется добавить еще одну черту его характера. Ученики боготворили его благоговели перд ним, а он как бы стеснялся этого и всеми
силами хотел приблизить их к себе. Так, всех он называл «на ты», а более страших заставлял и себе говорить «ты», что давалось им, по собственному их признанию, не сразу и нелегко. Божество в классе, он за
пределами учебной аудитории становился товарищем, другом, участником игр и забав. Каждое занятие у него дома заканчивалось чаепитием с «чем Бог послал». Он любил бывать в гостях у своих учеников,
ездил к ним и с нами за город, учил играть в шахматы, плавать. Он хотел создать (и создал!) «Тюлинское братство», приобщая воспитанников не только к своему приямому делу, но и вводя их в круг своих приватных увлечений. Расскажу один забавный эпизод. Как-то я вошла
в его квартиру на шестом этаже старинного дома, еле взобравшись по
крутой винтовой лестнице, и остановилась, совершенно задохнувшись.
Юрий Николаевич бурно возмутился: «Что за молодежь?! Девчонка!
Гимнастикой надо заниматься! Вот смотри!» И не успела я опомниться,
как голова его исчезла из моего поля зрения, а перед носом оказались
ноги в домашних тапочках: профессор стоял на голове... Я онемела,
а Юрий Николаевич, бодро вскочив на ноги, повторил: «Гимнастикой
надо заниматься!» — и, как ни в чем не бывало, начал урок.
Дело, разумеется, не ограничивалось гимнастикой. Какую громадную пользу принесло нам участие в технической подготовке к изданию
работ Юрия Николаевича! Через наши, еще неумелые тогда, руки пришли «Теоретические основы гармонии», позднее — учебники, статьи.
И как же горды мы были своим участием, своей причастностью к делам великим! А ведь это он учил нас — учил править рукопись, состав-
308
V. Мои учителя
лягь библиографию, грамотно оформлять примеры и ссылки. Как пригодилось нам все это впоследствии в нашей собственной работе!
Юрий Николаевич никогда не забывал своих учеников, их судьба
была им небезразлична и за пределами учебного заведения. Он помогал
не только в делах профессиональных — возможность продолжить образование, организовать публикацию, — но и просто в делах житейских.
Заканчивая свой рассказ об учителе — замечательном человеке,
музыканте, главе теоретической школы Юрие Николаевиче Тюлине,
хочу сказать: все, кому посчастливилось быть причастными к этой школе, вечно благодарны своей судьбе.
Учитель на всю жизнь *
В™—«^в-™-^»..
научный руководитель профессор Юрий Николаевич Тюлин, боготворимый мною задолго до того, как я познакомилась с ним лично (благодаря восторженным рассказам Николая Георгиевича Привано — моего
любимого и никогда не забываемого, первого учителя гармонии, который преклонялся перед Тюлиным, и нам, своим ученикам, внушал такое
же отношение), внезапно объявил нам, своим студентам и аспирантам,
что уходит из Ленинградской консерватории, так как не желает работать под руководством тогдашнего ректора Павла Алексеевича Серебрякова, и уезжает в Ташкент, куда его давно зовут. В своих оценках Павла Алексеевича Юрий Николаевич был весьма резок и, с моей точки
зрения, не всегда прав1. Но точка зрения Тюлина была иной, и, оставив
свой класс в большой растерянности, он уехал в Ташкент. Мне же не
терпящим возражения тоном он заявил: «Пойдешь к Кушнареву. Это
мой самый близкий и верный друг. Я с ним говорил, он тебя возьмет».
Так я, не совсем понимая, что будет дальше, что я буду делать в классе
полифонии, которая представлялась мне тогда абсолютно не связанной
с моей любимой гармонией, оказалась в классе Христофора Степановича Кушнарева. И сразу попала в совершенно другой мир.
Как не похожи, как диаметрально противоположны во многом
были эти два ближайших друга, товарищи с юных лет! И как они любили, как преданы были друг другу! Мне не забыть, как в горькие дни прощания с Христофором Степановичем Юрий Николаевич, произносивший
надгробную речь, на словах: «Мы вместе в 1912 году поступали в кон* Публикуется впервые {прим. ред.).
Хочу отметить, что из четырех ректоров, сменившихся на этом посту за пятьдесят с лишним лет моей работы в Ленинградской — Санкт-Петербургской консерватории (о последнем, пятом, судить пока не могу, потому что пост этот он занял
совсем недавно), Павел Алексеевич, думается, был лучшим: при всех, возможно,
многих недостатках, он бескорыстно и преданно любил консерваторию и отдавал ей
все силы своей души и сердца.
1
310
V. Мои учителя
серваторию» вдруг замолчал, и по его исказившемуся лицу стало видно,
что судорога перехватила ему горло и он с трудом удерживается, чтобы
не зарыдать. Это была подлинная, искренняя, самоотверженная дружба.
Но по характеру, манере поведения они были антиподами. Начать можно с научных интересов и устремлений. Юрий Николаевич — отец современного российского учения о гармонии, «Риман XX века», как отозвался о нем Лео Абрамович Мазель. Вся его могучая теоретическая
концепция — теория переменности функций, теория фонизма, теория
формы — «где-то внутри» отталкивалась от законов мажорно-минорной гармонии, тут же раскрывая их способность к диалектическому развитию, к процессуальности. Христофор Степанович — линеарист, монодист, саму полифонию воспринимавший не через вертикаль, а через
горизонталь, через мелодийное движение сопрягаемых голосов. И как
же мне повезло, как облагодетельствовала меня судьба, подарив возможность общения с такими замечательными учеными, смотрящими
к тому же на музыкальную систему «под разным углом зрения»! Это
позволило мне увидеть, почувствовать музыкальную ткань и музыкальную систему в новом, «стереофоническом» ракурсе и дало направление
всем моим собственным исследованиям.
В своем педагогическом «поведении» они тоже были совсем разными. Юрий Николаевич, выслушав на уроке по специальности очередную «крамолу» (то есть нечто, на тот момент не сходное с его точкой
зрения), обычно бурно возмущался, кричал: «Ты ничего не понимаешь!»,
«Вечно ты споришь!» и тому подобное, после чего еще больше хотелось
настаивать на своем мнении, еще активнее возражать. Иногда это приводило к успеху но только по прошествии некоторого времени. Христофор Степанович в случаях своего несогласия реагировал совершенно
иначе. Его тихое и вдумчивое: «Видите, какая история...» и последующий глубоко аргументированный разбор предложенной концепции,
разъяснение ее недостатков сразу гасили дискуссионный задор. Зато
каким счастьем бывало услышать: «Что ж, пожалуй, Вы правы...» и совсем «маслом» по сердцу: «Ай да умница!», после чего домой летелось,
как на крыльях.
Разными были они и по характеру. Всегда порывистый, шумный
Юрий Николаевич, бурно и быстро реагировавший на поступки других,
немедленно и безапелляционно высказывавший о них свое, быть может,
порой и не вполне справедливое суждение, всегда был душой общества.
В среде учеников он хотел быть «своим», переходил со многими на «ты»,
едва они переступали студенческий ранг. Он любил молодежные компа-
Учитель на всю жизнь
311
нии, игры, например, шарады, в которых обожал изображать кокетливых молодящихся дам. Он ездил к нам на дачи, будучи сам отличным
спортсменом, учил нас плавать, бегать, стоять на голове.
Совершенно другим был Христофор Степанович. Аристократически сдержанный, спокойный, безукоризненно вежливый, говорил
медленно и очень негромко (во время Первой мировой войны Христофор Степанович, будучи офицером действующей армии, был контужен, что сильно повредило ему слух — он даже пользовался аппаратом, — и потому сознательно приглушал голос, боясь заговорить слишком
громко). Христофор Степанович тоже участвовал в студенческих вечеринках, но игры предпочитал «интеллектуальные», ценил тонкий юмор,
остроумный анекдот, сам рассказывал забавные случаи из своей жизни
и жизни своих друзей. Помню, как-то он, озорно улыбаясь (это он тоже
умел!), показал мне фрагмент своей переписки с Тюлиным на полях рукописи «Теоретических основ гармонии», которую он тогда редактировал. Возле одной весьма витиеватой фразы мелким, чрезвычайно четким
и разборчивым почерком Христофора Степановича стояло: «Ну, кто это
поймет!». Рядом крупным острым почерком Юрия Николаевича сердитое: «Всякий дурак поймет!». И ехидная отповедь Христофора Степановича: «Я не дурак, поэтому не понимаю!». Как же они потом вместе
смеялись по этому поводу! В противоположность Тюлину, Кушнарев
всегда соблюдал дистанцию между собой и учениками (всегда на «Вы»,
аспирантов — по имени и отчеству), что не препятствовало его сердечнейшему к ним отношению, живейшему участию в их делах, успехах
и невзгодах. Вспоминаю, как однажды (было это летом 1959 года, за полгода до его кончины) я, после очередной неудачной попытки научиться
ездить на велосипеде, сидела понуро и недвижно на пороге снимаемой
мною хибары на окраине Зеленогорска с компрессом на ноге, оплакивая
«уплывающий» от меня теплоход, на который уже был заказан билет
в Одессе (тогда я еще морские круизы предпочитала речным2). Как
вдруг, глазам своим не поверив, я увидела перед собой Христофора Степановича и его супругу, Инну Сергеевну Спендиарову-Кушнареву: они
отдыхали в Доме творчества композиторов «Репино» и, неведомо как,
узнав о моих невзгодах, немедленно отправились меня навестить. Это
была незабываемо теплая, отеческая беседа. Христофор Степанович,
2 Скажу, скорее, для своей собственной характеристики, что на теплоход я всетаки попала, отправившись в Одессу с палкой и в домашнем тапочке на распухшей
ноге.
312
V. Мои учителя
утешая, подшучивал надо мной, говорил, что теперь окончательно уверовал в то, что я — его ученица и родственная душа: оказывается, что и
у него все попытки освоить велосипед оканчивались повреждением конечностей.
Христофор Степанович самозабвенно любил природу и все в ней
прекрасное. Очень любил животных. Обожал свою сердитую собаченку-фокстерьера Зорьку, канареек, живших в просторной клетке числом
не менее двух (полной семейной пары). Был замечательным, можно сказать, профессиональным фотографом, делая превосходные высоко художественные пейзажные снимки (помню, например, Неву в зимней
дымке, решетку Летнего сада, пейзажи Армении и др.). Приучил к фотографии он и меня, став и в этой области моим учителем.
Дело всей жизни Христофора Степановича — армянская монодия, которой посвящен его капитальных труд «История и теория армянской монодической музыки» (33). В этой книге раскрываются законы
монодического мышления — звукоряды, специфика ладовой функциональности, интонационной системы, ставится проблема взаимосвязи звуковысотной структуры с ее семантическими (выразительными) возможностями. О судьбоносном значении этого труда для теории музыкальной
системы вообще, для музыки, не укладывающейся в рамки классической
мажорно-минорной системы и для современной музыки в частности,
мне довелось неоднократно говорить и писать ранее (см., например,
очерк «Мои учителя», опубликованный в настоящем издании). Здесь
же скажу, что Христофор Степанович и сам, возможно, не представлял
себе глобальность открытых им законов, скромно отнеся их только к армянской монодической музыке. Между тем, если бы не его открытия,
многие современные теории лада, многие исследования народной музыки самых различных национальностей могли бы не осуществиться.
Напомню, например, работы Ф. А. Рубцова, Э. Е. Алексеева, С. П. Галицкой и многие другие, в списке использованной литературы которых имя
X. С. Кушнарева занимает первейшее место.
Представляется, что сама жизнь, сама биография Христофора Степановича подготовила почву для осознания единства в многообразии
самых разных музыкально-интонационных источников, самых разных
национальных культур. Армянин по национальности, родившийся в столице крымско-татарского рая Симферополе, проведший юность в столице
Грузии Тбилиси (тогда — Тифлисе), получивший свое профессиональное образование в крупнейшем очаге европейской культуры — университете и консерватории Ленинграда, после двадцати лет преподавания
Учитель на всю жизнь
313
в ней, в годы Великой Отечественной войны он попадает в Узбекистан
(Ташкент), оттуда вновь в Тбилиси, после войны — в Ереван и Ленинград, где, совмещая оба города, работает уже до своей кончины. Смешение и взаимовлияние самых разных национальных культур и, что весьма
существенно, в большинстве своем не мажорно-минорных, не могло не
отразиться на его слуховом сознании, а отсюда и на стремлении логически обобщить слышимое. Добавим к этому постоянное общение с множеством разнонациональных учеников, каждый из которых нес нечто
свое, специфическое, добавим интерес к фольклору — армянскому, грузинскому, осетинскому, русскому. Немало дала «узкая специализация» —
полифония средневековья и строгого стиля, то есть музыки, интонационно связанной с грегорианикой, интонационно, опять же, сугубо монодической. И все это оплодотворялось широчайшим и глубинным знанием европейской музыкальной классики — и продуктами художественного
творчества, и музыкальной теорией: Риман, Праут, Танеев, Курт, Комитас, Яворский, Асафьев. Огромное значение имело и общение с друзья ми-единомышленниками, теоретиками, композиторами, исполнителями:
Ю. Н. Тюлиным, В. В. Щербачевым, П. Б. Рязановым, Ю. И. Эйдлиным,
А. Я. Штримером, И. А. Браудо. Напомню, что Христофор Степанович
и сам был композитором (его органные сочинения прочно вошли в репертуар органистов), а начальное музыкальное образование он получил
как скрипач и много играл в квартетах.
Как итог, можно констатировать, что в формировании научно-теоретической концепции и педагогического метода X. С. Кушнарева скрестилось несколько разных истоков, что это само собой исключало какую бы то ни было ограниченность воззрений, почти неизбежно
сопутствующую концепциям, опирающимся только на какую-либо одну,
отдельно взятую национальную культуру. А вот то, что эта концепция не
стала эклектичной, но, синтезировав и интегрировав самые разные составляющие, предстала в виде обобщающей, а потому общезначимой
и широко применимой теории, это — «роль личности в теории», следствие мощного дарования и неповторимо яркой индивидуальности Христофора Степановича Кушнарева. Он был новатором. Он стал открывателем новых путей и в теории — концепция монодических ладов как
особой структуры со своей, непохожей на мажорно-минорную, но очень
отчетливой функциональной системой тоники и антитезы (читай: столь
распространенной в современной музыке и теории идем лада «тоника —
нетоника»!); новатором в преподавании полифонии строгого стиля (не
от вертикали — «фуксовские разряды», а от сочинения мелодий, инто-
314
V. Мои учителя
национно оправданно сочетающихся одна с другой). Для того чтобы так
услышать полифонию строгого стиля в самом начале XX века, нужен
был слух, слуховое сознание, воспитанное на линейно-мелодических
принципах, слух, понимающий и воспринимающий мелодию как самостоятельно ценную, не нуждающуюся для полноты выражения ни в реальной, ни в подразумеваемой гармонической окраске. Это был переворот в методике преподавания полифонии строгого стиля, и совершил
его Христофор Степанович Кушнарев.
Я много думала над тем, как закончить свои, возможно, несколько
сумбурные, воспоминания о моем незабвенном учителе. И на память
мне пришли слова, сказанные мною в 1980 году в Ереване на конференции, посвященной 90-летию со дня его рождения. Собрание было большим и длинным, выступало несчетное множество его учеников со всех
концов страны. Мне пришлось выступать последней. Я растерялась: казалось, все слова уже были сказаны, отмечены все достижения и открытия, все заслуги, всё великое. Приготовленная заранее речь совершенно
не годилась — пришлось бы повторять уже многократно произнесенное.
И тут, от этой растерянности, с одной стороны, и от чувства безмерной
ответственности перед памятью учителя — с другой, родились слова,
которые я с глубокой убежденностью в их истинности повторяю на этих
страницах.
Учителя бывают разные. Бывают такие, может быть, в своем деле
и неплохие, о которых забываешь, едва в учебном плане закончился читаемый ими предмет. Бывают учителя, которые по окончании их курса
становятся хорошими коллегами. Бывают учителя, которые со временем становятся добрыми товарищами и даже друзьями. А бывают Учителя, перед которыми благоговеешь... Такие, память о которых не исчезает
никогда, с которыми продолжаешь мысленно советоваться даже тогда,
когда их давно уже нет рядом, когда голова уже седая и у самой немало
учеников и учеников учеников, по ним поверяешь свои поступки, свои
удачи и свои поражения, учителя на всю жизнь. Таким Учителем был
для меня и, возьму на себя смелость сказать, для всех, кто имел счастье
учиться у него и общаться с ним, Христофор Степанович Кушнарев.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Александрова Е. А. Факторы ладовой дифференциации в сложпотопальпых структурах современной музыки: к проблеме лада: Дисс, ... канд. искусствовед. Л.: ЛОЛГК им. И. А. Римского-Корсакова, 1983.
Арапооский М. Г. История музыки и тип творческого процесса / / Процессы музыкального творчества: Сб. ст. Вып. 2. М., 1997.
Араповский М. Г. Мелодика Прокофьева. Л., 1969.
Араповский М. Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. М., 1998.
Асафьев Б. В. М. И. Глинка. Л., 1978.
Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1963.
Асафьев Б. В. О музыке Чайковского. Избранное. Л., 1972.
Асафьев Б. В. Путеводитель по концертам. М., 1978.
Баллы UI. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
Балтер Г. Музыкальный словарь специальных терминов и выражений,
немецко-русский и русско-псмецкий. М.; Лейпциг, 1976.
Белинский В. Г. Сочинения. Т. IV. СПб., 1900.
Березовчук JL О. О специфике периодов изменения системы музыкального языка / / Эволюционные процессы музыкального мышления: Сб. ст.
Л., 1986.
Верков В. О. Гармония и музыкальная форма. М., 1962.
Бершадская Т. С. Гармония как элемент музыкальной системы. СПб., 1997.
Бершадская Т. С. Лекции по гармонии. Л., 1978.
Бершадская Т. С. Лекции по гармонии. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1985.
Бершадская Т. С. Основные композиционные закономерности многоголосия русской народной (крестьянской) песни. Л., 1961.
Бобровский В. Я. О переменности функций музыкальной формы. М., 1970.
Бобровский В. Я. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978.
БудаговР.А. Очерки по языкознанию. М., 1953.
Вахромеев В. А. Ладовая структура русской народной песни и ее изучение в курсе элементарной теории музыки. М., 1968.
Григорьев С. С. Теоретический курс гармонии. М., 1981.
Грубер Р. И. Всеобщая история музыки. Ч. 1. М., 1965.
Гуляницкая Н. С. Введение в современную гармонию. М., 1984.
Денисов А. В. Музыкальный язык в семиозисе художественной культуры
(ла материале европейской музыки). Дисс. ... канд. искусствовед. СПб.:
РГПУ им. А. И. Герцена. 2002.
316
26. Должанский А. Н. Краткий музыкальный словарь. Л., 1952.
27. Истомин И. А. Гармония Чайковского: Лады и звукоряды. Аккордика.
Модуляционные приемы и др. / / Очерки но истории гармонии в русской и советской музыке. Вып. 3. М., 1989.
28. Калмановский Е. Вопросы театральной терминологии. Л., 1984.
29. Катуар Г. Теоретический курс гармонии. М., 1925.
30. Коляда М. В. К изначальной сущности модуса западноевропейской хоральной традиции Средневековья как тематической категории: Дипломная работа. СПбГК, 1998.
31. Кулаковский Л. В. О русском народном многоголосии. М.; Л., 1951.
32. Курт Э. Основы линеарного контрапункта. Л., 1931.
33. Кушнарев X. С. Вопросы истории и теории армянской монодической музыки. Л., 1958.
34. Леонтьев А. Л. Возникновение и первоначальное развитие языка. М., 1963.
35. Мазель Л. Л. Проблемы классической гармонии. М., 1972.
36. Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений. М., 1960.
37. Мазель Л. А., Рыжкин Я. Я. Очерки по истории теоретического музыкознания. М., 1939. Вып. 2.
38. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М., 1975.
39. Милка А. П. Теоретические основы функциональности в музыке. Дисс....
канд. искусствовед. Л.: ЛОЛГК им. Н. А. Римского-Корсакова. Л., 1980.
40. Милка А. П. Теоретические основы функциональности в музыке. Л., 1982.
41. Музыкальная энциклопедия: В 6 т. М., 1973-1978.
42. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1989.
43. Рети Р. Тональность в современной музыке. Л., 1968.
44. Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1999.
45. Реформатский А. А. Опыт аиализа новеллистической композиции / / Семиотика: Сб. ст. М., 1983.
46. Реформатский А. А. Что такое термин и терминология. М., 1969.
47. Риман Г. Музыкальный словарь. Пер. с 5-го нем. изд. М.; Лейпциг, 1896.
48. Рубцов Ф.А. Статьи по музыкальному фольклору. М.; Л. 1973.
49. Руднева О. В. Интонационная основа вокальной мелодики М. П. Мусоргского (к проблеме организующей роли гармонии): Дисс. ... канд. искусствовед. СПб.: СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 2000.
50. Ручъевская Е. А. Классическая музыкальная форма. СПб., 1998. С. 144.
51. Ручъевская Е.А. Функции музыкальной темы. Л., 1977.
52. Свиридова А. В. Монодические принципы ладообразования в инструментальном тематизме Д. Шостаковича / / Актуальные проблемы ладогармонического мышления: Сб. тр. ГМПИ им. Гнесиных / Отв. ред. М. А. Этингер. М., 1982. Вып. 63.
53. Синьковская Н. Н. О гармонии П. И. Чайковского: Очерки. М., 1983.
54. Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1964.
55. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М., 1933.
317
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Способин И. В. Лекции по курсу гармонии. М., 1969.
Способин И. В. Музыкальная форма. М., 1947.
Тараканов М. Е. Неотложные проблемы / / Советская музыка. 1961, № 11.
Теплое Б. М. Психология музыкальных способностей. М.; Л., 1947.
Тох Э. Учение о мелодии. М., 1928.
Тюлин Ю. Н. Краткий теоретический курс гармонии. М., 1978.
Тюлин Ю. Н. Современная гармония и ее историческое происхождение / /
Вопросы современной музыки. Л., 1963.
Тюлин Ю. Н. Строение музыкальной речи. Л., 1962.
Тюлип Ю. И. Учение о гармонии. 2-е изд. М.; Л., 1939.
Тюлин Ю. И. Учение о гармонии. 3-е изд. М., 1966.
Тюлин Ю. Н., Бершадская Т. С., Пустылъник И. Я. и др. Музыкальная форма. М., 1974.
"
Тюлин Ю. Я., Привано И. Г. Теоретические основы гармонии. М., 1965.
Фишмаи Н. Л. Эстетика Ф. Э. Баха / / Советская музыка. 1963, № 4.
Харлап М. Т. Тактовая система музыкальной ритмики / / Проблемы музыкального ритма. М., 1978.
Холопов Ю. И. Наблюдения над современной гармонией / / Советская
музыка. 1961, № 11.
Холопов Ю. И. Очерки современной гармонии. М., 1974.
Холопов Ю. Н. Современные черты гармонии Прокофьева. М., 1968.
Цуккерман В. А. Выразительные свойства лирики Чайковского. М., 1971.
Чайковский П. И. Руководство к практическому изучению гармонии / /
ППС. Т. III-A. М., 1957.
Шевалье Л. История учений о гармонии. М., 1931.
Энциклопедический музыкальный словарь. М., 1966.
Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М., 1988.
Содержание
I.
От автора
3
Общие проблемы теории
5
Вклад ученых кафедры теории музыки
Ленинградской — Петербургской консерватории в становление
отечественной концепции гармонии и лада. Теория и практика
О понятиях, терминах, определениях современной теории музыки
Принципы ладовой классификации
Функции мелодических связей в современной музыке
II. Гармония и лад в свете индивидуальных решений
6
10
28
37
45
Б. В. Асафьев об интонационно-процессуальной природе лада
46
Типологические особенности российской теории лада
и концепция Ф. А. Рубцова
59
Обработки Милия Балакирева и звуковысотная система
русской песни
64
Гармония М. Мусоргского и ее редакция Н. Римским-Корсаковым
как «зеркало» авторского стиля
70
О гармонии Рахманинова
90
Еще раз о Рахманинове
118
Аккорд в музыке Сергея Рахманинова
122
Ассоциативность как один из факторов ладогармонической
организации музыки Сергея Прокофьева
127
О монодийных принципах музыкального мышления Шостаковича ... 140
Гармония как средство характеристики действующих лиц
в опере IL Чайковского «Евгений Онегин»
148
Татьяна Ларина и Владимир Ленский глазами Пушкина
и Чайковского
168
III. О фольклоре
Некоторые особенности русского народного многоголосия
К вопросу об устойчивости и неустойчивости в ладах
русской народной песни
175
176
222
IV. Аналогии и параллели
V.
233
О некоторых аналогиях в структурах языка вербального
и языка музыкального
I. О терминологии
П. О морфологии
III. О соподчинении
234
242
261
280
Мои учителя
295
Мои учителя (X. С. Кушнарев, Ю. Н. Тюлин, Н. Г. Привано)
«Тюлипское братство»
Учитель па всю жизнь
296
303
309
Литература
315
Татьяна Сергеевна Бершадская
СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ
Ответственный выпускающий Л. И. Веселова
Технический редактор О. В. Руднева
Нотная графика: Л. Ю. Гуральник, О. В. Руднева, Д. В. Шутко,
Корректор В. Г. Степанова
Сдано в набор 12.01.04. Подписано в печать 16.03.04.
Формат 60x90 '/|(). Бумага офсетная. Гарнитура «Петербург». Печать офсетная.
Объем 20 печ. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 597
Издательство «Союз художников»
198068, Санкт-Петербург, пер. Бойцова, 7, тел. (812) 232-04-19
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУП ордена Трудового Красного Знамени «Техническая книга»
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29