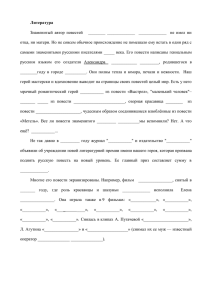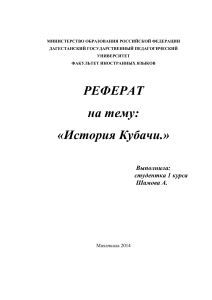Документ 987036
реклама

А.К. Ишанова доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Урбанистическая поэтика в мировой литературе Тема города в мировой литературе – одна из самых глубинных и интересных. В романах Ги де Мопассана, Э. Золя воссоздана перекликающаяся с открытиями французского натурализма урбанистическая картина мира. Еще более усложняется урбанистическая философема в романах классиков ХХ века – Г. Гессе, Т. Манна, М. Пруста, А. Камю, Ф. Кафки. Поэтика города мало исследована и в восточных литературах, между тем как интерпретация урбанизма в творчестве Рюноске Акутагавы, Юкио Мисима, Ясунари Кавабата, Орхана Памука позволяет обнаружить глубинные пласты эстетики и мировоззрения авторов. Чего стоит изображение Орханом Памуком картины разоренного средневекового Багдада, где пылали костры из картин и книг после нашествия Тимура и современного Стамбула как свидетеля и участника бытийноэкзистенциальных войн в душе человека в романе «Черная книга». В русском литературоведении существует давняя традиция исследования «московских» и «петербургских» текстов. Москва провозглашается третьим Римом, вечным городом, во многом противопоставляясь Петербургу. Известны работы, в которых подчеркивается женское-мужское начало этих двух городов, часто дополняющее друг друга. Чужой новой столице приписывались мужские черты (мотив вторжения, разлучения). Другой великий город – Рим оказал громадное влияние на духовное становление Н.В. Гоголя. Для писателя Рим оказался городом, возвратившим его в реальность, давшим ощущение не просто покоя, но состояния близкого к счастью. Если Невский проспект для писателя – сновидная демоническая иллюзия, то долго не находивший для себя гармонического пространства, он вдруг обретает в образе Рима «небо и рай» одновременно. «Петербургские» тексты Н. Гоголя, Ф. Достоевского на разных уровнях символико-метафорического восприятия передают амбивалентное отношение к Европе, обнажая давние споры западников и славянофилов о том, каким путем должна развиваться Россия. Достаточно много написано об истоках мотивов страха и ужаса, Эдиповой травме в петербургских текстах писателей 19 века, - о том, что Петербург построен на нетвердой почве, о латентном страхе перед наводнением и пр. У В. Брюсова, который мог себя именовать «дитя города», было достаточно сложное восприятие города в его воздействии на человека. Поэтом было создано несколько циклов урбанистической поэзии, где он и восхищается и ужасается городом, многим известно его знаменитое произведение «Конь-блед». Лишь часть эволюции мотивов социально- мировоззренческого восприятия города А. Блоком можно выделить в знаменитой «Фабрике». В советской литературе иногда тема города упрощалась, подчас связываясь со строительством ГЭС, мостов, заводов, промышленным бумом и внешними преобразованиями. Более того, в 1970-е годы появился термин «городская» проза, которую, воспринимая несколько уничижительно, противопоставляли более «идейным и содержательным» «военной» и «деревенской» литературам. «Городскими» повестями называли трилогию Ю. Трифонова «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание». С самого начала эти повести не были по достоинству оценены критикой, даже такой проницательный исследователь, как Лев Аннинский определил основной темой трилогии городской быт и приземленность мелких чувств и переживаний горожан. Справедлива была обида Ю. Трифонова, который в полемике с критиком подчеркнул, что эти повести не о городском быте, а о бытии современников – о жизни, смерти, бессмертии. Тем самым, и в советскую эпоху, по традиции бытовало мнение, что город – носитель разрушительного начала. Если в мировой и русской литературе, в кино, музыкальном и изобразительном искусстве город давно занимает важное место как способ особой интерпретации различных антропологических переживаний, представлений и мифо-поэтических ассоциаций, то в казахской культуре это более глубинное осмысление метафизики и поэтики города исследователями только начинается. Однако если обратиться к казахской классике, тема города в ней всегда присутствовала, возможно, особо не выдвигаясь на первый план, но многое определяя на глубинном, внутреннем уровне концепции произведения. Можно вспомнить рассказ Ж. Аймаутова «Певец», начало которого яркое описание города «Семь палат»: «Хороший город – Семь палат. Сплошь казахи живут. Летом и зимой кумыс, игрища, вечеринки, катания, Айт, свадьбы, сватовство, скачки, борьба. Пьянство… драки… Молодухи в белых платках… А уж летом – пароход, паром, лодочки под парусом, острова зеленые, лес густой…И веселье, и гульба, и гомон пьяный аж до самых небес возносятся, будто дым…Музыка слышна кругом… Сутолока праздничная. Нет, что и говорить,- веселый город» [1, C.106]. Эта экспозиция рассказа от лица героев-повествователей – студентов родом из аула, полна саркастической иронии по отношению к городу, воспринимающемуся ими как средоточие праздности, легкомыслия, а главное, утраты национального ядра. Ироническая интонация ощущается и в дальнейшем описании усадеб богачей, соседствующих с покосившимися домиками бедных горожан, в стремлении к забавам и веселью бывших кочевников, - все это проявляет антиурбанистический мотив рассказа. Жизнь города – это сплошное игрище, развращающее человека, отрывающее его от здоровых основ аульной, народной жизни. Однако в дальнейшем концепция рассказа усложняется антиномичным образом главного героя – певца Амирхана, который своим искусством заставляет героев-повествователей сменить восприятие ими горожан. Современная казахская проза стремится как развивать известные утвердившиеся традиции, так и разрабатывает новые аспекты проблемы урбанизации жизни, искусства, культуры. Так, в прозе Айгуль Кемельбаевой в повести «Майя» главная героиня, студентка московского вуза, терзаема чувством одиночества в большом, чужом городе Москве. В рассказе А. Кемельбаевой «Конырказ» город если не воплощение зла в чистом виде, то все же это нечто враждебное, сбивающее с пути праведного – Каршыга бежит из города, узнав о своей беременности, в родной аул, чтобы постепенно прийти в себя. Город – это средоточие соблазнов, самых различных – шумный, большой город разбил мечту Каршыги стать известной оперной певицей. Описание же родного аула, куда она приезжает залечивать раны подобно изображению рая и его пестрой картинности, безмятежности. Бесчисленные озера, полные рыб, стаи различных пернатых птиц, яйцами которых приохотилась лакомиться Каршыга, чтобы затем родить необыкновенную девочку – с крыльями – разве не напоминает это утраченный горожанами рай? Рождение девочки с лебедиными крыльямиэто чудо возможно только в родном ауле, на лоне первозданной природы. Конырказ – и изгой среди людей, и в то же время – знак возможного спасения, возрождения, ведь она подобна той далекой прародительнице, что спасла уничтоженное врагами племя тюрков, дав жизнь мальчику, которого назвали Казак. Тем самым антиурбанистический мотив усложняется мифопоэтической основой нарратива, неразрывно связанного с национальным мироощущением автора. В рассказе А. Кекильбаева «Мартовский снег» на первом плане также процесс сложного и противоречивого вживания в городскую среду представителей старшего поколения. Урбанистические мотивы позволили автору изобразить еще один виток развития сложных взаимоотношений отцов и детей. Сложную полифонию перекличек и отталкиваний порождают в читательском восприятии образы Храма в повести А. Кекильбаева «Конец легенды», в романе Юкио Мисима «Золотой храм», в новелле для компьютера М. Павича «Зодчие» («Дамаскин») В романе А. Кекильбаева зодчий не способен творить, пока в его душе не просыпается любовь. Обманутый Младшей Ханшей, наказанный Правителем, он остается непобедимым. В отличие от них, он познал любовь и выстроил Храм. В романе воплощена концепция Храма как заповедного в человеке, пути восхождения, воплощения непостижимой тайны души мира, мечты о рае. Образ-мотив Храма поливариативен, в соответствии с многообразной игрой мира, его восприятием разными людьми, он предстает то величественным минаретом, то «уродливой башней», то храмом души и сердца человека. Храм в понимании суфиев стоит в самом начале пути к Богу, это путь к истине. В тюркском сознании храм связан с символико-архитектурным единством медиативности, «находимости в просвете бытия», каждый раз открывающим «охоту за смыслом» иносказательного, многозначного образа. В этом ряду смыслов в мировой прозе особое место принадлежит мотиву Рая, полное восприятие которого в повести А. Кекильбаева «Конец легенды» возможно лишь в системе интерпретации других символических образов яблоко, сад, охота. Эти образы-мотивы связаны с ветхозаветной и кумранской концепцией, с восточными и европейскими идеями возрождения и спасения. Взаимосвязанные мотивы храмового созидания и творчества, строительства и цветения, созерцания и очищения сложно переплетаются в творчестве Я. Кавабата, Ю. Мисима, ярко оттеняясь своеобразием японской эстетики и принципов «моно-но-аверэ», «юген». В романе же А. Кекильбаева концепция кочевнического храмового сознания получает еще одну интерпретацию. В повести О. Бокеева «Осиротевший верблюжонок» (1981) главный персонаж, архитектор приезжает в состоянии душевного разлада в Актау с тем, чтобы определиться с новым проектом перестройки города. Двадцать лет назад он участвовал в первом проекте строительства города. Тас погружен не столько в замыслы новой работы, главным образом он занят подведением итогов еще одного этапа в своей жизни. Приехал он, чтобы воспрянуть, чтобы найти подтверждение собственной правоты и отчасти значимости, так как город выстроен по его проекту. Перед нами человек перепутья. Он разведен с женой, давно не был в родном ауле. Его обвинили в плагиате проекта. Писатель умело разоблачает его, потому, что вопреки всем своим ожиданиям он видит унылый стереотип – город спичечных городков. Кризисное состояние героя проецируется на разные типы женщин, встреча и знакомство с одной из них - Акботой, становится толчком к перерождению (индивидуации) героя. В финале повести архитектор Тас (камень) превращается в Тасжана, как бы вновь обретая свою изначальную суть и душу. В романе же Дюсенбека Накипова «Круг пепла» впервые в высокохудожественной и поэтичной форме воплощен образ Алматы. На сегодняшний день – это едва ли не единственный «алматинский» роман, где автору удалось передать неповторимый внешний, а главное, внутренний облик города, соотносимый не столько с его площадями, скверами, горами, арыками, сколько с картинами С. Калмыкова, а главное, с площадью, обагрившейся кровью во время декабрьских событий и сегодня хранящей порыв молодых душ: «По улице Мира вскоре после декабрьских событий стали задувать, желтоксанить некие бесплотные ветры… Они начинались где-то высоко в горах, а может, еще выше, … омывали ночную площадь…», которая «после полуночи становилась пустынной и одинокой, и скорбной, словно живой была, вспоминала, отрешившись от всего остального мира, что-то очень личное-гордое-горькое…»[2, C. 211]. «Астанинский» же роман, к сожалению, еще пока не создан. Сложная, внутренне противоречивая жизнь молодой столицы и современной городской цивилизации в целом еще художественно не воссоздана. Одной из первых попыток освоения в литературном жанре темы Астаны и астанчан можно считать произведение Кумано Аджиджиро (по всей видимости, псевдоним) «Город летающих пакетов» (2005). В нем основное внимание уделяется образу жизни чиновников, переселившихся в новую столицу, их мелким страстям и переживаниям. Художественно-эстетический текст оставляет желать лучшего. Сюжетно-фабульная основа рыхлая, повествование скачкообразно, временами затягиваемое в нескончаемую неопределенность. Финальной четкости и завершенности нет. Вполне возможно, автор подумывает над продолжением и усовершенствованием текста. Однако следует отметить реализм деталей, сцен, образов, умело выстроенные диалоги. Заслуживает похвалы и смелость критического изображения современной реальности. А вот сложного и противоречивого образа города, быта и бытия настоящих астанчан здесь нет, как нет и художественной или философской глубины осмысления жизни современного человека. И в современном казахском киноискусстве можно проследить мотив противопоставления города и аула как антагонистических начал современности. Отрар давно стал символом реальности существования древнетюркской городской цивилизации. Фильм Ардака Амиркулова запечатлевает это смысловое значение города преимущественно на уровне осмысления героического сопротивления идее вражеского порабощения. В фильме С. Апрымова «Аксуат» один из братьев – «перекати-поле», «обсевок» (метафора В. Распутина), утративший связь с аулом, с нравственными основами жизни – уродливое воплощение устоев современной городской жизни. Позитивное начало воплощает другой брат, живущий в ауле, хранящий шанрак и стойко сопротивляющийся законам дикого капитализма, добравшегося и до этого, затерявшегося в бескрайних казахских степях, аула. В фильме Д. Омирбаева «Шуга» (2008), созданного по мотивам «Анны Карениной» Л. Толстого, сквозная линия связана с противопоставлением двух молодых людей, ухаживающих за одной девушкой. Духовное сознание их во многом определяется антагонистическим мировосприятием аула и города. За внешней респектабельностью городского юноши кроются опустошенность, внутренняя расщепленность и аморфность чувств. В финале нравственного поединка бедного «поэта» из аула и городского «денди» погибает главная героиня, современная Анна Каренина – Шуга, бросившись под колеса поезда на астанинском вокзале. В фильме Дарежана Омирбаева «Шуга» впервые в кинематографе запечатлен визуальный образ новой столицы – вечерняя Астана в многоцветии сверкающих огней проплывает, словно большой пароход перед глазами зрителей в финальных кадрах фильма, создавая дополнительный фон для интерпретации и восприятия судеб главных героев. Итак, в казахской литературе, культуре, искусстве не исследована во всей полноте восточная традиция образов и символов поэтики города, которая уже давно не ограничивается противопоставлением аула и города. Минарет в повести А. Кекильбаева «Конец легенды», башня в новой повести А. Кемельбаевой «Мунара» не случайно апеллируют к многослойности и глубине знаменитого Тадж Махала, сумевшего пережить столетия войн и предательств, сохранив подлинную Любовь и Красоту человеческих устремлений и идеалов. Ю. Лотман утверждал, что для того, чтобы читать «город как текст, нужно ощутить семиотическую фактуру культуры, уловить возникающие знаковые смыслы и стоящие за ними денотаты. Денотат является непременной предпосылкой существования знака, он его во многом детерминирует, облегчает, в какой-то степени, чтение семиотических кодов культуры и истории» [3]. «Петербург — тайна. Все его символы оказались не реализованы, да они и не могли реализоваться. Он не стал Европейским городом. Он не стал Венецией. Не стал вторым Римом — он стал собственной тайной» [3]. Но все-таки Петербург сегодня – оригинальное воплощение русской культуры. Астана может рассматриваться с точки зрения пространства, времени, архитектуры, но по-настоящему глубинные уровни национальной культуры могут раскрываться в скрытых подтекстовых пластах произведений литературы и искусства. Тем самым, в казахской современной литературе и киноискусстве еще только предстоит по-настоящему глубоко и художественно многослойно воссоздать тему городского бытия современного человека. Причем, не столько для увековечивания, сколько для того, чтобы понять наше время, самих себя, глубину истории, суть происходящих перемен ради настоящего будущего. Литература: 1. Аймаутов Ж. Певец // Алем. Алматы: 1991.-448 с. 2. Накипов Д. Круг пепла. Алматы: 2005.- 224 с. 3. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М. 1999.