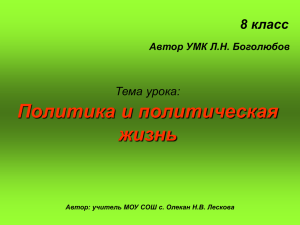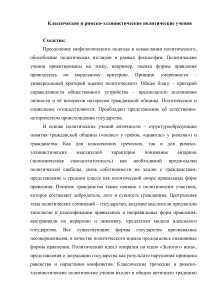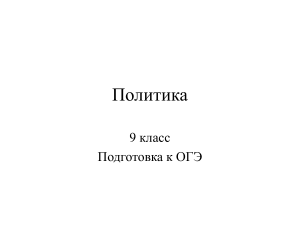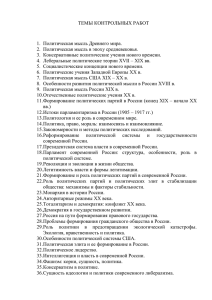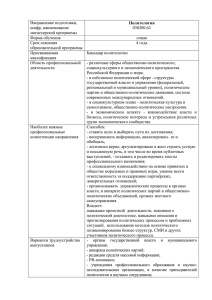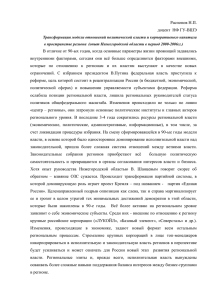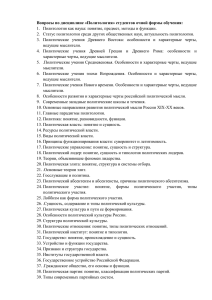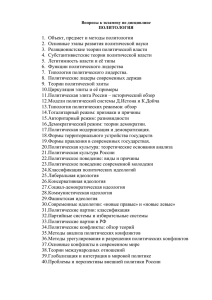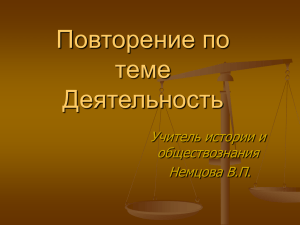МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
История политических учений
Учебник
для студентов бакалавриата
Допущено
в качестве учебного пособия для укрупненной группы направлений
подготовки бакалавриата
41.00.00 «Политические науки и регионоведение»
Под общей редакцией С. П. Поцелуева
Ростов-на-Дону - Таганрог
Издательство Южного федерального университета
2017
УДК 329:93(075.8)(100)
ББК 66.1я73(0)
И907
Печатается по решению кафедры теоретической и прикладной политологии
Института философии и социально-политических наук Южного федерального
университета (протокол
7 от 28 февраля 2017 г.)
Авторский коллектив:
С. П. Поцелуев, В. Г. Доманов, И. А. Иванников, М. С. Константинов,
А. А. Контарев, А. В. Кореневский, Р. Ф. Патеев, М. А. Петров
Рецензенты:
доктор философских наук, профессор кафедры конфликтологии и наци­
ональной безопасности Института социологии и регионоведения Южного
федерального университета И. П. Чернобровкин;
кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института
социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного
центра Российской академии наук Л. Б. Внукова
И907
История политических учений : учебник / [С. П. Поцелуев и др.] ;
Южный федеральный университет ; под общ. ред. С. П. Поцелуе­
ва. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального
университета, 2017. - 352 с.
ISBN 978-5-9275-2459-4
В учебнике кратко изложены ключевые темы курса «История поли­
тических учений». Рассмотрены основные философско-политические те­
ории Античности, Средних веков, Нового и Новейшего времени, разви­
тие политической мысли как на Западе, так и на Востоке. Особая глава
посвящена советской политической мысли и политической философии
русского зарубежья.
Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным об­
разовательным стандартом высшего образования Российской Федерации.
Помимо теоретического, пособие содержит дидактический материал: во­
просы для самопроверки, темы эссе и рефератов, тесты. Адресуется сту­
дентам бакалавриата учреждений высшего образования, а также всем,
кто интересуется историей политической мысли прошлого и современ­
ности.
УДК 329:93(075.8)(100)
ББК 66.1я73(0)
ISBN 978-5-9275-2459-4
© Южный федеральный университет, 2017
© Оформление. Макет. Издательство
Южного федерального университета, 2017
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.............................................................................................. 6
РАЗДЕЛ I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
ДРЕВНЕГО МИРА............................................................. 11
Глава 1. Политические учения в государствах
Древнего Востока............................................................... 11
1.1. Политические идеи в древних литературных
памятниках Месопотамии, Египта и Ирана..................... 13
1.2. Политические учения Древней Индии........................ 22
1.3. Политические школы Древнего Китая........................ 30
Глава 2. Политические учения Античности....................... 45
2.1. Политические учения классической Греции.
Софисты и Платон....................................................................... 46
2.2. Политическая наука Аристотеля................................... 58
2.3. Римско-эллинистические политические учения .... 65
2.4. Морально-политические воззрения первых
христиан. Латинская патристика.......................................... 73
РАЗДЕЛ II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.............................................................. 86
Глава 3. Политические учения в странах
арабо-мусульманского Востока.......................................... 86
3.1. Истоки арабо-мусульманской политической
мысли.............................................................................................. 86
3.2. Религиозно-ортодоксальное и рационалистическое
направления арабо-мусульманской политической
философии...................................................................................... 92
Глава 4. Политическая мысль Византиии Руси................ 99
4.1. Византийская политическая мысль........................... 100
4.2. Русская политическая мысль: от древности
до раннего Нового времени.................................................... 113
3
Глава 5. Западноевропейские политические учения
в эпоху Средних веков...................................................... 134
5.1. Политические учения периода схоластики..............136
5.2. Политические идеи раннего Возрождения............. 143
5.3. Политические идеи Реформации............................... 149
5.4. Политические учения позднего Возрождения....... 156
РАЗДЕЛ III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ........................................................................ 169
Глава 6. Западноевропейские политические учения
в эпоху Нового времени................................................... 169
6.1. Английская политическая мысль Нового
времени......................................................................................... 170
6.2. Политическая мысль Италии и Голландии............ 179
6.3. Французская политическая мысль Нового
времени......................................................................................... 183
6.4. Немецкая политическая философия Нового
времени........................................................................................ 196
Глава 7. Политические учения в России XVIII —
начала XX века............................................................... 212
7.1. Русская традиция политического либерализма....213
7.2. Консервативная политическая мысль России....... 221
7.3. Революционный радикализм в истории русской
политической мысли................................................................ 231
РАЗДЕЛ IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ XX ВЕКА......243
Глава 8. Политические учения XX века в Западной
Европе и США.................................................................. 243
8.1. Проблемы либеральной демократии
и государства всеобщего благосостояния.......................... 245
8.2. Неомарксизм, феминизм, анархизм........................... 258
8.3. Консерватизм, фашизм, национал-социализм....... 265
8.4. Новые рефлексии политических
проблем XX века....................................................................... 270
4
Глава 9. Советская и русская политическая
мысль XX века................................................................. 283
9.1. Советская политическая мысль................................... 285
9.2. Русская политическая мысль в эмиграции............. 298
Глава 10. Политическая мысль XX века в странах
Востока, Африки и Латинской Америки......................... 313
10.1. Политическая мысль арабского Востока
в XX веке..................................................................................... 313
10.2. Политическая мысль стран африканского
континента.................................................................................. 321
10.3. Политические учения современной
Латинской Америки.................................................................. 329
Заключение...................................................................................... 340
Словарь терминов........................................................................... 342
5
Введение
Данное учебное пособие помогает учащимся расширить
и углубить свои знания, выходя за формальные рамки учеб­
ной программы, так как оно призвано в двояком смысле до­
полнить традиционный курс «Истории политических уче­
ний». В нем, с одной стороны, шире раскрыты обозначенные
в стандартной учебной программе темы, а с другой - намече­
ны новые сюжеты, идеи и направления политической мысли,
в том числе и те из них, которые лежат за пределами европей­
ской традиции, но важны в социально-политическом контек­
сте современной России.
Освоение культурно-исторической традиции никогда и ни
для кого не было легким делом. Но для сегодняшнего студен­
та-бакалавра эта задача осложняется еще и необходимостью
освоить огромный массив информации в крайне сжатые сро­
ки. В этой ситуации возникает угроза потеряться в деталях
истории политических учений, не понять ее узловых точек.
Отсюда вытекает растущее значение сжатых, но содержа­
тельных обзоров истории политической мысли. Цель данного
учебного пособия состоит в том, чтобы предложить студен­
там-бакалаврам общую, но, конечно, далеко не полную кар­
тину истории политических учений начиная с Древнего мира
и заканчивая только что минувшим столетием.
Политические учения всегда были органической частью
истории обществ и культур, в лоне которых они возникали.
Поэтому изучение истории политических учений есть, помимо
прочего, один из способов освоения мирового культурно-исто­
рического опыта. Но и для прагматически ориентированной
политической науки (political science) история политических
учений есть важнейший резерв новых идей и оригинальных
решений. Можно получить власть или нажить деньги, удачно
используя «политические технологии», но для формирования
творческого (альтернативного) мышления, абсолютно необ­
ходимого в нестандартных и кризисных ситуациях и далеко
6
Введение
выходящего за личный властно-коммерческий интерес, это­
го уже недостаточно. Необходимо уметь разрабатывать новые
технологии, а зачастую действовать и вообще без всяких тех­
нологий, только на основе того, что древние называли мудро­
стью, сочетающей в себе ум и совесть.
Традиционно курс истории политических учений строится
на соответствующих материалах Западной Европы и России.
Это оправдано не только тем, что современная политическая
наука есть порождение европейской традиции, но и тем, что
российская история есть прежде всего часть европейской
истории.
Однако времена меняются. В эпоху глобализации и мультиполярного мира, в особенности для полиэтнической и поликонфессиональной России, все более актуальным оказывается
идейное и культурное наследие других регионов мира. Новый
мир открывает нам новые аспекты идейной традиции, кото­
рые мы порой не замечаем из-за власти стереотипов, довлею­
щих над нашим сознанием. Но привычные понятия политики
и политической науки давно уже не поспевают за скоростью
исторических перемен. Какой смысл мы сегодня вкладываем
в термины либерал, консерватор, экстремист, реформист,
демагог, догматик? А что в наши дни следует понимать под
левым, правым, прогрессивным, реакционным, западным,
восточным, традиционным, современным? Эти и многие дру­
гие понятия и стереотипы, которые успешно работали еще
двадцать-тридцать лет тому назад, сегодня все чаще «хрома­
ют». Мир стоит перед колоссальной мировоззренческой лом­
кой, перед драматичными переменами во всех сферах жизни,
включая политику.
В связи с этим важно подчеркнуть, что история политиче­
ских учений выходит далеко за рамки истории самой полити­
ческой науки. Предметом истории политических учений явля­
ются любые теоретически оформленные взгляды на политику.
Некоторые авторы проводят различие между «историей поли­
тических учений» и «историей политической мысли», указы­
вая на то, что первое понятие является более узким по свое7
Введение
му объему, чем второе1. Действительно, политическая мысль
отнюдь не всегда теоретически оформлена, а именно это мы
имеем в виду, когда говорим об учениях (теориях, доктринах
и т. п.). В данной книге мы, однако, будем употреблять дан­
ные выражения как синонимы, подразумевая теоретический
статус анализируемых идей о политике. Правда, эти идеи не
всегда излагаются в научных трактатах и с университетской
кафедры. В явном или скрытом виде следы политических
учений можно встретить в правовых документах, программах
партий и программных выступлениях глав государств, и даже
в политических памфлетах, в публицистике.
В этом смысле «политическое учение» есть двуликое поня­
тие. Оно соединяет в себе два смысла: политическую теорию
и политическую идеологию.
Теория претендует на истину, она стремится дать картину
общества и политики как они есть сами по себе, независимо
от интересов и представлений отдельных лиц и социальных
групп. При этом политические учения по-своему выражают
господствующие в данный исторический период научные под­
ходы и парадигмы. Они дают сообразные с духом времени
ответы на вечные вопросы политической теории: о сущности
политической власти, природе государства, наилучшей форме
правления и т. д. Идеологическая же составляющая полити­
ческих учений, напротив, выражает отношение различных
социальных групп (классов, сословий и т. д.) к государству,
политическому режиму, общественному строю.
Но упомянутая двойственность концепта «политическое
учение» есть не всегда его недостаток, но также преимуще­
ство, потому что искусственное разведение научных и иде­
ологических претензий какой-либо политической доктрины
может привести к непониманию ее реальной политической
роли.
1 Чанышев А. А. История политических учений. Классическая за­
падная традиция (античность - первая четверть XIX в.). М.: МГИМО
(У): РОССПЭН, 2001. С. 3.
8
Введение
Поскольку история идей — это органическая часть исто­
рии людей, она так или иначе привязана к общим этапам
человеческой истории, в особенности истории политической.
В данном учебном пособии мы воспроизводим общепринятое
деление исторического процесса на древность, Средневековье,
Новое и Новейшее время, сознавая условность, а также из­
вестную европоцентричность данной схемы.
В соответствии с упомянутой общей периодизацией мате­
риал учебного пособия разделен на четыре раздела (учебных
модуля), первый из которых посвящен политическим учени­
ям Древнего мира, включая как восточную, так и западную
традицию. Второй раздел (учебный модуль) охватывает сред­
невековые политические учения арабского Востока и Запад­
ной Европы, а также Византии и Руси. Третий раздел (учеб­
ный модуль) составляют политические учения европейского
Нового времени, куда мы включаем российскую философ­
ско-политическую традицию XVIII - начала XX в. Наконец,
четвертый раздел (учебный модуль) посвящен политическим
учениям XX в., среди которых в данном пособии рассматри­
ваются западные политические учения, а также политическая
мысль арабского Востока, Африки и Латинской Америки.
Особая глава посвящена политической философии русской
эмиграции и советской политической мысли.
В рамках упомянутых больших этапов истории полити­
ческой мысли мы выделяем различные традиции, школы и
направления, представленные ключевыми фигурами и сочи­
нениями. Членение глав по параграфам производится в зави­
симости от разных исторических периодов, стран или темати­
ческих блоков.
В конце каждой из глав пособия приводятся контрольные
вопросы и задания, темы рефератов или образцы тестовых за­
даний, а также список рекомендуемой литературы. Сверх того
книга снабжена системой подстрочных примечаний, а также
кратким словарем избранных терминов, понимание которых
может вызвать затруднения у студентов первых курсов обу­
чения.
Введение
Книга написана авторским коллективом:
B. Г. Доманов - глава 6.
И. А. Иванников - глава 7, § 7.1; глава 9, § 9.2.
М. С. Константинов - глава 8.
А. А. Контарев - глава 7, § 7.2, 7.3; глава 9, § 9.1.
А. В. Кореневский - глава 4.
Р. Ф. Патеев - глава 3; глава 10, § 10.1.
М.А. Петров - глава 1; глава 10, § 10.2, 10.3.
C. П. Поцелуев - введение; главы 2, 5; заключение.
Общая редакция - доктор политических наук С. П. Поце­
луев.
РАЗДЕЛ I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Глава 1. Политические учения в государствах
Древнего Востока
Без преувеличения можно сказать, что зарождение поли­
тической мысли синхронно генезису цивилизации. Развитие
властно-управленческой надстройки в обществе требовало
осмысления и идеологического обоснования. И любая кон­
цепция объяснения и оправдания власти как феномена и как
конкретной системы господства-подчинения в архаическом
обществе в какой-то степени выступала как продукт зарожда­
ющейся политической мысли. Вместе с тем, говоря о древ­
нейших обществах, нужно учитывать, что применительно
к ним правомерно говорить лишь об элементах политической
мысли, но никак не об особом жанре и направлении интеллек­
туальной деятельности.
В условиях первичных цивилизаций для зарождения са­
мого жанра политического трактата длительное время попро­
сту не было условий. Процесс политогенеза там шел исклю­
чительно медленно, в силу чего существующие политические
порядки осознавались многими поколениями жителей как
неизменные и единственно возможные. Сохранившиеся в ми­
фологии туманные упоминания о временах, когда все было
иначе, воспринимались как часть преданий о сотворении
мира и поэтому не оставляли места каким-либо «эволюцион­
ным» идеям. Сама система властных практик в представлени­
ях народов, создавших первые цивилизации, принципиально
не вычленялась из единого комплекса социальных отноше­
ний. Стоит отметить, что подобное целостное представление
в том или ином виде было присуще всем доиндустриальным
обществам, но для цивилизаций ранней древности характерно
в наибольшей степени.
Сама общественная стратификация, сколь бы сложной
и многоступенчатой она ни была, осмыслялась в категориях
общинных представлений, согласно которым отношения ro­
ll
Раздел I
сподства-подчинения являлись разумной и справедливой фор­
мой разделения труда в едином, тесно спаянном коллективе.
Такому представлению нисколько не противоречила сакрали­
зация власти, активно развивавшаяся еще задолго до возник­
новения государственности.
Дело в том, что в архаическом социуме отсутствовало стро­
гое разделение сакрального и профанного. По сравнению с дру­
гими видами деятельности власть/управление просто облада­
ли большей сакральностью, но не абсолютной монополией на
священное и магическое. В то же время сверхъестественная
природа власти - особенно на ранних этапах политогенеза*1 накладывала на правителя больше обязанностей, чем дава­
ла прав. Выступая как царь-жрец, он был жестко ограничен
требованиями ритуала, который не отделялся от исполнения
властных функций.
Присущую древнейшим очаговым цивилизациям статич­
ную картину мира длительное время не нарушали и внеш­
неполитические контакты. Отсутствие на начальных этапах
политогенеза устойчивого межцивилизационного контакта,
четких границ между нарождающимися цивилизациями и
варварской периферией мешало видению существующих потестарно-политических систем* в сравнительной перспективе.
А существовавшие у «варваров» порядки интеллектуальной
элите древнейших цивилизаций были попросту неинтересны.
Ситуация начинает меняться по мере развития государство­
образующих процессов вширь и вглубь. Расширение государ­
ственных границ, приведшее к возникновению сначала много­
общинных, а затем и полиэтничных социальных организмов,
создало потребность в качественно новых практиках государ­
ственного управления, не имеющих прочных корней в пред­
шествующей традиции. Наращивание дистанции (не только
иерархической, но и пространственной) между управляющи­
ми и управляемыми, адаптация новых политических практик,
1 Здесь и далее звездочкой помечены термины, разъяснение кото­
рых приводится в словаре терминов данного учебного пособия.
12
Политические учения Древнего мира
неуклонное повышение роли войн и, соответственно, насиль­
ственных путей приобретения власти - все это создало значи­
тельные предпосылки для развития политической мысли как
самостоятельной области интеллектуального творчества.
Разумеется, процесс этот шел достаточно медленно, и даже
в своей кульминации политическая мысль Древнего, равно
как и Средневекового Востока (за редким исключением, о
чем будет сказано особо) не утратила своего «комплексного»
характера. Рассуждения на политические темы традиционно
вплетались в ткань сочинений теологического или этико-нра­
воучительного характера. Но если в цивилизациях ранней
древности власть имущие должны были следовать высшим
предначертаниям, которые были в принципе уже известны, то
в эпоху поздней древности волю высших сил следовало пра­
вильно уяснить и суметь осуществить на практике. При этом
даже в устах конфликтующих сторон неизменной оставалась
апелляция к древней традиции, смысл которой якобы был со
временем утрачен или искажен.
1.1. Политические идеи в древних литературных
памятниках Месопотамии, Египта и Ирана
Древний Шумер. Цивилизация Древней Месопотамии
(Шумера и Аккада), целиком принадлежащая к эпохе ран­
ней древности, несмотря на достаточно солидное письмен­
ное наследие, не оставила сочинений, которые даже с долей
условности можно было бы отнести к политическим тракта­
там. Вместе с тем эволюцию политических идей, нашедших
отражение в шумерских и аккадских текстах, невозможно по­
нять вне исторического контекста.
Древнейший пласт текстов, имеющих отношение к сфере
политического, представляет собой так называемые царские
надписи, являющиеся своего рода реляциями, адресованными
богам-покровителям и потомкам, о выдающихся свершениях
данного правителя: победе в пограничной войне, храмовом
и гражданском строительстве или введении новых законов.
13
Раздел I
Неизменным элементом подобных надписей были формулы,
определяющие отношения правителя с богом. Ценность по­
добных документов заключается в том, что они наглядно де­
монстрируют не просто сакральную природу власти, но и ее
исключительно ритуализированный характер. Политические
действия и решения правителя, по сути, представляют собой
формы богослужения, предполагающие использование всех
доступных ресурсов социума.
Отдельный интерес представляют надписи правителя Лагаша Уруинимгины (устар. Урукагины), запечатленные на
специальных конусах. В них уже зафиксированы масштабные
реформы (которые можно назвать контрреформами), а также
ситуации отступления от богоустановленных порядков пред­
шественниками Уруинимгины.
Самым знаменитым произведением шумерской (шуме­
ро-аккадской) литературы является эпос о Гильгамеше [Эпос
о Гильгамеше, 1961]. Данное легендарное произведение стро­
ится вокруг личности, признаваемой большинством специа­
листов исторической науки, - жреца и военного вождя города
Урука, жившего около 2800-2700 гг. до н. э.
Текст памятника передавался длительное время изустно
и дошел до нас как сборник разновременных преданий. Не­
смотря на некоторую противоречивость образа Гильгамеша,
это эпическое произведение, как считается, отражает как
политико-правовые реалии, так и соответствующие идеалы
Древнего Шумера. Можно сказать, что перед нами одно из
древнейших сочинений, отразивших концепцию верховной
царской власти.
Существовавшая в Шумере система господства-подчинения
предстает перед нами во всей ее противоречивости, сочетая
в себе автократическое начало, связанное с царской властью,
и традиции общинной демократии, длительное время сохра­
нявшиеся в шумерских номах. Причем соотношение деспоти­
ческого и общинно-демократического начал меняется на про­
тяжении поэмы - сначала юный Гильгамеш, полный буйных
сил, угнетает жителей Урука, но под воздействием дружбы
14
Политические учения Древнего мира
с Энкиду отказывается от тиранических методов правления.
Еще более зримо двойственный характер власти древнего Урука проявляется в совете, который держит Гильгамеш с город­
скими старейшинами и народом, когда решается жизненно
важный для города вопрос о том, принять ли зависимость от
правителя города Киша или оказать ему вооруженное сопро­
тивление. В итоге, заручившись поддержкой народного собра­
ния (а вовсе не старейшин), Гильгамеш возглавляет оборону и
не только успешно отражает нападение кишского царя Агги,
но и берет его в плен.
Ключевое значение для утверждения идеологии становя­
щейся деспотической системы, развивавшейся в эпоху III ди­
настии Ура, имел так называемый «Царский список».
В нем (возможно, впервые в человеческой истории) письменно
засвидетельствована доктрина сакральности царской власти,
воплощенной в особой субстанции - «нам-лугаль». Именно
обладание данным свойством харизматического характера,
имевшим одновременно материальную и идеальную природу,
давало право на власть и в то же время обосновывало ее деспо­
тический характер.
В поздневавилонский период в жанре дидактической ли­
тературы, восходящем еще к шумерской эпохе, появляется
произведение, которое можно рассматривать как политиче­
ский трактат, - так называемое «Поучение», адресованное
абстрактному правителю. В данном произведении неизвест­
ный автор предпринял попытку наставить монарха в делах
государственного управления, отталкиваясь от негативных
примеров, связанных с правителями прошлых эпох. Трактат
построен как серия предостережений: «Если царь сделает такто, то случится то-то и то-то». К этому же дидактическому
жанру принадлежит еще один памятник политической мысли
Междуречья - «Поучение Ахикара», представляющий собой
сборник афористических наставлений царского приближенно­
го Ахикара своему племяннику, пытавшемуся погубить сво­
его дядю, но потерпевшему в этом неудачу и выданному род­
ственнику «на воспитание».
15
Раздел I
Важным памятником, зафиксировавшим значительные из­
менения в государственном строе и идеологии, является ко­
декс вавилонского царя Хаммурапи (1792-1750 до н. э.). Со­
зданное путем завоеваний, Вавилонское царство представля­
ло собой достаточно крупную по тем временам региональную
державу. Одной из главных задач принятого при Хаммурапи
свода законов было идеологическое конституирование поли­
тически единой Месопотамии и, что особенно важно, нового
качества царской власти. Во введении к законам провозгла­
шается иерархическая реформа пантеона, во главе которого
раз и навсегда ставится бог Мардук, а сам царь провозглаша­
ется исполнителем его воли на Земле.
Далее следует перечисление заслуг царя перед всеми нома­
ми его царства, их богами, и тем самым отдельно обосновы­
вается власть над каждым из них. Мы видим, что, несмотря
на достаточно длительные традиции деспотической власти
в Двуречье, даже могущественный верховный царь должен
был идеологически оформлять свое владычество как своего
рода личную унию с каждым номом* царства. Само по себе
введение в действие кодекса рассматривается как царское
благодеяние для всех подданных.
Введение унифицированных норм, заменявших массу мест­
ных традиций и обычаев, а также установление принципов
ответственности должностных лиц не только перед царем, но
и перед законом, отразило значительную эволюцию государ­
ственности в Двуречье. Единообразными в законах Хаммура­
пи выглядят и социальные градации. Субъектами права в ко­
дексе признаются две категории подданных: лично свободные
общинники - главы семей (авилумы) и царские служащие
(мушкенумы). Таким образом, всякого рода местные династы и представители аристократии не составляют для законов
отдельной правовой категории, что закладывало основы ре­
гулярного государства, целиком опиравшегося на профессио­
нальную бюрократию.
И согласно законам Хаммурапи это государство выглядит
почти что всепроникающим: регламентации подвергаются по16
Политические учения Древнего мира
земельные отношения, торговые и ростовщические сделки.
При этом государственная опека далеко не всегда оборачи­
вается дополнительными тяготами для простого общинника.
Напротив, многие законы имеют выраженную социальную на­
правленность, защищая массу подданных от злоупотреблений
как госслужащих, так и частных лиц. Можно сказать, что
с точки зрения идеологии законы Хаммурапи являются одни­
ми из первых и наиболее последовательных манифестов эта­
тизма*, возникших в обществе, где самодержавно-бюрократи­
ческой тенденции пришлось преодолевать традиции общин­
ной автономии.
Древний Египет. В отличие от древнего Междуречья, по­
литические системы которого длительное время сохраняли
общинно-номовый характер, препятствовавший развитию са­
модержавной власти, генезис древнеегипетских политических
институтов с самых ранних этапов протекал в русле сакраль­
но-монархической традиции. Как предполагает ряд исследо­
вателей, еще на стадии раздробленности, предшествовавшей
объединению Египта под властью единой династии (около
XXXI в. до н. э.), сложился прообраз политической системы,
отвечавшей всем представлениям о восточной деспотии*.
Сакральный статус правителя был закреплен уже в древ­
нейшем письменном произведении, дошедшем к нам из Егип­
та, - «Текстах пирамид». Согласно им фараон, имевший бо­
жественные черты при жизни, в загробном царстве восседает
рядом с богами и, возможно, становится равным им.
Ценным источником, отражающим особенности политиче­
ской идеологии Древнего Египта, являются заупокойные над­
писи, найденные в захоронениях древнеегипетских вельмож.
В текстах данных памятников четко вырисовывается нрав­
ственный облик идеального сановника, преданно служащего
своему фараону и считающего главными достижениями своей
жизни правильно выполненные царские поручения. Со вре­
менем заупокойные надписи превратились из коротких био­
графических сводок в развернутые повествования, составив­
шие особый жанр древнеегипетской литературы - поучения.
17
Раздел I
В последующие эпохи (Среднего и Нового царства) поучения
древних вельмож рассматривались как эталон жанра. Наибо­
лее известны поучения элефантинского наместника Хархуфа
и везира фараона Исеси (V династия) Птаххотепа.
Последнее можно рассматривать как своеобразный древ­
нейший кодекс идеального бюрократа. В частности, там
можно встретить такие наставления сановникам, желающим
сделать карьеру: «Гни спину перед начальниками [своими]
и будет процветать дом твой... Когда не сгибается рука для
приветствия, плохо это для противопоставляющего себя [та­
ким образом] начальнику»; «Скрывай свои мысли; будь сдер­
жан в речах своих [доел.: контролируй рот твой]... Да ска­
жешь ты нечто значительное, пусть скажут знатные, которые
услышат [тебя]: “Сколь прекрасно вышедшее из уст его!”»
[История всемирной литературы, 1983, с. 63]. Идеалом чи­
новника для Птаххотепа служит писец - как высококомпе­
тентный и опытный бюрократ, знающий свое дело и людей,
перед которыми он выступает олицетворением власти. Вла­
дение приемами карьерного продвижения для Птаххотепа не
означает абсолютизации сервилизма и отрицания моральных
начал. Напротив, идеальный руководитель должен тщательно
взвешивать свои решения и в качестве высшего принципа ру­
ководствоваться справедливостью.
В эпоху Среднего царства к жанру поучений обращают­
ся уже представители царской власти, примером чего может
служить «Поучение гераклеопольского царя». В нем в форме
наставлений отца сыну формулируются принципы царского
правления, которые, по замыслу автора, должны сочетать
в себе принципы гуманного и мудрого правления с приемами
политической интриги и умением при необходимости защи­
тить свою власть любыми средствами.
Можно сказать, что данный памятник является одним из
первых наставлений в искусстве политики, поскольку име­
ет ярко выраженный прагматический уклон. В начале со­
хранившегося текста содержатся призывы к безжалостному
истреблению мятежников и заговорщиков. Однако далее по­
18
Политические учения Древнего мира
мещаются рекомендации следовать праведности, что обосно­
вывается в первую очередь рациональными соображениями,
поскольку хорошая репутация правителя - лучшая гарантия
от народного недовольства и мятежа. Способность же прави­
теля выступать нравственным эталоном делает повиновение
ему естественным и добровольным. Вообще одной из главных
забот царя должна стать хорошая репутация власти в народе.
К этой мысли автор возвращается неоднократно.
Необходимость жестоких наказаний для политических
преступников уравновешивается мягкостью мер против всех
прочих правонарушителей: «Не убивай - бесполезно это тебе.
Наказывай битьем и заточением, и порядок воцарится в стра­
не; казни только мятежника, чьи замыслы обнаружены...»
[Поучение гераклеопольского царя, 1978, с. 48-49].
Особое внимание уделяется организации аппарата власти
и отношениям царя с бюрократией: «Возвеличивай вельмож
своих, дабы соблюдали они предначертанное тобою... Могу­
ществен царь, владыка двора своего, прекрасен царь, богатый
сановниками» [там же, с. 43-45]. При этом кадровая полити­
ка царя должна строиться исключительно на соображениях
эффективности: «Не отличай сына знатного от простолюдина,
но приблизь к себе человека за умение его владеть искусством
всяким... благодаря владыке» [там же, с. 61-62].
Смутное время, постигшее Египет в конце третьего тыся­
челетия до н. э., вызвало к жизни качественно новый вид
сочинений, призванных легитимировать власть новых прави­
телей и основанных ими династий. Одним из них стало «Про­
рочество Нефертити» - инспирированное властью «древнее
предсказание», в точности описавшее обстоятельства прихода
к власти XII династии.
Отдельный интерес представляет собой наиболее известное
произведение критической направленности - «Речение Ипувера», точная датировка которого остается спорной. В нем
описывается период страшной смуты, охватившей Египет,
в которой автор (происходивший, судя по всему, из аристо­
кратической среды) напрямую обвиняет царя. Произведение
19
Раздел I
интересно тем, что выпукло отражает идеологию жестко стра­
тифицированного общества. Гибель людей, вторжения варва­
ров и разорения целых областей представляются автору со­
бытиями, равновеликими присвоению чернью престижных
предметов знати и неповиновению слуг господам. «Воистину:
благородные в горе, простолюдины же в радости... Воистину:
золото, ляпис-лазурь, серебро... [висят] на шее рабынь» [Хре­
стоматия..., 1980, с. 44].
Дошедший до наших дней корпус древнеегипетских тек­
стов заставляет предположить, что в своем развитии поли­
тическая мысль этой древней цивилизации достигла апогея
в жанре поучений. Не будучи политическими трактатами
в полном смысле этого слова, некоторые поучения содержали
уже значительные элементы сочинений данного жанра.
Древний Иран. Основой древнеиранской культурной тра­
диции, обогатившей мир новыми идеями, стала религия.
Зародившийся в условиях позднепервобытного общества
маздеизм* со временем оформляется в более строгую религию зороастризм (по имени легендарного пророка Заратуштры Зороастра в греческой традиции). Краеугольным камнем но­
вого учения был строго дуалистический взгляд на мир, четко
разделявший его на сферы Добра и Зла. Непрекращающаяся
борьба светлого и темного начал, управляемых соответственно
Ахура Маздой и Ангра-Майнью (Ариманом), проявляется во
всех процессах, протекающих во Вселенной, и никто из живу­
щих попросту не может оказаться в стороне от нее.
В отличие от людей, способных по собственному выбору
принять сторону светлых или темных сил, большая часть су­
ществ и феноменов окружающего мира изначально по своей
природе принадлежит одному из начал. В мире сверхъесте­
ственного благие существа - это ахуры (божественные сущ­
ности или боги), на стороне зла выступают многочисленные
порождения Ангра-Майнью - дэвы (демоны). Данное разделе­
ние сохраняется и в представлениях зороастрийцев о «друджвантах» (букв. - друзья лжи), к которым были отнесены це­
лые народы. Для самого Заратуштры ими были прежде всего
20
Политические учения Древнего мира
враждебные иранцам кочевники-скотоводы. Актуальные по­
литические призывы, содержащиеся в его проповедях, своди­
лись в основном к необходимости установления твердой пра­
ведной власти для отпора степнякам. «Пусть завоют убийцы
и губители от деяний доброго правителя! Пусть это даст покой
оседлым родам!» [Авеста..., 1998, с. 11].
Внешней темной и враждебной периферии противопостав­
лялась благодатная земля Арианам-Вайджа. Впрочем, хотя
образ жизни ее жителей и был более угоден Ахура Мазде, пра­
ведность на них не распространялась «автоматически». Боль­
шинству только предстояло вступить на путь истины, приняв
учение Заратуштры, в то время как многие напрямую были
отнесены пророком к служителям зла. В их число попали пре­
жде всего жрецы богов, отнесенных к дэвам, - «карапаны»,
«ашэмауги», а также светские владыки, чья власть была оце­
нена как неправедная и тираническая, - «кавии» и «сатары».
Коренная мировоззренческая перестройка, заложенная
в зороастризме, имела далеко идущие политические послед­
ствия. Представление об абсолютном Добре возвышало во­
площавшего его верховного бога Ахура Мазду над всеми про­
чими богами, которым поклонялись в разных частях света.
А отсюда был один шаг до претензий на мировое владычество
поставленных волей высшего божества монархов, что и про­
изошло при ранних Ахеменидах. Уже в раннем зороастризме
прослеживается идея священной войны как способа борьбы
с темным началом в лице его земных приверженцев.
Вместе с тем учение о высшем светлом начале не только
укрепляло, но и определенным образом ограничивало монар­
ха, ставя его в зависимость от строгих требований канона.
Власть правителя, даже провозглашающего почитание Аху­
ра Мазды, может оказаться неправедной и должна встре­
тить сопротивление подданных. Недостойные цари оказались
даже среди мифической династии Кавиев-Кеев [Рак, 1998,
с. 227]. Сама концепция обретения и утраты власти получила
в зороастризме значительное развитие. Право на власть по­
нималось как следствие обладания неким сверхъестествен­
21
Раздел I
ным качеством, имевшим отчасти субстанциональную приро­
ду. Обозначаемое в древнеперсидской традиции как Хварно
(в среднеперсидской - Фарн), оно имело мистическую огнен­
ную сущность и могло быть как обретено, так и утрачено.
Правитель, утративший Хварно, не лишался власти момен­
тально, однако навсегда терял удачу и способность побеждать
врагов, что с неизбежностью вело к потере трона.
Уже в раннем зороастризме в составе высшего пантеона
Амеша Спента обозначается божество Хшатра-Варья, назва­
ние которого переводится как «власть желанная», «благое
царствование», с которым ахеменидские цари отождествля­
ют свое правление. Данное божество выступает одновременно
и как защитник праведной власти, и как своеобразный гарант
ее праведности.
В ахеменидское время священная книга зороастризма «Авеста» - претерпела официальную редакцию. В социаль­
но-политическом аспекте зороастрийское учение все больше
приспосабливается к нуждам имперской идеологии. Выдвига­
емые Заратуштрой идеи равенства всех сословий перед богом
и осуждение захватнических нерелигиозных войн были остав­
лены за ненадобностью, в то время как мятеж против суще­
ствующей власти приравнивался к святотатству [Рак, 1998,
с. 48-49]. Сама структура высшей власти уподоблялась зороастрийскому пантеону, где непосредственное окружение царя
составляли шесть помощников, представлявших знатнейшие
семьи Ирана.
1.2. Политические учения Древней Индии
Формирование политической мысли в духовной культуре
древнеиндийской цивилизации имело ряд уникальных осо­
бенностей. Прежде всего, достаточно развитые представления
об отношениях господства-подчинения и иерархии были вы­
работаны задолго до возникновения первых государств. Сам
процесс политогенеза в Индии носил не только затяжной, но
и отчасти незавершенный характер. Абсолютное большинство
22
Политические учения Древнего мира
древнеиндийских священных текстов вплоть до XIII в. пе­
редавалось в изустной традиции. Поэтому дошедшие до нас
трактаты содержат многочисленные временные наслоения и
результаты последующего редактирования, из-за чего даже
специалистам бывает трудно установить, какие именно идеи и
сюжеты аутентичны древности, а какие являются более позд­
ними вставками.
Все древнеиндийские сочинения в той или иной степени
носят религиозный характер. В силу этого любые затрагива­
емые вопросы рассматриваются через призму религиозного
мировоззрения. А это, в свою очередь, придало политической
мысли Древней Индии особую специфику, не сразу понятую
исследователями. Суть ее в том, что все рассуждения на тему
власти и практики наилучшего управления описывают поли­
тическую систему в достаточно идеализированном виде, отда­
вая абсолютный приоритет не сущему, а должному.
Отправной точкой индийской цивилизации традицион­
но считается арийское расселение на территории Индостана,
пришедшееся на середину второго - начало первого тысяче­
летия до н. э. Еще до прихода в Индию в среде племен ариев,
находившихся на переходной, «варварской» стадии социаль­
ной эволюции, складываются представления о трех основных
социальных стратах - варнах1. Высшей из этих варн (в са-
1 В литературе (включая учебную) варны нередко отождествля­
ются с кастами, что является глубоко ошибочным. Кастовая систе­
ма, безусловно, выросшая из варновой, отличается от своей предше­
ственницы рядом принципиальных особенностей. Древние варны не
были полностью замкнуты, и варновая принадлежность могла быть
изменена в лучшую сторону в награду за заслуги [Кудрявцев, 1992,
с. 202; Куценков, 1983, с. 51], в то время как кастовая являлась по­
жизненной, лишиться ее можно было только став неприкасаемым.
Варновые брачные правила были более гибкими, чем кастовые. Ка­
стовая система была гораздо более сложной, разветвленной и риту­
ализированной, чем варновая. По оценкам специалистов, кастовая
система сложилась как минимум на тысячелетие позже варновой
[Куценков, 1983, с. 59], актуальность варн в кастовом обществе мно­
гими ставится под сомнение.
23
Раздел I
кральном смысле) признавалась жреческая (варна брахма­
нов), следом шла страта воинов и вождей (светских правите­
лей - кшатриев), и последним элементом триады была варна,
объединявшая массу свободных общинников - вайшьев.
Расселяясь на территории Индии, арии столкнулись с мест­
ным населением, отличным от них по всем основным параме­
трам: расовым признакам, языку, культуре, религии, обыча­
ям. После того как в Северной Индии прочно устанавливается
доминирование ариев над аборигенным населением, трехчаст­
ная система дополняется четвертой Варной - Варной шудр.
Таким образом, сложилась каноническая система четырех
варн - чатпурварна. Эта система нашла отражение уже в
«Ригведе», самой древней из священных книг индуизма «Вед». Согласно изложенной там легенде, варны были сотво­
рены из тела первочеловека Пуруши, причем статус варн из­
начально был обусловлен частью тела, из которой она созда­
валась. Так, варна брахманов была создана из его лица, в то
время как низкая варна шудр - из стоп [Гусева, 1977, с. 126].
Сложившаяся иерархия получила более глубокое религиоз­
ное обоснование в книгах поздневедийской литературы - Упа­
нишадах, где были изложены идеи древней религии Индии брахманизма. К числу ее наиболее важных мировоззренче­
ских элементов относятся учения о сансаре - круговороте
перерождений всего живого, карме - совокупности добрых
и дурных поступков человека, определяющих его последую­
щие перерождения, и дхарме - должном образе жизни, свое­
образном пути, который должен пройти человек, чтобы до­
стичь наилучшей, кармы. Данные идеи нашли также отраже­
ние в более раннем эпическом памятнике - «Бхагавадгите»,
который является частью грандиозного эпоса «Махабхарата».
Каждой варне строго предписывался определенный образ
жизни и характер отношений с другими варнами. Высшая,
брахманская варна при этом монополизировала отправление
культа и священные знания, варна кшатриев — политическую
и военную власть, вайшьям оставались менее благородные, но
ритуально чистые занятия - земледелие, торговля, основные
24
Политические учения Древнего мира
виды ремесла. На долю шудр выпадали наименее почетные
и, как правило, ритуально нечистые занятия. Две высшие
варны составляли особую категорию, так называемых «дваждырожденных» - двиджа.
Установленные правила имели силу высшего закона миро­
здания, которому можно было и не следовать, но при этом по­
следствия для нарушителей были неотвратимы. Религиозная
канонизация варновой системы имела далеко идущие послед­
ствия для индийской цивилизации. Она, как считается, обу­
словила дальнейшее дробление варн, что привело к рождению
каст и постоянному усложнению их системы1. Поскольку со­
словное положение увязывалось с сакральным статусом, вну­
три каждой варны одни группы стали обособляться, претендуя
на более высокое положение, в то время как другие, в силу
ряда причин не способные соответствовать требованиям и пра­
вилам своей страты, оказывались в приниженном положении.
Дальнейшему укреплению варновой системы были призва­
ны способствовать многочисленные этико-правовые тракта­
ты - дхармасутры и дхармашастры. В дхармасутрах под­
робно расписываются должные правила поведения высших
варн, утверждается приоритет «священства над царством»,
т. е. превосходство брахманов, по отношению к которым свет­
ские владыки должны проявлять щедрость. В выросших из
традиции дхармасутр дхармашастрах идеальный социальный
порядок представлен более системно и детально. Собственно,
именно в этих сочинениях варновая система получает свое
наиболее четкое оформление. Как считают специалисты, глав­
ной целью дхармашастр являлась варнашрамдхарма, укре­
пление варнового строя [Кудрявцев, 1992, с. 195-196].
1 Разумеется, генезис кастовой системы в Индии был вызван
не одними только религиозными доктринами. Значительную роль
сыграли экономические факторы, особенности политогенеза и эт­
нокультурной ситуации, существовавшей на индийском субконти­
ненте. Однако, бесспорно, варновая структура и варновая идеология
создали своеобразную матрицу дальнейшего развития индийской
цивилизации.
25
Раздел I
Наиболее известным и значительным произведением дан­
ного жанра является «Ману-смрити» (так называемые «За­
коны Ману»), приписываемые мифическому первочеловеку.
Центральной идеей произведения является учение о дхарме1,
целиком определяющее его специфику. В ключевых главах
(с седьмой по одиннадцатую) подробно описывается систе­
ма четырех варн с точки зрения подобающих для их членов
норм поведения. Характер дхармических наставлений имеют
и многочисленные советы (изложенные в форме долженство­
вания) светским владыкам по управлению государством. «Ма­
ну-смрити» провозглашает эталонным строго монархическое
устройство власти, опирающееся на существующую систему
сословных отношений. Царская власть провозглашается бого­
данной и священной: «5. Так как царь был создан из частиц
этих лучших из богов, он блеском превосходит все живые
существа. 6. Как солнце, он жжет глаза и сердца, и никто
на земле не может даже смотреть на него» [Законы Ману...,
2002, с. 230]. Кроме того, в трактате описывается идеальное
государственное устройство, включающее вместе с царем семь
элементов: сановник (советник), страна, крепость, казна, вой­
ско и союзники [там же, с. 252].
Особое внимание уделяется проблеме вневарновых катего­
рий, появившихся вследствие смешения варн. В десятой гла­
ве представлена их подробная классификация, определены
профессиональные занятия и ритуальный статус. Осуждаются
межварновые браки, которые рассматриваются как потенци­
альная угроза государству.
Развитие брахманистского учения, отражавшего все воз­
растающие претензии брахманов на власть и монополию в
интеллектуальной сфере, не могло не привести к возникно­
вению идейно оппозиционных течений, отрицавших многие
элементы традиционного культа, и в частности систему варн.
Наиболее известным духовным течением антибрахманской
1 Название памятника более точно переводится как «Наставления
Ману в дхарме».
26
Политические учения Древнего мира
направленности, выросшим в одну из крупнейших мировых
религий, стал буддизм1. Характерно, что новая религия за­
родилась в светской (кшатрийской) среде. Основоположник
буддизма Сиддхартха Гаутама2, прозванный Буддой (пробуж­
денным), происходил из царского рода. Проповедуемое им
учение с самого начала носило выраженный антибрахманский
характер, категорически отрицающий варновую систему. Ре­
лятивистским установкам брахманизма буддизм противопо­
ставил универсалистскую доктрину нирваны — спасения от
страдания и выхода из вечного круга перерождений. Нирвана
доступна любому, следующему пути учения. Соответствен­
но, отменялись разные правила поведения для разных варн.
В частности, путем к спасению провозглашался всеобщий
принцип ахимсы - непричинения зла всему живому.
Для раннего буддизма было характерно невнимание к по­
литическим вопросам, сосредоточенность на обустройстве
общины приверженцев - сангхи. В ходе своей дальнейшей
эволюции буддизм вырабатывает элементы собственной поли­
тической доктрины, в корне отличной от брахманской. Тра­
диционной идее «божественного царя» - дэва раджа - была
противопоставлена более рационально-универсалистская кон­
цепция властителя, правящего на основе Дхармы - принци­
пов буддийского учения. Буддийские представления о проис­
хождении царской власти отчасти предвосхитили идею об­
щественного договора, появившуюся в Европе почти на два
тысячелетия позже. В буддийской космологии возникает идея
1 Кроме буддистов, с отрицанием авторитета Вед и, соответствен­
но, варновой системы выступили джайны, а также представители
ряда неортодоксальных сект. Уже в «Упанишадах» появляется фи­
гура кшатрия, настолько превосходящего своей мудростью брахма­
нов, что он берется наставлять их в религиозно-философских во­
просах. Авторитетные тексты средневекового индуизма — пураны запечатлели легенду о богатыре Парашураме, истребляющем кша­
триев, восставших против брахманов.
2 Даты жизни Будды, сообщаемые традицией, разноречивы. Даты
смерти традиция называет сразу две: 544 и 486 г. до н. э.
27
Раздел I
о неизбежном появлении в ходе прохождения мировых ци­
клов (калъп) вселенских монархов - чакравартинов, утверж­
дающих свою власть ненасильственным путем. Все это не мог­
ло не привлечь благожелательное внимание к новому учению
светских владык, заинтересованных в ослаблении брахман­
ского засилья и в лояльности подданных.
Многие традиционные категории брахманизма в буддизме
были коренным образом переосмыслены, в частности поня­
тием Дхармы обозначалось само учение и одновременно вселенский закон, управляющий течением жизни. В период
своего расцвета буддизм нанес столь чувствительное пора­
жение брахманизму и на политическом, и на интеллекту­
альном поле, что последнему, чтобы сохраниться, пришлось
всячески приспосабливаться, в том числе и заимствуя идеи у
своего «конкурента». В результате древний культ претерпел
столь глубокую трансформацию, что начиная с раннего Сред­
невековья исследователи предпочитают говорить о новой ре­
лигии - индуизме.
Появление крупных государств не могло не отразиться на
развитии политической мысли Древней Индии. Ее вершину,
по общему мнению, составил трактат «Артхашастра» (IV в.
до н. э.), авторство которого приписывается Каутилье - со­
ветнику царя Чандрагупты, основавшего могущественную ди­
настию Маурьев1. Данное произведение стало первым в ин­
дийской традиции капитальным теоретическим трудом, по­
священным искусству управления государством. Написанная
в русле брахманской ортодоксии, «Артхашастра» отстаивает
неизменность варнового строя, защитником которого мыслит­
ся государство. Однако решающее значение в государственной
политике отводится не религиозным принципам, а соображе­
ниям целесообразности. В трактате неоднократно подчеркива­
ется приоритет артхи - практической пользы, в противовес
1 С развернутой аргументацией в пользу этой точки зрения высту­
пил отечественный ученый Д. Н. Лелюхин [Лелюхин, 2001], с ним
солидаризировался видный индолог Л. Б. Алаев.
28
Политические учения Древнего мира
дхарме, за что «Наука о политике» подверглась ожесточен­
ной критике как со стороны брахманской ортодоксии, так
и со стороны буддистов, а также представителей иных тече­
ний [Вигасин, Самозванцев, 1984, с. 27].
Идеальным государственным устройством в трактате про­
возглашается абсолютная монархия, свободная в том числе
от опеки жреческого сословия. Трактат подробно перечисляет
круг вопросов, которыми должен лично заниматься правитель,
чтобы сохранить и укрепить свою власть и обеспечить процве­
тание государства. В делах управления особое место уделя­
ется безопасности правителя, которому рекомендуется лично
расставлять стражу, также лично изучать все финансовые во­
просы, самому осуществлять высшие кадровые назначения,
руководить работой правительства, получать секретную ин­
формацию от шпионов, проводить армейские смотры и вместе
с военачальником разрабатывать планы военных операций.
Даются подробные наставления по организации правосудия в
государстве: в провинции его исполнение должно быть возло­
жено на особых должностных лиц - знатоков права; высшей
судебной инстанцией объявляется суд самого правителя.
Особое внимание уделяется вопросам самосовершенствова­
ния правителя, который должен находить время для собствен­
ного образования и глубоких философских размышлений.
Длительное время западные и отечественные исследовате­
ли, изучавшие текст «Артхашастры», полагали, что данный
трактат отражает реалии образцовой деспотии, где власть
монарха абсолютна, существует разветвленный и тщательно
контролируемый бюрократический аппарат, любые профес­
сии находятся под строжайшим государственным надзором
и процветает тотальная слежка и доносительство. Данная
точка зрения была принята и самой индийской наукой [Син­
ха, Банерджи, 1954, с. 65]. Однако более основательное ис­
следование памятника привело некоторых ученых к мысли
о том, что отраженный в нем желательный порядок слабо
совпадал с политическими реалиями эпохи Маурьев. На это
указывают многочисленные рекомендации «Артхашастры»
29
Раздел 1
относительно способов достижения политических целей пра­
вителем, когда вместо прямых приказов своим подчиненным
он должен добиваться их заинтересованности в выполне­
нии «служебного долга», а вместо применения санкций и
репрессий к ослушникам - прибегать к сложным интригам
для их устранения. Несмотря на достаточно разнообразную
терминологию, обозначающую должностных лиц, часто нет
возможности выстроить какую-либо субординацию между
ними. Значительная часть носителей властных функций,
как явствует из трактата, не назначалась царем, а получала
свои права по наследству.
С этой точки зрения представляется важной заложенная в
трактате концепция мандалы - иерархической структуры го­
сударственной территории, когда реальная власть правителя
убывает от центра к периферии, а граница между подвластны­
ми и зависимыми территориями оказывается размытой [Ле­
люхин, 2001, с. 21].
Пожалуй, в «Артхашастре» особенно заметно отразилась
отмеченная особенность древнеиндийских политических трак­
татов - противоречие между декларируемым идеальным по­
рядком и фактическим положением дел. В силу того, что ав­
тор трактата отошел от канонических религиозных установок
в сторону большего прагматизма, данная противоречивость и
проявилась особенно выпукло, поскольку традиционная фор­
ма оказалась наполнена новым содержанием.
1.3. Политические школы Древнего Китая
Из всех цивилизаций Древнего Востока именно в Китае по­
литическая мысль ближе всего подошла к тому уровню, кото­
рый можно уже оценить как научный. Своеобразие политиче­
ской мысли Древнего Китая было обусловлено прежде всего
значительным рационализмом картины мира, проявившимся
уже на ранних этапах генезиса цивилизации. Выросшие на
собственно китайской почве религии - даосизм и конфуциан­
ство - изначально представляли собой философско-этические
30
Политические учения Древнего мира
учения. И не случайно достигшая значительного развития
ритуальная практика носила в высшей степени секулярный*
характер.
Утилитарный характер идеологии обусловил еще одну су­
щественную особенность китайской цивилизации - ее исклю­
чительный этатизм, вылившийся даже в своеобразный «культ
государства». Развитая бюрократическая система сложилась
в Китае уже в середине первого тысячелетия до н. э. (возмож­
но, что и ранее) и в последующие несколько столетий достиг­
ла беспрецедентного для обществ древности и Средневековья
развития.
Древнейшим очагом китайской цивилизации стало сло­
жившееся в бассейне р. Хуанхэ царство Шан-Инь, в 1027 г.
до н. э. павшее под ударами захватчиков, основавших новую
династию - Чжоу. Необходимость легитимации новой власти
привела к рождению идеологической доктрины «небесного
мандата» - тянь мин, в основе которой лежало представление
о своеобразном этическом детерминанте - дэ. Добродетельное
правление вело к умножению дэ, дурное - к его утрате. Дина­
стия, обладавшая необходимым дэ, получала от Неба мандат
на управление и сохраняла его до тех пор, пока неблаговид­
ные действия правителей не приводили к утрате дэ и, соответ­
ственно, к лишению «небесного мандата».
Поскольку власть чжоуского правителя - вана - дарова­
лась Великим Небом, довольно рано сложилось представле­
ние о ее универсальном (всемирном) характере. Уже в одном
из древнейших китайских литературных памятников - «Шицзине» («Книга песен») - говорилось, что «нет под небом ни
пяди не царской земли» (Шицзин, II, VI, 1). Наивысший рас­
цвет древнекитайской мысли пришелся на конец эпохи раз­
дробленности, получившей название Чуньцю («Весны и Осе­
ни», VIII-V вв. до н. э.), и начало эпохи Чжаньго («Борющи­
еся Царства» - V-III вв. до н. э.), завершившейся созданием
централизованной бюрократической империи. Именно в этот
период складываются четыре основные идейно-философские
школы: даосизм, конфуцианство, моизм и легизм.
31
Раздел I
Согласно традиции, основоположник даосизма Лао-цзы
(букв. - Старый мудрец) родился в конце VII в. до н. э.1,
в конце жизни удалился на Запад, оставив трактат, ставший
главной священной книгой даосизма, - «Дао дэ цзин». Цен­
тральным элементом даосской доктрины, давшим название
самому учению, было дао - сложнейшая метафизическая ка­
тегория, выступающая как первооснова всего сущего, выс­
шее упорядочивающее начало, всепроникающее и при этом
неуловимое в силу его нематериальности; до конца недости­
жимое, к сближению с которым тем не менее следует стре­
миться. Непосредственной эманацией дао в мир феноменов
выступало дэ, даосское понимание которого отличалось от
традиционного2.
Главным принципом, открывавшим возможность прибли­
жения к дао, служил путь недеяния - увэй. Все неправды
современного мира, согласно учению Лао-цзы, были порожде­
ны чрезмерной активностью людей, из-за которой они далеко
ушли от дао, и, чтобы вернуться к нему, должны отказаться
от действий и стремлений («сделать свое сердце пустым») и
просто подчиниться гармоническим ритмам, пронизывающим
мироздание. Отсюда следовало равнодушие к жизненным
благам и отказ от ненужных знаний, усложняющих картину
мира и препятствующих постижению его внефеноменальной
первоосновы.
Отказ от суетных стремлений в даосизме распространялся
на все уровни человеческого бытия, не исключая и полити­
ческий. Не отрицая необходимость единоличной и праведной
власти, «Дао дэ цзин» идеальной формой ее осуществления
считает все то же недеяние. Правитель должен отказаться от
активного вмешательства в жизнь подданных и тем самым
1 Даты жизни приблизительны, сама историчность Лао-цзы в на­
уке считается спорной.
2 Исключительно сложная и многозначная категория «дао» чаще
всего переводится как «путь» или «пустота». Дэ выступает как про­
явление дао в окружающем мире и одновременно - как средство
движения к дао.
32
Политические учения Древнего мира
не только обеспечить им наилучшие условия существования,
но и обратить к дао: «Вот почему премудрый человек, управ­
ляя людьми, опустошает их головы и наполняет их животы,
ослабляет их стремления и укрепляет их кости... Действуй
неделанием - и во всем будет порядок» (чжан 3) [Дао дэ цзин,
2005].
Кроме того, правитель должен проводить политику обску­
рантизма: «Людьми трудно управлять оттого, что они много
знают... кто незнанием управляет царством - счастье царства»
(чжан 65) [там же]. Патриархально-идиллическая картина от­
ношений между государем и подданными, согласно учению
Лао-цзы, возможна только в очень маленьком государстве,
население которого находится от соседей на расстоянии ви­
димости (чжан 80) [там же]. По сути, даосская программа
обустройства государства строилась на его отрицании. Ведь
в крохотных «царствах» даосской утопии не будет ни чинов­
ников, ни разоряющих народ поборов, а функции правителей
сведутся к духовному лидерству [Васильев, 2006, с. 428-433].
Свое дальнейшее развитие философский даосизм получил
в трудах ближайших продолжателей Лао-цзы - Чжуан-цзы
(около 396 - 286 до н. э.) и Ле-цзы (V в. до н. э.). Трактат
«Чжуан-цзы» считается вершиной развития философской
традиции даосизма. В нем в блестящей художественной фор­
ме обосновываются основные положения даосизма, для чего
автор обращается к жанру назидательных притч. Многие из
них посвящены отрицанию и высмеиванию ценностей чинов­
ничьей карьеры (от которой, согласно преданию, отказался
сам Чжуан-цзы) и государственной власти. При том что сам
Чжуан-цзы абсолютно бескорыстно и для общей пользы готов
помочь государю полезным советом [Мудрецы Китая, 1994,
с. 338-342], чиновничья служба вызывает у него отторже­
ние до такой степени, что от нее следует скрываться [там же,
с. 348-354]. Более того, истинный приверженец дао не дол­
жен принимать никаких благодеяний от правителя [там же,
с. 317-327, 348-354]. В короткой притче о споре с Цао Торга­
шом, разбогатевшим на службе у циньского вана, услуги Цао
33
Раздел I
как придворного советника приравниваются к самому низко­
му и нечистому занятию [Мудрецы Китая, 1994, с. 350].
Основоположник этико-философского учения, которому
было суждено стать на тысячелетия вперед официальной го­
сударственной доктриной Китая, родился в 551 г. до н. э.
в царстве Лу, в семье служилого аристократа из клана Кун.
В историю он вошел под почетным именем Кун-цзы (мудрец
Кун), в европейской транскрипции закрепившемся как Кон­
фуций. Проявив с детства незаурядные способности, он уже
в юные годы добивается для себя небольшой административ­
ной должности, к тридцати годам формулирует основы своего
учения, однако спустя пять лет вынужден покинуть родное
царство в связи со вспыхнувшей там смутой. Большую часть
его последующей жизни составил период учительства, когда,
собрав вокруг себя немногочисленную группу последователей,
Конфуций наставляет их в своем учении, одновременно разви­
вая и совершенствуя его1.
На основе высказываний Конфуция и содержания его бесед
с учениками, уже после его смерти в 479 г. до н. э., был со­
ставлен главный трактат конфуцианства — «Лунь юй» (букв.
«Суждения и беседы»). Центральным компонентом конфуци­
анства изначально являлась его этика, основывавшаяся на та­
ких категориях, как жэнъ (гуманность, человеколюбие), сяо
(сыновья почтительность, шире - почитание младшими стар­
ших), ли (правила, ритуалы), вэнъ (образованность). Нашлось
там место и дао, понимаемому как суть самого конфуциан­
ства, как путь, ведущий к истине [Переломов, 1993, с. 188].
Всеми этими достоинствами должен обладать цзюнь-цзы
(совершенномудрый), которому в конфуцианстве отводит­
ся исключительно важная роль нравственного эталона и од­
новременно своеобразного стрежня правильно устроенного
общества. Именно совершенномудрые должны воспитывать
и направлять общество, именно этим лучшим людям должны
1 Существует несколько противоречащих друг другу биографий
Конфуция.
34
Политические учения Древнего мира
быть доверены все управленческие функции. Его антиподом
является сяо жэнъ (низкий, недостойный человек), отрица­
тельный пример для последователей Конфуция. В их проти­
вопоставлении отчасти нашел воплощение аристократический
идеал правления, однако было бы существенным упрощением
сводить только к этому суть данной оппозиции. Благородство
происхождения в глазах Конфуция оказывает влияние на ис­
тинное благородство личности, но полностью не предопреде­
ляет его.
Основополагающие принципы конфуцианской этики в рав­
ной степени подходят и для воспитания отдельной личности,
и для правильного функционирования государства. Все поли­
тическое управление, согласно Конфуцию, должно строиться
на правилах - ли, при этом особое внимание уделялось эти­
кету, впоследствии достигшему в Китае небывалой сложно­
сти. Отношения между господствующими и подчиняющимися
должны основываться на правилах сыновьей почтительности.
Данный принцип, с одной стороны, провозглашал незыбле­
мость власти правителя, но с другой - придавал ей налет па­
триархальности. Что особенно важно - преданность своим ро­
дителям Конфуций ставил выше преданности государю [Пе­
реломов, 1993, с. 208-212]. В еще большей степени развитию
деспотических тенденций препятствовал принцип гуманно­
сти, которую должен был проявлять правитель, наделенный
качествами цзюнь-цзы. Главным средством воздействия вла­
сти на общество должны быть не репрессии и принуждение, а
всеобщее следование правилам, добиваться которого следова­
ло, используя принцип янь минь - воспитания народа силой
личного примера и нравственного убеждения [там же, с. 236].
Кроме того, что правитель должен соответствовать идеалу
цзюнь-цзы, его власти следовало опираться на совершенно­
мудрых. При этом высоконравственный сановник не мыслил­
ся как простой исполнитель приказов самодержца. Приня­
тие решений правитель должен был осуществлять на основе
принципа коллективного обсуждения - хэ, согласно которому
рекомендовалось выслушивать все мнения. А для сохране­
35
Раздел 1
ния доверия между верхами и низами, по замыслу Конфу­
ция, нужна эффективная система обратной связи [Переломов,
1993, с. 237]. Последняя, впрочем, не превращала народные
массы в равноправный субъект политического процесса, по­
скольку они должны были следовать за правителем, не вни­
кая в его замыслы [там же, 1993, с. 242-247].
Древняя концепция «небесного мандата» интерпретирова­
лась Конфуцием в духе учения: Небо признавалось всемогу­
щей высшей силой, сообщающей людям свои веления через
совершенномудрых. Выступая гарантом правил - ли, оно мог­
ло в любой момент лишить власти правителя, пренебрегающе­
го ими. При этом в задачу мудрых советников вменялось свое­
временное предупреждение государя о возможных пагубных
последствиях его поступков1.
Одним из самых серьезных реформаторских начинаний
Конфуция можно считать доктрину чжэн мин (букв, «исправ­
ление или упорядочение названий»). Она означала, что сфера
ответственности должностных лиц должна строго соответство­
вать делегированным им правам и обязанностям.
Идеи Конфуция, завоевавшие приверженцев еще при его
жизни, в последующие века получили широкое распростра­
нение в царствах Китая [Васильев, 2006, с. 235-237]. Одна­
ко набирающее популярность учение не могло не вызвать
ожесточенную критику оппонентов. Кроме даосов, для ко­
торых конфуцианская доктрина активной добродетели была
неприемлема, в их рядах оказались последователи Мо-цзы и
легисты.
Древнекитайский мыслитель и общественный деятель Мо
Ди, вошедший в историю как Мо-цзы (479-381 до н. э.), свое
образование получил в одной из конфуцианских школ, од­
нако впоследствии далеко разошелся во взглядах со своими
наставниками и создал собственное учение, основой которого
1 Это требование нашло воплощение в практике подачи честными
чиновниками нелицеприятных докладов на имя императора, после
чего податель доклада совершал самоубийство.
36
Политические учения Древнего мира
стала идея всеобщей любви и пользы. Абсолютный приоритет
двух этих принципов означал для Мо-цзы отказ от частных
привязанностей, включая столь ценимые конфуцианцами се­
мейные связи. Во множестве социальных групп, образующих
иерархию, он видел зло, призывая заменить обособленность
всеобщностью.
Последнее предполагало объединение всех приверженцев
учения в общину равных, взаимоотношения которых цели­
ком строятся на принципах альтруизма. При этом как один
из возможных способов широкого вовлечения жителей Подне­
бесной в эту общину Мо-цзы рассматривал политические ре­
формы правителей, принявших его учение. И если Конфуций
основную ставку делал на нравственную силу личности, то
Мо-цзы целиком полагался на правильную социально-полити­
ческую организацию, которая только и сможет гарантировать
всеобщее следование принципам любви и пользы для всех.
Таким образом, моизм оказался первой в истории Китая поли­
тической утопией, в которой просматриваются несомненные
признаки антиутопии.
В частности, над массой рядовых членов общества, объе­
диненных братской любовью друг к другу, согласно Моцзы,
должны возвышаться могущественные администраторы, на­
деленные огромными полномочиями и несущие на себе ос­
новное бремя ответственности за происходящее в государстве.
Главным средством воспитания всеобщей любви мыслилась
учрежденная высшей властью система наград и наказаний.
Еще более важным условием построения общества равных, со­
гласно взглядам Мо-цзы, был отказ от чрезмерного потребле­
ния. Люди должны ограничиться простым удовлетворением
потребностей и забыть о роскоши и излишествах.
Если моистская концепция государства в качестве выс­
шей цели все же подразумевала всеобщее благо, то учение
легистов (фа цзя - школа закона) целиком ориентировалось
на интересы государства. Данное учение зародилось в VI в.
до н. э. в связи с развитием древнекитайской государствен­
ности, закономерным итогом которого стало появление пись37
Раздел I
менного законодательства. Для своего времени это оказа­
лось революционным новшеством, поскольку воплощавшие
волю правителя и принципы регулярного государства писа­
ные законы вошли в конфликт с патриархальной традицией.
Крайнего выражения эти тенденции достигли в учении са­
мого известного мыслителя школы закона - Шан Яна (390338 до н. э.).
Из всех мыслителей Древнего Китая именно Шан Яну
в наибольшей степени удалось воплотить свои замыслы на
практике - в 356 г. до н. э. он поступил на службу к циньскому правителю Сяо-гуну, где провел курс радикальных ре­
форм. Суть учения Шан Яна была изложена в труде, увидев­
шем свет уже после его смерти, - «Книге правителя области
Шан» (Шан цзюнь шу). Из всех сочинений древнекитайских
мыслителей это, пожалуй, наиболее «чистый» образец поли­
тического трактата. Он целиком посвящен изложению пра­
вильных, с точки зрения Шан Яна, принципов государствен­
ного управления и конкретных способов их воплощения.
Первостепенное значение в трактате придается принципам
строгой иерархии и жесткой субординации. Система власти
должна носить строго пирамидальный характер, приказы
правителя беспрекословно принимаются к исполнению ниже­
стоящими чиновниками, не обладающими даже тенью само­
стоятельности. Аппарат управления носит полностью функ­
циональный характер, поэтому все назначения производятся
исключительно на основе профессиональных качеств.
В иерархическую конструкцию, согласно учению Шан Яна,
включаются не только лица, облеченные властью, но и все
общество. Все население царства должно быть разделено на
пятерки и десятки, объединенные принципом круговой пору­
ки. Неизбежное в подобных условиях взаимное доноситель­
ство возводилось Шан Яном в ранг социальной добродетели
и должно было поощряться [Книга правителя..., 1993,
с. 207], в то время как недоносительство - наказываться. Чет­
кое исполнение каждым своих прямых обязанностей долж­
но было достигаться благодаря ясным законам, доведенным
38
Политические учения Древнего мира
до широких народных масс1. А в законах следует прописать
систему наград и наказаний, открывающих для наиболее
усердных каналы социальной мобильности. Введенная Шан
Яном структура социальных рангов сводила на нет принцип
врожденной знатности и ставила положение человека в пря­
мую зависимость от его заслуг перед государством. В то же
время, несмотря на развитую систему поощрений, приоритет
оставался за наказаниями, которые должны были быть зна­
чительными даже за мелкие проступки [Книга правителя...,
1993, с. 158-159].
Карьерные возможности человека определялись не только
усердием, но и родом его занятий. Важнейшими видами дея­
тельности Шан Ян считал земледелие и войну, обозначенные
им как Единое (и). Прочие занятия - ремесло, торговлю, сфе­
ру услуг - он рассматривал как сомнительные и подлежащие
дискриминации. А некоторые виды деятельности и даже зна­
ния в трактате провозглашаются вредными и получают наи­
менование «паразитов» [там же, 1993, с. 151]. Под это опреде­
ление попали все творческие и интеллектуальные профессии,
отвлекающие народ от Единого.
Обскурантистские идеи выступают лишь частью концеп­
ции «ослабления народа», изложенной в 4, 5, 8 и 20-й главах
трактата. Согласно их положениям, чтобы государство было
сильным, народ должен быть разобщен, невежествен и суще­
ствовать в условиях строжайшей регламентации всех сторон
жизни. «Когда люди живут в унижении, они дорожат ранга­
ми знатности; когда они слабы, чтут чиновничьи должности;
когда бедны, ценят награды» [там же, 1993, с. 221].
Исключительное внимание в трактате уделяется военному
делу, развитие которого должно было обеспечить не столько
безопасность государства, сколько успех постоянной экспан-
1 Несмотря на то, что правитель находится вне критики, ни перед
кем не отчитывается и в принципе волен делать все что угодно, Шан
Ян рекомендовал ему не нарушать собственных законов без крайней
необходимости. Этого требовал принцип всеобщих и ясных правил.
39
Раздел I
сии. Заслуги на войне выступают в книге главным социаль­
ным лифтом. Постоянное ведение агрессивных войн вменяет­
ся в обязанность правителю, поскольку, согласно представле­
ниям Шан Яна, кто не нападает, тот вынужден обороняться.
Другими заметными представителями легизма призна­
ются Шэнь Бу-хай (400-337 до н. э.) и Хань Фэй-цзы (288233 до н. э.)1. Заслугой первого является разработка древней­
шего искусства управления (шу), в котором парадоксальным,
на первый взгляд, образом легистские идеи дополнены эле­
ментами даосизма. Однако даосский принцип недеяния по­
лучил в концепции Шэнь Бу-хая оригинальное толкование.
Бездействие монарха выступает здесь лишь внешней маской,
скрывающей от придворных и чиновников его истинные мыс­
ли и намерения. Избегая административной рутины, прави­
тель выступает в роли своеобразного арбитра, вмешивающе­
гося лишь тогда, когда бюрократическая машина дает сбой.
При этом истинная власть государя мыслилась столь же аб­
солютной, как и в концепции Шан Яна. Но в отличие от него
Шэнь Бу-хай сделал усиленный акцент на личности правите­
ля, которая должна была соответствовать высокому идеалу.
Поскольку государю принадлежит абсолютная власть, он обя­
зан обдумывать каждое свое слово, избегая при этом ненуж­
ных эмоций.
Учение Хань Фэй-цзы было призвано органично соединить
жесткий легизм Шан Яна с искусством управления Шэнь Бу­
хая, взяв из них все наиболее полезное. У первого мыслитель
заимствовал идею жесткой иерархии и репрессивной прак­
тики, у второго - ключевые идеи теории управления, кото­
рые Хань Фэй-цзы дополнил своими собственными. Основной
акцент при этом был сделан на необходимости для правите­
ля тщательного контроля за собственным окружением и взве1 Трактат, содержащий идеи Шэнь Бу-хая, - «Шэнь-цзы» — со­
хранился лишь в немногочисленных фрагментах, включенных
в другие сочинения. Трактат «Хань Фэй-цзы» дошел до нас в полном
объеме (55 глав), неоднократно переводился на европейские языки,
в том числе и на русский.
40
Политические учения Древнего мира
шенной кадровой политики. Одновременно Хань Фэй-цзы по­
пытался отойти от крайностей первоначального легизма: не
отрицая полезность системы наград, наказаний и жесткой
административной дисциплины, он вместе с тем ставил на
первый план уже не беспрекословное повиновение, а компе­
тентность чиновника.
Из четырех описанных доктрин главными конкурентами
на протяжении нескольких столетий выступали конфуциан­
ство и легизм. В условиях, когда популярность легизма росла,
а его приверженцы не просто критиковали конфуцианцев, но
и призывали к расправе над ними, последние были вынужде­
ны адаптировать собственные политические доктрины к ме­
няющейся обстановке. Видный последователь Конфуция Мэнцзы (372-289 до н. э.) в своих рассуждениях практически ушел
от общеэтической проблематики, сосредоточившись на идее до­
бродетельного правления. Его критика легистов строилась не
столько на соображениях абстрактного гуманизма, сколько на
примерах практической несостоятельности их рецептов. Особо
непримиримое отношение мыслитель выражал к командно-ре­
прессивной практике в отношении верхов и низов, утвердив­
шейся в китайских царствах благодаря легистам. Жестокое
правление, даже принося кратковременный успех, согласно
Мэн-цзы, чревато социальным взрывом, в то время как гуман­
ное открывает путь к подчинению Поднебесной.
Его фактический преемник в роли лидера конфуцианской
школы Сюнь-цзы. (около 312 - 230 до н. э.) занял гораздо бо­
лее конформистскую позицию. Если Мэн-цзы, не поступаясь
сутью учения, несколько сместил полемические акценты, то
Сюнь-цзы взял на вооружение многие идеи даосизма и легиз­
ма. В частности, необходимым дополнением ритуала (ли) он
провозгласил писаный закон. Наставление чиновников в духе
конфуцианских норм добродетели он считал необходимым со­
четать с жестокими наказаниями для «невоспитуемых». Тот
же самый принцип провозглашался Сюнь-цзы и во внешней
политике: притягательная сила мудрого и гуманного правле­
ния должна подкрепляться военными усилиями государства.
41
Раздел I
Само понимание государственной системы у Сюнь-цзы было
гораздо ближе к легистскому, хотя образ идеального бюрокра­
та в его представлениях сочетал качества беспрекословного
исполнителя с нравственной личностью.
После объединения Китая в 221 г. до н. э. под властью
династии Цинь, для которой со времен Шан Яна легизм был
официальной политической доктриной, казалось, что школа
закона окончательно победила. Однако в результате восста­
ния, вспыхнувшего вскоре после смерти объединителя им­
перии Цинь Шихуанди, к власти пришла новая династия Хань (207 г. до н. э. - 220 г. н. э.), обратившаяся к кон­
фуцианской традиции. Итогом длительного соперничества
доктрин стал их синтез в Ι-П вв. н. э. под вывеской конфу­
цианства.
Контрольные вопросы и задания
1. Обозначьте основные черты политической мысли древ­
нейших цивилизаций.
2. Столкновение каких политико-идеологических тенден­
ций можно проследить в «Эпосе о Гильгамеше»?
3. В каком литературном жанре в наибольшей степени от­
разилась политическая мысль Древнего Египта?
4. Какие политические идеи можно считать логическим
следствием дуалистической доктрины зороастризма?
5. Обозначьте основные положения брахманизма, лежащие
в основе варнового строя.
6. Какая из религий - брахманизм или буддизм - в боль­
шей степени отвечала интересам сильной монархической вла­
сти?
7. В чем заключается основное противоречие между этиче­
скими установками «Артхашастры» и всей предшествующей
индусской традиции?
8. Назовите основные отличительные черты древнекитай­
ской политической доктрины.
9. Опишите основные принципы конфуцианского учения.
42
Политические учения Древнего мира
10. Какое из основных учений Древнего Китая выражало
аристократическую, какое - монархическую, а какое - антиэтатистскую тенденцию?
11. Какие идеи сближали между собой столь противополож­
ные учения, как легизм и даосизм?
12. Какую эволюцию претерпевает конфуцианство в трудах
Мэн-цзы и Сюнь-цзы?
Темы рефератов и творческих заданий
1. Эволюция политической мысли Древней Месопотамии.
2. Законы царя Хаммурапи как памятник политической
мысли.
3. Образ идеального правителя в «Поучении гераклеопольского царя».
4. Концепция праведной власти в зороастризме.
5. Идеология варнового строя в «Законах Ману».
6. Образ идеального государства и политическая действи­
тельность в «Артхашастре».
7. Концепция «небесного мандата» в Древнем Китае.
8. Представления о власти и государстве в раннем даосиз­
ме.
9. Учение Конфуция о государстве.
10. «Государство всеобщей пользы» в учении Мо-цзы.
11. Общество и государство в представлениях легистов.
12. Идеологическое противоборство конфуцианства и ле­
гизма.
Литература
1. Авеста в русских переводах (1861-1996). 2-е изд., испр.
СПб.: Нева: Летний Сад, 1998.
2. Артхашастра, или Наука о политике. М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 1959.
3. Васильев Л. С. Древний Китай: в 3 т. М.: Восточная ли­
тература, 2006. Т. 3.
43
Раздел I
4. Вигасин А. А., Самозванцев А. М. Артхашастра (пробле­
мы социальной структуры и права). М.: Наука. Гл. ред. вос­
точной лит-ры, 1984.
5. Гусева Η. Р. Индуизм. История формирования. Культо­
вая практика. М.: Наука. Гл. ред. восточной лит-ры, 1977.
6. Дао дэ цзин / пер. В. В. Малявина. М.: ACT: Астрель,
2005.
7. Емельянов В. В. Древний Шумер. Очерки культуры.
СПб.: Петербургское Востоковедение, 2001.
8. Законы вавилонского царя Хаммурапи. Тексты и доку­
менты // История Древнего Востока: учеб, пособие / под ред.
В. И. Кузищина. М.: Высшая школа, 2002.
9. Законы Ману. Манавадхармашастра / пер. С. Д. Эль­
мановича, провер. и испр. Г. И. Ильиным. М.: Эксмо-пресс,
2002.
10. История всемирной литературы: в 9 т. М.: Наука, 1983.
Т. 1.
11. История Древнего Востока: в 3 т. М.: Наука. Гл. ред.
восточной лит-ры, 1983-2004.
12. Книга правителя области Шан (Шан цзюнь шу). 2-е изд.,
доп. М.: Ладомир, 1993.
13. Кудрявцев М. К. Кастовая система в Индии. М.: Наука.
Восточная литература, 1992.
14. Куценков А. А. Эволюция индийской касты. М.: Наука.
Гл. ред. восточной лит-ры, 1983.
15. Лелюхин Д. Н. Концепция идеального царства в «Артхашастре» Каутильи // Государство в истории общества
(к проблеме критериев государственности). М.: ИВ РАН,
2001.
16. Мудрецы Китая. Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы. СПб.: Пе­
тербург - XXI век: Лань, 1994.
17. Переломов Л. С. Конфуцианство и легизм в истории Ки­
тая. М.: Наука. Гл. ред. восточной лит-ры, 1981.
18. Переломов Л. С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М.:
Наука. Восточная литература, 1993.
19. Поучение гераклеопольского царя, имя которого не со44
Политические учения Древнего мира
хранилось, своему наследнику, Мерикаре // Повесть о Петеисе. М.: Худ. лит-ра, 1978.
20. Рак И. В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ира­
на. СПб.; М.: Нева: Летний Сад, 1998.
21. Рубин В. А. Личность и власть в Древнем Китае: собра­
ние трудов. М.: Наука. Восточная литература, 1999.
22. Синха Н. К., Банерджи А. Ч. История Индии. М.: Издво иностран. лит-ры, 1954.
23. Хрестоматия по истории Древнего Востока: учеб, посо­
бие: в 2 ч. / под ред. М. А. Коростовцева, И. С. Кацнельсона,
В. И. Кузищина. М.: Высшая школа, 1980. Ч. 1.
24. Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1961.
Глава 2. Политические учения Античности
Уникальное стечение социальных и природных условий,
приведшее к возникновению феномена античной Греции,
и в частности полисной античной демократии, известный
российский историк Л. С. Васильев не без основания назвал
«социальной мутацией» [Васильев, 2001, с. 15], не знавшей
аналогов во всем Древнем мире. Своего расцвета античная
демократия достигла в «эпоху Перикла», т. е. во второй по­
ловине V в. до н. э. Перикл (около 494 - 429 до н. э.) был
вождем демократической партии Афин, которые к тому вре­
мени стали экономическим центром и политическим лидером
всего древнегреческого мира. Этому предшествовал ряд важ­
ных политических преобразований в Афинах, прежде всего
реформы Солона (638-559 до н. э.). Данные реформы были
призваны предотвратить крестьянский бунт и установление
тирании. Солон, сочетавший в себе аристократическое проис­
хождение с купеческим опытом, идеально подходил для поли­
тики классового компромисса. С одной стороны, он отменил
кабальное рабство афинских граждан и демократизировал си­
стему управления, существенно повысив роль народного со­
брания по отношению к аристократическому ареопагу. С дру45
Раздел I
гой стороны, он фактически узаконил частную собственность
и тем самым поощрил использование богатыми афинянами
рабского труда. Разделение Солоном всех афинских граждан
на четыре класса по принципу земельного дохода значительно
усилило средний класс как социальную базу устойчивой де­
мократии, однако демократия эта распространялась только на
слой свободных мужчин (граждан).
Расцвет греческой демократии породил специфический тип
политической культуры, связанный со всеми сферами антич­
ного греческого духа: моралью, искусством, философией и др.
2.1. Политические учения классической Греции.
Софисты и Платон
В философии дух античной демократии прежде всего вы­
разили софисты, ставшие влиятельной общественной силой в
эпоху Перикла. Изначально «софистами» (др.-греч. σοφιστής)
древние греки называли не только известных философов (вроде
Пифагора), но также любых мудрецов (к примеру, реформато­
ра Солона), да и вообще людей, отличавшихся мастерством в
каком-либо знании, ремесле, искусстве. Однако позднее этим
термином стали обозначать особого рода философов, а именно
тех, кто обучал мудрости за деньги. Деньги в условиях полис­
ной демократии граждане готовы были платить за освоение
искусства красноречия, поскольку от этого напрямую зависел
их успех в политической борьбе, в судебных тяжбах и т. п.
Демократическое правление, в отличие от тирании, вообще
есть стихия говорения, потому что побуждение к действию
путем прямого насилия не является здесь основным средством
власти. Главным при этом было научиться убеждать и побеж­
дать в споре, а не достигать объективной истины. А для это­
го все средства считались хорошими: от весомого аргумента
и упрямого факта до ложного умозаключения и откровенной
лжи. Именно из-за этой неразборчивости в средствах слово
«софистика» стало со временем синонимом шарлатанства и
обмана. Однако к софистам как представителям древнегрече46
Политические учения Древнего мира
ской философии этот негативный смысл софистики относится
только частично, поскольку лучшие из них развивали весьма
оригинальные идеи, причем не только в сфере логики и рито­
рики, но также в сфере этики и политики.
По своим общим философским убеждениям софисты были
агностиками, скептиками и релятивистами: они не при­
знавали единой для всех истины, но только множество от­
дельных субъективных истин. Признание плюрализма ис­
тин имело позитивный смысл в условиях демократического
правления, поскольку вело человека к осознанию ограничен­
ности его собственного мнения и уважению мнения других.
В частности, можно вслед за софистом Протагором (около
480-410 до н. э.) сказать, что представления людей о справед­
ливости возникают и существуют не сами по себе (от приро­
ды), а лишь в отношении к чужим представлениям о справед­
ливости. Отсюда еще не следует отрицание законов общества
как таковых, но только понимание их как результата «согла­
шения людей между собой» (Антифонт), как «взаимной спра­
ведливости» (Протагор).
В любом случае софисты были критиками догматических
установок в политической практике современного им обще­
ства. С другой стороны, релятивизм делал из софистов антич­
ных гуманистов: если нет различия добра и зла по природе,
тогда следует быть терпимым к тому, кто хочет, но не может
быть добрым по существующему человеческому (а значит,
всегда относительному) установлению. Открытие принципи­
ального различия естественных и человеческих законов - важ­
ная заслуга софистов. Природные законы нарушить нельзя,
а человеческие - можно. Отсюда софисты делали ряд смелых
выводов, к примеру, о неизбежности морального лицемерия
(при свидетелях человек должен следовать законам общества,
а наедине с собой может дать волю своим природным наклон­
ностям) и противоестественности рабства как человеческого
установления. По словам Антифонта (V в. до н. э.), «по при­
роде мы все во всех отношениях равны, притом [одинаково]
и варвары, и эллины» [Антология..., 1969, с. 321].
47
Раздел I
Правда, в скептическом отношении к рабству у софистов
были союзники в лице киников - одной из влиятельных со­
кратических школ Античности. Свое название школа полу­
чила то ли от прозвища киника Диогена Синопского (около
412-323 до н. э.) - «пес» (греч. κυων), то ли от афинского
гимнасия «Киносарг» (греч. Κυνόσαργες), где преподавал сво­
им ученикам киник Антписфен (444/435-370/360 до н. э.).
О философе-кинике Диогене все знают, что он жил в бочке,
но не все знают - почему. Между тем он делал это из принци­
па: условием истинной свободы философ считал отказ от соб­
ственности, государства, семьи, денег, официальной морали
и того, что они с собой приносят, — чувственных удовольствий
и душевного комфорта. Диоген, к примеру, выступал за общ­
ность жен. Этот великий отказ от социальных «условностей» в духе древнекитайских даосов или ранних буддистов приводил киников к переосмыслению понятия рабства. Бу­
дучи политически свободным, говорили они, человек может
быть рабом собственных страстей и вожделений.
Придерживаясь в основном демократических воззрений,
софисты в своих сочинениях поставили один из ключевых во­
просов античной политической мысли: о выборе наилучшей
формы государственного правления. Этот вопрос в класси­
ческой греческой философии задавался в разной форме, но
демократия - как сугубо греческое «чудо» - оставалась при
этом важной точкой отсчета.
Впрочем, многие греческие философы предпочитали ари­
стократию. Так, известное изречение Гераклита (около
544/540 до н. э. - ?) гласит: «Один стоит для меня десяти
тысяч, если он - наилучший». Сторонником «правления луч­
ших» был и Пифагор (около 570-490 до н. э.). Однако оба они
подразумевали под «лучшими» не закрепленный традицией
аристократический класс своей эпохи, а просто всех, кто жи­
вет разумно и добродетельно. Не случайно пифагореец Гипподам Милетский (498 до н. э. - около 408 до н. э.) не выделя­
ет в своем проекте государственного устройства аристократию
как социальный класс наряду с земледельцами, ремесленни48
Политические учения Древнего мира
ками и воинами. Фактически такое нетрадиционное понима­
ние аристократии близко умеренной демократии, где правит
элита, реализующая принцип свободы для всех. В этом имен­
но смысле философ Демокрит (460-370 до н. э.), замечая, что
«по самой природе управлять свойственно лучшему», делал
вывод: «Бедность в демократии настолько же предпочтитель­
нее так называемого благополучия граждан при царях, на­
сколько свобода - лучше рабства». На самом деле привержен­
цы «власти лучших» часто отрицали не демократию как тако­
вую, а «охлократию» - власть толпы, крайнюю демократию.
В ней они не без основания видели зачатки будущей тирании,
не совместимой с реальным народовластием.
С софистами связан еще один важный спор в греческой фи­
лософии - между релятивистским и абсолютистским понима­
нием морали. Софисты не признавали абсолютных моральных
ценностей. Горгий (483-380 до н. э.), к примеру, отказывался
говорить о добродетели вообще, но только о добродетели муж­
чин или женщин, детей или взрослых, свободных или рабов.
Но если в обществе нет универсальных этических норм, что
служит тогда основой индивидуальных этических устано­
вок? По мнению Протагора, такой основой является польза.
Но как быть тогда с политической моралью? Ведь отсутствие
универсальных этических норм грозит поставить под вопрос
саму идею политического как сферы совместных (публичных)
дел по управлению полисом.
В отличие от релятивизма софистов, абсолютистское по­
нимание морали исходит из признания строгих, общезна­
чимых этических норм. К этой традиции в античной фи­
лософии относились пифагорейцы (V в. до н. э.) с их при­
матом благопристойного перед полезным и приятным,
а также Сократ (470/469-399 до н. э.) и его ученик Платон
(428/427-348/347 до н. э.). Сократ, как мы его можем пред­
ставить себе по диалогам Платона, был ярым критиком эти­
ческого релятивизма софистов, хотя с ними его роднил об­
щий интерес к человеку и стихии живого общения. Критика
софистов основывалась у Сократа и Платона на убеждении
49
Раздел I
в существовании объективной истины, прежде всего — абсо­
лютного различия добра и зла. Самодостаточность морали,
коль скоро она не основывается на взаимном признании людь­
ми их субъективных устремлений, требует какого-то высшего
сакрального принципа - Разума, Бога, Идеи. Так этический
абсолютизм логично дополняется у Сократа и Платона фило­
софским идеализмом.
Платон (др.-греч. Πλάτων) (428/427-348/347 до н. э.) во­
шел в историю не только как ученик великого Сократа, но и
как учитель великого Аристотеля. Согласно Диогену Лаэрт­
скому, по материнской линии он приходился потомком
(в шестом поколении) афинскому реформатору Солону. После
казни Сократа в 399 г. до н. э. Платон много путешествовал,
а после возвращения в Афины основал свою школу - «Ака­
демию» (ее название происходит от имени героя Гекадема).
В отличие от Сократа, который ничего не писал, но только вел
диалоги, Платон оставил после себя многочисленные сочине­
ния, но тоже в форме диалогов. Политические идеи Платона
выражены главным образом в трех его диалогах: «Государ­
ство» (др.-греч. Πολιτεία) и «Политик» (др.-греч. Πολιτικός) (на­
писаны зрелым Платоном), а также в последнем сочинении
философа - «Законы» (др.-греч. Νόμοι). Важную информацию
о жизни Платона, в особенности о его путешествиях в Сираку­
зы, дает платоновское автобиографическое «Седьмое письмо»,
хотя его авторство спорно.
Политическое учение Платона нельзя рассматривать в от­
рыве от других частей его философии, прежде всего - от уче­
ния об идеях. Данное учение рассматривает окружающие че­
ловека вещи не как первичную реальность, а как несовершен­
ные, изменчивые копии («тени») вечных идей. Идеи можно
мыслить, но нельзя видеть, а вещи, напротив, видеть можно,
но без посредства идей мыслить нельзя. Идеи образуют слож­
ную иерархию, на вершине которой располагается идея блага.
Эта идея не только позволяет человеку понять все прекрасное
и справедливое, но выступает их причиной, онтологической
предпосылкой. Соответственно, все категории, описывающие
50
Политические учения Древнего мира
политическую жизнь, истинны и даже реальны лишь в той
мере, в какой они восходят к идее блага. В философской кон­
цепции Платона политика изначально, причем на онтологиче­
ском уровне, слита с этикой.
К благу вольно или невольно стремится любая человече­
ская душа, а именно разумной своей частью, которую Платон
отличает от яростного и вожделеющего начала души. С по­
мощью разума человек может рассуждать и познавать идеи;
к вожделеющей части души относятся удовольствия и на­
слаждения; яростный же дух, способный встать наперекор
наслаждениям, призван служить защитником разума. Ука­
занным трем началам души соответствуют три вида удоволь­
ствий и одновременно три типа людей, сообразно тому, какой
из видов удовольствия ценится человеком больше всего. Те,
кто любят наслаждения, образуют род сребролюбцев, потому
что для удовлетворения вожделений им нужны деньги. Любя­
щих почет и славу в соперничестве Платон относит к разряду
честолюбцев, а тех, кто получает удовольствие от знания ради
знания, - философов. Но подлинным удовольствием Платон
считает только философию, а философов - высшим разрядом
людей.
Платон исходит из того, что «толпе не присуще быть фило­
софом», поэтому толпа мудрецов ненавидит. Платон же фило­
софов обожествляет, приписывая им все основные добродете­
ли идеального государства: мудрость, мужественность, рассу­
дительность и справедливость.
Чтобы государство было мудрым, вовсе не обязатель­
но, чтобы его населяли одни только мудрецы. Но необходи­
мо, чтобы философы управляли государством. Точно так же
и мужественным государство бывает не из-за того, что все его
граждане умеют воевать, а из-за того, что в государстве есть
сословие правильно воспитанных, мужественных воинов, спо­
собных реагировать на любые опасности. В отличие от мудро­
сти и мужественности, добродетель рассудительности должна
пронизывать собой все части государства. В рассудительном
государстве все члены общества признают действующие зако51
Раздел I
ны, при которых ничтожные вожделения большинства подчи­
няются разумным желаниям меньшинства.
Рассудительность создает основу для справедливого госу­
дарства. В нем каждый отдельный человек и каждое сословие
занимаются своим делом, предназначенным им от природы,
и не мешают делам других людей и сословий. Поэтому спра­
ведливость рождает единодушие и дружбу между гражданами
государства, а несправедливость ведет к междоусобицам.
Упомянутые три начала души представлены и в совершен­
ном государстве. Эти начала реализуются тремя основными
сословиями общества: философами-правителями, воинами
и работниками материальной сферы общества (земледельца­
ми, ремесленниками, торговцами).
При описании идеального полисного устройства Платон
много внимания уделяет быту стражей. Их профессия требу­
ет полного подчинения целям государства, поэтому наличие
частной собственности и денег у стражей исключается. Соот­
ветственно, среди воинов не должно быть различия между бо­
гатыми и бедными. Сверх того, Платон предписывает стражам
общность жен и детей, считая достаточным чисто формальное
понятие родства и семьи. При этом правители должны неявно
руководить интимной жизнью стражей, чтобы способствовать
производству среди них лучшего потомства.
Ключевую роль в своей теории идеального государства
Платон отводит системе воспитания и обучения граждан,
поскольку «в каком направлении кто был воспитан, таким
и станет... весь его будущий путь» (425 с)1. Воспитание и обу­
чение детей - это государственное дело. При этом оно под­
чинено сословному принципу и предполагает постоянное по­
вышение в ранге, селекцию. Нижний уровень составляет об­
разование и воспитание для всех детей, включающее прежде
1 Здесь и далее цитаты из диалогов Платона приводятся по изда­
ниям: Платон. Государство // Филеб, Государство, Тимей, Критий.
М.: Мысль, 1999; Его же. Политик. Законы. Письма. М.: Мысль,
1994. В скобках указан номер соответствующего фрагмента сочине­
ния.
52
Политические учения Древнего мира
всего усвоение ими официальной идеологии. В связи с этим
Платон говорит о «благородном вымысле» государственной
идеологии, которая призвана оправдать неравенство сосло­
вий единого полиса. Отсюда - миф о матери-земле как общей
прародительнице всех граждан, в которых, однако, при ро­
ждении богом подмешиваются элементы разного достоинства:
в правителей - золото, в стражей - серебро, а в земледельцев
и ремесленников - медь и железо.
Для низшего сословия специального воспитания и обра­
зования Платоном не предусматривается; помимо идеологи­
ческого воспитания, дети из этого сословия могут получать
предварительные знания в области арифметики, геометрии,
музыки и астрономии. Однако изучение ими этих дисциплин
носит сугубо инструментальный (или «рабский», как выража­
ется Платон) характер, в отличие от их изучения будущими
стражами и правителями. Последние, по Платону, проходят
многолетнюю специальную выучку, причем поначалу они вос­
питываются совместно. При этом для тела лучшим воспита­
нием считается гимнастика, а для души - музы. Мусическое
воспитание должно предшествовать гимнастическому.
Частью мусического воспитания выступают мифы, кото­
рые в фантастической форме передают моральные наставле­
ния. Но поскольку ребенок не в состоянии различить, что
в этих наставлениях буквально, а что иносказательно, мифы
должны быть очищены от всех двусмысленностей и прямо на­
правлять детей к добродетели. Это касается прежде всего про­
тиворечивого образа богов, представленных в поэмах Гесиода
и Гомера. От таких образов надо избавляться, ведь «боги - не
колдуны, чтобы изменять свой вид и вводить нас в обман сло­
вом или делом» (383 а).
К мусическому воспитанию относятся также различные
искусства, но у Платона они под подозрением, поскольку по
природе своей являются «подражанием подражанию», что
значит подражанием вещам, которые сами суть подражания
идеям. Произведение искусства может быть талантливым, но
от этого еще более опасным политически. У Платона есть пре53
Раздел I
тензии к трагедии и комедии, к лирической поэзии, в какой
мере те развивают плачущее начало души и непочтение к на­
чальству. Поэтому воздействие искусства, особенно на моло­
дежь, нуждается в контроле со стороны философов-правите­
лей, созерцающих умом высшие истины.
До 30-летнего возраста философы изучают сродство всех
наук, а затем наиболее способные из них посвящаются в зна­
ние диалектики. Диалектикой (др.-греч. διαλεκτική) античные
греки называли искусство вести беседу, Платон же сделал из
диалектики божественную науку, доступную немногим. Под
ней он понимал постижение сути вещей посредством умопо­
стигаемого «узора» мысли, созданного из одних только мыс­
лей, без примеси ощущений.
В диалоге «Государство» Платон уделяет недостаточно вни­
мания правовому устройству власти в идеальном государстве.
Здесь упоминается лишь то, что оно может управляться ца­
рем или аристократами. В «Законах» Платон восполняет этот
пробел, подробно описывая органы и законы своего идеально­
го государства. Во главе стоит «Ночное собрание» из десяти
самых престарелых мудрецов, которые обладают столь совер­
шенным знанием, что могут принимать правильные решения
независимо от писаных законов, но согласно законам мораль­
ным и космическим.
Основная функция этого органа власти - охранительная,
но не в полицейском, а в духовно-нравственном смысле.
Однако для остальной части общества правовые нормы нуж­
ны, и эта потребность реализуется в таких выборных органах,
как коллегия из тридцати семи правителей и «совет тридцати
дюжин». Фактически соединяя в управлении идеальным го­
сударством аристократические (не по крови, а по заслугам)
и демократические (выборы по большинству голосов) элемен­
ты, поздний Платон реализует идею смешанной формы прав­
ления, плодотворно развитую впоследствии в «Политике»
Аристотеля.
Истинное законодательство, по Платону, должно не узако­
нивать, а предотвращать войну, прежде всего междоусобицу
54
Политические учения Древнего мира
между эллинами. Платон различает два вида разногласий: вой­
ну (греч. πόλεμος) и раздор (греч. στάσις). Раздор - это стычки
между эллинами, которые по природе своей суть друзья. Вой­
на же - это когда эллины сражаются с варварами как врагами
по природе. Для предотвращения гражданской междоусобицы
платоновский законодатель не ограничивается только разра­
боткой законов, но и заботится об их исполнении. Для этого
он должен «наблюдать людей во всех их взаимоотношениях,
интересоваться их скорбями и удовольствиями» (632 а).
Подобно тому как окружающие человека вещи суть лишь
несовершенные подражания идеям, так и существующие
виды государств - лишь извращенные копии идеального госу­
дарства. Среди таких копий Платон в «Государстве» выделя­
ет четыре: тимократию, олигархию, демократию и тиранию.
Каждый из этих видов государства закономерно вытекает из
менее порочного и переходит в более порочный вид. Причем
каждая форма государственного правления формирует свой
особый антропологический тип: тимократического, олигархи­
ческого, демократического и тиранического «человека».
На смену аристократии как власти наилучших (греч.
άριστος - лучший) приходит, по Платону, государство крит­
ско-лакедемонского типа, или «тимократия» (греч. τιμή —
цена, честь, почет). Особенностью тимократии является по­
литическое господство героического духа. Однако, становясь
все более коррумпированным, тимократическое государство
обесценивает политическую значимость героев. Постепенно
на уровне семей происходит ценностный сдвиг в пользу нако­
пления материальных богатств, а на уровне общества переход
к олигархии завершается введением высокого имущественно­
го ценза при занятии государственных должностей.
Олигархия (греч. ολίγος - немногий + αρχή - начальство,
власть) есть политическое господство денежного мешка. На
тимократию она похожа сохранением честолюбивых стрем­
лений, которые, однако, направлены теперь не на военные
подвиги, а на подвиги стяжательства. С демократией олигар­
хию роднит распущенность, которую олигархические прави55
Раздел I
тели допускают среди молодежи. Типичный «олигархический
человек» вполне еще бережлив, трудолюбив, даже в меру
справедлив. Но и у него появляются «наклонности трутня» стремление пожить за чужой счет. Переход к демократии на
уровне общества происходит через народный бунт, поскольку
имущественная поляризация населения раскалывает единый
полис на государство богачей и государство нищих.
Демократию Платон рисует в мрачных тонах, как наруше­
ние всех основных добродетелей государства. Во-первых, он
отождествляет ее с радикальной демократией, когда занятие
должностей осуществляется по жребию. Далее Платон харак­
теризует демократическую свободу как «возможность делать
что хочешь». В демократиях к руководству полисом приходят
случайные люди, воины не могут заниматься своим делом,
а среди трудового сословия царит беззаконие. Соответственно,
«демократический человек» - это «трутень», который прово­
дит жизнь в погоне за низменными наслаждениями и скло­
нен к грабежу чужого имущества. Но демократическая охота
на крупных собственников по принципу «отнять и поделить»
ведет к появлению демагогов, которые льстят толпе и превра­
щаются в тиранов. Так чрезмерная свобода при демократии
оборачивается чрезмерным рабством при тирании.
Тиранию Платон считает «крайним заболеванием государ­
ства». Тиран враждебен всем, кто разумен, мужественен, бо­
гат и свободен. В диалоге «Политик» он отличает «мягкое»
политическое попечение от тиранического попечения тех, кто
правит с помощью силы. Но и работу судей, полководцев, ора­
торов, прорицателей и т. д. Платон считает лишь инструмен­
том, а не частью государственного (полисного) управления.
Последнее Платон называет «искусством царского плетения»,
и состоит оно в способности соединения в «мягкую и ладно
сотканную ткань» различных сословий, профессий, нравов
и обычаев полиса (311 а-с).
В диалоге «Политик» Платон вносит серьезные коррективы
в свою классификацию форм государства. Все формы, откло­
няющиеся от совершенного государства (правления «истинно
56
Политические учения Древнего мира
знающих правителей», не нуждающихся в законах), Платон
разделяет здесь в зависимости от того, сколько людей правит:
один, несколько или большинство. Далее для каждого из этих
трех вариантов он выделяет две возможности в зависимости
от качества власти. Если монарх управляет согласно законам,
подражая сведущему правителю, он называется царем, а пра­
вящий беззаконно - тираном. Если с законами не считаются
те немногие, что находятся у власти, тогда это олигархия,
а если они, напротив, чтут законы, тогда их можно величать
аристократией, даже если они богаты. По сравнению с «Госу­
дарством» Платон чуть улучшает свое мнение о демократии,
называя этим именем и ту власть большинства, которая осу­
ществляется на основе законов. В «Законах» Платон сводит
все существующие формы государств к монархии и демокра­
тии как двум «материнским» видам государственного устрой­
ства, из которых возникают все остальные.
Хотя тирания, по Платону, есть самый извращенный вид
государства, парадоксальным образом в этом и ее преимуще­
ство: от власти тирана легче перейти к установлению совер­
шенного государства. Ведь тиран концентрирует в своих ру­
ках всю полноту власти, так что остается лишь передать ее
в руки философа-реформатора. Из этого убеждения Платон
черпал свою уверенность в осуществимости задуманного им
проекта идеального государства; отсюда же проистекали его
настойчивые попытки убедить сиракузских правителей при­
ступить к реформам по его образцу.
Мы знаем, как трагически для Платона закачивались эти
попытки. В лучшем случае философу удавалось вовремя уно­
сить ноги, в худшем - надеяться на друзей, выкупавших его
свободу на невольничьем рынке. Однако, с другой стороны,
можно представить себе человеческую цену платоновских ре­
форм, найди он понимание у какого-нибудь древнегреческого
тирана. Впрочем, из своих политических неудач великий фи­
лософ сделал один мудрый вывод: «Разумный человек дол­
жен жить, именно так относясь к своему государству: если
ему кажется, что оно управляется нехорошо, он дает совет -
57
Раздел I
в том случае, если ему не грозит опасность говорить впустую
либо, выступая с речами, подвергнуть себя угрозе смерти; со­
вершить же насилие над родиной в виде государственного пе­
реворота он не должен, если перемена к лучшему не может
совершиться без изгнания и истребления людей; ему нужно,
сохраняя спокойствие, молиться о благе для самого себя и для
государства» (331 d).
2.2. Политическая наука Аристотеля
Аристотель (др.-греч. Αριστοτέλης) (384-322 до н. э.) был
родом из Стагиры, греческого полиса, но с 17-летнего возрас­
та жил в Афинах, учился и преподавал там в платоновской
Академии. После смерти учителя много путешествовал, затем
был приглашен македонским царем Филиппом воспитывать
его сына - будущего Александра Великого. По возвращении
в Афины Аристотель основал свою собственную школу - «Ликей» (названа по имени храма Аполлона Ликейского). Поли­
тическое учение Аристотеля изложено прежде всего в тракта­
те «Политика» (др.-греч. Πολιτικά), но отчасти также в «Никомаховой этике» (др.-греч. Ηθικά Νικομάχεια) и «Афинской
политик» (др.-греч. Αθηναίων πολιτεία).
Хотя Аристотель во многом продолжает темы и подходы,
развитые поздним Платоном, он по стилю и методу мышления
существенно отличается от своего учителя. Если в платонов­
ских диалогах обнаруживается мифопоэтический, мечтатель­
ный склад ума, то в аристотелевских трактатах, напротив,
преобладает аналитика, сухо оперирующая фактами и аргу­
ментами. По своим политическим симпатиям учитель и уче­
ник также расходились: Платон со своим аристократическим
проектом идеального государства был радикальным критиком
демократии и всей предшествующей традиции; Аристотель,
напротив, был сторонником умеренной демократии, отвечаю­
щей обычаям данной страны. Законы, основанные на обычае,
имеют для Аристотеля большее значение, чем писаные зако­
ны и знающие правители, тогда как у Платона - все наобо58
Политические учения Древнего мира
рот. По этой причине Аристотель не приемлет реформаторско­
го радикализма своего учителя. Он призывает уважать опыт
столетий, подвергая суровой критике экстравагантный тезис
платоновского «Государства» об общности жен и имуществ.
Ведь упразднение частной собственности, убежден Аристо­
тель, не дает улучшения нравов; скорее, напротив, это ведет
к их порче. Во всяком случае, надо улучшать государство не
через учреждение совершенно новых отношений собственно­
сти, а путем воспитания добродетельных граждан. Не призна­
ет Аристотель и готовности своего учителя принести счастье
отдельного гражданина в жертву счастливому государству. По
убеждению Аристотеля, «невозможно сделать все государство
счастливым, если большинство его частей или хотя бы неко­
торые не будут наслаждаться счастьем» (1264 b 20)1.
За аристотелевской критикой проектов идеального госу­
дарства стояло неприятие философского идеализма Платона.
В «Никомаховой этике», явно намекая на платоновское «Госу­
дарство», Аристотель задается вопросом: а какая польза вра­
чу, лечащему «вот этого» человека, от знания «блага самого
по себе»? (1097 а 5). Вместе с тем и для Аристотеля конечной
целью всех наук и искусств является благо, причем высшее
благо является преимущественной целью «самой главной из
всех наук и искусств, именно политики». Государственным
благом является справедливость, т. е. то, что служит общей
пользе (1282 b 15). Право на власть обоснованно только тогда,
когда оно выражает общее благо граждан. Если же человек
обосновывает свою власть только ссылкой на то, что он самый
богатый, знатный или умный, его следует подвергнуть остра­
кизму - изгнать из полиса, лишив политических прав.
Аристотель критикует Платона за его стремление сделать
государство максимально единым; тем самым, по мнению
1 Здесь и далее цитаты из «Политики» и «Никомаховой этики»
Аристотеля приводятся по изданию: Аристотель. Сочинения: в 4 т.
М.: Мысль, 1983. Т. 4. В скобках указан номер соответствующего
фрагмента сочинения.
59
Раздел I
Аристотеля, нарушается мера единства людей, образующих
государство, «симфония заменяется унисоном», и теряется
суть отличия государства от других человеческих общностей,
к примеру от семьи. Между тем Аристотель подчеркивает,
что человек есть по природе своей существо политическое
(полисное), и только в государстве-полисе он может реали­
зовать свою уникальную способность выражать речью разум­
ные, нравственные принципы. Полис как целое предшествует
индивиду и семье. С другой стороны, государство как форму
общности следует отличать от межгосударственных (торговых
или военно-политических) союзов. Эти союзы создаются с це­
лью не вредить друг другу, тогда как части единого государ­
ства, сверх того, заботятся о благе друг друга. Для этого они
устанавливают общее законодательство и должностных лиц.
Но и этого мало. Государство, по словам Аристотеля, «созда­
ется не ради того только, чтобы жить, но преимущественно
для того, чтобы жить счастливо» (1280 а 30-35). В этих целях
возникают общие обряды, традиции и праздники, основанные
на взаимной любви и дружбе между гражданами.
Аристотель ставит в «Политике» вопрос о критериях граж­
данства, замечая, что само понятие гражданина зависит от
характера государственного строя и величины населения.
В принципе Аристотель считает обоснованным предостав­
ление гражданских прав только тем, кто участвует в суде
и в народном собрании. Но для этого у гражданина должен
быть досуг. У землепашцев и ремесленников такого досуга
нет, поэтому «наилучшее государство, - убежден Стагирит, не дает им гражданских прав». Метеки (переселившиеся в
данный полис чужеземцы) и женщины тоже исключаются из
состава граждан. Тем более не могут иметь гражданских прав
варвары и рабы (для Аристотеля эти понятия тождественные).
Аристотель считал, что «одни люди по природе свободны,
другие - рабы, и этим последним быть рабами и полезно,
и справедливо» (1255 a 1-5). Природное рабство Аристотель
оправдывает морально-интеллектуальным превосходством
одних людей (и даже целых народов, например греков над
60
Политические учения Древнего мира
варварами) над другими. Рабство может быть счастливым,
если раб и господин поддерживают дружеские отношения. Но
для этого рабов необходимо обучать «искусству рабства», рав­
но как и господам следует знать, как правильно пользовать­
ся рабами. Описываемое Аристотелем рабство носит патриар­
хальный характер, когда отношения «раб - господин» мысли­
лись как часть семьи, наряду с отношениями «муж - жена»
и «отцы - дети». Причем Аристотель отличает «монархиче­
скую» власть господина над рабами и детьми от «более пре­
красной» власти государственного мужа над женой и свобод­
ными гражданами. Если свободные граждане в силу каких-то
обстоятельств попадают в рабство, тогда это рабство лишь по
закону, т. е. человеческому установлению. Справедливость та­
кого рабства Аристотель ставит под сомнение. Одновременно
он выдвигает идею искусства охоты на тех людей, «которые,
будучи от природы предназначенными к подчинению, не же­
лают подчиняться» (1256 b 25).
Как и многих классиков античной политической мысли,
Аристотеля интересует вопрос о выборе оптимальной формы
управления полисом. В духе позднего Платона он называ­
ет формы правления, реализующие принцип общественной
пользы, правильными. К таковым он относит царскую власть,
аристократию и политию. Отклонениями от этих форм вы­
ступают, соответственно, тирания, олигархия и демократия.
В «Политике» Аристотель придает специальный смысл терми­
ну «полития»* (др.-греч. πολιτεία), который сам по себе значил
«государственное устройство, государство». Аристотелевская
же «полития» - это государственный строй, при котором на­
родная масса в состоянии подчиняться и властвовать на осно­
вании законов, распределяя должности среди состоятельных
людей согласно их заслугам (1288 а 15).
Такая власть возможна только в том случае, когда имеет
место смешение положительных качеств олигархии, аристо­
кратии и демократии. Если государством правят богатые, то
это еще не значит, что оно управляется плохо. Просто имен­
но богатство выступает здесь главным критерием при выборе
61
Раздел 1
должностных лиц. Богатство, добродетель и свобода суть, по
Аристотелю, равно значимые принципы. Однако далеко не
всегда они могут одновременно реализоваться в каком-либо
полисе. Отсюда неизбежное многообразие реально существую­
щих форм правления. В качестве причины разнообразия форм
правления Аристотель указывает также на три части государ­
ства: законосовещательные органы, работу должностных лиц
и суды. В своей «Истории политических учений» Б. Н. Чиче­
рин не без основания усматривал в этом положении аристоте­
левской «Политики» начатки теории разделения властей.
В целом по сравнению с Платоном Аристотель дает более
дифференцированную и реалистичную картину форм государ­
ственного правления. При этом он показывает относитель­
ность самого различия правильных и неправильных форм
государства. Однако относительность различий вовсе не озна­
чает несущественности данных различий. Все многообразие
правлений можно свести, по Аристотелю, к двум наиболее
часто встречающимся формам: демократии и олигархии. Ари­
стотель различает эти формы по трем категориальным крите­
риям: качеству, количеству и сущности (таблица).
Отличия демократии и олигархии
Критерий
Демократия - это
власть...
Олигархия — это
власть...
Количество
Большинства
Меньшинства
Качество
Бедных, необразо­
Образованных, богатых,
ванных, свободно­
свободнорожденных ,
рожденных, невоспи­
эгоистичных
танных
Сущность
Свободнорожденных
Богатых
По сути, Аристотель понимает демократию как власть сво­
боднорожденных, а олигархию - как власть богатых. Но мо­
гут встречаться нетипичные случаи обеих этих форм, к при­
меру олигархия, при которой власть принадлежит не мень62
Политические учения Древнего мира
шинству, а большинству, хотя общество, в котором большин­
ство - богачи, встречается крайне редко. С другой стороны,
можно представить себе и нетипичную демократию, в которой
меньшинство составляют свободнорожденные, а не богатые.
Для Аристотеля предпочтительнее, чтобы верховная
власть находилась в руках большинства, а не меньшинства,
даже если последнее состоит из наилучших граждан. Хотя
любой из посредственного большинства - хуже любого из
выдающегося меньшинства, все же большинство превосхо­
дит отдельных граждан благодаря своей совокупной деятель­
ности, подобно тому как обеды в складчину лучше обедов
в одиночку (1281 b 1-5). Но законодателю важно угадать
правильную меру власти, которой должно обладать большин­
ство. Небезопасно допускать любых представителей граж­
данской массы к занятию высших государственных должно­
стей, для которых требуются люди неординарные по своим
деловым и моральным качествам. С другой стороны, опасно
для государства иметь много политически бесправных бед­
няков. Поэтому Аристотель предлагает «золотую середину»
Солона: предоставить большинству обычных граждан право
участвовать в выборе должностных лиц, но их самих к заня­
тию должностей не допускать.
Таким образом, для Аристотеля вопрос о наилучшей фор­
ме правления сводится к вопросу о том, какую форму демо­
кратии следует предпочесть. Лучшая демократия - это устой­
чивая демократия, а таковой она может быть только в том
случае, если опирается на многочисленный класс средних
собственников. Только средний класс по-настоящему заинте­
ресован в равенстве перед законом. Напротив, богачи не мо­
гут смириться с тем, что их имущественное превосходство над
другими гражданами нельзя обменять на политико-правовые
привилегии, а бедняки нарушают закон, потому что, испы­
тывая нужду в самом необходимом, они стремятся дополнить
политическое равенство граждан уравнением их имущества.
В этих ложных представлениях о равенстве Аристотель ви­
дит главную причину государственных переворотов. Он рисует
63
Раздел I
дифференцированную картину государственных переворотов,
выделяя несколько их видов. Помимо прямого (часто драма­
тичного по форме) посягательства на власть первых лиц го­
сударства или на существующее государственное устройство,
могут быть и не всегда заметные перевороты, хотя они тоже
ведут к роковым последствиям для государства. Кто-то может
захотеть сделать более демократичной демократию, учреждая
или упраздняя какую-то должность, но если эта должность
является несущей конструкцией данного строя, тот немину­
емо рухнет, пусть и не сразу. Правда, Аристотель считал де­
мократический строй более безопасным, чем олигархический:
в олигархиях возникают как раздоры между олигархами, так
и олигархов - с народом, тогда как в демократиях - только
раздоры народа с олигархами, ибо «сам против себя народ
бунтовать не станет» (1302 а 10-13).
Помимо вопроса о наилучшей форме правления, Аристо­
тель, следуя Платону, ставит более широкий вопрос о наилуч­
шем (идеальном) государственном строе. Этот вопрос отражает
характерный для классической политической мысли принцип
единства этики и политики. Однако если для Платона централь­
ной этической категорией в описании идеального государства
было благо, то у Аристотеля - счастье (хотя условием счастья
выступает обладание всеми основными видами благ). В связи
с этим Аристотель развивает мысль позднего Платона о том,
что воспитание в духе законов совершенного государства долж­
но основываться на интересах мира, а не войны. Аристотель
замечает, что большинство государств, обращающих внимание
лишь на военную подготовку, держатся, пока ведут войны,
и гибнут, как только достигнут господства. Воюя, граждане
такого государства кажутся доблестными, а когда пользуются
миром и досугом, уподобляются рабам. Между тем досуг, как
и счастье, самодостаточен, в отличие от отдыха, который есть
средство для работы. Иметь свободное время и жажду удоволь­
ствий еще не значит пользоваться досугом. Чтобы досуг был
способом осуществления гражданской свободы, людей надо со­
ответствующим образом обучать и воспитывать.
64
Политические учения Древнего мира
2.3. Римско-эллинистические политические учения
Классическую политическую мысль Античности, верши­
ной которой являются учения Платона и Аристотеля, отли­
чает фундаментальный интерес к политике как публичному
пространству, как «делу народа», без которого социальное
бытие отдельного человека является по меньшей мере непол­
ноценным. Такое мировоззрение отвечало демократическому
духу полиса, где смысл личного политического участия был
для гражданина очевиден. Напротив, в эпоху эллинизма*
и Римской империи этот смысл исчезает.
Теперь главный философский интерес смещается в сторо­
ну отдельного человека, субъекта, противостоящего обществу
как чему-то не просто объективному, но чуждому. Это ведет
к радикальному изменению проблематики всей политической
философии; привычные вопросы о видах правления, о наилуч­
шей форме государства, о принципах справедливого законода­
тельства и т. д. теряют свое значение; все политические темы
приобретают моральный оттенок, этика становится главной
философской дисциплиной. Возникшие еще в классический
период философские школы - платоновская Академия и ари­
стотелевский Ликей - продолжали существовать, но уже не
они выражали дух эпохи. Конкуренцию им составляли стои­
цизм, эпикурейство и скептицизм.
Особенно заметен интерес к этической проблематике в поли­
тической философии стоиков. Основателем этой школы счи­
тают грека Зенона (336-264 до н. э.), обучавшего философии
в афинском портике под названием Стоа Пойкиле (др.-греч.
στοά ποικίλη). Сочинения Древней Стой (Зенона, Клеанфа, Хрисиппа и др.) утрачены, но можно реконструировать общий
смысл политической философии первых стоиков. В центре
стоической картины мира находится отдельный человек, ко­
торый уже не связан органически с полисом, его породившим;
зато теперь этому человеку открыт весь космос, частью кото­
рого он себя ощущает. Для Зенона космополис - это живое
тело, подчиненное Логосу или Судьбе, с которой бессмыслен65
Раздел I
но бороться. Добровольное подчинение судьбе рождает ощу­
щение счастья - эвдемонию (др.-греч. εν’δαιμονία). В этической
сфере такое подчинение значит исполнение долга. Долг опре­
деляет, быть философу политически активным или нет. Если
долг велит - он может и жизнь отдать ради принципов.
Зенону приписывают не дошедшее до нас сочинение «Госу­
дарство», в котором он выразил эту антиполисную и одновре­
менно космополисную (или «космополитическую») установку.
Другими словами, стоики переосмысливают само понятие по­
лиса: с одной стороны, они раздвигают его границы до космо­
са, а с другой - подменяют его политический (территориаль­
но-административный) смысл на смысл этический, метафизи­
ческий и в перспективе - религиозный. Вместе с переосмыс­
лением государства у стоиков меняется и смысл гражданства.
Космос - это сообщество (др.-греч. κοινωνία) людей и богов, их
общий град, в котором юридическое различие граждан и не­
граждан, свободных и рабов теряет смысл. Все люди равны от
рождения, равны перед смертью и равно подвластны судьбе.
Главные представители Поздней (Римской) Стой хорошо
иллюстрируют стоическое безразличие к социальным ран­
гам: Сенека был ученым, Эпиктет - рабом, а Марк Аврелий императором.
Сенека (около 4 до н. э. - 65 н. э.) развивает парадоксаль­
ное понятие свободы. С одной стороны, свобода есть осознанная
необходимость: согласного судьба ведет, несогласного тащит за
волосы. Перед судьбой все люди - «сотоварищи по рабству».
Но это только один лик свободы, обращенный к телесному
миру. Другой ее лик устремлен вовнутрь, в душу человека.
Эта «внутренняя часть (человеческого существа) не может быть
предметом обладания. Все, что исходит от нее, свободно...» [Се­
нека, 1995, с. 64]. С точки зрения «внутреннего человека» (вы­
ражение апостола Павла), все люди суть граждане вселенной
как естественного государства с его естественным законом. Эти
гражданство и закон реальны, хотя они и не закреплены печа­
тью; и они более важны для человека, чем гражданство и право
телесно представленных конкретных государств.
66
Политические учения Древнего мира
А как мог такой аполитизм разделяться «стоиком на тро­
не» Марком Аврелием (121-180 н. э.)? Ведь по долгу службы
он должен был не столько заниматься философией, сколько
стабилизировать огромную империю. Однако и стоицизм,
во-первых, имел отнюдь не революционный, а охранительный
пафос. А главное - к добросовестному исполнению своих обя­
занностей императора располагал стоический долг. Неважно,
кто ты - муж, гражданин, римлянин, император; ты должен
стоять на посту, ожидая звука трубы, который призовет тебя
к жизни [Котляревский, 1995, с. 408]. В правление Марка
Аврелия было запрещено жестокое обращение с рабами: кто
без причины убивал своего раба, отвечал не меньше, чем убив­
ший чужого раба. Император Антонин оказывал материаль­
ную поддержку основным философским школам, действовав­
шим в тогдашних Афинах: академикам, перипатетикам, сто­
икам и эпикурейцам.
Эпикурейство, получившее свое название от имени Эпику­
ра (341-270 до н. э.), тоже возникло в эпоху заката древнегре­
ческой цивилизации. Как и в стоицизме, главной частью эпи­
курейской философии является этика, а главным принципом
этики выступает индивидуальное удовольствие как «свобода
от телесных страданий и душевных тревог» [Материалисты...,
1955, с. 212]. Свободен тот, кто может быть ответственен за
разумный выбор, без ответственности нет свободы. Но за необ­
ходимость (судьбу) человек ответственности не несет. По-на­
стоящему свободным человек может быть только в частной
сфере, поэтому для человека главное жить не среди людей,
а в безопасности от людей, и государство Эпикур понимал как
некий договор людей о взаимной безопасности. С такой трак­
товкой государства тесно связано его понятие справедливости.
Эпикур говорил о «естественной» (происходящей от природы)
справедливости, которая есть «договор о полезном - с целью
не вредить друг другу» [там же, с. 217].
Проблема справедливости, поставленная Эпикуром, име­
ла продолжение в дальнейшей истории политической мысли.
В частности, ею занимались скептики, которых тоже от67
Раздел I
носят к типичным для поздней Античности философам.
В цицероновском диалоге «О государстве» скептицизм пред­
ставлен афинским философом Карнеадом Киренским (214129 до н. э.), который в 156 г. до н. э. прибыл в Рим в составе
так называемого «философского посольства», целью которого
было уговорить римский сенат не наказывать Афины за раз­
грабление греческого города Ароп. Карнеад произвел большое
впечатление на римскую молодежь своими яркими речами,
в которых он - как истинный скептик - с одинаковой убеди­
тельностью доказывал как тезис, так и антитезис. Это относи­
лось прежде всего к вопросу о справедливости.
Карнеад релятивизирует догматический тезис о существо­
вании внутренне непротиворечивой природной справедливо­
сти. Если реальные законы, по которым живут народы, уста­
навливаются на основе выгоды, поддерживаясь угрозой на­
казания, а не чувством справедливости, тогда естественного
права не существует. А если его нет, значит, справедливость
есть «величайшая нелепость, которая сама себе вредит, забо­
тясь о чужих выгодах» [Цицерон, 1994, с. 21]. Скандальный
вывод Карнеада гласил: «Не найдется государства, столь не­
разумного, чтобы оно не предпочло несправедливо повелевать,
а не быть в рабстве по справедливости» [там же, с. 28].
Как разрешить антиномию власти и справедливости?
Над этим вопросом размышлял и современник скептика
Карнеада - греческий историк Полибий (около 200 - около
120 до н. э.), автор многотомной «Всеобщей истории». Его
идея прагматической (политической) истории отражала пре­
вращение Рима в мировую державу, связывавшую в единое
смысловое пространство события Запада и Востока.
Для истории политической мысли Полибий интересен сво­
ей концепцией судьбы, в которой нашли отражение популяр­
ные в то время стоические мотивы. Греческий историк раз­
личает судьбу как капризный случай (др.-греч. тюхе (τύχη),
лат. fortuna) и судьбу как рок, удел (др.-греч. мойра (μοίρα),
лат. fatum). Позднее это различие сыграло существенную
роль в ренессансных политических учениях. У судьбы, по По68
Политические учения Древнего мира
либию, много лиц и ролей: она выступает как полновластная
правительница мира, устроительница исторической драмы,
основа естественной справедливости, синхронизатор истори­
ческих событий. Своим пониманием исторической судьбы По­
либий близко подходит к идее всемирной истории, но у него
история не является направленным в будущее процессом, ско­
рее, это цикл. Цикличность обнаруживает и учение Полибия
о государстве. Поступательное развитие форм правления име­
ет место только от «монархии», при которой господствует фи­
зическая сила, до царской власти, уже знающей моральные
категории. После этого начинается циклическое движение,
в ходе которого по очереди сменяют друг друга три правиль­
ные (царская власть, аристократия, демократия) и три непра­
вильные (тирания, олигархия, охлократия) формы правле­
ния. Полибий, однако, подчеркивает устойчивость смешанной
формы правления в отличие от круговорота простых форм.
Смешанное правление греческий историк понимает новатор­
ски, привлекая (помимо аристотелевских случаев Крита, Кар­
фагена и Спарты) материал из истории Рима.
Гораздо раньше Цицерона Полибий акцентирует три на­
чала (монархическое, аристократическое и демократическое)
в римском государственном устройстве.
Цицерон Марк Туллий (Cicero Marcus Tullius) (10643 до н. э.) - римский оратор, философ и политик. Его бле­
стящие речи в громких судебных процессах принесли ему
славу не только оратора, но и политика. Однако эпоха, в ко­
торой Цицерон начинал свою политическую карьеру, была
в Риме «эпохой перемен» - исторической драмой перехода от
республики к империи. Адвокатская практика Цицерона на­
чиналась в эпоху тирании Суллы (138-78 до н. э.), «бессроч­
ного» римского диктатора, организовавшего массовый тер­
рор на основе «проскрипций» (списков своих политических
врагов и им сочувствующих), а завершилась победой второ­
го триумвирата (Антония, Октавиана и Лепида). Отречение
в 79 г. до н. э. Суллы от власти и восстановление досулланской
конституции ознаменовалось наступлением «бабьего лета»
69
Раздел I
древнеримской республики - в процедурном плане демокра­
тического режима, где выборы высших должностных лиц
проходили на альтернативной основе. Социальной базой этой
демократии уже не мог быть populus растворившихся в Рим­
ском государстве автономных полисов; но и сельские жители
того времени связывали свои надежды не с витиями из сената
и народных собраний, а с военачальниками римской армии,
от которых они могли получить землю в обмен на службу. По­
этому реальной социальной основой поздней Римской респу­
блики оставался разве что деклассированный римский плебс,
ведущий паразитический образ жизни и готовый за деньги
кому угодно сформировать «бригаду для аплодисментов».
Цицерон-политик был частью этой эфемерной демократии.
Будучи в 63 г. до н. э. римским консулом, он, потакая же­
ланиям римских люмпенов, выступил против законопроекта
о наделении землей безземельных граждан. Но логика «хлеба
и зрелищ» настигла его и мертвого: когда по приказу мсти­
тельного Антония отрубленные части тела Цицерона (голо­
ва и руки, которыми он написал свои «Филиппики»*) были
выставлены в Риме на всеобщее обозрение, «посмотреть на
это, - свидетельствует античный историк Аппиан, - стекалось
больше народу, чем прежде послушать его» [Ковалев, 1949,
с. 399].
Свои основные политические произведения Цицерон на­
писал в годы вынужденного политического бездействия,
в период первого триумвирата (Помпей, Красс, Цезарь) и дик­
татуры Цезаря. К этим сочинениям относится диалог «О го­
сударстве» (лат. De re publica) (54-51 до н. э.) в 6 книгах
(сохранилась только часть произведения), диалог «О законах»
(лат. De Legibus) (51 до н. э.) в 5 книгах (сохранились цели­
ком только первые три), а также диалог «Об обязанностях»
(лат. De officiis) (45 до н. э.).
Для эффективного обсуждения политических дел Ци­
церон считал необходимой не только греческую «теорию»
(др.-греч. θεωρία), но и римскую «доблесть» (лат. virtus).
Римский философ ценил грубоватый опыт государственных
70
Политические учения Древнего мира
деятелей, «кто своим империем* и страхом перед карой по
закону заставляет всех людей делать то, к чему философы
своей речью могут склонить разве только немногих» (О госу­
дарстве, 1, II, З)1.
Теоретическое новаторство Цицерона в понимании государ­
ства часто связывают с крылатой фразой, которую он вложил
в уста Сципиона, героя своего диалога: «государство есть до­
стояние народа» (res publica est res populi). Английский ис­
следователь M. Скофилд следующим образом характеризует
оригинальность этого тезиса. Переведя греческий термин polis
как латинское res publica и определив его как res populi, то
есть как вещь некоторого populus (народа), Цицерон смог при­
влечь все вещественно-имущественные коннотации римско­
го права для формулировки простого основного тезиса: если
этот populus не полностью владеет и распоряжается своим res
(предметом, делом), то нет и республики [Хархордин, 2007].
Причем народ для Цицерона - это «не любое соединение лю­
дей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а со­
единение многих людей, связанных между собою согласием
в вопросах права (iuris consensu) и общностью интересов
(utilitatis communione sociatus)* (О государстве, 1, XXV, 39).
«Общность интересов» (иногда это выражение переводят
как «общность пользы») - это лишь телесная часть республи­
ки. Но чтобы республика жила, к телу надо добавить душу ♦ согласие в вопросах права». А чтобы это согласие возникло,
государство должно управляться советом (лат. consilium), ис­
ходящим «из той причины, которая породила гражданскую
общину (лат. civitas)* (О государстве, 1, XXVI, 41). Эту при­
чину Цицерон в духе аристотелевской «Политики» видит во
врожденной потребности людей жить вместе, даже при изоби­
лии всего необходимого (О государстве, 1, XXV, 39). Правда,
в отличие от греческого классика, Цицерон (в прагматичном
1 Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: Цицерон. Диало­
ги. М.: Ладомир: Наука, 1994. Первая цифра в скобках указывает
на книгу, вторая - на главу, третья - на фрагмент главы.
71
Раздел I
римском духе) делает акцент не на счастье совместного досу­
га, а на пользе справедливых законов. Поэтому не случайно
упомянутая «связь» толкуется у него именно как «узы зако­
на» (лат. vinculum iuris).
Изначальная связь, объединяющая людей в государство
(civitas - res publica), может быть реализована, по мысли
римского философа, в разных формах правления. Вслед за
Платоном и Аристотелем Цицерон выделяет три правильных
(царская власть, аристократия, или власть оптиматов, демо­
кратия) и три неправильных (тирания монарха, олигархия,
или клика, тирания народа, или анархия) типа правления.
Римский философ отмечает достоинства каждой из трех пра­
вильных форм правления, но наибольшего одобрения у него
заслуживает строй, образованный путем равномерного смеше­
ния трех этих форм. Причем из всех смешанных правлений
лучшим Цицерон считает Римскую республику, в которой
монархическое начало (власть консулов) уравновешивается
аристократическим сенатом и демократической властью на­
родных собраний.
Но даже римский образец смешанного правления не реша­
ет вопроса, который ставит скептик Карнеад: как сделать так,
чтобы справедливость не исключала благоразумие? Цицерон и здесь он уже дитя своего времени - видит разрешение про­
блемы справедливости в упомянутом выше «естественном
законе» стоиков. В нем формулируется абсолютное отличие
добра и зла, он есть мерило для писаных законов. Поэтому,
по мнению Цицерона, пагубные постановления народов так
же мало заслуживают названия законов, как и единодушно
принятые решения шайки разбойников (О законах, 2, V, 13).
Естественный закон - это для стоиков скорее философский,
чем религиозный принцип. Сенека, в какой-то мере предвос­
хищая учение Аврелия Августина о двух градах, различает
государство вселенское, включающее всех людей и богов,
и государство локальное, охватывающее только какую-то че­
ловеческую группу. Но он еще далек от идеи христианского
Бога-личности. Цицерон же, напротив, вплотную подходит к
72
Политические учения Древнего мира
этой идее, когда пишет об «одном общем как бы наставнике
и повелителе всех людей - боге, создателе, судье» (О государ­
стве, 3, XXII, 33), который выступает автором упомянутого
естественного закона.
Развитие этой идеи, выходя за рамки античной филосо­
фии, ведет к христианству и первой форме христианской уче­
ности - патристике.
2.4. Морально-политические воззрения первых христиан.
Латинская патристика
Политическая сила христианства была в новой морали.
С одной стороны, эта мораль отличалась от ветхозаветных
нравов своим космополитизмом: в ней «нет уже ни иудея, ни
язычника» (Гал. 3:28)'. С другой стороны, мораль христиан
была противоположна нравам имперского Рима, основанным,
скорее, на культе силы и наслаждений, чем на традицион­
ных римских добродетелях: свободе (libertas), справедливо­
сти (iustitia), честности (fides), почтении (pietas) и др. [Кнабе,
1986, с. 20-21]. Первоначальное христианство возносит «жи­
вотворящий дух веры, действующей любовью», в противопо­
ложность мертвой букве ветхозаветной ритуальности и эллин­
ской мудрости.
Далее мораль христиан покоится на различии «внутрен­
него» (духовного) (Еф. 3:16) и «внешнего» (плотского) чело­
века. Подлинная жизнь христианина - это жизнь «внутрен­
него человека», который «сораспялся Христу», а потому стал
«новой тварью»: «уже не я живу, но живет во мне Христос»
(Гал. 2:21). Христианин может быть по-настоящему свободен
только как «внутренний человек» («где Дух Господень, там
свобода» (2 Кор. 3:17)). Отсюда вытекает бессмысленность лю­
бого сопротивления рабству по закону: «Рабы, повинуйтесь
1 Здесь и далее при цитировании Нового Завета в скобках ука­
зывается сокращенное название Евангелия или Послания апостола
Павла, а также номер его раздела согласно синодальному изданию.
73
Раздел I
господам своим по плоти со страхом и трепетом, в просто­
те сердца вашего, как Христу, не с видимою только услуж­
ливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы»
(Еф. 6:5-6).
Политические установки первых христиан зависели
от их положения в Римской империи. Первые христиане
(Ι-П в. н. э.), гонимые римскими властями, воспринимали
Римское государство как «Вавилон великий, мать блудницам
и мерзостям земным» (Откр. 17:5). Ожидалось, что возмездие
свыше уже не за горами, поэтому первые христиане не видели
особого смысла в устойчивой церковной организации.
Но по мере того, как ожидания скорого пришествия Спаси­
теля не оправдывались, а на сторону христианства переходило
все больше представителей господствующего класса римского
общества, «апостольская» церковь становится «епископаль­
ной»: место эгалитарно-демократического духа странствую­
щих проповедников занимала церковная иерархия, монопо­
лизирующая право на толкование священного писания («вне
церкви нет спасения»). Некогда единая община верующих
раскалывается на клир и мирян, причем клир превращается
в крупного собственника с политическими амбициями. Одно­
временно меняется положение христиан в римском обществе:
из гонимой, или «страннической» церкви (Ecclesia peregrine)
они превращаются в церковь «торжествующую» (Ecclesia
triumpans).
Христианство начинает идеологически доминировать уже
в лоне Римского государства. Параллельно с этим продви­
галось признание христианской церкви имперской властью:
в 313 г. император Константин (277-337 н. э.) издал Милан­
ский эдикт, даровавший империи свободу вероисповедания
и вернувший христианам все гражданские и религиозные
права, а в 380 г. христианство становится государственной
религией Рима («Эдикт о кафолической вере»). Идеологиче­
скому влиянию христианства способствовала и его внутрен­
няя консолидация, выразившаяся в догматизации учения
(«Никейский символ веры»*) и становлении церковной иерар74
Политические учения Древнего мира
хии. Причем христианство довольно быстро распространялось
по всей территории империи. В западной ее части в период
IV-VI вв. были христианизированы франки, вестготы, лан­
гобарды, образовавшие свои варварские государства. И хотя
христианство было альтернативой античному духу, выросло
оно на культурной почве римской государственности, став
формой сохранения и развития европейской цивилизации.
Об этом, помимо прочего, свидетельствует сложный философ­
ско-идеологический синтез, образовавшийся в позднем антич­
ном обществе.
С одной стороны, это общество еще рождало высокие образ­
цы собственно античной духовной культуры, к примеру, мощ­
ные философские школы стоиков, гностиков*, неоплатони­
ков*. С другой же стороны, греческая ученость вступала в ак­
тивное взаимодействие с быстро развивавшейся христианской
философией. Это был период драматичных мировоззренческих
решений, когда многие представители интеллектуальной эли­
ты римского общества делали выбор в пользу христианства,
сводя счеты со своим «языческим» образованием. «Исповедь»
Аврелия Августина - одно из самых ярких свидетельств тако­
го рода, как и судьба императора Константина, перед смертью
обращенного в христианского «раба Божьего», но обожествлен­
ного по языческим традициям Рима.
Политическая культура Античности упраздняла себя по­
степенно: рядом с опустевшими театрами, этими ристалища­
ми дерзкой политической мысли, возводились христианские
храмы, где учили кротости и послушанию: «Всех почитайте,
братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» (1 Петр. 2:17).
На смену античной соревновательности тел и умов прихо­
дили христианские подвиги укрощения плоти и вольного
духа. Последние Олимпийские игры Античности состоялись
в 395 г., а в 529 г. император Юстиниан закрывает афинскую
Академию, просуществовавшую девять веков после ее основа­
ния великим Платоном.
На Западе Ромул Августул в 476 г. символически замыкает
исторический цикл Древнего Рима, открытого легендарным
75
Раздел I
Ромулом. И хотя на Востоке «ромейская» традиция продол­
жалась Византией, изнутри она уже покоилась на «подрос­
шей» под нее христианской картине мира.
Историки отмечают «тот курьезный факт, что философия
Средневековья не только начинается в Античном мире, но
имеет в нем и свою классику - патристику» [Майоров, 1979,
с. 9]. Патристикой (от лат. pater - отец) называют христи­
анские учения «отцов церкви» периода II-VI вв., в которых
осуществляется критическая переработка античного духовно­
го наследия на доктринальной основе христианства.
В патристике выделяют отцов церкви, писавших по-гре­
чески, и латинских авторов. О политических идеях в рамках
греческой патристики подробнее будет сказано в разделе, по­
священном политической мысли Византии. В целом же сле­
дует заметить, что «отцы церкви» решали двуединую задачу
апологии и систематизации христианского учения. Соответ­
ственно, представителей патристики разделяют на «апологе­
тов» и «систематиков».
На Востоке апологетика Марциана Аристида (вторая по­
ловина I - первая половина II в.) и Квадрата (Кодрата) (вто­
рая половина I - первая половина II в.), Юстина (100-167)
и Татиана (вторая половина II в.), Афинагора (вторая поло­
вина II в.) и Теофила (вторая половина II в.), Иринея (око­
ло 130 - около 202) и Ипполита (конец II - начало III в.)
способствовала возникновению теологических спекуляций в
Александрийской школе катехетов (Афанасий (около 295 373), Климент (около 150-215), Ориген (около 185 - 254)),
а также в Каппадокийской школе (Василий Кесарийский (око­
ло 330 - 379), Григорий Назианзин (329-389), Григорий Нис­
ский (около 335 - около 394)). В западной патристике первые
латиноязычные апологеты в лице Минуция Феликса (между
II и III вв.), Лактанция (около 250 - после 330) и Квинта
Тертуллиана (около 160 - около 230) предшествовали тео­
логическим построениям Амвросия Медиоланского (около
340-397), Иеронима Стридонского (342-419/420) и Аврелия
Августина (354-430).
76
Политические учения Древнего мира
Апологеты защищали христианство на интеллектуальном
поприще, доказывая его превосходство над языческой (антич­
ной) ученостью. При этом восточная христианская апологе­
тика, в отличие от прагматически ориентированной западной
патристики, была настроена к греческой философии в целом
более благосклонно.
В частности, Юстин Философ (Ιουστίνος ό Φιλόσοφος) (100167) в первой из двух своих «Апологий», адресованных им­
ператору Антонию, повторяет главный тезис платоновского
диалога о власти философов как условии благоденствующего
государства. Правда, способность к философствованию Юстин
распространяет не только на отдельных правителей, но и на
целые народы. В этом выражается демократизм первоначаль­
ного христианства как идеологии социальных низов.
Данный сюжет получил развитие у Татиана (Tatianus)
(вторая половина II в.), ученика Юстина. В своей «Речи,
обращенной к грекам» Татиан противопоставляет античной
мудрости христианское откровение, сближая его с романтизи­
рованной простотой «мудрости варваров». С этих позиций он
критикует Аристотеля, который в своих этических трактатах
отказывал простому люду (ремесленникам и земледельцам) в
праве на счастье, а в «Политике» - в гражданских правах.
Э. Жильсон усматривает в сочинениях Татиана идею полити­
ческого освобождения посредством теократии* [Gilson, 1954,
р. 15].
В отличие от грекоязычной апологетики, стиль латино­
язычных апологетов был скорее практического, чем спекуля­
тивного склада. В своем диалоге «Октавий», написанном под
влиянием Цицерона, один из первых латинских апологетов
Муниций Феликс обращается к политически острой теме го­
сударственной «измены» христианства в отношении Римской
империи. С таким обвинением выступает герой диалога Це­
цилий, утверждая, что с опорой на языческую религию Рим
покорил весь мир, тогда как христианство непатриотично:
изменяя общественным богам, оно изменяет своему государ­
ству. На это Муниций и его единомышленник Октавий заме­
77
Раздел I
чают, что для одних подданных Римской империи победы ее
оружия значили свободу и богатство, для других - рабство
и нищету. И для этих последних империя была не родиной, а
вражеской территорией.
Но еще больше, чем Феликс, бескомпромиссен к античной
культуре Квинт Тертуллиан (лат. Quintus Septimius Florens
Tertullianus) (около 160 - около 230). В ней он видит лишь
извращение всех естественных наклонностей человека: запу­
тывающую философию, развращающую мораль, оскорбляю­
щую религию. Средневековая традиция приписала Тертулли­
ану изречение, ставшее его «визитной карточкой»: «Верую,
потому что абсурдно» (Credo quia absurdum est). Действитель­
но, такая мысль (хотя выраженная несколько иными слова­
ми) присутствует в трактате Тертуллиана «О плоти Христа»1.
Для латинского апологета истины божественного откровения
кажутся нелепыми, поскольку превосходят возможности че­
ловеческого разумения. Подобно Татиану, Тертуллиан проти­
вопоставляет «лукавой» философии греков «неиспорченную»
науками душу простонародья, изначально содержащую в себе
кладезь истинно христианской веры.
Отказывая философскому и вообще человеческому разуму
в постижении истин Евангелия, Тертуллиан тем больше воз­
вышает авторитет церкви, получающей монополию на исти­
ны откровения. Эти истины соборны, т. е. собраны воедино
из мнений всех апостолических церквей. Отсюда рождался
догмат о главенстве и непогрешимости римского папы как
престолонаследника первого апостола Петра. И хотя сам Тер­
туллиан в конце жизни раскаялся в своей фетишизации цер­
ковной бюрократии, обратившись к монтанизму*, его идеи
вдохновляли не одно поколение иерархов римско-католиче­
ской церкви.
1 «И умер сын Божий; это достойно веры, так как нелепо. И по­
гребен, и воскрес; это достоверно, так как невозможно» («Et mortuus
est dei filius; prorsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus
resurrexit; certum est, quia impossibile est» [Tertullian, 1956] (курсив
наш. - С. Π.).
78
Политические учения Древнего мира
Тертуллиан разделяет человеческое общество на «лагерь
дьявола» (castra diabolic) и «лагерь бога» (castra dei).
«Лагерь бога» - это церковная община христиан, управляе­
мая небесными (духовными) ценностями. «Лагерь дьявола» это языческая империя, лишенная истинного Бога, почита­
ющая только плотские (ничтожные) ценности. Дьявольский
лагерь Тертуллиан называет термином «saeculum» (отсюда
современный термин «секулярный»), в котором выразились
смыслы суетности преходящей человеческой жизни, грешной
«похоти господствования» (выражение А. Августина).
Тертуллиан унижал человека до плотского ничтожества,
чтобы возвысить Бога до абсолютного совершенства. Тем са­
мым он отчасти предвосхищает тезис Аврелия Августина:
«Когда человек живет по человеку, а не по Богу, он подобен
дьяволу» (14, IV)1. В этом заключалось существенное отличие
латинской патристики от христианского гуманизма греко­
язычных апологетов, в особенности от византийских система­
тиков вроде Григория Нисского.
Августин Блаженный Аврелий (лат. Aurelius Augustinus
Hipponensis) (354-430) является главным представителем
того периода патристики, который отмечен возникновением
первых теологических систем. Это отвечало изменившемуся
статусу христианской церкви в Римской империи, ее превра­
щению в государственную религию. Как остроумно заметил
Г. Г. Майоров, отцы церкви «торжествующей», как правило,
видели в мире больше гармонии и порядка, чем отцы церкви
«гонимой» [Майоров, 1979, с. 30].
Отмеченный выше прагматический уклон всей латинской
патристики нашел яркое выражение в августиновском сочи­
нении «О граде Божием» (De civitate Dei). Поводом к напи­
санию этого трактата стало разграбление Рима вестготами
1 Здесь и далее цитаты из сочинения А. Августина «О граде Бо­
жием» приводятся по изданию: Августин Блаженный. О граде Бо­
жием. Минск: Харвест; М.: ACT, 2000. Первая цифра в скобках ука­
зывает на книгу, вторая - на главу.
79
Раздел I
в 410 г. - событие, в котором приверженцы старого порядка
обвиняли и «непатриотичных» христиан. В ответ Августин
защищает свою церковь, подвергая анализу подлинные при­
чины слабости империи.
Прежде всего, Августин отвергает тезис о том, что при­
чиной расцвета Рима стало покровительство римских богов.
Ссылаясь на могущество Ассирийского царства, которое сде­
лалось великим и без римского пантеона, Августин видит
истинную причину величия Рима в Божественном провиде­
нии, которое позволяло мужественным римлянам выигрывать
справедливые войны. Что же касается языческих культов, то
их Августин считает либо выдумкой людей, за которой стоит
властный политический интерес, либо происками реально су­
ществующих демонов.
Центральным в социальной философии Августина являет­
ся учение о двух способах жизни: «по Богу» и «по челове­
ку». Жить «по человеку» значит не столько «жить по пло­
ти», сколько проявлять злую волю, гордыню, уклониться от
Бога как первоначала. В этом проявляется родство «жизни
по человеку» с дьяволом. «Жить по Богу» значит проявлять
добрую (благую) волю. Ее Августин - в евангельском духе определяет как способность «любить Бога, и не по человеку,
а по Богу любить ближнего, как самого себя» (14, VII). Имен­
но двумя родами любви созданы, по Августину, два града:
«небесный (civitas coelistis) - любовью к Богу, дошедшей до
презрения к себе», и «земной (civitas terristis) - любовью
к себе, дошедшей до презрения к Богу» (14, XXVIII). Первый
живет надеждой на Бога, второй - действительностью своего
века. Первому граду предназначено вечно царствовать с Бо­
гом, а другому - подвергнуться вечному наказанию с дьяво­
лом.
У Августина - в отличие от циклических жизнеописаний
греческих историков - ясно выражена идея исторической
прямой, пролегающей через две точки в жизни рода челове­
ческого: грехопадение и Страшный суд. И пока длится чело­
веческая история, два «града» сосуществуют друг с другом.
80
Политические учения Древнего мира
Церковь Христова «проводит как бы плененную жизнь своего
странствования в областях земного града» (19, XVII), но при
этом она должна без колебания повиноваться законам земного
града, дабы сохранять между двумя градами согласие.
Во взаимоотношениях с государством (как земным градом)
церковь (как небесный град в земном странствии) должна при­
держиваться как минимум двух принципов: 1) пользовать­
ся, но не наслаждаться; 2) сосуществовать, но не сливаться.
Общую стратегию церкви Августин описывает так: «Итак, этот
небесный град, пока он находится в земном странствовании,
призывает граждан из всех народов и набирает странствую­
щее общество во всех языках, не придавая значения тому, что
есть различного в нравах, законах и учреждениях, которыми
мир земной устанавливается или поддерживается; ничего из
последнего не отменяя и не разрушая, а, напротив, сохраняя
и соблюдая все, что хотя у разных народов и различно, но на­
правляется к одной и той же цели земного мира, если только
не препятствует религии, которая учит почитанию единого
высочайшего и истинного Бога» (19, XVII).
Как бы полемизируя с Тертуллианом, Августин замеча­
ет, что человек, живущий по Богу, «не должен ради поро­
ка ненавидеть человека... но должен он порок ненавидеть,
а человека - любить» (14, VI). Государство Августин считал
естественным для человеческой истории институтом, видел
в нем полезное средство поддержания земного порядка, хотя
и в большей мере, чем Фома Аквинский, подчеркивал его ре­
прессивный и преходящий характер.
Августин оговаривается, что под выражением «два града»
он подразумевает не какие-то реальные города или городские
союзы, но символико-мистическое обозначение двух «родов»,
или сообществ людей: живущих по человеку и живущих по
Богу. Напротив, эмпирически реальными являются для него
следующие виды земных сообществ, образующие разные сте­
пени человеческого общения: 1) семья (familia)·, 2) град (по­
лис) (civitas); 3) государство (regnum) (как союз городов-госу­
дарств во главе с повелевающим полисом или как империя
81
Раздел I
(imperium)). В силу греховности человека все три названных
вида сообществ неизбежно рождают господство человека над
человеком. Но «во всяком случае лучше быть рабом у челове­
ка, чем у похоти» (19, XV).
Рассматривая семью как «начало или частичку града»,
Августин различает два типа управления, один из которых
проистекает из «гордого начальственного положения», а вто­
рой - из «сострадающей предусмотрительности» (на основе
любви и обязанности заботиться) (19, XIV). Основой мира в
семье и граде является именно второй тип власти-управления.
Политически важным в августиновской типологии земных
сообществ является различие между полисом и империей. Ве­
личие и обширность империй морально обесцениваются в гла­
зах христианского теолога несчастьем населяющих их людей,
отчужденных друг от друга языками, раздорами, войнами.
Идеалом всех земных форм человеческого общения является
мир. Но этот идеал недостижим, поскольку реальное челове­
ческое общение не знает истинной справедливости. А «при от­
сутствии справедливости, что такое государства, как не боль­
шие разбойничьи шайки?» (4, IV).
В связи с категорией справедливости Августин заявляет,
что Римской республики в цицероновском смысле никогда не
существовало, потому что в ней не было «множества людей,
объединенных согласием в праве и общей пользой» (19, XXI).
Ведь права, говорил Цицерон, не может быть без истинной
справедливости. А таковую, по убеждению Августина, может
дать только вера в истинного Бога. Чтобы признать за Рим­
ской республикой право на существование, Августин опре­
деляет народ иначе - как «собрание разумной толпы, объе­
диненной некоторой общностью вещей, которые она любит»
(19, XXIV). Если у Цицерона основой «согласия в праве» (iuris
consensus) как определяющего признака республики выступа­
ют «узы закона» (vinculum iuris), то у Августина такой связ­
кой и одновременно отличительным признаком града Божьего
выступает христианская любовь (amor, caritas, dilectio). Эта
любовь есть благая воля, правилом которой выступает «лю82
Политические учения Древнего мира
бить Бога, и не по человеку, а по Богу любить ближнего, как
самого себя» (14, VII).
Как и для апостола Павла, принцип христианской любви
стоит для Августина выше знания и веры. Из «правильной»
любви к миру рождается вера, способная его познать. Если
Тертуллиан говорит: «это достойно веры, так как нелепо», то
Августин Блаженный утверждает: «верую, чтобы понимать»
(credo ut intelligam). Другими словами, Августин считал воз­
можным оправдание веры разумом, не видел между ними
принципиального противоречия, указывая тем самым путь в
сторону схоластической традиции, достигшей своей вершины
у Фомы Аквинского.
Контрольные вопросы задания
1. В чем состоит значение реформ Солона для установле­
ния демократического порядка в древних Афинах?
2. Каким образом софисты выразили дух древнегреческой
полисной демократии?
3. Каковы принципы классификации форм государствен­
ного правления в диалогах Платона?
4. На каких философских принципах построено платонов­
ское учение об идеальном государстве?
5. Каковы концептуальные основы аристотелевского тези­
са о человеке как «политическом (полисном) существе»?
6. Каковы, по Аристотелю, условия устойчивой демокра­
тии? Почему «государство средних» - наилучшее?
7. Как, согласно Аристотелю, различаются демократия
и олигархия по критериям качества, количества и сущности?
8. Что объединяет политические учения стоиков, эпику­
рейцев и скептиков?
9. Как бы вы охарактеризовали теоретическое новатор­
ство Цицерона в понимании государства?
10. Сформулируйте в нескольких тезисах суть учения
Аврелия Августина о граде земном и небесном.
83
Раздел I
Темы эссе и рефератов
1. Основные институты афинской демократии и древне­
римской республики: сравнительный анализ.
2. Платон о специфике «политического попечения».
3. «Законы» Платона: основные принципы правильного за­
конодательства.
4. Аристотель о политической роли воспитания, обучения
и досуга граждан.
5. Аристотель об общих причинах, поводах, методах и фор­
мах государственных переворотов.
6. Жизнь ради республики: Цицерон как мыслитель и по­
литик.
7. Мессианско-эсхатологические черты христианского иде­
ала свободы.
8. Критика Августином античной (языческой) духовности.
Литература
1. Августин Блаженный. О граде Божием. Минск: Харвест;
М.: ACT, 2000.
2. Антология мировой философии: в 4 т. М.: Мысль, 1969.
Т. 1, ч. 1.
3. Аристотель. Никомахова этика. Политика // Сочине­
ния: в 4. М.: Мысль, 1983. Т. 4.
4. Васильев Л. С. История Востока: в 2 т. М.: Высшая шко­
ла, 2001. Т. 1.
5. Вулих Н. В. Феномен Рима в интерпретации В. Пешля //
Вестник Древней Истории. 1996. № 4.
6. История Древнего Рима / под ред. В. И. Кузищина. М.:
Высшая школа, 2000.
7. Кнабе Г. С. Древний Рим - история и повседневность.
М.: Искусство, 1986.
8. Ковалев С. И. Марк Туллий Цицерон // Письма Марка
Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бру­
ту. Т. 1. Годы 68-51. Л.: Изд-во АН СССР, 1949.
84
Политические учения Древнего мира
9. Котляревский С. А. Марк Аврелий // Римские стоики:
Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М.: Республика, 1995.
10. Майоров Г. Г. Формирование средневековой филосо­
фии. Латинская патристика. М.: Мысль, 1979.
11. Марк Аврелий Антонин. Размышления. Л.: Наука,
1985.
12. Цицерон. Диалоги. М.: Ладомир: Наука, 1994.
13. Материалисты Древней Греции. М.: Госполитиздат,
1955.
14. Платон. Государство // Филеб, Государство, Тимей,
Критий. М.: Мысль, 1999. С. 79-420.
15. Платон. Законы. М.: Мысль, 1994.
16. Полибий. Всеобщая история. М.: Олма-Пресс Инвест,
2004.
17. Сенека. О благодеяниях // Римские стоики: Сенека,
Эпиктет, Марк Аврелий. М.: Республика, 1995.
18. Хархордин О. Была ли res publica вещью? // Неприкос­
новенный запас. 2007. № 5 (55). URL: http://magazines.russ.
ru/nz/2007/55/halO.html.
19. Gilson Е. History of Christian Philosophy in the Middle
Ages. N. Y.: Random House, 1954.
20. Tertullian: De Carne Christi [Tertullian’s Treatise on the
Incarnation] / Ed. & trans, by E. Evans. London: SPCK, 1956.
85
РАЗДЕЛ II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Глава 3. Политические учения в странах
арабо-мусульманского Востока
3.1. Истоки арабо мусульманской политической мысли
Средневековые политические учения арабского Восто­
ка неразрывно связаны с началом распространения ислама
и именем пророка Мухаммеда (571-632). Главным источни­
ком исламского вероучения является Коран. В первоначаль­
ный период он сохранялся в устной традиции. Как книга Ко­
ран был собран только через несколько десятков лет после
смерти пророка. Священная книга мусульман состоит из сур
(глав) и аятов (стихов). Аяты не расположены в хронологиче­
ском порядке, так как они, согласно преданиям, ниспосыла­
лись пророку Мухаммеду. Интерпретация главного священно­
го текста заняла особое место в политических учениях араб­
ского Востока. В начале IX в. возникает наука о толковании
Корана - тафсир. Второй источник вероучения - это Сунна,
которая основана на хадисах - преданиях о пророке Мухам­
меде, его поступках, словах и т. д. Собирание хадисов растя­
нулось на столетия. Сунна - второй важнейший источник ре­
лигиозного вероучения для мусульман. Именно от этого наи­
менования возникает наиболее распространенное исламское
течение - суннизм.
Согласно исламскому вероучению, лишь Аллах является
высшим обладателем власти: «Аллаху принадлежит власть
над небесами и землей, и Аллах над всем сущим властен»
(сура 3, аят 189) [Коран, 1995, с. 62]. В Коране присутствует
понятие халифа - наместника Аллаха на земле. Встречаются
и другие определения, связанные с властью: амиры - прика­
зывающие, т. е. обладающие властью; имамы - предстояте­
ли на молитве и руководители общины; малики - владельцы
имущества, собственники; султаны - обладающие властью
86
Политические учения Средневековья
на определенной территории и т. д. В главном первоисточ­
нике отсутствуют такие понятия, как давлят (государство)
или джумхурият (республика). В религиозно-политических
концепциях они закрепились значительно позднее. В этом
отношении четкой политико-правовой концепции в главном
священном тексте ислама не прослеживается. Однако кора­
нический тезис о необходимости властного подчинения при­
сутствует: «О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху,
повинуйтесь Посланнику и носителям власти среди вас» (сура
4, аят 59) [Коран, 1995, с. 81].
Особое значение в священном писании приобретает ис­
ламская умма - понятие, которое обозначает всю совокуп­
ность мусульман в виде единой религиозной общности.
Важную роль играют принципы мусульманского братства.
Все мусульмане - братья, подобный тезис в исламских веро­
учительных текстах повторяется многократно. В этом отно­
шении исламская социально-политическая доктрина носит
наднациональный характер. Мусульманин живет в общине джамаате. Это ячейка мусульманской уммы, и значение
здесь имеет не этническое происхождение его членов, а един­
ство веры и религии. В исламских первоисточниках просле­
живается достаточно терпимое отношение к христианству
и иудаизму. Согласно Корану эти конфессии относятся
к ахль аль-китаб - обладателям писания - и так же, как
ислам, исповедуют единобожие.
После смерти пророка Мухаммеда мусульманскую общи­
ну возглавляют его ближайшие сподвижники. Это начало
активного расширения влияния ислама. Первоначальный
этап развития исламского государства включает в себя пери­
од первых четырех халифов.' Абу Бакра (632-634 гг.), Умара
(634-644 гг.), Усмана (644-656 гг.) и Али (656-661 гг.). Их
назначение осуществлялось на основе совещательного прин­
ципа. Речь идет о так называемой «шуре» - совете из наи­
более авторитетных членов общины. Халиф становился на­
местником Аллаха на земле, получал титул праведного и со­
средоточивал у себя всю полноту власти. В первую очередь
87
Раздел II
речь идет об исполнительной и судебной власти, а закон,
в соответствии с основами вероучения, был ниспослан Алла­
хом в виде коранического писания. Правление четырех пра­
ведных халифов значительной частью богословов интерпрети­
руется как золотое время исламской государственности, как
идеальная форма политической организации.
Конец этой эпохи происходит в результате нарастания про­
тиворечий внутри исламской общины. Основополагающим
вопросом становится спор о власти. Часть мусульман отка­
зывается от совещательного принципа в избрании халифа из
среды ближайших сподвижников пророка. Именно это раз­
делило мусульман на два основополагающих религиозно-по­
литических течения - шиизм и суннизм. Шииты (от араб,
«шиа» - партия) верят в посланническую миссию пророка.
Отличительной чертой шиизма является положение, что ру­
ководство мусульманской общиной должно принадлежать не
выбранным лицам из достойных, а избранным лицам из чис­
ла потомков пророка. Речь идет о двоюродном брате проро­
ка, четвертом халифе Али. Он был женат на дочери пророка,
и именно потомки по данной линии должны, по мнению ши­
итов, взять на себя ответственность по руководству общиной
мусульман.
Если сунниты ориентируются на концепцию халифа как
наместника Аллаха на земле, то шииты сконцентрировали
свое внимание на теории имамата. Фактически в шиизме
избрание лидера мусульманской общины является прерога­
тивой Аллаха. Если халиф избирался людьми, то имам на­
значался Аллахом, путем естественной передачи власти по
наследству в результате смерти предыдущего имама. Учиты­
вая особую роль в исламе учения о предопределении Аллаха,
шиитская доктрина приобретала особый сакральный смысл.
Признавая посланническую миссию пророка Мухамме­
да, шиизм достаточно критично относится к халифату пер­
вых трех халифов. Особое почитание у шиитов приобретает
фигура четвертого халифа Али. Для шиитов Сунна также
является вторым по значимости источником вероучения после
88
Политические учения Средневековья
Корана. Однако не менее значимым источником вероучения
становятся ахбары (от араб, «хабар» - извещать, приносить
вести) - предания о пророке Мухаммеде и Али в повествова­
нии сторонников шиизма.
Следует отметить, что в Средние века политические тео­
рии в исламе уступают по значимости правовым концепциям.
Центральным определением становится понятие «шариат»
(от араб, «шариа» - путь; в данном значении - путь, ука­
занный правоверным Аллахом). Многообразие социальных,
политических и других вопросов, диктуемых жизнью мусуль­
манской общины, требовало дополнительной регламентации
и интерпретации основных законов, изложенных в Коране.
Активное собирательство хадисов ранними мусульманами
фактически принято считать основой для возникновения ис­
ламской юриспруденции - фикха (от араб, «факиха» - знать,
понимать). Окончательно своя собственная методология в ис­
ламской философско-правовой мысли утверждается после ста­
новления основных школ в суннитской и шиитской ортодок­
сии к концу IX в. Основные сферы регулирования исламского
права: правовая регламентация религиозно-культовой жизни
мусульманина; регулирование отношений между людьми семейное право, наследование, налогообложение и т. д.; уста­
новление наказаний за преступление [Васильев, 1983, с. 134].
Исламская юриспруденция в основном была сосредоточе­
на на регламентации религиозно-культовых предписаний, что
составило около 70 % всех предписаний. Вопросы власти, го­
сударства и политики четко не регламентировались и не выде­
лялись в отдельную сферу правового регулирования. Однако
подобного рода вопросы активно обсуждались богословами.
В период становления арабских халифатов исламское государ­
ство включало в себя пространство Ближнего Востока, часть
Закавказья, Среднюю Азию, часть Северной Африки и т. д.
Помимо халифата четырех праведных халифов, в историо­
графии принято выделять период халифата Омейядов (661750 гг.) и Аббасидов (750-1258 гг.). В сложный период на­
растания политических противоречий в исламских сообще­
89
Раздел II
ствах активно обсуждались вопросы возможности восстания
против халифов либо необходимости подчиняться их власти.
Однако единого, общепринятого мнения ортодоксальное бого­
словие в этот период так и не выработало.
Сложившаяся методология исламской юриспруденции
отличается от функционирования западноевропейской систе­
мы права, основанной на принципе «Разрешено все, что не
запрещено». Регламентация жизни мусульманина в ислам­
ской юриспруденции строится по принципу определения двух
крайних критериев: разрешенного (халял) и запретного (ха­
рам). Существует и сложная система категорий оценок дей­
ствий мусульманина: строго обязательное, обязательное, же­
лательное, добровольное, нежелательное и запретное.
Разночтения в первоисточниках и их интерпретация посте­
пенно становятся фактором формирования различных право­
вых школ в исламской юриспруденции. В итоге формируется
и третий источник вероучения - иджтихад. Это деятельность
мусульманских богословов и правоведов по вопросам рели­
гиозной и общественной жизни. Он был основан на поиске
ответов в Коране и Сунне. Внимание уделяется сопоставле­
нию источников и применению различных методов выведения
юридически-богословского заключения по насущным пробле­
мам жизни мусульманских сообществ.
В суннитском исламе примерно к середине IX в. образова­
лись четыре философско-правовые школы (мазхабы):
1. Ханафитский мазхаб. Основатель Абу Ханифа (699-767).
Данная суннитская школа лояльна к традиционному праву,
использует индивидуальные богословские суждения и широ­
ко опирается на рационалистические методы. Это суждения
по аналогии - действие оценивается при сопоставлении воз­
никшей ситуации с текстами в вероучительных источниках,
а также критическое осмысление хадисов в рамках поиска
блага для общины. В меньшей степени школа опирается на
коллективное согласование мнений богословов, пользуется
широким спектром источников и считается наиболее «либе­
ральной» школой исламского права.
90
Политические учения Средневековья
2. Шафиитский мазхаб. Основатель Аш-Шафии (767-820).
Предпочитает коллективное суждение богословов, допускает
суждение по аналогии и в меньшей степени использует ин­
дивидуальные богословские заключения и критическое ос­
мысление хадисов, пользуется более узким спектром источ­
ников.
3. Маликитский мазхаб. Основатель Малик ибнАнас (713795). Это философско-правовое направление предпочитает как
коллективное согласование мнений богословов, так и индиви­
дуальные суждения. Данная школа суннизма активно опира­
ется на методику критического осмысления хадисов, но почти
не использует логическую процедуру проведения аналогий.
4. Ханбалитский мазхаб. Основатель Ахмад ибн Ханбал
(780-855). Данная школа суннитского права строго базирует­
ся на основных первоисточниках. Выступая против строгого
следования религиозным авторитетам, она в большей степени
опирается на прямые и однозначные указания Корана и Сун­
ны. Значимой для данной философско-правовой школы ста­
новится правовая практика сподвижников пророка. Основные
рационально-логические методы используются ограниченно.
Ханбалитский мазхаб считается наиболее строгой школой
суннитского вероучения. Именно на основе данного течения
в дальнейшем формируются фундаменталистские теории по­
литического характера.
В отношении суждения по основным вопросам вероучения
в исламе существует тезис «закрытия врат иджтихада». По
мнению сторонников данной точки зрения, к X столетию, по­
сле формирования основных мазхабов, свободное суждение
по основным вопросам вероучения в исламе не применяется.
С этой точки зрения, мазхабы произвели анализ всех насущ­
ных проблем исламской уммы, основываясь на самых досто­
верных принципах.
91
Раздел II
3.2. Религиозно-ортодоксальное и рационалистическое
направления арабо-мусульманской политической философии
Таким образом, в Средние века в ортодоксальных ислам­
ских концепциях сложилось несколько факторов, в дальней­
шем обусловивших процесс становления и развития религиоз­
но-философских учений, в которых так или иначе отражались
проблемы власти, государства, закона и т. д.
Во-первых, речь идет о всеохватности исламской доктрины
и ее нерасчлененности. Здесь присутствует четкая регламен­
тация многих сфер общежития, в первую очередь религиозной
жизни человека. В социальной сфере мусульманин является
членом общины-джамаата, а также частью исламской уммы.
Он обладает всеми естественными юридическими правами.
В экономической сфере он обязан следовать принципу запрета
ростовщичества и выплате обязательного религиозного налога
в пользу неимущих (закят). В духовной сфере четко регла­
ментируются морально-нравственные императивы: запрет на
убийство невинного человека, запрет воровства, прелюбодея­
ния и т. д.
Во-вторых, проявляется отсутствие четкой политической
доктрины в первоисточниках исламского вероучения. Вопро­
сы власти, руководства государством, политического устрой­
ства и прочие проблемы не получают четкой регламентации.
Это дает основания для широких интерпретаций вопросов
о соотношении власти Аллаха и человека, устройства государ­
ства и общества, подчинения и протеста против несправедли­
вого властителя.
В-третьих, дифференцированность нормотворчества в исла­
ме на божественное (Коран и Сунна) и человеческое (иджти­
хад богословов). Если истинность коранических установок
воспринималась на веру, а праведность поступков пророка
также не подвергалась сомнению, то человеческий иджтихад
был наиболее уязвимым источником вероучения. Сомнение
в правильности человеческой интерпретации божественных
текстов постоянно ставило вопрос о возврате к первоисточни92
Политические учения Средневековья
ку - Корану и Сунне. Это в определенной степени порождало
неизбежность фундаментализма - идеи возврата к абсолютной
«истине» и букве божественных установлений.
Первая фундаменталистская концепция в исламе зарожда­
ется в Средние века. Она получает название «салафизм»
(араб, «салаф» - предок). Это своеобразная теория возврата
к нормам жизни первых мусульманских общин. Праведные
предки, жившие в эпоху пророка, становятся прообразом
истинных мусульман. Основоположником салафизма приня­
то считать сирийца Ибн Таймийю (1263-1328). Важную роль
в его идеях играет ханбалитское право. Это проявляется
в отрицании возможности аллегорической интерпретации Ко­
рана и Сунны, частичном неприятии рационального толко­
вания догматов и формальной логики. Важным положением
в салафизме является осуждение введения любых новшеств
(бидаат), которые считаются греховными.
Концепция салафизма Ибн Таймийи имела свой полити­
ческий подтекст. В эту эпоху с середины XIII в. Ближний
Восток переживает нашествие войск тюрок-монголов, часть
правящей элиты которых к тому времени приняла ислам
суннитского толка. Однако они не стали на тот момент по­
следовательными мусульманами. Именно Ибн Таймийя, по
мнению исследователей, становится автором либо идейным
вдохновителем религиозно-правовых заключений, известных
под названием «фетвы против татар». В этих фетвах татары
(а точнее, монголы) объявляются людьми, не являющимися
мусульманами, что лишало их власть легитимности с бого­
словской точки зрения. В религиозно-правовом постановлении
впервые на догматическом уровне фактически легализовалась
возможность восстания против мусульманского правителя, в
том числе под видом «джихада». Таким образом, это стало
началом политической борьбы с внутриисламскими разночте­
ниями на теологическом уровне [Игнатенко, 2004, с. 20-21].
В эту эпоху халифат как форма государственного управле­
ния уже не существовал. В политико-социальной концепции
Ибн Таймийя предложил руководствоваться шариатом. Эпоха
93
Раздел II
первых четырех халифов для него также является идеальной
формой системы правления. Монархия, по его мнению, про­
тиворечит халифату. Однако она может быть приемлемой при
соблюдении принципа справедливости. Омейяды и Аббасиды,
по мнению Ибн Таймийи, были халифами только потому, что
являлись «правителями мусульман и властителями земли».
Они не преемники пророка, а только проводники шариата
в качестве закона государства. В этом отношении форма госу­
дарственного устройства не имела для Ибн Таймийи большого
значения. Он критиковал как суннитскую теорию халифата,
так и шиитскую теорию имамата, поскольку ни в Коране, ни
в Сунне нет подобных положений. Ислам для него - соци­
альный порядок, основанный на верховной власти шариата.
Правление Мухаммада в Медине, согласно взглядам Ибн Тай­
мийи, также нельзя назвать государством. Он прежде всего
был пророком, и поэтому ему подчинялись все члены мусуль­
манского сообщества. Это не политическое руководство, и этот
пример не может служить основой для политической теории
в исламе. По мнению Ибн Таймийи, руководитель исламской
уммы должен назначаться людьми, которые обладают вла­
стью и авторитетом в обществе. Концепция уммы была рас­
смотрена им гораздо детальнее теории государства. Умма, как
получатель коранического откровения, несет ответственность
за сохранение и распространение ислама. При этом организа­
ция государства является всего лишь одной из его функций.
Эти задачи не могут быть выполнены без поддержки государ­
ственной власти. Однако имам не обладает святостью и при­
вилегиями: он лишь исполнитель, который приводит в жизнь
законы шариата [Маточкина, 2011, с. 74-98].
Кроме религиозно-политических теорий, на арабском Вос­
токе в рассматриваемый период активно развиваются раци­
онально-философские концепции политического характера.
Они получают развитие под влиянием древнегреческой фило­
софии. Основной отличительной чертой подобных концепций
является их рациональность, зачастую противопоставляемая
религиозной догматике, утверждения о превосходстве разума
94
Политические учения Средневековья
над верой. Аль-Фараби (872-951), будучи ярким представите­
лем восточной средневековой философии, пришел к выводу,
что, основываясь на рациональном доказательстве и логике,
можно приблизиться к истине. Опираясь на взгляды Платона,
он стал восточным автором политической утопии, изложен­
ной в работе «Трактат о взглядах жителей добродетельного
города». Аль-Фараби считает, что управление обществом, го­
сударством должен осуществлять правитель-философ, и толь­
ко это приведет к построению «добродетельного города». Его
население отличается от обитателей «порочных городов», так
как каждый выполняет свою функцию, живет по справедли­
вости, а все это делает людей счастливыми [Фролова, 2010,
с. 110-111].
Такие мусульманские мыслители, как Ибн Сина (980ЮЗ?) и Ибн Рушд (1126-1198), продолжили традиции раци­
ональной философии Аль-Фараби. Они пришли к идеям, ока­
завшим значительное влияние на средневековую философию
в Западной Европе. Идея о невозможности полного совмеще­
ния религиозных и философских концептуальных построений
была названа «теорией двух истин»*. Авторы, известные на
Западе как Авиценна (Ибн Сина) и Аверроэс (Ибн Рушд), раз­
рабатывали свои собственные политические теории. Ибн Сина
рассматривал способы осуществления власти, руководства и
организации общества. Вслед за Аль-Фараби он раскрывает
особенности «добродетельных» и «плохих» городов и исследу­
ет причины их расцвета и упадка.
Ибн Рушд в своих комментариях к сочинению Платона «Го­
сударство» также считал человека существом политическим и
полагал, что идеальное общество возможно создать на основе
рационального знания. Ибн Рушд считает, что место человека
в иерархии государства зависит от степени его добродетели,
совершенства и мастерства, поэтому государство Ибн Рушда
приобретает иерархичный характер. Он делит граждан на три
сословия: одно дает материальные ценности (ремесленники),
другое обеспечивает защиту (воины), а третье осуществляет
обучение и воспитание граждан (мудрецы-философы). Глава
95
Раздел II
государства, по мнению Ибн Рушда, избираемый из воинского
сословия, должен обладать целым набором качеств: физиче­
ским совершенством, любовью к знаниям, хорошей памятью,
великодушием, храбростью, решительностью и т. д. Мысли­
тель полагал, что построение «идеального государства» воз­
можно лишь в условиях отстранения от власти представите­
лей религиозного богословия, поэтому глава государства опи­
сывается в первую очередь как вождь и философ [Сагадеев,
1973, с. 132-138].
Однако наибольшую известность как политический теоре­
тик получил арабский мыслитель Ибн Халдун (1332-1406).
Его идеи очень удачно совмещали как строго рациональные
историко-социологические построения, так и размышления
в контексте исламской догматики. Ибн Халдун пытался рас­
крыть естественные законы становления, развития и упадка
государственности. Мусульманские государства в этот период,
по его мнению, отошли от принципов шариата и принципов
единства, а «веру заменил меч». Анализируя историческую
эволюцию халифата, он разрабатывает оригинальную класси­
фикацию форм правления. В общем он выделяет пять этапов:
возникновение власти, сосредоточение ее в одних руках, рас­
цвет государства, переход к деспотии, упадок и гибель госу­
дарства. Поэтому халифат Омейядов и Аббасидов он также
относил к деспотии.
Люди, по мнению Ибн Халдуна, склонны к агрессии и
взаимному истреблению, поэтому задача государства - пода­
вить подобное стремление. Власть принуждения и создание
государства являются показателями уровня цивилизованно­
сти народа. Государство сплачивает племена в единое целое и
осуществляет власть как в отношении своих подданных, так
и во внешней сфере. Поэтому правитель должен быть всеси­
лен, реализовывать законы, обеспечивать порядок в государ­
стве, собирать налоги, формировать армию и т. д.
Ибн Халдун выделяет три формы правления. При есте­
ственной монархии властвует деспотический режим личной
власти. В политической монархии существует рациональная
96
Политические учения Средневековья
справедливость и забота о подданных со стороны государя.
Однако сам режим не основан на религиозных ценностях.
Третья форма - халифат, которому и отдает предпочтение Ибн
Халдун. По его мнению, эта форма наиболее полно учитывает
интересы подданных, а государь исходит из принципов свя­
щенного мусульманского права [Бациева, 1965].
Таким образом, средневековые политические учения
в странах Ближнего Востока так или иначе были связаны
с исламским вероучением. Разночтения и интерпретации ос­
новных источников вероучения являлись основой для разви­
тия исламского права - шариата, через призму которого рас­
сматриваются все основные социально-политические вопросы.
В условиях отсутствия канонически четко регламентирован­
ных политических теорий их разработка протекает в рамках
двух подходов: религиозно-ортодоксального и философско-ра­
ционального. В первом случае возникают основы для разви­
тия фундаменталистских теорий, которые в различных интер­
претациях будут воспроизводиться на последующих этапах
развития исламских политических теорий. Несмотря на при­
знание отдельными исламскими мыслителями невозможности
совмещения религиозных и философско-рационалистических
концепций, даже рационалистические политические теории
часто развиваются в контексте интерпретаций исламских ре­
лигиозных догматов. Однако именно в осмыслении подобных
концепций происходит становление непосредственно полити­
ческих учений средневекового арабского Востока.
Контрольные вопросы и задания
1. Каковы основные источники исламского вероучения?
2. В чем основные отличия шиитской и суннитской кон­
цепций власти?
3. Какова роль шариата в формировании доктринальных
особенностей исламских социально-политических концепций?
4. В чем особенность исламских рационально-политиче­
ских концепций?
97
Раздел II
5. Назовите основных представителей арабо-мусульман­
ской средневековой мысли.
6. Кратко опишите основные аспекты политических уче­
ний Ибн Рушда и Ибн Халдуна.
Темы для рефератов и творческих заданий
1. Доктринальные особенности концепции власти и обще­
ственно-политического устройства в исламе.
2. Исламское право - шариат: роль и мировоззренческое
значение.
3. Салафизм и фундаменталистские политические концеп­
ции в исламе.
4. Философско-рациональные политические концепции в
странах арабского Востока.
5. «Идеальное государство» в воззрениях арабо-мусуль­
манских философов Средневековья.
Литература
1. Вациева С. М. Историко-социологический трактат Ибн
Халдуна «Мукаддима». М.: Наука, 1965.
2. Васильев Л. С. История религий Востока. М.: Высшая
школа, 1983. Т. 1.
3. Игнатенко А. А. Ислам и политика: сб. статей. М.:
Ин-т религии и политики, 2004.
4. Кирабаев Н. С. Политическая мысль мусульманского
Средневековья. М., 2005.
5. Коран / пер. с араб, и коммент. М.-Н. О. Османова. М.:
Ладомир: Наука, 1995.
6. Маточкина А. И. Религия и власть в учении Ибн Тай­
мийи: дис. ... канд. филос. наук. СПб., 2011.
7. Сагадеев А. В. Ибн-Рушд (Аверроэс). М.: Мысль, 1973.
8. Фролова Е. А. Арабская философия. Прошлое и настоя­
щее. М.: Языки славянских культур, 2010.
98
Политические учения Средневековья
Глава 4. Политическая мысль Византии и Руси
Пожалуй, ни один другой сюжет из истории политической
мысли не требует больших вводных пояснений, чем визан­
тийские учения о государстве и власти, - столь превратным
является «общепринятое» представление об этой стране. Даже
ее привычное именование Византией не согласуется с истори­
ческими реалиями, поскольку оно никогда не употреблялось
подданными этого государства. Сами они называли себя не
византийцами, а ромеями*, т. е. римлянами, считая свою дер­
жаву продолжением Римской империи, призванной повеле­
вать миром. «Какое счастье может быть сравнимо с римской
славой! - воодушевлял своих воинов Нарсес, один из вели­
чайших полководцев эпохи Юстиниана. - Ведь вами унасле­
довано от предков всегда побеждать врагов» [Агафий Миринейский, 1953, с. 46]. Но, будучи христианской державой,
империя ромеев реализует это право с иной целью, нежели
языческий Рим. Непобедимое оружие дано ей для того, чтобы
оберегать чад церкви, а варваров обращать в ее лоно. Поэтому
для византийцев библейская линия преемственности была не
менее важной, чем римская, а книги Священного Писания столь же значимым идейным основанием их «политии», как
и постулаты доктрины «Вечного Рима». И именно поэтому
ромеи не переставали подчеркивать, что их царственная сто­
лица - Константинополь - это в равной мере и Новый Рим, и
Новый Иерусалим.
Таким образом, античные произведения и библейские кни­
ги - столь же неотъемлемая часть корпуса текстов, выража­
ющих постулаты ромейской политии, как и собственно ви­
зантийские сочинения, в которых неразрывно сплетены по­
литика и богословие, история и современность. Более того,
зачастую обоснование теологических идей приобретает у ви­
зантийцев вид политических суждений, а их исторические
труды отличает политическая заостренность. Если перефра­
зировать применительно к Византии афоризм Μ. Н. Покров­
ского об истории как «политике, опрокинутой в прошлое», то
99
Раздел II
можно сказать, что для ромеев реальная политика была исто­
рией, выплеснувшейся в современность. Впрочем, сразу же
следует оговориться, что византийский мыслитель понимал
под историей нечто иное, нежели носитель современной секу­
лярной культуры. Для него история была отнюдь не «давно
прошедшим временем», а всей временной протяженностью от
Миротворения до Страшного суда. Историософское* видение
предполагает нахождение мыслителя в «последних временах»
- такой точке обзора, с которой охватывается и прошлое,
и настоящее, и почти неразличимое, эфемерное в эсхатологи­
ческой* перспективе будущее.
Итак, подытоживая вышесказанное, еще раз обозначим
особенности текстуального выражения византийской полити­
ческой традиции: ее истоки уходят в античное и библейское
прошлое, а ее ключевые постулаты неотделимы от историо­
софских, эсхатологических и сотериологических* идей.
4.1. Византийская политическая мысль
Краеугольным камнем византийской идеологии была кон­
цепция сакрального характера Римской империи, ее вечности
и особой исторической миссии по объединению под своей се­
нью всего мира. Идея «Вечного Рима» (Roma aeterna) полу­
чила широкое распространение в эпоху Октавиана Августа,
составляя единое целое с почитанием обожествленной лично­
сти самого императора. Тогда же сформировалась и доктрина
Pax Romana (римский мир) или Рах Augustus (Августов мир),
выражавшая идею гармонии законности, порядка и разумно­
го правления, даруемой Римом мятущимся эллинам и необу­
зданным варварам.
Но далеко не все подданные Рима разделяли эти взгляды.
Евреям в такой сакрализации государства виделись черты
сходства с другой державой, некогда поработившей их, - Ва­
вилоном. Римское владычество легко вписывалось в исто­
рико-эсхатологическую концепцию сменяющих друг друга
мировых царств из Книги Даниила. Того же мнения придер­
100
Политические учения Средневековья
живались и христиане, среди которых в Ι-П вв. преобладали
этнические евреи. Но по мере изменения этнического и со­
циального состава христианских общин меняется и отноше­
ние к Риму. Тертуллиан (около 160 - около 230), Ипполит
Римский (около 170 - около 235) и их младший современник
Ориген (около 185 - 254) относят к нему слова апостола Павла
об «удерживающем» (2 Фес. 2:3-12) как последней препоне
Антихристу. Империя обрушивала на христиан гонения, но
создаваемое ею единое политическое пространство позволяло
церкви нести слово Божие всем народам, находящимся под
властью Рима. Так еще до примирения между империей и
церковью вызревал один из краеугольных камней будущей
византийской религиозно-политической доктрины - о вселен­
ской державе как «вместилище» вселенской церкви. Таким
образом, империя против собственной воли неминуемо при­
ближала победу христианства. Актом ее капитуляции стал
«Эдикт о веротерпимости» императора Галерия, изданный в
311 г. Но еще более решительный шаг совершил через два
года Константин Великий (277-337), издавший в 313 г. упо­
мянутый выше (см. параграф 2.4) Миланский эдикт, который
знаменовал поворот от конфронтации между империей и цер­
ковью к примирению между ними.
Император Константин - знаковая фигура в церковной
и политической истории, олицетворяющая водораздел меж­
ду поздним Римом и ранней Византией. Он был первым из
римских цезарей, кто осознал не только бесперспективность
борьбы с христианством, но и неизбежность союза между им­
перией и церковью. До тех пор, пока существовала система
принципата* (27 г. до н. э. - 284 г. н. э.), при которой мо­
нархия рядилась в республиканские одежды, империя могла
довольствоваться античной религией в качестве собственной
высшей санкции. Но это стало невозможно с утверждением
системы домината* - неограниченной власти монарха, опира­
ющегося на строго централизованный бюрократический аппа­
рат. К тому же и общество к этому времени интеллектуально
переросло политеизм, свидетельством чего были религиозные
101
Раздел II
искания поздней Античности. И все это воплощалось в лично­
сти Константина: с одной стороны, к христианству его скло­
няли сугубо личные мотивы (эту религию исповедовала его
мать); с другой стороны, будучи политиком прагматического
склада, он видел в христианстве обоснование единодержавия
и средство сглаживания межэтнических противоречий, тер­
завших Римскую державу.
Но чтобы стать инструментом установления имперско­
го мира, церковь сама, с точки зрения Константина, долж­
на была преодолеть разномыслие. Поэтому он решил помочь
этом христианам, инициировав в 325 г. созыв Первого вселен­
ского собора. Предварительно Константин собрал сведения,
позволявшие ему предполагать, что из двух самых авторитет­
ных богословов того времени - Ария и Афанасия - именно
последний имеет более прочные позиции в церкви, а значит,
на него и следует делать ставку. Однако Афанасий сделал не­
верные выводы из своей победы на соборе. Вместо увещевания
оппонентов и достижения церковного мира, чего ожидал от
него Константин, Афанасий принялся с удвоенной энергией
выкорчевывать из церкви арианскую* скверну. В итоге импе­
ратор обратил свой взор на умеренного арианина — епископа
Кесарии Палестинской Евсевия Памфила (около 263-340),
ставшего по воле Константина создателем новой имперской
доктрины.
В основу своей концепции Евсевий положил библейскую
идею «божественной педагогии», распространив ее на исто­
рию империи и церкви. Суть ее заключается в том, что Бог
выступает по отношению к избранному им народу как воспи­
татель и наставник. Его волю возвещают пророки, а если на­
род не прислушивается к их предостережениям - он насылает
на ослушников казни, дабы отвратить от греха еще большего.
Таким образом, по изначальному божественному замыслу из­
бранный народ не нуждался в государстве: если прочие пле­
мена не только имели царей, но и обожествляли их, то для
евреев, наоборот, Бог был их царем. Именно поэтому Гедеон
отверг предложенную ему соплеменниками царскую власть,
102
Политические учения Средневековья
заявив: «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет
владеть вами; Господь да владеет вами» (Суд. 8:23). И хотя
позже, снизойдя до человеческой слабости, Бог вынужден был
учредить царскую власть, она также была частью «педаго­
гии»: пророк помазывал на царство того, на кого Бог указы­
вал как на своего волеизъявителя. Но если царь уклонялся
со стезей Господних, он терял дарованную ему санкцию на
власть (что и произошло с первым израильским царем Сау­
лом), становясь правителем беззаконным, коему народ более
не обязан повиноваться.
В первых главах своей «Церковной истории» Евсевий под­
робно излагает канву библейской истории, но, дойдя до со­
бытий евангельских и упомянув об Ироде, делает важную
оговорку: «Тогда над народом иудейским получил впервые
царскую власть чужеземец - исполнилось написанное Мо­
исеем пророчество: “Не исчезнет правитель из рода Иуды
и вождь от чресл его, пока не придет Тот, Кого ожидают
народы”» [Евсевий Памфил, 1993, с. 26]. Из этого вытека­
ет, что власть римлян, поставивших Ирода, была не нака­
занием, а частью божественного замысла. Таким образом,
история церкви, включенная в имперский контекст, ока­
зывается прямым продолжением истории ветхозаветной,
и в ней действуют те же законы «божественной педагогии».
Есть правители, которые, даже будучи язычниками, следу­
ют высшей воле, есть же гонители, выступающие в качестве
орудия Божьего гнева, но той же высшей волей обуздывае­
мые. Так, враг церкви Галерий становится жертвой страш­
ной болезни, но, осознав, что постигший его тяжкий недуг кара за гонения, он издает «Эдикт о веротерпимости». При
этом всех противников Константина Евсевий называет тира­
нами, т. е. применяет термин, относившийся, согласно ари­
стотелевской политической теории, к незаконной форме еди­
новластия. Константин же, наоборот, является правителем
богоустановленным, а потому - законным и непобедимым.
«Бог ниспослал ему свыше победу как достойную награду за
благочестие» [там же, с. 369].
103
Раздел II
Не все деятели церкви были согласны с выводами Евсевия.
Его противник в тринитарных спорах, Афанасий Алексан­
дрийский (около 295 - 373), оказался оппонентом и в вопро­
се о пределах власти императора. Если первый, обосновывая
единство светского и духовного начал, вдохновлялся ветхо­
заветными образами и сюжетами, то второй, наоборот, ука­
зывал на евангельскую заповедь «отдавайте кесарево кесарю,
а Божие - Богу» (Мф. 22:21). В своем «Послании к монахам»
он приводит слова епископа Осии, обращенные к императору-арианину Констанцию: «Не вступайся в дела существен­
но церковные и не давай нам приказаний относительно их;
а лучше, принимай учение от нас. Тебе вручил Бог царство,
а нам вверил дела Церкви» [Афанасий Александрийский,
1902, с. 141].
Еще дальше идет младший современник Афанасия, один из
«трех светочей Каппадокийской церкви» Григорий Богослов
(325-330): будучи епископом г. Назианза, он в споре с гла­
вой местной светской власти настаивал на первенстве церкви:
«...мы имеем власть большую и совершеннейшую; иначе дух
должен уступить плоти и небесное земному» [Григорий Бого­
слов, 1910, с. 259].
Но, пожалуй, самым последовательным защитником церк­
ви от посягательств светской власти был константинопольский
архиепископ Иоанн Златоуст (347-407). Кульминацией этой
борьбы стал его конфликт с императором Аркадием и импе­
ратрицей Евдоксией в 403-404 гг., закончившийся ссылкой
и смертью архиепископа. Однако его взгляды на природу вла­
сти и соотношение «царства» и «священства» оформились за­
долго до этого противостояния. Именно так - «О соотношении
царства и священства» - называется один из самых ранних
трактатов Иоанна Златоуста. В дальнейшем он обращается
к политической проблематике в таких своих произведениях,
как «Беседы к антиохийскому народу», «Толкование на Книгу
пророка Даниила», «Слово о начальстве, власти и славе».
В своих представлениях о власти Иоанн Златоуст, как и все
его предшественники, исходил из идеи ее богоустановленно104
Политические учения Средневековья
сти: «Тот, кто покоряется властям, не властям покоряется, а
повинуется Богу, установившему их; и кто не повинуется им,
тот противится Богу» [Иоанн Златоуст, 1906, с. 630]. Но, в от­
личие от Евсевия Кесарийского, Иоанн вовсе не считал импе­
рию совершенной, напоминая, что Римское царство, согласно
пророчеству Даниила, - это ноги истукана «частью железные,
частью глиняные» (Дан. 2:32). Оно - «полезнейшее и силь­
нейшее, а по времени позднейшее, и потому занимает место
ног. Впрочем, в нем есть части слабые и части более сильные.
Такова изменчивость людей» [Иоанн Златоуст, 1900, с. 505].
Поэтому Иоанн считал, что правитель обязан доказать свое
моральное право на власть: «Когда начальник безупречен во
всем, тогда он может как угодно и наказывать, и миловать
всех подчиненных» [там же, с. 631]. Это необходимо, так как
возможность повелевать другими несет угрозу для души са­
мого царствующего: «Сила и власть побуждают делать мно­
гое неугодное Богу; и нужна очень мужественная душа, что­
бы по-надлежащему воспользоваться данной честью, славой
и властью» [Иоанн Златоуст, 1906, с. 629]. В этом заключает­
ся истинная доблесть властвующего: «Для царей не столько
славно победить врагов, сколько преодолеть ярость и гнев...
Ты одержал победу в войне с варварами: победи же и гнев
царский; пусть знают все неверные, что страх Христов может
обуздать всякую власть!» [Иоанн Златоуст, 1896, с. 87]. А из
этого несовершенства государственной власти с неизбежно­
стью следует, что она имеет свои пределы и уступает власти
духовной: «Поистине, власть священства больше власти цар­
ской, и постольку больше, поскольку царю вверены тела, а свя­
щеннику - души. Один разрешает долги денежные, другой долги грехов; первый действует принуждением, второй увещанием» [Иоанн Златоуст, 1906, с. 631].
Учение Иоанна Златоуста вдохновляло многих иерархов,
находивших в себе смелость противостоять диктату импера­
торской власти и напоминать ей, что именно церковь есть
♦столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). И тем не менее
несравненно больше продолжателей было у Евсевия Кесарий105
Раздел II
ского. Его концепция получила свое дальнейшее развитие в
трудах Сократа Схоластика (около 380-440): если Евсевий,
вписывая церковь в имперский контекст, концентрировал
внимание на делах церковных, то Сократ уже почти не раз­
личает духовное и светское начало. Он уделяет внимание не
только жизни церкви, но и войнам, а главными героями по­
вествования становятся императоры. «В своей истории, - за­
являет он, - мы постоянно говорим и о царях, потому что
с тех пор, как они сделались христианами, от них начали
зависеть дела церковные, и по их воле бывали и бывают ве­
ликие Соборы» [Сократ Схоластик, 1996, с. 206]. Для Со­
крата император - не только волеизъявитель Бога, но и его
наместник, судья и верховный арбитр как в светских, так
и в духовных делах. Сакрализация фигуры правителя дости­
гает такого уровня, что фактически превращает императора
в эманацию Христа, его воплощение и подобие.
С течением времени представления об императоре как о жи­
вой иконе Христа и Ромейской державе как отражении мира
горнего в мире дольнем прочно усваиваются общественным
сознанием Византии. «Есть мир несовершенный и мир совер­
шенный, - утверждал богослов V в. Симеон Месопотамский,
чьи сочинения позже были приписаны основателю восточ­
ного монашества Макарию Египетскому (около 300-390). В несовершенном, преходящем много видов, подобных совер­
шенному, вечному, есть царский дворец и царь, на котором
порфира и корона, составленная из драгоценных камней, и
служители его и воинство, одни заняты при дворце, другие
исполняют должности вне его, и каждый при своем особом
чине, и все одеты в блестящие и драгоценные одежды. Есть
и на небесах царский дворец и царь Христос, облеченный
в царскую порфиру» [Макарий Египетский, 1990, с. 31-32].
Из подобных суждений вытекало, что предметом рассмо­
трения политической мысли не может быть совершенствова­
ние государственных порядков: коль скоро они - отражение
божественного мироустройства, то это и есть само совершен­
ство. Следовательно, задача состоит в том, чтобы гармонию
106
Политические учения Средневековья
богоустановленной власти не нарушали те, кто этой власти
недостоин: «Законы хороши, и Римское общество прекрасно
устроено, - писал Приск Панийский, - но правители портят
и расстраивают его» [Приск Панийский, 2005, с. 491-492].
В силу этих причин основной чертой византийской полити­
ческой мысли стала ее заостренность на проблеме идеального
правителя при почти полном игнорировании институциональ­
ных аспектов власти.
Новый этап в развитии византийской политической тра­
диции знаменует правление Юстиниана (527-565), удостоен­
ного потомками того же прозвища, что и равноапостольный
император. Именно его эпоха является рубежом, отделяющим
историю Восточно-Римской империи от собственно Визан­
тии. И эта двойственность, свойственная любому поворотному
моменту в истории, в полной мере проявляется в биографии
и в политических устремлениях Юстиниана.
Родным языком Юстиниана была латынь, но именно с его
эпохи она постепенно начинает вытесняться из византийско­
го политического и юридического обихода греческим язы­
ком. Будучи по духу и самосознанию римлянином, Юстиниан
жизнь положил на то, чтобы восстановить Римскую державу
в ее прежних пределах. Но его западные завоевания оказа­
лись недолговечны, и уже при преемниках Юстиниана ос­
новным ареалом византийской цивилизации становится Вос­
точное Средиземноморье. Начав свое восхождение к власти
с должности консула, он упразднил эту важнейшую римскую
магистратуру, что фактически стало последней точкой в исто­
рии античной политической традиции.
Политическим идеалом Юстиниана была абсолютная уни­
фикация: единая власть, единая религия, единый закон.
И для воплощения этой мечты он избрал чисто римское сред­
ство — кодификацию права. Итог этого грандиозного предпри­
ятия - Свод Юстиниана (Corpus iuris civilis), состоящий из
Институций, Дигест, Кодекса и Новелл.
Но выстроив эту грандиозную конструкцию, основанную
на римской идее верховенства права («Институции» откры­
107
Раздел II
ваются словами «Справедливость заключается в постоянной
и неизменной воле каждому воздавать его право» (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribunes)
[Institutiones, 1872, p. 3]), он увенчал ее формулой неогра­
ниченной власти эллинистических монархов, перенесенной
на римскую почву Ульпианом: «Что угодно повелителю,
имеет силу закона» (Quod principi placuit, legis habet vigorem) [ibid.].
Это противоречие, неразрешимое в рамках человеческо­
го права, было устранено апелляцией к праву божественно­
му, к учению Евсевия Памфила об империи как образе Цар­
ства Божьего и императоре как наместнике, служителе и
живой иконе Христа. В предисловии к VI титулу «Новелл»
сформулирована идея «согласия», или «симфонии»* духов­
ной и светской власти (лат. consonantia, др.-греч. συμφωνία),
ставшая краеугольным камнем имперской идеологии: «Во­
истину, величайшие дары Божии, обретенные человечеством
в бесконечном Его милосердии, суть Священство [Sacerdotum] и Царство [Imperium]: первое обращено к божественно­
му служению, второе первенствует в делах человеческих и
печется о них; оба имеют общий источник и украшают че­
ловеческую жизнь. Поэтому нет для царей большей забо­
ты, чем достоинство духовенства, непрестанно молящегося
об их спасении. Ибо, если оно безупречно и верно Богу, а
царь справедлив и должным образом возвеличивает свое го­
сударство, между ними установится доброе согласие во благо
всего человечества» [Novellae, 1959, р. 35-36]. Казалось бы,
законодатель твердо следует евангельскому принципу «Богу Богово, Кесарю - кесарево», а царю вменяется в обязан­
ность забота о церкви. Но уже следующая фраза не остав­
ляет сомнений в том, кто является гарантом этой «гармо­
нии» и какими средствами она достигается: «Потому более
всего печемся мы о соблюдении божественных догматов и
достоинстве оберегающего их священства и считаем, что за
это, если будем тверды, обретем от Бога величайшие дары»
[ibid., р. 36].
108
Политические учения Средневековья
Таким образом, за императором в интересах самого же
священства резервируется право вмешательства в вопросы
веры, и, следовательно, по отношению к церкви он оказы­
вается не только и не столько попечителем, сколько повели­
телем. Эта концепция прочно укоренилась в византийской
политической традиции, а двумя веками позже благодаря
патриарху Фотию (около 820-896) обрела свое метафориче­
ское выражение: «Государство [πολιτεία], как и человек, со­
стоит из частей и членов, важнейшими из которых являются
царь и патриарх. Следовательно, мир и процветание поддан­
ных - душевное и телесное - проистекает из полного согла­
сия и гармонии [συμφωνία] между царством и священством»
[Epanagoge..., 1852, 68].
Как видим, Фотий идет значительно дальше Юстиниана
в трактовке симфонии властей, понимая под ней не разгра­
ничение сфер ответственности, а их взаимосвязь и взаимоза­
висимость, что логически вытекает из сравнения священства
и царства с душой и телом. При этом может показаться, что
данная метафора содержит скрытую претензию церкви на
первенство, коль скоро она уподобляется душе - субстанции
вечной и нетленной, которой надлежит обуздывать бренную
плоть. Однако это не так, поскольку восточно-христианская
антропология базируется на несколько иных представлениях
о душе и теле, отличных от тех, что свойственны католициз­
му и вследствие «вестернизации» закрепились в обыденном
религиозном сознании православного мира. Истоки этого уче­
ния восходят к сотериологии Афанасия Великого, по мыс­
ли которого спасение есть «обожение» плоти, произошедшее
в результате мистического соединения божественного и чело­
веческого начал в природе Христа. На этом основании за теле­
сной природой признается не меньшая роль в деле спасения,
чем за душой, поскольку без телесных органов, включая мозг,
невозможны ни благие дела, ни подвиг веры.
Именно такая богословская экспликация позволяет по­
нять, почему в Византии даже самые последовательные борцы
против произвола светской власти и ее вмешательства в дела
109
Раздел II
духовные не помышляли о верховенстве церкви. Более того,
претензии Рима на обладание властью духовной и светской
рассматривались византийцами как еретические.
Доктрина «симфонии властей», сформулированная в «Но­
веллах» Юстиниана и развитая патриархом Фотием, прак­
тически в неизменном виде просуществовала на всем протя­
жении византийской истории и оказалась долговечнее импе­
рии. Ее мотивы обнаруживаются в русской книжности уже
в XIV в., приобретают особую актуальность в политических
спорах XVI-XVII вв. и не были утеряны даже после Петров­
ских времен, повлияв на законодательство и политическую
практику Российской империи.
В годы правления Юстиниана возникла и другая, тесно свя­
занная с идеей «симфонии» политическая концепция, нало­
жившая глубокий отпечаток на представления византийцев о
природе и предназначении власти. Речь идет о «Царском свит­
ке» диакона собора св. Софии Агапита, по преданию, препод­
несенном им императору Юстиниану. Это произведение состо­
ит из 72 слов, большая часть которых посвящена моральным
качествам идеального правителя, и не отличается особой ори­
гинальностью. Исключение составляет 21-е слово, которое по­
истине стало «замковым камнем» имперской идеологии роме­
ев. Ценность открытия Агапита состояла в том, что он нашел
особый ракурс в понимании сакрального характера особы им­
ператора, позволявший обозначить принципиальные отличия
почитания «равноапостольных» василевсов* от обожествления
восточных деспотов. Согласно Агапиту, богоподобной являет­
ся не личность императора, а дарованная ему власть: «По су­
ществу тела Государь равен всякому человеку, а по власти и
сану, не имея никого выше себя, подобен Верховному Владыке,
Богу. Посему он и, подобно Богу, не должен гневаться, и, как
смертный, не должен надмеваться, потому что хотя он почтен
Божественным образом, но вместе облечен в персть, которая
указует ему равенство его с прочими» [Агапит, 1827, с. 253].
Таким образом, санкцию на власть дает императору Бог,
который, собственно, и является подлинным главой империи,
110
Политические учения Средневековья
сам же василевс остается законным правителем лишь до тех
пор, пока способен нести бремя его служителя, и божеские
почести воздаются не ему, а Христу, живой иконой которого
он является. Соответственно, любой, кто признает себя рабом
Божиим, не может не признавать над собой власти его намест­
ника. Отсюда - характерный для византийской политиче­
ской традиции принцип взаимообусловленности религиозного
и политико-правового статуса: ортодоксальный христианин
не может не быть подданным императора, а неповиновение
ему - есть бунт против самого Бога, но, с другой стороны, от­
ступление от ортодоксии неминуемо влечет за собой каратель­
ные санкции со стороны государства или по меньшей мере
ущемление в правах.
Другим следствием учения об императоре как волеизъявителе Бога было то парадоксальное обстоятельство, что при
столь высоком представлении о власти василевса мятежи
и заговоры были в Византии совершенно заурядным явлени­
ем. Из утверждения о божественной природе власти импера­
тора с неизбежностью следовало, что если он уклонился со
стезей господних, то автоматически теряет право на власть,
становится тираном - беззаконным правителем. А значит,
подданные не только могут, но и обязаны его отвергнуть.
И наконец, последнее по счету, но не по значению: если
власть имеет божественное происхождение, то нет в мире
силы, способной ее ниспровергнуть. Но если мятеж все-таки
удался, это значит, что к моменту своего свержения василевс
уже утратил санкцию на власть, ибо в противном случае Бог
бы этого не допустил. Следовательно, узурпатор был орудием
божественной воли.
Доктрина «симфонии властей» и учение Агапита о царской
власти наложили отпечаток на все стороны жизни Византии.
В частности, наглядное представление об этих взглядах дает
политическая символика ромеев: в зале Хрисотриклин импе­
раторского дворца прямо над троном находилось изображение
Христа, в результате чего, по словам русского византиниста
Д. Ф. Беляева, «взорам собравшихся в Золотой Палате лиц,
111
Раздел II
во время торжественных заседаний и приемов, представлялся
Бог вверху, на своде, как Бог на небе, Царь небесный, а под
ним - Его наместник, царь земной, окруженный и поклоняемый земными чинами, подобными чинам небесным, послу­
жившим прообразом для земных» [Беляев, 1891, с. 14]. Дру­
гое проявление взглядов византийцев на природу власти - це­
ремония коронации: сразу после возложения венца василевсу
подносили сосуд с костями, служивший напоминанием о том,
что, несмотря на божественное величие обретенной власти, он
остается всего лишь человеком, «ибо прах ты и в прах возвра­
тишься» (Быт. 3:19).
Представление об империи как отражении мира горнего в
мире дольнем и императоре как живой иконе Христа отра­
зилось и во внешней политике. Данное убеждение побуждало
византийцев считать свою державу единственным легитим­
ным государственным образованием на земле, остальные же
страны рассматривались либо как часть этой политической
иерархии с василевсом во главе, либо как враждебные или
мятежные территории. Соответственно, изъявление каким-ли­
бо «варварским» правителем желания принять христианство
рассматривалось как акт признания имперского подданства.
А стремление византийских дипломатов воплотить на прак­
тике эту утопию вызывало раздражение в странах имперской
периферии и порождало устойчивые антигреческие настрое­
ния. Тем не менее византийцы демонстрировали удивитель­
ное упорство в следовании своим убеждениям даже тогда,
когда от былого величия их державы осталась лишь бледная
тень. И когда часть элиты, осознав неизбежность краха, ста­
ла искать военной помощи Запада в обмен на признание гла­
венства Рима, большинство ромеев не пожелало поступиться
идеалами. Выражением этих настроений стали слова началь­
ника византийского флота Луки Нотары, сказанные им неза­
долго до падения Константинополя: «Лучше увидеть в городе
царствующей турецкую чалму, чем латинскую тиару» [Дука,
1953, с. 397].
112
Политические учения Средневековья
4.2. Русская политическая мысль: от древности
до раннего Нового времени
Рассмотрение процесса становления и эволюции русской
средневековой политической традиции невозможно вне кон­
текста двух историографических дискуссий: о «древнерус­
ском феодализме*» и «византийском наследии». Первая сфо­
кусирована на проблеме общего и особенного в развитии Руси
и Европы в эпоху Средневековья, а также на применимости
к древнерусской истории объяснительных схем и понятий,
посредством которых описывается история средневековой Ев­
ропы. Не вдаваясь во все перипетии этой историографической
баталии, отметим лишь ключевые моменты, в которых диспу­
танты с большими или меньшими оговорками скорее сходят­
ся, чем расходятся.
В целом допустимо рассматривать социальные структуры
Киевской Руси и стран Западной Европы как генетически
и типологически близкие, хотя в развитии древнерусского
общества имеется ряд особенностей в сравнении с моделью
классического феодализма. Во-первых, следует учитывать,
что процесс политогенеза начался в землях восточных сла­
вян на два-три века позже, чем в Западной Европе, хотя по
мере дальнейшего развития этот разрыв неуклонно сокращал­
ся. Во-вторых, в отличие от Западной Европы, где вследствие
рецепции римского права рано возникла традиция юридиче­
ского оформления социальных и политических отношений,
на Руси писаное право не играло столь же значимой роли.
Относительная неразвитость законодательства в значительной
мере компенсировалась нормами морали и правового обычая.
В силу указанной особенности трудно однозначно ответить на
вопрос, существовали ли на Руси институции, аналогичные
западноевропейской системе сюзеренитета-вассалитета*. Сре­
ди ученых есть как сторонники, так и противники данной
трактовки. Компромиссным представляется взгляд на отно­
шения внутри властной элиты Киевской Руси как типоло­
гически близкие вассально-сеньориальным, однако не столь
113
Раздел II
явно проступающие в событийной канве истории по причине
отсутствия юридической фиксации прав и обязанностей по­
кровителя и покровительствуемого.
Второй историографический сюжет, вне контекста которого
не может быть понята русская политическая традиция, - спор
о «византийском наследии». Собственно, спор ведется не о на­
личии или отсутствии самого наследия. Факт его огромного,
если не определяющего значения в истории России несомне­
нен. Вопрос в том, что именно понимать под «византийским
наследием», как оценить его объем, конкретные проявления
и результаты влияния в тех или иных сторонах жизни рус­
ского общества.
Британский историк Бенедикт, Самнер (1893-1951) писал,
что «Византия принесла России пять даров: свою религию,
свой закон, свой взгляд на мир, свое искусство и письмен­
ность» [Sumner, 1947, р. 178]. Данная формула, при всей ее
внешней эффектности, нуждается в существенных уточнени­
ях. Во-первых, эти дары были не навязаны, а восприняты
вполне сознательно и достаточно избирательно: если в сфере
религии и искусства авторитет греков почти не оспаривался,
то юридические заимствования оказались достаточно фраг­
ментарны. Во-вторых, значительная часть византийских «да­
ров» была получена Русью через болгарское посредничество
в адаптированном, «славянизированном» виде. И наконец,
последнее, но, пожалуй, самое важное: Византия не только
и даже не столько передала русским свою картину мира,
сколько сама стала важнейшей ее составляющей. Империя
ромеев сыграла роль того основополагающего ориентира,
в соотнесении с которым древнерусское общество формирова­
ло собственную идентичность.
Крещение Киевской державы, совершенное на пике цер­
ковных противоречий между Римом и Константинополем,
способствовало религиозному обособлению Руси не только от
«поганых» на востоке, но и от «латинян» на западе. Это по­
буждало трактовать любой конфликт с соседями как религи­
озный и порождало представление об особой миссии Руси 114
Политические учения Средневековья
миссии защиты истинной веры. Поэтому среди русских нео­
фитов рано зародилась мысль о том, что их роль в христиан­
ском мире ничуть не меньше, чем у греков, и она сравнима
с историческим предназначением богоизбранного народа Из­
раилева.
Впервые эта идея преобразуется в слова и поступки в кня­
жение Ярослава Мудрого (около 978 - 1054). Вскоре после
победы над печенегами у стен Киева в 1036 г. на месте сра­
жения разворачивается строительство, призванное увекове­
чить триумф Ярослава. По сути, это была воплощенная в кам­
не политическая доктрина. Архитектурными доминантами
«Ярославова града» являлись Золотые ворота и Софийский
собор. Прообразами этих сооружений были Золотые ворота и
Софийский собор в Константинополе - своего рода инсигнии
царствующего града, знаки его духовной миссии, унаследо­
ванной от Иерусалима. Главный въезд в византийскую столи­
цу был назван так в честь тех ворот, через которые въезжал
в Святой град Спаситель, а посвящение кафедрального собора
Софии, т. е. Премудрости Божией, неразрывно связывало его
с Сионским храмом, о котором в Притчах Соломона сказано:
«Премудрость построила себе дом» (Прит. 9:1). Иными слова­
ми, Ярослав обращался к традиционной символике Христиан­
ского града, земного образа Царства Божьего. В этом ключе
победа над печенегами обретала значение торжества христи­
анства над «погаными», а сам Киев представал религиозной
святыней, равнозначной Иерусалиму и Константинополю.
Это неминуемо вело к обострению русско-византийских от­
ношений, кульминацией которого был поход русской дружи­
ны на Константинополь в 1043 г. Следующим шагом к нагне­
танию конфронтации стало самовольное возведение Яросла­
вом на митрополичью кафедру в 1051 г. своего единомышлен­
ника Илариона (ум. около 1055).
Вскоре разворачивается активная литературная работа по
идейному обоснованию особого значения Руси как христиан­
ской державы. В науке до сих пор идет спор, имело ли это
произведение форму цикла агиографических сюжетов (ги115
Раздел II
потетическое «Сказание о распространении христианства
на Руси») или же изначально создавалось как летопись. Но
и в том и в другом случае с большой долей вероятности можно
утверждать, что эта работа велась под руководством Илариона. Однако вершиной его идеологических изысканий стало
«Слово о Законе и Благодати» - первый древнерусский исто­
риософский и политический трактат, сохранявший невероят­
ную популярность на протяжении всего Средневековья, при­
чем не только на Руси, но и в южнославянских странах.
Центральная идея этого произведения выражена в проти­
вопоставлении «старых» и «новых» народов, выводимом из
евангельской притчи о вине и мехах: «Лепо бо бе благода­
ти на новы люди въсиати (воссиять). Не вливають бо словеси господню вина новааго учениа благодатьна в мехы ветхы,
обетовъвши в иудестве, аще ли то просядутся меси и вино
пролеется» [Иларион Киевский, 1986, с. 28]. Следуя средне­
вековому литературному этикету, требовавшему некоторой
недоговоренности, Иларион прямо не называет этот «новый
народ», который, подобно «мехам новым», станет хранителем
благодати, как некогда хранителем «закона» был Израиль.
Но он подсказывает читателю ответ таким построением «Сло­
ва», при котором тема развивается от общего к частному: пер­
вая часть - общая формулировка христианской идеи преиму­
щества «благодати» (Нового Завета) перед «законом» (Ветхим
Заветом); вторая - противопоставление «старых» и «новых»
народов; третья - славословие князю Владимиру, крестивше­
му Русь. Таким образом, священная история в представлении
Илариона распадается на две эпохи - эпоху Ветхого Завета
(«закона»), хранителем которого был Израиль, и эпоху Но­
вого Завета («благодати»), оберегать которую призвана Русь.
Так Иларион впервые сформулировал идею богоизбранности
Руси как хранительницы библейского наследия, и этой тео­
рии суждена была очень долгая жизнь.
Не меньшее значение для последующего развития русской
политической мысли имел и другой памятник, возникший
несколько позже, - «Сказание о Борисе и Глебе». История
116
Политические учения Средневековья
убийства двух сыновей Владимира их старшим братом Святополком и последующего отмщения другим братом, Яросла­
вом, отражена и в ряде других произведений. Вместе с ле­
тописной статьей об усобице сыновей Владимира, «Чтением
о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса
и Глеба» и другими текстами они образуют так называемый
«Борисо-Глебский цикл», выражающий одну из ключевых
идей русской средневековой политической мысли. По словам
Д. С. Лихачева, «политическая тенденция культа Бориса
и Глеба ясна: укрепить государственное единство Руси на ос­
нове строгого выполнения феодальных обязательств младших
князей по отношению к старшим и старших по отношению
к младшим» [Лихачев, 1954, с. 89].
Тот факт, что политическая доктрина приняла внешний
облик «семейной саги», объясняется спецификой восточно­
славянского политогенеза: в процессе складывания Киевской
державы с политической сцены были устранены все племен­
ные династии и власть сосредоточилась в пределах одного
разросшегося клана потомков легендарного Рюрика. Таким
образом, казалось совершенно естественным выражение клю­
чевых принципов, регулирующих отношения внутри власт­
ной элиты, через семейные ценности: сыновнюю покорность,
братскую любовь, покровительство старших младшим и по­
слушание младших старшим.
Воплощением этих принципов стало установленное заве­
щанием Ярослава «лествичное* право», согласно которому
вся держава мыслилась общим достоянием его потомков,
а властная иерархия определялась «очередным порядком»: на
Киевском великом столе сидел самый старший среди Рюрико­
вичей, а все остальные престолы распределялись по старшин­
ству в зависимости от богатства, стратегического значения
и престижности каждого из городов.
Тем не менее обоснованием «лествичного права» не исчер­
пывается идейное содержание Борисо-Глебского цикла. Как
верно заметил Б. А. Успенский, повествование о братоубий­
стве «парадигмически соотносится с библейским сюжетом
117
Раздел II
о Каине и Авеле» [Успенский, 2000, с. 47]. Таким образом,
центральная идея Борисо-Глебского цикла оказывается кон­
гениальной теории богоизбранности Руси.
Повествование о братоубийстве Святополка и возмездии
Ярослава является одним из системообразующих сюжетов
древнерусского летописания. В сумме с легендой о призвании
Рюрика, выражающей идею легитимации власти династии,
это - альфа и омега той политической идеологии, которая
отражена на страницах летописи. При этом данная доктри­
на вписана в историософскую рамку все той же идеи бого­
избранности Руси. Так, например, летопись подводит «исто­
рическое» основание под эту идею, повествуя о путешествии
апостола Андрея из Синопа в Рим весьма странным маршру­
том - через Восточную Европу и Балтику. Остановившись на
привал на высоком берегу Днепра, апостол обращается к сво­
им спутникам: «Видите ли горы сиа? Яко на сихъ горах восияеть благодать Божья, имать град велик быти» [ПСРЛ, 1997,
с. 8]. Таким образом, апостол, прозревая будущее, связывает
воедино сходящий со сцены «старый» богоизбранный народ
с еще не явленным миру народом «новым».
Глубокий смысл скрыт и в летописных заглавиях. Так,
например, «Начальный свод», частично дошедший до нас
в составе Новгородской первой летописи, открывается слова­
ми: «Временник, еже есть нарицается летописание князей и
земля Руския, и како избра Богъ страну нашу на последнее
время» [ПСРЛ, 2000, с. 103].
Созвучный смысл имеет и название «Повесть временных
лет». Как убедительно доказано А. А. Гиппиусом и И. Н. Да­
нилевским, слово «временные» означает «последние», т. е.
времена между Первым и Вторым пришествием. Таким
образом, «в первых строках древнейшей русской летописи
речь идет не только (а может быть, и не столько) о прошед­
ших и преходящих годах, но и о конечной цели повествова­
ния» [Данилевский, 2004, с. 239], сама же летопись - это сво­
его рода «Третий Завет», отчет перед Всевышним о последних
временах. При этом следует подчеркнуть, что данная концеп118
Политические учения Средневековья
ция летописи имеет не только религиозный, но и сугубо по­
литический смысл, поскольку богоизбранность предполагает
и ответственность: разумеется - всех и каждого, кто признает
себя рабом Божиим, но в первую очередь - властвующих, ибо
«от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому
много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48).
Идея ответственности власти перед Богом, а опосредо­
ванно - и перед обществом, приобрела особую актуальность
в начале XII в., когда Киевская держава оказалась ввергну­
той в глубокий политический кризис. Не случайно именно
тогда по инициативе власти предпринимается редактирова­
ние летописного свода, и тогда же, опять-таки - с подачи
власти, беспрецедентного размаха достигает культ святых
Бориса и Глеба. Все это связано с деятельностью одной из
ярчайших фигур русского Средневековья - великого князя
Владимира Всеволодовича Мономаха (1053-1125) - и было
частью его политического курса, известного как «доктрина
Мономаха».
Если формулировать суть данной политической програм­
мы предельно кратко, то она заключалась в обеспечении
эффективного военного взаимодействия княжеств в борьбе со
Степью путем частичного отказа от «лествичного права» и пе­
рехода к конфедеративному построению государства на дого­
ворных началах.
С этой целью Владимир инициировал в 1097 г. созыв Любечского княжеского съезда, провозгласившего новый прин­
цип территориально-политического устройства страны: «кождо да держить отчину свою» [ПСРЛ, 1997, с. 256-257]. Это
означало, что отныне «очередной порядок» сохранялся толь­
ко в отношении великокняжеского престола, тогда как все
остальные города превращались в домениальные владения
князей. Таким образом, Киев сохранял значение символиче­
ского центра власти, а великий князь - гаранта военно-поли­
тического единства русских земель. В свою очередь, все участ­
ники Любечского съезда должны были присягнуть в верно­
сти этим принципам и готовности участвовать в карательных
119
Раздел II
санкциях против нарушителей договора: «Да аще кто отселе
на кого будет, то на того будем вси» [ПСРЛ, 1997, с. 257].
Важно отметить, что Мономах был не только политиком,
но и талантливым писателем. Он либо излагал свои идеи
в собственных произведениях, либо содействовал появлению
соответствующих текстов. Так, чтобы добиться участия в Любечском съезде своего главного соперника - черниговского
князя Олега Святославича, он написал ему письмо, в котором
заявил о готовности ради единства Русской земли простить
смерть своего сына. Более того, он признал, что тот был ви­
новником конфликта, а потому на Олеге нет вины: «Суд от
Бога ему пришел, а не от тебе» [там же, 258]. Это послание
составляет часть «Поучения Владимира Мономаха» - первых
политических мемуаров в русской истории.
Политической воле Мономаха обязаны мы и появлением
одного из ярчайших произведений книжности конца XI в. «Повести об ослеплении Василька Теребовльского». Описан­
ное в нем преступление было совершено вскоре после Любечского съезда одним из его участников - князем Давыдом
Игоревичем. С этим произведением в русскую политическую
публицистику входит тема «княжеских крамол», ставшая од­
ной из основных в книжности XII столетия.
Осуждение усобиц и преступлений князей достигает еще
большего эмоционального накала после того, как со смертью
в 1132 г. сына Мономаха Мстислава Великого было окон­
чательно утеряно политическое единство Руси. В предель­
но концентрированном виде эта тема представлена в «Слове
о полку Игореве». «Княжеские крамолы», рассматриваемые
в двух временных плоскостях, являются контрапунктом
«Слова». С одной стороны, автор описывает беды своих дней,
с другой стороны - обращается к «первых времен усобице»
[Слово..., 1950, с. 9], т. е. к событиям, предшествовавшим
правлению Владимира Мономаха. Идеализируя последнего,
автор перекладывает всю вину за братоубийственную рознь
на его главного оппонента - Олега Святославича, чье отче­
ство переиначивает в «Гориславича»: «Тъй бо Олегъ мечемъ
120
Политические учения Средневековья
крамолу коваше и стрелы по земли сеяше» [Слово..., 1950,
с. 15].
Таким образом, политическая программа автора «Слова
о полку Игореве» в полной мере соотносима с «доктриной
Мономаха»: деяниями Владимира Всеволодовича было вос­
становлено единство Руси и обеспечено ее военное превосход­
ство над Степью, тогда как неспособность нынешних князей
следовать этим курсом привела к новой усобице и половец­
ким набегам. Это должно было звучать как предупреждение
современникам, но, увы, «Слово» оказалось пророчеством
Кассандры: ни первая волна татаро-монгольского нашествия
в 1223 г., ни продвижение войск Батыя к восточным рубежам
Руси в 1237 г. не заставили князей забыть распри. Итогом
стала грандиозная катастрофа, обернувшаяся потерей незави­
симости, разрушением десятков городов, гибелью сотен тысяч
людей и культурным регрессом.
Произошедшее было осмыслено как воздаяние за грехи
княжеских крамол и слишком терпимое отношение общества
к сохраняющимся языческим верованиям. Эта тема являет­
ся лейтмотивом определений Владимирского собора 1274 г.:
«Кый убо прибыток наследовахом, оставлыпе божья правила?
Не расея ли ны Бог на лицо всея земля? Не взяти ли быша
грады наши? Не падоша ли сильнии наши князи острием
меча, не поведени ли быша в плен чада наша?.. Сия вся быва­
ют нам, зане не храним правил святых наших и преподобных
отец» [РИБ, 1880, стб. 86].
Именно на этом соборе митрополитом Кириллом был воз­
веден на Владимирскую епископию архимандрит Киево-Пе­
черского монастыря Серапион (ум. 1275) - один из ярчайших
мыслителей той эпохи. В его словах и поучениях разворачи­
вается грандиозная картина «казней господних», обрушив­
шихся на страну: «Не бысть казни, кая бы преминула насъ,
и ныне беспрестани казними есмы, - восклицает Серапион
Владимирский и тут же указывает причину божьего гне­
ва: - не обратихомся к Господу, не покаяхомся о безаконии
нашихъ, не отсупихомъ злыхъ обычаи наших...» [Красноре­
121
Раздел II
чие..., 1987, с. 112]. Ордынское иго - божья кара за грехи,
но одновременно - и испытание, шанс на исправление и про­
щение: «Аще бо поидемъ в воли господни, всемъ утешньемъ
утешить ны богъ небесный, акы сыны помилует ны...» [Крас­
норечие..., 1987, с. 109].
К такому выводу подводило ставшее традиционным для
древнерусской книжности объяснение современных событий
через их соотнесение с библейскими сюжетами, в которых
Бог сурово карает избранный народ, но затем, после раская­
ния, прощает и вознаграждает его. Таким образом, постигшее
страну бедствие, осмысленное в соотнесении с ветхозаветной
историей, способствовало еще более глубокому внедрению
в общественное сознание идеи богоизбранности Руси. Не слу­
чайно именно в годы ордынского ига формируется былинный
цикл, в символике которого значимое место занимает такой
устойчивый образ, как «Святая Русь» - калька с традицион­
ного именования Палестины Святой Землей.
Следствием нашествия стало не только разорение Севе­
ро-Восточной Руси, но и кардинальное изменение территори­
ально-хозяйственной структуры края. Наиболее плодородные
и густонаселенные земли Владимирского ополья обезлюде­
ли и запустели. Часть населения погибла или была уведена
в рабство, оставшиеся в живых, спасаясь от новых набегов,
мигрировали за Оку и в верховья Волги. Следствием этого
стал экономический подъем здешних городов, среди которых
наибольшее влияние приобрели в первую очередь Москва
и Тверь. Именно эти новые центры вступили в XIV в. в борьбу
за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси.
Обе стороны боролись не только за политическое господ­
ство, но и за символическое наследие домонгольской эпохи.
Так, стремясь закрепить не только военную, но и моральную
победу Дмитрия Донского в Куликовской битве, автор «Задонщины» Софоний Рязанец использует «Слово о полку Игореве»
в качестве литературного прообраза написанной им поэмы.
Подражание стилистике «Слова» позволило ему подчеркнуть
значение «Мамаева побоища» как переломного момента в ве­
122
Политические учения Средневековья
ковой борьбе Руси со Степью. В то же время не была забыта
и идея богоизбранности Руси. О том, насколько очевидным
представлялось людям того времени отождествление Руси со
Святой Землей, свидетельствует курьезная ошибка Софония:
в словах из «Слова о полку Игореве» «О Руская земле! Уже
за шеломянем еси!» [Слово..., 1950, с. 14] он увидел указание
на то, что Русь была когда-то «за Соломном» [ПЛДР, 1981,
с. 102].
Сходные мотивы просматриваются и в тверском летописа­
нии: его центральной темой является прославление воинской
доблести и христианской жертвенности великого князя Миха­
ила Ярославича и его потомков. Биографии тверских князей,
называемых «боголюбивыми», также изобилуют библейскими
аллюзиями. Тверь не только в летописях, но и в дипломати­
ческих актах именуется «домом святого Спаса», «богоразум­
ным» и «богохранимым градом».
Эта линия получила свое дальнейшее развитие в период
последнего возвышения Твери при великом князе Борисе
Александровиче (1425-1461). В это время не Москва, разди­
раемая усобицей, а Тверь была самым мощным государствен­
ным образованием в Северо-Восточной Руси, и именно здесь
проявились первые признаки политической централизации.
Борису Александровичу удалось не только лишить своих вас­
салов права «отъезда», но и добиться от литовского князя Витовта обязательства не принимать у себя беглецов. При этом
в договоре впервые, более чем за сто лет до Ивана Грозного,
почти дословно провозглашается его формула «вольного самодержавства»*: «Яз князь великий Борис Александрович во­
лен, кого жалую, кого казню» [Духовные и договорные грамо­
ты..., 1950, с. 62]. Но вершиной идеологических изысканий
тверских книжников является «Инока Фомы слово похваль­
ное благоверному великому князю Борису Александровичу».
В этом произведении тверской князь предстает могуществен­
ным, но милосердным царем, «самодержавным государем» и
мудрым пастырем - восприемником духовной миссии библей­
ских пророков, вождей и помазанников. Тверское княжество
123
Раздел II
провозглашается «Новым Израилем», а его столица - «Богом
спасенным градом» и «Новым Иерусалимом» [ПЛДР, 1982,
с. 284, 290, 292-294, 302].
Традиции тверской политической мысли были впослед­
ствии усвоены идеологами Московского государства. Это вли­
яние обнаруживается в «Послании на Угру» архиепископа
Вассиана, обращенном к Ивану III. Призывая избавить Русь
от ига, Вассиан называет князя «великим Русских стран хри­
стианским царем», «свободителем Новому Израилю» и «па­
стырем добрым», ответственным за «словесное стадо духовных
овец» [там же, с. 524, 528, 530, 534]. Идея «Нового Израи­
ля» сохраняла свою популярность, однако во второй половине
XV в. в фокусе общественного внимания оказалась родствен­
ная ей идея «византийского наследия», что было прямым
следствием падения Константинополя в 1453 г.
Обсуждению этой проблемы добавляло остроты то обстоя­
тельство, что в 1492 г. должна была истечь седьмая тысяча
лет от Сотворения мира, и с этой датой было связано ожида­
ние Конца света. Константинополь, являясь восприемником
миссии Рима, должен был, как считалось, пасть лишь нака­
нуне Светопреставления. Поэтому, когда роковой год истек,
а Конец света не наступил, возникла мысль, что к моменту
своего крушения Царьград уже утерял божественное покро­
вительство, поэтому падение Константинополя не является
предвестием гибели мира. Тем паче что за четырнадцать лет
до этого греки пошли на сговор с Римом и подписали цер­
ковную унию, в чем нетрудно было увидеть причину Божь­
его гнева. Но коль скоро миссия «вечного Рима» отнята у
греков, то к кому она должна перейти? Ответ на этот вопрос
дал митрополит Зосима, провозгласивший в «Извещении о
пасхалии» Москву «Новым градом Константина» [РИБ, 1880,
стб. 799].
Другим преломлением идеи «византийского наследия»
является «Сказание о князьях Владимирских», в котором
излагается фантастическая генеалогия Рюриковичей от им­
ператора Августа и легенда о византийском происхождении
124
Политические учения Средневековья
шапки Мономаха. При Василии III сказание приобрело зна­
чение официальной государственной доктрины и было пере­
ведено на латынь с целью использования в дипломатической
полемике.
Наиболее последовательно идея «византийского насле­
дия» была выражена в теории «Москва - Третий Рим», со­
зданной псковским иноком Филофеем (около 1465 - 1542)
в 1523-1542 гг. Центральная тема его произведений - пробле­
ма ответственности власти перед Богом за духовное состояние
общества. В этом заключается, по мысли Филофея, предназна­
чение «христианского царства» - державы, содействующей
спасению рода человеческого. Такая миссия оказалась не по
силам Ветхому Риму и Риму Новому, и потому она переходит
к Москве: «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четверто­
му не быти!» [Малинин, 1901, с. 45]. Но то, что Московское
государство - последнее в ряду христианских царств, не по­
вод для гордыни, а тяжелейшее бремя ответственности: если
рухнет под тяжестью своих грехов последнее христианское
царство, то настанет Царство Антихристово. Теория Филофея
развивала идею всемирно-исторического значения Московско­
го государства, но его утверждения о праве церкви на мораль­
ную оценку власти и заступничество за притесняемых не мог­
ли быть позитивно восприняты ни Василием III, ни Иваном
Грозным.
Огромное значение теории Филофея заключается в том, что
в исходном ее смысле в ней делался акцент на проблеме сво­
боды воли и ответственности. В понимании псковского старца
переход на Москву значения Рима, «христианского царства» это именно заслуга Руси, итог всей ее истории. В этом за­
ключается его принципиальное расхождение со сторонниками
идеи богоизбранности Руси, мыслившейся как некое искон­
ное ее качество. Именно поэтому Филофей отвергает легенду
о путешествии апостола Андрея, выражающую изначальную
предопределенность Руси к богоизбранничеству. Для этого он
обращается к апокалиптическому сюжету «бежания» Богоро­
дицы от Змия в «пустыню», где она находит успокоение. Фи125
Раздел II
лофей точно указывает «маршрут» Богородицы: она пытается
спастись в Риме, затем бежит в Царьград, а оттуда - на Русь,
в Третий Рим. При этом именование места спасения Богоро­
дицы «пустыней» Филофей объясняет тем, что Русь до приня­
тия христианства «святой веры пуста беша и святии апостолы
в ней не проповедаша» [Малинин, 1901, с. 63].
Филофей был, пожалуй, единственным русским книжни­
ком, столь радикально размежевавшимся и с теорией бого­
избранности Руси, и с легендой о миссии апостола Андрея.
Для сравнения отметим, что его старший современник Иосиф
Волоцкий (1439-1515) открыл этим сюжетом трактат «Про­
светитель», в котором изложил свои взгляды на церковно-го­
сударственные отношения.
Тем не менее политические взгляды Иосифа столь же тесно
связаны с традицией «византийского наследия». С одной сто­
роны, его концепция православного монарха как попечителя
церкви всецело выстроена из византийского «строительного
материала». Так, например, утверждая божественное проис­
хождение царской власти, Иосиф почти дословно цитирует
Агапита и в полном согласии с ромейской идеологией проти­
вопоставляет истинного царя правителю, впавшему в ересь, а
потому утерявшему право на власть, ибо он «не царь есть, но
мучитель» [Иосиф Волоцкий, 1896, с. 549]. С другой сторо­
ны, Иосиф постоянно апеллирует к политическому опыту Ви­
зантии. Так, настаивая на том, что православный правитель,
оберегая церковь, может применять свою власть даже против
иерархов, он с одобрением перечисляет случаи, когда импера­
торы карали за отступление от веры: «...не точию бо простыл
человеки, но егда и патриарси и святители, и священницы въ
ересь впадаху» [там же, с. 538].
Опосредованно связан с византийским опытом и другой
спор, в котором проявился полемический дар Иосифа Волоцкого. Его инициатором был Нил Сорский (около 1433-1508),
почерпнувший от греческих монахов Афона учение о несо­
вместимости с евангельскими заповедями «стяжания» мона­
стырями плодов чужого труда. Оспаривая эти утверждения,
126
Политические учения Средневековья
Иосиф доказывал, что монах не ищет собственного спасения,
а замаливает грехи человечества. Поэтому ничто, в том чис­
ле и забота о хлебе насущном, не должно отвлекать его от
подвигов веры. Значит, монастыри должны владеть землей
и крестьянами, которые бы обеспечивали монахов всем необ­
ходимым.
Этот сугубо религиозный спор между «иосифлянами» (сто­
ронниками Иосифа Волоцкого) и «нестяжателями» (последо­
вателями Нила Сорского) приобрел политическое значение,
поскольку власть попыталась обратить его в свою пользу. Го­
сударство остро нуждалось в земле для наделения ею дворян,
поэтому Ивану III показалось заманчивым решить эту задачу
руками «нестяжателей»: помочь им возглавить церковь, а за­
тем от их лица конфисковать владения духовенства. Однако
позже он отказался от этих планов, осознав, что включен­
ность церкви в поземельные отношения позволяет светской
власти оказывать на нее давление. Если же будет реализова­
на программа нестяжателей, духовенство станет бедным, но
свободным. С точки зрения Ивана III, политических выгод
от подконтрольности церкви было значительно больше, чем
от конфискации ее земель. К тому же иосифляне активно со­
трудничали с властью на идеологическом поприще, что было
по достоинству оценено Иваном III.
Тема уроков византийской истории раскрывается и в со­
чинениях публициста первой половины XVI в. И. С. Пересветова: по его мнению, Константинополь пал из-за того, что
«греческие цари» допускали своеволие знати и не заботились
о «воинниках». Сочинения Пересветова - это апология «цар­
ской грозы», которая должна вершить справедливость без
всякого снисхождения: «...ино любимого своего не пощадити
нашед виноватого» [Пересветов, 1956, с. 153]. Его современ­
ник Федор Карпов (около 1475 - около 1545) также признавал
необходимость сильного государства, основанного на строгой
законности, но считал, что она должна быть уравновешена
«милостью»: первое без второго - «мучительство», второе без
первого - «малодушьство». Истинный «начальник всякого са127
Раздел II
модержьства» соединяет в своем правлении оба средства: на
грешников следует воздействовать «грозою закона и правды»,
добрых - жаловать, а злых и неисправимых «иже лечьбы полутшениа приняти не хотятъ ниже Бога любити, отнюдь истребити» [ПЛДР, 1984, с. 512].
Спор о политике и нравственности вели в своей переписке
Иван Грозный (1530-1584) и Андрей Курбский (1528-1583).
Оба были сторонниками сильной власти, но Курбский счи­
тал, что монарх должен руководствоваться благом страны,
слушать мудрых советников и уважать знать («сильных во
Израили») [Переписка..., 1981, с. 7]. Царь же, наоборот, всех
подданных, включая бояр, считал своими холопами. Аполо­
гия державного насилия вырастает под пером Грозного в це­
лостную историософскую систему. Он указывает, что царство
«еже есть высоко в человецех, мерзость есть перед Богом»
[Иван Грозный, 1951, с. 199]. В послании, адресованном кня­
зю А. И. Полубенскому, Грозный ссылается на Книгу Царств,
повествующую о том, как «не восхотеша Израилтяни под бо­
жиим имянем быти и водими быти праведными слугами его,
просиша себе царя, и богу вельми на них за сие прогневавшуся и дасть им царя Саула» [там же, с. 200]. Таким образом,
божественное предназначение царства - испытание и исправ­
ление человечества через мучительство. Царь же, по мысли
Ивана Грозного, призван омыть подданных кровью, дабы они
искупили свои грехи еще при жизни и непорочными агнцами
вошли в Царствие Небесное.
Чудовищный «сотериологический» эксперимент оприч­
нины дорого дался стране. Он обернулся не только челове­
ческими жертвами и хозяйственным разорением, но и обес­
ценением нравственных норм, разладом между церковью
и государством, потерей доверия к власти. После смерти Ива­
на Грозного правительство царя Федора Ивановича, возглав­
ляемое Борисом Годуновым, взяло курс на преодоление это­
го разлада. Поэтому оказались востребованы идеи Филофея
об ответственности власти перед Богом, а значит - и перед
обществом. В 1589 г. в России было учреждено патриарше128
Политические учения Средневековья
ство, и этот акт был обоснован с позиций теории «Москва Третий Рим», что фактически означало придание ей статуса
официальной политической доктрины. Курс Бориса Годунова
не удалось реализовать в полной мере. Последствия оприч­
нины были слишком тяжелы, а фатальное стечение обстоя­
тельств - загадочная гибель царевича Дмитрия, неурожай
и голод - усугубило их, обрушив страну в пучину Смуты.
Следующий, XVII век, отделенный Смутным временем от
всего предшествующего исторического развития России, от­
крывает совершенно иную эпоху. В политической мысли это­
го периода обнаруживается все меньше черт средневекового
мировоззрения и все больше примет Нового времени. Преж­
ние политические идеи, как бы по инерции, еще сохраняют
влияние на умы, но постепенно они сдают позиции.
«Сказанию о князьях Владимирских» вынесло приговор
новое историческое знание: в XV-XVI вв. читатели могли на
веру принимать рассказ о том, что Владимир Мономах полу­
чил свое прозвище, победив византийского императора Кон­
стантина Мономаха. Но люди следующего века уже имели
представление об исторической хронологии, и им нетрудно
было подсчитать, что ко времени смерти последнего русскому
князю было всего два года. Попытка книжников XVII в. «под­
править» сюжет, заменив Константина IX на Алексея Комни­
на, не спасла положения. Легенда о происхождении царских
инсигний была обречена.
Еще драматичнее сложилась судьба теории «Москва - Тре­
тий Рим». Ей был вынесен приговор церковной реформой Ни­
кона, признавшей за эталон греческую богослужебную прак­
тику. Тем самым был опровергнут ключевой тезис теории
Филофея - о России как последнем оплоте истинной веры,
удерживающем мир от прихода Антихриста. Реформа, пред­
принятая патриархом Никоном и царем Алексеем Михайло­
вичем, подвигла защитников старых обрядов на единственно
возможный для них вывод: Москве, подобно Риму и Констан­
тинополю, оказалась не по плечу миссия «христианского цар­
ства». Третий Рим пал, и мир пленен Антихристом. Теория
129
Раздел II
Филофея уходит в старообрядческие скиты и сохраняется там
вплоть до XX в., но остальное общество надолго теряет к ней
интерес.
Испытание Смуты кардинально изменило мировоззре­
ние русского общества, раздвинув его ментальный горизонт
и сфокусировав внимание на иных проблемах. Не случайно
Д. С. Лихачев назвал XVII столетие «веком пробуждения ха­
рактера». Человека все более начинает интересовать свой и
чужой внутренний мир; он склонен видеть причины полити­
ческих побед и поражений не только, а порой и не столько во
влиянии высших сил, сколько в расстановке сил вполне зем­
ных, в свойствах характера, умственных и волевых качествах
политиков, их умении убеждать и воодушевлять. Россия про­
щается со Средневековьем и вступает в Новое время.
Контрольные вопросы и задания
1. Какие политические цели преследовал император Кон­
стантин, пойдя на союз с христианской церковью?
2. В чем заключается принципиальное различие в полити­
ческих взглядах Евсевия Кесарийского и Иоанна Златоуста?
3. Назовите отличия византийской концепции император­
ской власти от древневосточных, эллинистических и поздне­
римских учений о статусе правителя.
4. Почему в византийской политической мысли основным
предметом полемики были качества идеального правителя, а
не вопросы государственного устройства?
5. Какие изменения в государственном строе Киевской
Руси произошли в результате осуществления «доктрины Мо­
номаха»?
6. Какое произведение политической публицистики при­
обрело статус официальной доктрины Московского государ­
ства в начале XVI в.?
7. Почему теория «Москва - Третий Рим» не стала офици­
альной государственной доктриной в годы правления велико­
го князя Василия III и царя Ивана Грозного?
130
Политические учения Средневековья
8. В чем заключалась суть политических разногласий
между Иваном Грозным и князем А. Курбским?
9. Почему «Сказание о князьях Владимирских» и теория
«Москва - Третий Рим» в XVII в. выходят из политического
употребления?
Темы рефератов и творческих заданий
1. Империя и церковь в трактовке Евсевия Кесарийского
и его последователей.
2. Учение Иоанна Златоуста о соотношении светской и ду­
ховной власти.
3. Концепция «симфонии» властей в Новеллах Юстиниа­
на и Эпанагоге патриарха Фотия.
4. Византийские учения о характере и пределах власти
императора.
5. Историософия и политика в «Слове о Законе и Благода­
ти» Илариона Киевского.
6. Политические идеи древнерусского летописания.
7. Тема «княжеских крамол» в русской политической
мысли домонгольской эпохи.
8. Отражение борьбы за объединение русских земель в ле­
тописании и политической публицистике.
9. Идея «византийского наследия» в политической мысли
XV-XVI вв.
10. Полемика о предназначении и пределах царской власти
в политической публицистике XVI вв.
Литература
1. Агапит. Увещательные главы, написанные Агапитом,
Диаконом святейшей великой церкви Божией // Христиан­
ское чтение. 1827. Т. 27.
2. Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана. Л.:
Изд-во АН СССР, 1953.
131
Раздел II
3. Афанасий Александрийский. Послание Афанасия к мо­
нахам повсюду пребывающим о том, что сделано арианами
при Констанции (история ариан) // Творения иже во святых
отца нашего Афанасия Великого, Архиепископа Алексан­
дрийского. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1902. Ч. 2.
4. Беляев Д. Ф. Byzantina. Очерки, материалы и заметки
по византийским древностям. СПб.: Типография Император­
ской академии наук, 1891.
5. Григорий Богослов. Слово 17, говоренное встревоженным
жителям Назианза и прогневанному градоначальнику // Тво­
рения иже во святых отца нашего Григория Богослова, Архие­
пископа Константинопольского. СПб.: Изд-во Сойкина Π. П.,
1910. Т. 1.
6. Данилевский И. Н. Повесть временных лет: герменев­
тические основы источниковедения летописных текстов. М.:
Аспект-Пресс, 2004.
7. Дука. Византийская история (Византийские историки
Дука и Франдзи о падении Константинополя) // Византий­
ский временник. 1953. Т. 7.
8. Духовные и договорные грамоты великих и удельных
князей XIV-XVI вв. Л.: Изд-во АН СССР, 1950.
9. Евсевий Памфил. Церковная история. М.: Изд. Спа­
со-Преображенского Валаамского монастыря, 1993.
10. Иван Грозный. Послания Ивана Грозного. М.: Изд-во
АН СССР, 1951.
11. Иларион Киевский. Слово о Законе и Благодати //
Идейно-философское наследие Илариона Киевского. М.: Ин-т
философии АН СССР, 1986. Ч. 1.
12. Иоанн Златоуст. Беседы к Антиохийскому народу о
статуях. Беседа шестая // Творения святого отца нашего Иоан­
на Златоуста архиепископа Константинопольского. СПб.: Издво С.-Петербургской Духовной Академии, 1896. Т. 2, кн. 1.
13. Иоанн Златоуст. Слово 21. О начальстве, власти и
славе // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста
архиепископа Константинопольского. СПб.: Изд-во С.-Петер­
бургской Духовной Академии, 1906. Т. 12, кн. 2.
132
Политические учения Средневековья
14. Иоанн Златоуст. Толкование на пророка Даниила //
Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста архиеписко­
па Константинопольского. СПб.: Изд-во С.-Петербургской Ду­
ховной Академии, 1900. Т. 6, кн. 2.
15. Иосиф Волоцкий. Просветитель, или Обличение ереси
жидовствующих. Казань: Типо-лит. Императорского ун-та,
1896.
16. Красноречие Древней Руси (XI-XVII вв.). М.: Совет­
ская Россия, 1987.
17. Лихачев Д. С. Некоторые вопросы идеологии феодалов
в литературе ΧΙ-ΧΙΙΙ вв. // Труды Отдела древнерусской ли­
тературы. 1954. Т. 10. С. 76-91.
18. Макарий Египетский. Новые духовные беседы. М.:
Интербук, 1990.
19. Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и
его послания. Киев: Изд-во Киево-Печерской Успенской Лав­
ры, 1901.
20. Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР). Вторая
половина XV века. М.: Художественная литература, 1982.
21. Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР). Конец
XV - первая половина XVI века. М.: Художественная литера­
тура, 1984.
22. Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР). XIV середина XV века. М.: Художественная литература, 1981.
23. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М.:
Наука, 1981.
24. Пересветов И. С. Сочинения Ивана Пересветова. Л.:
Изд-во АН СССР, 1956.
25. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М.: Языки
русской культуры, 1997. Т. 1.
26. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М.: Языки
русской культуры, 2000. Т. 3.
27. Приск Панийский. Сказания Приска Панийского //
Феофан Византиец. Летопись от Диоклетиана до царей Ми­
хаила и сына его Феофилакта. Приск Панийский. Сказания
Приска Панийского. Рязань: Александрия, 2005.
133
Раздел II
28. Русская историческая библиотека (РИБ). СПб., 1880.
Т. 6.
29. Слово о полку Игореве. Л.: Изд-во АН СССР, 1950.
30. Сократ. Схоластик. Церковная история. М.: РОССПЭН,
1996.
31. Успенский Б. А. Борис и Глеб: восприятие истории в
Древней Руси. М.: Языки русской культуры, 2000.
32. Epanagoge Basilii Leonis et Alexandri // Collectio
librorum juris graeco-romani ineditoru. Leipzig, 1852.
33. Institutiones // Corpus iuris civilis. Berolini, 1872. Vol. 1.
34. Novellae / Hrsg. von R. Scholl, W. Kroll // Corpus Juris
Civilis. Vol. III. Berlin: Weidmann, 1959.
35. Sumner В. H. Survey of Russian History. London:
Duckworth, 1947.
Глава 5. Западноевропейские политические учения
в эпоху Средних веков
Политические учения средневековой Западной Европы
охватывают теоретически (доктринально) выраженные пред­
ставления о политической власти в период с VI по XVI в.
включительно.
Период раннего западноевропейского Средневековья (VIXI вв.) отмечен «темными веками» (примерно с VI по IX в.)
из-за упадка культурных античных традиций вследствие
варварского завоевания Западной Римской империи. Одна­
ко, добыв себе земли империи, варвары не могли присвоить
ее символы, которые продолжали довлеть над ними в виде
культурного императива, ждущего своей реализации в новой
исторической форме [Аверинцев, 1977, с. 110]. И эта реали­
зация не заставила себя долго ждать: в 800 г. король фран­
ков Карл Великий коронуется римским папой под именем
«императора», начинается «Каролингское возрождение»*.
А в 962 г. восточнофранкский король Оттон I основывает Свя­
щенную Римскую империю - символическое продолжение
Древнего Рима.
134
Политические учения Средневековья
Первый этап средневековой Западной Европы, открыв­
шийся варварскими королевствами, завершается феодальной
раздробленностью. Ее средний этап (середина XI - середина
XV в.) характеризуется становлением централизованных со­
словно-представительных монархий и расцветом средневековой
культуры. Появляются многочисленные переводы греческих и
арабских авторов, возникают первые университеты (в Болонье
и Париже), где активно осваивается античная правовая тра­
диция, прежде всего упомянутый выше «Свод» византийско­
го императора Юстиниана. Ключевую роль в жизни общества
играет церковь, ставшая не только главным идеологическим
авторитетом, но также крупным собственником. Внутри себя
церковь была выстроена по феодально-иерархическому прин­
ципу, управлялась папой как монархом. Ко второй половине
XII в. в Европе возникает сеть мощных (в военно-политическом
смысле) христианских орденов (тамплиеры, тевтонцы и др.),
с опорой на которые папство ставит себя выше императорской
власти. Римские папы управляют европейскими монархами
как ленные господа, а императоры Священной Римской импе­
рии отказываются от патроната над Римом.
Начало позднего этапа средневековой Европы (XV - начало
XVII в.) характеризуется глубоким кризисом католичества,
♦ авиньонским пленением пап»* и «великим западным раско­
лом»*. Реакцией на этот кризис стали религиозные движения
протеста, достигшие своего пика в Реформации. В культур­
но-политическом контексте формирующихся наций европей­
ские государи стали провозглашать свою независимость от
папской курии. Все это происходило на фоне набиравшего
силу Возрождения, в лоне которого формировались зачатки
национально-буржуазной альтернативы христианско-сред­
невековому миропорядку. Сословно-представительная фор­
ма монархического правления начинает переживать кризис,
обнаруживая признаки абсолютизма*.
При анализе политических идей западноевропейского Сред­
невековья следует учитывать борьбу за власть между римской
курией и европейскими монархами. Классическим примером
135
Раздел II
этой борьбы считается противоборство между папой Григори­
ем VII (1020/1025-1085) и германским королем, императо­
ром Священной Римской империи Генрихом IV (1050-1106),
в особенности его знаменитое «хождение в Каноссу»*. Позд­
нее для идеологов папства это событие стало символом восхо­
дящего могущества римско-католической церкви и господства
«теории папской власти», превращавшей Священную Рим­
скую империю в завершенное теократическое государство. Со­
гласно данной теории, получившей воплощение в политиче­
ской практике римских пап XIII в., власть духовная получает
неограниченное право распоряжаться всеми светскими дела­
ми. Это предполагало, помимо прочего, право пап отлучать от
церкви любого христианина, включая государей, даже право
освобождать подданных от присяги законному государю. Та­
ким образом, государство утрачивало в глазах церкви всякое
самостоятельное значение и могло «спастись» только через
благословение римской курии.
Политические учения этого периода представлены прежде
всего схоластикой.
5.1. Политические учения периода схоластики
Схоластика, или «школьная философия» (др.-греч.
σχολαστικός, лат. scholastica), сменившая патристику, охваты­
вает период зрелого Средневековья (XI-XIV вв.). В сфере по­
литических учений дух схоластики выразился в подчинении
рациональных суждений о политике догматам христианско­
го вероучения и теологии, при особом интересе к формаль­
но-логической стороне любого обсуждаемого вопроса. При
этом высшим авторитетом и идейной основой всех теорети­
ческих спекуляций на политические темы были не столько
тексты Библии, сколько их официальная трактовка церко­
вью. Ключевым в ней было толкование тех мест из Библии,
где речь идет о мечах как символах власти («Господи, вот
здесь два меча» (Лк. 22:36, 38); «Вложи меч свой в ножны»
(Мф. 26:52)) в пользу господства церкви.
136
Политические учения Средневековья
Осторожные попытки смягчить теократический пафос тео­
рии двух мечей предпринял, в частности, французский теолог
Бернар Клервоский (франц. Bernar de Clairvaux) (1090-1153).
Суть отличия позиции Бернара Клервоского от официальной
* теории двух мечей» помогает прояснить сравнение двух вы­
сказываний. Бернар трактует упомянутую теорию так: «Оба,
следовательно, меча принадлежат церкви: и духовный, и ма­
териальный, но один должен быть употребляем за церковь,
другой - церковью, один - рукою священнослужителя, дру­
гой - рукою воина, но с согласия священника и по повелению
императора [ad nutum sacerdotis et jussurn imperatoris]» (цит.
по: [Чичерин, 1903], курсив наш. - С. П.). А вот выдержка из
буллы папы Бонифация VIII «Unam Sanctam», которая чита­
лась при коронации западноевропейских королей: «Итак, оба
меча находятся в обладании Церкви, и духовный, и матери­
альный. Но второй должен употребляться за Церковь, а пер­
вый - Церковью; один рукой священника, другой - рукой ца­
рей и воинов, но по приказанию Церкви в покорность ей [ad
nutum et patientiam sacerdotis] [Зызыкин, 1931, с. 184-185].
Как видим в заключительных частях этих цитат, папская
булла делает единственным субъектом господства (духовного
и светского) церковь.
Особое развитие теория двух мечей получает в трактате
«Поликратикус» (лат. policraticus - сообщество, правление),
написанном англо-французским схоластиком Иоанном Солсберийским (лат. Johannes Saresberiensis) (1115/1120-1180). Со­
гласно Иоанну, церковь, вручая карающий преступников меч
светскому правителю, тем самым трактует его как своего слу­
жителя (minister sacerdotis). При этом папа оставляет за собой
право низложить государя, если тот не исполняет своих обя­
занностей. Общее благо достигается в обществе при условии
согласия, с одной стороны, между государем и духовенством,
а с другой - между государем и народом.
По аналогии с сословиями платоновского государства
Иоанн выделяет в обществе «работающих», «воюющих» и
«молящихся». Государством должны управлять «молящие137
Раздел II
ся», т. е. священники во главе с папой. Вслед за Платоном
Иоанн понимает справедливость как выполнение каждым
членом «государственного тела» (лат. corpus rei publicae) своих
обязанностей. Он отличает праведного государя, правящего на
основе законов и справедливости, от тирана, не признающего
законов. Справедливый монарх представляет не просто благо,
но свободу народа. Тем самым в понятие праведного правле­
ния включается элемент демократической легитимации мо­
наршей власти. Напротив, тиран как тотальное и абсолют­
ное зло «подлежит убиению». Этот вывод плохо согласуется
с евангельской моралью, но поскольку в случае неповино­
вения светских государей у римских пап нет специального
аппарата принуждения, им остается апеллировать к народу
и оправдывать его тираноубийства.
«Поликратикус» Иоанна Солсберийского предвосхитил
многие идеи, ставшие влиятельными в последующие эпохи.
К ним относятся теория божественных прав королей, кон­
цепция личного абсолютизма, но прежде всего - идея наци­
онально-государственной идентификации, с одной стороны,
правителей и народа, а с другой - народа и государственной
территории.
В раннем и зрелом Средневековье отношения власти были
гораздо более персонифицированы, чем в Новое время, а их
привязка к территориальным единицам была весьма услов­
ной. Иоанн же четким, правовым образом связывает поддан­
ных как публично-политическое сообщество (res publicum) с
государем как публично-политическим авторитетом (persona
publicum). Без территориальной идентификации власти с по­
литическим сообществом, живущим на определенной терри­
тории, немыслимо современное понятие национального госу­
дарства. Эта же идентификация составляет первейшую пред­
посылку того, что Макиавелли позднее назвал «государством»
(stato).
Наиболее полным образом схоластическую трактовку по­
литической сферы выразил Фома Аквинский (лат. Thomas
Aquinas, итал. Tommaso d’Aquino) (1225/1226-1274). Полити138
Политические учения Средневековья
ческие воззрения Фомы изложены в трактатах «О правлении
государей» и «Сумма теологии», а также в комментариях на
сочинения Аристотеля.
Аквинат утверждает, что «для человека, так как он суще­
ство общественное и политическое [animal sociale et politicum],
естественно то, что он живет во множестве [multitudo]» [Фома
Аквинский, 1990, с. 233]. Но если Аристотель под «полити­
ческим существом» понимал человека, живущего в полисе, то
Фома под «обществом» подразумевает сословную монархию
средних веков. Не случаен здесь и термин «множество», от­
личный по смыслу от терминов «общество» (societas) и «на­
род» (populus), также употребляемых Фомой. Томистский
термин multitudo выступает проекцией монархического прин­
ципа: «Наилучшим образом управляется то человеческое мно­
жество, которое управляется одним» [там же, с. 237].
Государство, в котором удовлетворены все основные потреб­
ности человека, Фома называет «совершенной общностью»,
обозначая его знакомым по сочинениям Августина термином
«город-государство» (civitas). Однако в отличие от августиновского «града» и тем более от аристотелевского «полиса»
Фома подчеркивает иерархический порядок civitas. По сути,
стать человеком можно только через подчинение монарху
как воплощению общего блага (bonum commune). Все усилия
Аквината направлены на то, чтобы доказать преимущества
монархического правления перед республиканским (демокра­
тическим).
Впрочем, Аквинат не ограничивается рассмотрением одной
только монархии. В своем трактате «О правлении государей»
он предпринимает классификацию форм правления, следуя во
многом за Платоном и Аристотелем. В основе классификации —
понятие «справедливого правления», идущего во благо «под­
властного множества». Соответственно, Фомой определяются
три формы справедливого (царская власть, аристократия, по­
лития) и несправедливого (тирания, олигархия, демократия)
правления. Фома соглашается с аристотелевскими доводами
в пользу смешанной формы правления как наиболее устойчи139
Раздел II
вой, приводя в пример республиканский Рим. Одновременно,
следуя Платону, Аквинат выделяет из политических форм
правления власть мудрых королей, которые не нуждаются
в законах, чтобы править справедливо. Однако залогом та­
кой мудрости выступает у Фомы не платоновский мир идей,
а христианская вера, точнее, верность католической церкви.
Аквинат убежден: «...наместнику Христа Папе Римско­
му... все цари христианского мира должны подчиняться, как
самому Господу Иисусу Христу» [Фома Аквинский, 1990,
с. 243]. Если же эти цари нарушают естественный закон, не
заботясь о благе подвластного им множества, тогда они под­
лежат отлучению от церкви, а подданные получают санкцию
«низвергнуть тирана». Заниматься же тираноубийством по
собственной инициативе Фома «множеству» не советует. Для
теоретического обоснования церковного права на отлучение
Фома использует схоластическое различие между «сущно­
стью» государственной власти и ее «использованием». Сущ­
ность власти божественна, а вот ее использование — нет.
Власть осуществляют конкретные люди-правители, наделен­
ные свободной волей, склоняющей их не только к добрым, но
и к злым поступкам. Бог конкретно этих людей во власть не
назначал и злых поступков им не внушал. Но Бог может их
судить посредством святого престола в Риме.
Фома повторяет важную мысль Аристотеля о том, что люди
соединяются в полис не для того, чтобы выжить, но чтобы
жить счастливо. Правда, у Аквината речь идет не о «счастье»
в смысле древнегреческой «эвдемонии», но о «хорошей жиз­
ни» (bene vivere). Причем эта жизнь - отнюдь не самоцель,
но обусловлена следованием добродетели; а целью доброде­
тельной жизни является достижение небесного блаженства.
Для реализации этой цели необходимо наличие государства,
которое есть не только «кнут» для греховного человека, но
и способ его позитивной реализации как разумного существа.
Государство - это посредник между Богом и человеком.
Государство-общество подчинятся у Фомы человеческому
закону (lex humana), который, будучи отягчен греховной при140
Политические учения Средневековья
родой человека, есть несовершенное применение естествен­
ного закона (lex naturalis) к конкретным особенностям того
или иного государства. В свою очередь, естественный закон это внесенный Богом в человека и познанный человеческим
разумом вечный закон (lex aeterna). Политическая власть
опосредована, таким образом, не только вечным божествен­
ным законом, но и сугубо человеческими законами, которые
противоречат божественным заповедям или сами себе проти­
воречат, а потому являются «извращенными законами» (legis
corruptio).
В целом государственную власть Фома рассматривает по­
зитивно, как условие «единого порядка», без которого госу­
дарство с его «общим благом» немыслимо. Высшим проявле­
нием общего блага является «мир» в обществе. Под ним Фома
Аквинский понимает не просто отсутствие войны, но полити­
ческую дружбу, предполагающую согласие относительно выс­
ших благ человеческой жизни. Такой мир создается союзом
христианских душ, а не мечей.
Завершение средневековой схоластической традиции в
трактовке социально-политических вопросов связано, по­
мимо прочих, с фигурой Уильяма Оккама (англ. William of
Ockham) (около 1285-1349) - английского философа, выда­
ющегося представителя номинализма*. Свои политические
трактаты Оккам написал в Мюнхене, где жил под покрови­
тельством Людовика Баварского, спасаясь вместе с другими
монахами-францисканцами от преследования папы Иоанна
XXII. Оккаму приписывают фразу, которую он якобы сказал
своему покровителю: «Ты защищай меня мечом, я буду защи­
щать тебя пером».
В своем солидном трактате «Труд девяноста дней» британ­
ский философ стремился примирить светскую и духовную
власти, с одной стороны, посредством точного разграниче­
ния сфер их компетенции, а с другой - признавая за ними
право в случае необходимости вмешиваться в пределы друг
друга. При этом Оккам признает за светской властью право
наказывать еретиков, поскольку это необходимо в целях под141
Раздел II
держания согласия в обществе. В трактате «Восемь вопросов
о власти и сане пап» Оккам отвергает защищаемый римской
курией тезис, будто власть-собственность светских государей
происходит от папы. Напротив, он считает, что папское по­
мазание при коронации государей лишь придает торжествен­
ность правам собственности государей, но самих этих прав
не создает. Подобно Иоанну Солсберийскому, У. Оккам видит
в папе только служителя (ministrator), а не господина-пове­
лителя. Уже в близком Реформации духе Оккам заявляет,
что духовная власть, независимая от светской, принадлежит
не папе и епископам, а церкви как универсальной общине,
включающей все поколения верующих.
Важные политические идеи содержатся в таких полеми­
ческих сочинениях У. Оккама, как «Об императорской и
папской власти», «Разбор заблуждений Иоанна XXII», «Трак­
тат против Бенедикта XII» и др.
В Мюнхене, при дворе Людовика Баварского, Оккам позна­
комился с Марсилием Падуанским (Marsiglio dei Mainardini)
(1275/1290-1342/1343) - его союзником в борьбе против папы
Иоанна XXII, знаменитым философом-аверроистом и полити­
ком.
За свой трактат «Защитник мира» (Defensor pads) (1324)
Марсилий был отлучен от церкви, а потом заочно пригово­
рен к сожжению на костре. Идеи этого трактата значительно
опередили время, не случайно и опубликован он был лишь
в разгар Реформации, спустя двести лет после его создания.
Обеспечение социального мира - главная тема данного про­
изведения. Этот «мир» у Марсилия есть, в отличие от ана­
логичного концепта Фомы Аквинского, мир гражданский,
в основе которого - счастье отдельного гражданина, понято­
го в раннебуржуазном духе средневековых итальянских горо­
дов. В данном трактате Марсилий выступает с резкой крити­
кой притязаний пап на светскую власть. Подобно У. Оккаму,
он делает революционные выводы из позднесхоластических
теорий. Так, при обосновании отделения церкви от государ­
ства Марсилий использует «теорию двух истин», из которой
142
Политические учения Средневековья
вытекало, что сверхчувственный мир и относящаяся к нему
задача спасения души есть автономная сфера, параллельная
миру земному, в котором главная цель - достижение «хоро­
шей жизни», а не спасение.
Папы нарушают «мир», если они вмешиваются в дела свет­
ских государей. Папская власть, по убеждению Марсилия,
возникла в силу естественной организационной потребности,
а не в силу божественного промысла; поэтому количество
клириков должно определяться государством исходя из об­
щих задач управления обществом. У церкви же нравствен­
ная миссия: быть духовным «врачевателем» и «воспитателем»
христианского народа. Отсюда Марсилий Падуанский выво­
дит идею ограничения церковной юрисдикции делами веры,
тогда как вопросы, затрагивающие общие интересы (к приме­
ру, борьба с еретиками как вопрос безопасности государства),
должны относиться к светскому суду. Но лишенная светских
политических прав и претензий церковь не нуждается тогда
и в богатствах - в этой мысли Марсилия уже сквозит идея
секуляризации церковных земель в духе позднейшей Рефор­
мации.
Деполитизируя духовную власть, Марсилий одновременно
десакрализирует и власть светскую. Ее источником выступает
не Бог, папа или монарх, а народ как универсальное сооб­
щество граждан (universitas civium). Таким образом, Марси­
лий одним из первых в позднем Средневековье предвосхищает
идею народного суверенитета. Народ, или, точнее, лучшая его
часть (valentior pars) является для него главным субъектом
законодательной власти и высшей санкцией для законов госу­
дарства, их соответствия «общей пользе».
5.2. Политические идеи раннего Возрождения
Средневековье отмечено двумя родственными движениями:
Возрождением и Реформацией. Возрождение, или Ренессанс
(фр. Renaissance, итал. Rinascimento - заново рожденный),
хронологически предшествует культуре Нового времени,
143
Раздел II
охватывая период с начала XIV в. до конца XVI в. Сам термин
«Возрождение» появился с середины XVI в. и обозначил лишь
факт возрождения массового интереса к античной культуре.
Первоначально росту этого интереса способствовали бежавшие
на Запад образованные слои гибнувшей Византийской импе­
рии. Однако позднее (примерно с XIX в.) исторический вектор
этого концепта изменился на противоположный: теперь в нем
стали видеть провозвестника модерна - новой (буржуазной)
эпохи. Термин «Реформация» (лат. reformatio — исправление,
преобразование) в современном его смысле (как религиозные
преобразования в протестантском духе) стал употребляться
примерно на рубеже XVII-XVIII вв. Возрождение - понятие
хронологически более широкое, чем Реформация; некоторые
авторы вообще рассматривают Реформацию как один из эта­
пов Возрождения, относящийся к странам Центральной и Се­
верной Европы.
Как бы то ни было, оба феномена выражают дух истори­
ческих перемен, усиление третьего сословия, формирование
европейских наций, кризис института папства и его идеоло­
гии. Именно неприятие санкционированных «святым престо­
лом» социальных порядков вызвало обращение идеологов Ре­
формации и Возрождения к античному наследию: античному
искусству, апостольской церкви, греческой философии, рим­
скому праву и т. д. Возрождение и Реформация выступали
против феодального сословного неравенства, стремясь утвер­
дить ценность автономной личности. Отсюда вытекала их ос­
новная задача: раскрепостить человека, дать ему возможность
проявить свой творческий потенциал. Можно сказать, что оба
движения были близки в ответе на вопрос «От чего быть сво­
бодным?». От идеологии и практики римско-католической
церкви. Но вот ответ на вопрос «Для чего быть свободным?»
у представителей Возрождения и Реформации был разным.
Мировоззренческий идеал Возрождения был сугубо свет­
ским, земным, гуманистическим. В центре его стоял Человек,
а не Бог. Причем Возрождению был колоссально интересен
вполне земной человек, со всеми его добродетелями и порока­
144
Политические учения Средневековья
ми, чудесами и причудами. В человеке ренессансное сознание
больше всего ценило силу духа и тела, а вовсе не благоче­
стие. Сильная и свободная личность, прообраз буржуазного
self-made man, - вот что было ценно Возрождению. Идеология
же Реформации, черпая свое вдохновение от первоначального
христианства, оставляла в центре своего мировидения Твор­
ца. Правда, человека, обретающего свой личный путь к Богу,
она понимала как вполне свободного индивидуума, который
должен сознательно и по совести стать христианином. Но
коль скоро человек такой выбор сделал, он должен вручить
свою свободу обретенному Богу. Как остроумно заметил в свое
время К. Маркс, М. Лютер «освободил человека от внешней
религиозности, сделав религиозность внутренним миром че­
ловека» [Маркс, 1955, с. 422-423]. Полное и сознательное
подчинение христианской общине - важный элемент рефор­
мационной идеологии, с чем связана также ее нетерпимость
к «ложным» учениям. В Реформации был очевиден религиоз­
ный фанатизм, готовность к революционному насилию, а для
многих сторонников гуманистических идей это было равно­
сильно варварству.
Для политических учений раннего Возрождения (примерно
XIV-XV вв.) был характерен антисхоластический тип мышле­
ния, сопряженный с интересом к античному наследию. И если
схоластику (помимо чисто богословских споров) интересовали
прежде всего проблемы онтологии, логики и гносеологии, то
у ренессансных авторов, напротив, все большее значение при­
обретали социально-политические вопросы.
Данте Алигьери (итал. Dante Alighieri) (1265-1321), на­
писавший «Божественную комедию» и заложивший основы
итальянского литературного языка, был также выдающимся
политическим мыслителем. В трактате «Пир» он заявляет:
«Из всех проявлений Божественной премудрости человек —
величайшее чудо» [Данте Алигьери, 1968, с. 181]. Ссылаясь
на Аристотеля, Данте считает, что государство возникает как
реализация общественной природы человека [там же, с. 209].
Правда, первородный грех дает о себе знать в политических
145
Раздел II
междоусобицах и войнах. Для их устранения необходимо,
«чтобы все, чем дано владеть человеческому роду, было Мо­
нархией, то есть единым государством, и имело одного госу­
даря, который, владея всем и не будучи в состоянии желать
большего, удерживал бы отдельные государства в пределах их
владений, чтобы между ними царил мир» [Данте Алигьери,
1968, с. 209].
Свой идеал всемирной монархии Данте основывал, с одной
стороны, на романтизированном прошлом Римской империи,
а с другой - на платоновском «идеальном государстве». Рим­
ского императора Данте называет «единым кормчим», кото­
рый в целях «совершенства вселенского союза человеческого
рода» должен обладать «всеобщим и непререкаемым правом»
повелевать членами этого союза [там же]. Как и в платонов­
ском «Государстве», в Дантовой империи философам отводит­
ся исключительно важная роль, однако сами они монархией
не управляют, но только помогают своим авторитетом импе­
ратору. Более подробная картина политического идеала Данте
развернута в его трактате «Монархия» (1313). Здесь флорен­
тийский мыслитель выразил свои мечты о единой Италии под
сенью сильной императорской власти. Двумя взаимосвязан­
ными препятствиями на этом пути он считает слабость им­
ператоров Священной Римской империи и притязания пап
на светскую власть. Данте четко отделяет светскую власть
от духовной. С одной стороны, «право давать власть царству
земному противоречит природе церкви», а с другой - «власть
[autoritas] империи вовсе не зависит от церкви» [Данте Али­
гьери, 1999, с. 134].
Главный вопрос «Монархии» - это условия достижения со­
циального мира. Итальянский мыслитель стремится доказать
при этом три главных тезиса: 1) для «благосостояния мира»
необходима «светская монархия, называемая обычно импери­
ей»; 2) исполнение имперской роли по праву заслужил рим­
ский народ; 3) авторитет империи зависит непосредственно
от Бога, а не от служителя Бога или его наместника [там же,
с. 22-23].
146
Политические учения Средневековья
Аргументация Алигьери в пользу этих тезисов, с обиль­
ными ссылками на Библию и Аристотеля, внешне выглядит
вполне схоластической, но в ней уже немало признаков ренес­
сансного мировоззрения. Так, пользу монархического (импер­
ского) правления Алигьери видит в обеспечении свободы, пре­
жде всего - личной свободы граждан. Данте отчасти предвос­
хищает концепт доблести у Макиавелли, трактуя знатность
(честь) как результат личной доблести и отличая последнюю
от «доблести предков» [Данте Алигьери, 1999, с. 59]. По сло­
вам Л. М. Баткина, в Дантовой идее всемирной монархии, по
существу, заложена идея монархии национальной [Баткин,
1958, с. 83—85]. Впрочем, эта национальная подоплека «Мо­
нархии» была не столь очевидной, как у французских юри­
стов XIII-XIV вв.*, однако это не спасло трактат Данте от
гнева римской курии, внесшей его в середине XVI в. в индекс
запрещенных книг.
Трактаты Данте Алигьери открывают славные традиции
гражданского гуманизма, нашедшие продолжение на флорен­
тийской почве у таких мыслителей, как Колюччо Салютати,
Леонардо Бруни Аретино и Никколо Макиавелли.
Колюччо Салютати (итал. Coluccio Salutati) (1331-1406) выдающийся ученый и политик Флорентийской республики,
ее канцлер в период с 1375 по 1405 г. В духе Возрождения
К. Салютати был поклонником античной культуры, учредил
первую кафедру греческого языка во Флоренции (под руко­
водством византийского ученого Эмануила Хрисолора). Салю­
тати отдавал приоритет в науке и воспитании «гуманитарному
знанию» (studia humanitatis). Принципиально, что Салютати
«царство человека» и «знания человеческие» ставил на один
уровень с «градом Божьим» {civitas dei) и богословием (studia
divinitatis) [Брагина, 1977, с. 112-113]. Для Салютати studia
humanitatis является практическим знанием, формирующим
нравы людей, их способность к добродетельным (доблестным,
героическим) (virtus) поступкам. Политические идеи Салюта­
ти разбросаны в ряде его сочинений («О тиране», «О роке,
судьбе и случайности», «О жизни в миру и монашестве»),
147
Раздел II
а также в письмах. Активное участие в государственной жиз­
ни философов-ученых Салютати приветствовал, но при усло­
вии, что оно преследует благие цели. Флорентийский ученый
был убежденным сторонником республиканского правления,
основанного на силе справедливого законодательства. Основой
справедливости является общественная польза. Но справедли­
вые законы - это только возможность гражданской свободы,
а для превращения ее в действительность у граждан должны
быть рычаги реального влияния на власть.
Свои философские и политические идеи Салютати пропа­
гандировал в рамках учрежденного им молодежного кружка,
одним из воспитанников которого был Леонардо Бруни Аретино {Leonardo Bruni Aretino) (1370-1441). Он - автор ряда
важных сочинений на историко-политические темы: «Восхва­
ление города Флоренции», «О милиции», «О флорентийском
государстве», «История флорентийского народа». Сверх того,
флорентийский просветитель перевел на латынь большое ко­
личество диалогов Платона, работы Плутарха и Демосфена, но
прежде всего - «Никомахову этику» и «Политику» Аристоте­
ля. Подобно многим представителям античной политической
мысли, Л. Бруни считает заботу о благополучии своей родины
высшей ценностью и наиболее возвышенной формой человече­
ской деятельности. Его идеал - активная гражданская жизнь
(vita activa civilis). Но к реализации этого идеала человека
надо готовить в рамках соответствующего воспитания. Для
Л. Бруни это значило опору на studio humanitatis в противо­
положность схоластическому studio divinitatis. Центральное
место в системе гуманитарного образования у Л. Бруни зани­
мает учение о свободе, что объясняется политической драмой,
в которой Флоренция жила на рубеже XIV-XV вв.: республи­
ка дралась за свою независимость, а для этого ей нужны были
ученые-патриоты, а не схоласты-космополиты.
По сравнению с античными мыслителями, оригинальность
Бруни состоит не в новой теории государства, а в трактовке
условий политической свободы. К таковым Бруни, рассматри­
вая флорентийскую республику как образец, относит прежде
148
Политические учения Средневековья
всего конституционные ограничения власти, «власть зако­
нов». Последние должны быть организованы так, чтобы ис­
ключить узурпацию власти каким-то одним лицом или груп­
пой лиц. Далее законы должны заботиться о благоденствии
всех граждан, богатых и бедных, предотвращая тем самым
гражданские междоусобицы.
Политическая свобода возможна для Бруни только в усло­
виях республиканского, а не монархического правления. Это
предполагает равенство граждан перед законом, а также вы­
борность и подотчетность власти. В трактовке меры граждан­
ского равноправия Бруни колебался между демократическим
(при участии в управлении «пополанов» - мелких торговцев
и небогатых ремесленников) и аристократическим (правление
«жирных людей» - богатых членов цехов) вариантами, скло­
няясь к варианту «смешанной» республики [Бруни Аретино,
1985, с. 67].
Значение Бруни для истории политической науки исследо­
ватели его творчества видят в том, что у него «впервые поли­
тико-юридические институты становятся объектом научного
наблюдения, а история признается ключом для объяснения
современности» [Ракитская, 1980]. Предвосхищая Макиа­
велли, Бруни закладывает методологию новой политической
науки (scientia politico), продолжающей традиции Платона
и Аристотеля, но одновременно выходящей за рамки их со­
зерцательной позиции.
5.3. Политические идеи Реформации
Основные реформационные идеи высказывались задолго до
XVI в., мы встречаем их уже в первой половине XIV в. у Ок­
кама и Марсилия Падуанского, а Джона Уиклифа и Яна Гуса
принято называть прямыми предшественниками, или первы­
ми идеологами реформационного движения.
Будучи профессором Оксфордского университета, Джон
Уиклиф (John Wycliffe) (1320/1324-1384) заявлял в своих
лекциях, что Иисус и апостолы собственности не имели, по149
Раздел II
тому и служители римско-католической церкви должны от
нее отказаться. Уиклиф считал, что каждый человек может
приобщиться к Богу напрямую, без церковных обрядов и
посредников, но только молитвой, чтением Библии (отсюда
необходимость ее перевода на национальный язык), а так­
же прямыми моральными обязательствами перед Творцом.
Уиклиф, как и позднейшие идеологи Реформации, восста­
навливал попранный папством приоритет Писания по от­
ношению к церковным решениям. Папской теории «двух
мечей» как зависимости государства от церкви он противо­
поставляет принцип зависимости церкви от государства: гла­
вой церкви должен быть король, он же должен определять
ее имущественные права. Уиклиф называл папу «антихри­
стом», а «Константинов дар»* считал орудием отступниче­
ства от христианской веры.
Костра инквизиции Уиклиф избежал лишь благодаря за­
щите английского королевского двора, которому пришлись по
душе идеи оксфордского ученого. Впрочем, животная месть
«слуг Божьих» все же настигла его бренные останки: по ре­
шению Констанцского собора кости Уиклифа были выкопаны
из земли и сожжены в 1428 г.
Учение Уиклифа вдохновило мировоззрение лоллардов
(народных проповедников), требовавших передачи земель
крестьянам и отмены крепостной зависимости; значительно
повлияло оно и на идеолога чешской Реформации Яна Гуса
(чеш. Jan Hus) (1371-1415).
В своем «Трактате о церкви» Ян Гус, подобно Уиклифу,
считал единственным источником веры Писание, отрицал са­
кральный характер папских булл, видел в церкви не властную
иерархию, а общину верующих. Истинная церковь возглавля­
ется не папой, а Христом. Чешский реформатор выступал про­
тив церковной десятины и претензий пап на светскую власть,
признавал вмешательство праведных государей в дела церк­
ви. Ян Гус был обвинен в ереси, вероломным образом схвачен
католической инквизицией и сожжен на костре. Казнь Яна
Гуса стала поводом для крестьянской войны в Чехии, в ходе
150
Политические учения Средневековья
которой в особенности течение таборитов* стремилось реали­
зовать на практике его революционные идеи.
Реформация со временем превратилась в мощное религи­
озно-политическое движение, в котором выделяют несколько
течений. Первым было бюргерско-буржуазное направление,
отвечавшее желаниям нарождавшейся буржуазии иметь де­
шевую и политически безвластную церковь. Традиционно в
этом течении различают умеренное крыло реформационного
движения во главе с М. Лютером. Оно старалось не перево­
дить религиозные реформы в социально-политические про­
граммы и вступало в альянсы с феодальной знатью в целях
секуляризации церковных владений. Более радикальное крыло
(Ж. Кальвин) делало из критики папства республиканские
выводы. Кальвинизм имел решающее значение для выработ­
ки буржуазного идеала «мирской нравственности». Еще одно
направление Реформации называют народным, самым ярким
его представителем был Т. Мюнцер. Это направление выража­
ло социальное недовольство низших слоев тогдашнего обще­
ства, проповедуя общность имущества. Некоторые исследовате­
ли выделяют в качестве отдельного направления Реформации
королевско-княжеское, понимая под ним практику проведения
Реформации сверху в целях присвоения королями и князьями
земель, секуляризованных у римско-католической церкви.
Еще будучи монахом августинского ордена, Мартин Лю­
тер (нем. Martin Luther) (1483-1546) осознал, что спасение
души нельзя «купить» ни подвигами аскезы, ни индульген­
циями. Знаменитые 95 тезисов Лютера об обновлении като­
лической церкви, преданные им гласности в 1517 г., не пре­
следовали цели церковного раскола или религиозной войны,
тем более — социальной революции. Однако эти тезисы ста­
ли интеллектуальной искрой в наэлектризованной атмосфере
тогдашнего общества, поэтому они поставили виттенбергского
профессора не на костер инквизиции, а во главе революци­
онного движения. Решающую роль в таком исходе сыграла
поддержка лютеровских идей немецкими князьями, а также
недовольство католическим клиром среди широких слоев на151
Раздел II
селения. Сожжение Лютером в декабре 1520 г. папской бул­
лы об отречении его от церкви знаменует последнюю фазу
трансформации монаха в революционера. В этом же году Лю­
тер приступает к переводу Библии на немецкий язык и пи­
шет свой знаменитый трактат «К христианскому дворянству
немецкой нации об улучшении христианского состояния»,
в котором от религиозных тем он переходит к вопросам поли­
тическим. Он говорит о трех постулатах как «трех стенах»,
которыми «романисты» окружили себя, чтобы никто не смог
их реформировать. И Лютер намерен эти стены разрушить.
На первый постулат римской курии (духовная власть стоит
выше светской) он отвечает принципом всеобщего священства:
«...все христиане поистине принадлежат к духовному сосло­
вию, и между ними нет никакого иного различия, кроме толь­
ко различия должностей» [Лютер, 2002, с. 21]. Из принципа
всесвященства вытекает принципиальная значимость мир­
ских профессий для спасения души. Второй постулат католи­
чества (никому, кроме папы, не подобает толковать Писание)
Лютер называет «бесстыдно выдуманной басней». Поскольку
все христиане - священники по крещению, они имеют спо­
собность и право толковать свою веру. Из отрицания первых
двух постулатов следует и разрушение третьей «стены»: ни­
кто, кроме папы, не может созвать церковного собора.
Лютер наполняет современным смыслом старый термин
«нация», призывая соотечественников «восстать ото сна».
Лютер обвиняет папскую курию в двойном преступлении:
украв у константинопольского императора как законного
наследника древнего Рима имперский титул, она приписала
его немцам, изгнав, однако, немецкого императора из Рима
и принудив его (как государя, помазанного на власть папой)
все время зависеть от «постыдного дьявольского правления
римлян». Причем папа, как «истинный Антихрист» [там же,
с. 68], - это для Лютера не фигура красноречия, а богослов­
ский концепт1. Одновременно идеолог Реформации прослав1 В лютеровском обличении папского Рима гневно-серьезные ти·
152
Политические учения Средневековья
ляет немцев за «благородство, постоянство и верность» [Лю­
тер, 2002, с. 68]. Играя на уязвленном национальном самолю­
бии, Лютер обращается к соотечественникам с призывом объ­
единиться против «хищных волков». Из принципа sola fide
вытекают некоторые обскурантистские мотивы Реформации.
Лютер обрушивается на «слепого языческого учителя Аристо­
теля», призывая уничтожить его «Этику», эту «гнуснейшую
из всех книг, направленную непосредственно против благода­
ти Божией» [там же, с. 73-74]. Вульгарные тирады немецкого
священника против философов, а также его погромные реко­
мендации в отношении евреев («О евреях и их лжи» (1543))
вызывают зловещие ассоциации с немецким национализмом
позднейших веков.
Центральной для всего Средневековья проблеме соотноше­
ния двух властей посвящен трактат М. Лютера «О светской
власти» (1523). По Лютеру, «Бог учредил два правления: ду­
ховное, которое образуют христиане и благочестивые люди
при помощи Святого Духа, во главе с Христом, и светское,
сдерживающее нехристиан и злых, заставляющее их, хотя бы
против воли, сохранять внешний мир и спокойствие» [Лютер,
1994]. Первое царство управляется словом Божьим, второе мечом. Призывая истинных христиан уважать светские по­
рядки, как Богом установленные, Лютер, с другой стороны,
обозначает пределы светской власти в отношении христиан­
ского образа жизни. Законы светского правления дальше тела
не простираются. Над душою же властвует только Бог. Отсю­
да Лютер выводит принцип свободы совести, ставший позднее
нормой буржуазных государств. «Поскольку делом совести
каждого является то, как он верит или не верит, - и в этом
светская власть не должна никому чинить препятствий, — то
рады богослова перемежаются с почти раблезианским стилем. Лю­
тер пишет о «ненасытности брюха» римской курии, о буллах, ко­
торые папа «продает на своей живодерне», и пр. В своей полемике
с европейскими монархами немецкий богослов тоже не стеснялся
в выражениях. Английского короля Генриха VIII, поддержавшего
папу, он в открытой печати назвал «свиньей, болваном и лжецом».
153
Раздел II
она также должна довольствоваться исполнением своих обя­
занностей и позволить верить так или иначе, как кто может
и хочет, и никого не принуждать силой» [Лютер, 1994].
Свобода совести распространяется Лютером и на еретиков.
По его убеждению, «ересь нельзя никогда пресекать силой,
здесь нужен иной подход, не меч, а нечто другое. Здесь долж­
но сражаться слово Божие» [там же]. Но еретиков Лютер от­
личает от «мятежников», под которыми подразумевает вос­
ставших крестьян во главе с Т. Мюнцером. В своем памфлете
«Против разбойных и грабительских шаек» он призывает уби­
вать мятежников «как бешеных собак».
Лютер не только определяет границы светской власти, но
и рисует образ христиански праведного светского правителя.
Идеолог немецкой Реформации призывает государей осторож­
но пользоваться мечом. Воевать против собственного сеньора
он запрещает, советуя лишь уповать на сознание своей пра­
воты. С равным же по положению или иностранным власти­
телем воевать можно, но только при угрозе массовой гибели
подданных. Во всех иных случаях государь должен быть го­
тов пожертвовать своей властью и даже жизнью, чтобы пре­
дотвратить войну. Но если та неизбежна, тогда государь впра­
ве требовать жертв от своих подданных, а по отношению к
врагу руководствоваться максимой: «Дело христианское, дело
любви - безбоязненно громить, грабить, жечь врага» [там же].
События вроде гуситских войн в Чехии или восстания Уота
Тайлера в Англии (1381 г.), став неотъемлемой частью ев­
ропейских предреформационных движений, нашли свое про­
должение в Крестьянской войне в Германии (1524-1526 гг.).
Идеологом и лидером восставших крестьян был народный
проповедник Томас Мюнцер (нем. Thomas Miintzer) (около
1490-1525), который выступал за всеобщее равенство и звал
крестьян к топору против «попов и обезьян», т. е. священни­
ков и дворян. Радикализируя тезис Реформации о спасении
только верой, Мюнцер отвергал необходимость чтения Библии,
отдавая предпочтение живому общению, а именно проповеди,
переходящей в активные действия, в том числе насильствен154
Политические учения Средневековья
ные. В этом смысле спастись могут только «ремесленники и
пахари», если они исполнят свою миссию, а именно утвердят
в борьбе с «безбожниками» поистине всеобщий (Божий) инте­
рес. Более радикальной была у Мюнцера и теория двух мечей:
народный проповедник призывает отнятый у церкви караю­
щий меч переложить в руки трудового народа, а не князей.
Политические взгляды Мюнцера нашли выражение в таких
его произведениях, как «Разоблачение ложной веры» (1524),
«Протест или призыв» (1524), «Проповедь перед князьями»
(1524). Основные политические идеи восставших крестьян
были выражены также в «Статейном письме» (Artikelbrief),
написанном сторонниками Мюнцера.
С книгой Жана Кальвина (Calvin, латиниз. Calvinus)
(1509-1564) «Наставление в христианской вере» (1536) свя­
зывают новый этап в истории протестантизма. Главной идеей
этой книги является тезис о божественном предопределении,
разделяющем всех людей на избранных и отверженных. При­
знаком избранности считается профессиональный успех, по­
скольку профессия предопределена Богом. «Избранный» че­
ловек воспринимает себя как инструмент Божьего промысла,
которому все нипочем. Этот эффект фанатичной воли во мно­
гом объясняет победу протестантов над испанскими католика­
ми во время Нидерландской революции 1566-1609 гг. Внача­
ле кальвинизм распространил свою идеологию на церковную
организацию, потом - на организацию государственной жиз­
ни. Община верующих выбирает пресвитеров и священников,
составляющих «консисторию», т. е. исполнительную власть в
церкви. Законодательной властью обладают церковные собо­
ры. По форме правления это республиканская, а не монархи­
ческая власть. Признание республиканского правления в ка­
честве оптимального составляет отличительную особенность
протестантизма в сравнении с католичеством.
Как и Лютер, Кальвин выступал за разделение светской
и духовной властей. Но если Лютер подчеркивал подчине­
ние церковной власти светскому авторитету, то Кальвин, на­
против, акцентировал принадлежность светских правителей
155
Раздел II
церковной общине. Но в итоге костры протестантской инк­
визиции пылали в Европе не менее ярко, чем католической.
Лучше всего это иллюстрирует пример самого Ж. Кальвина,
который в 1541-1564 гг. установил в Женеве христианский
вариант фундаменталистского режима, включавшего тоталь­
ную регламентацию частной жизни, «полицию нравов» и пу­
бличные казни.
В отличие от Ж. Кальвина, лидер швейцарской Реформа­
ции Ульрих Цвингли (нем. Ulrich Zwingli) (1484-1531) был
менее деспотичен в своих теократических претензиях, терпи­
мее относился к инакомыслящим, к античным философам.
Видимо, это объясняется влиянием на него гуманистических
идей его друга Эразма Роттердамского. Впрочем, как и Лю­
тер, Цвингли не отличался терпимостью к «бунтовщикам» восставшим крестьянам.
Протестантизм стал мощным фактором европейской поли­
тики XVI в., однако вклад его главных идеологов в историю
политических учений не следует переоценивать. Они были
ограничены авторитаризмом и фанатизмом. Для становления
политической науки Нового времени более продуктивными
оказались идеи мыслителей-гуманистов: Эразма Роттердам­
ского, Томаса Мора, Никколо Макиавелли и др.
5.4. Политические учения позднего Возрождения
Одной из ярких фигур, символизирующих тесную связь
идей Реформации и Возрождения, является Ульрих фон Гуттен (нем. Ulrich von Hutteri) (1488-1523) - немецкий гума­
нист из рыцарского сословия, один из главных авторов «Пи­
сем темных людей» (1515-1517) - анонимно изданной в Гер­
мании сатиры против римско-католической церкви. Название
книги стало источником термина «обскурантизм» (от лат.
obscurans - затемняющий), обозначающего враждебное отно­
шение к науке и просвещению.
У. фон Гуттен оказал Реформации ценную услугу, издав в
1506 г. работу Лоренцо Валлы «Рассуждение о подложности
156
Политические учения Средневековья
так называемой Дарственной грамоты Константина» [Валла,
1963]. Своей книгой Валла усиливал линию Николая Кузанского (Nicolaus Cusanus) (1401-1464), немецкого богослова
раннего Возрождения, который в своем трактате «О католиче­
ском согласии» (1433) также выражал сомнение в подлинно­
сти «Константинова дара».
Призывая решительно покончить с «папской тиранией»
[Гуттен, 1959, с. 310], фон Гуттен был одновременно горячим
пропагандистом античного культурного наследия, неистовым
защитником свободы слова. Его крылатая фраза «Бог помо­
гает лишь тем, кто предприимчив и деятелен» обнаруживает
вполне буржуазное мировосприятие. И это при том, что фон
Гуттен не только гордился своим знатным происхождением,
но даже сочинил целую теорию, отводящую рыцарскому со­
словию ведущее место в справедливо устроенном государстве.
Правда, справедливость Гуттен понимал на платоновский
манер, как выполнение каждым сословием своего дела (дол­
га). Надзирать за исполнением такой справедливости должен
император, которого фон Гуттен представляет как лидера не­
зависимой от папства объединенной Германии. При всех ку­
рьезных и неоднозначных моментах своих идей и поступков,
У. фон Гуттен вполне отвечал веяниям Нового времени. Не­
даром его фраза «Веет воздухом свободы» (нем. Die Luft der
Freiheit weht) стала символом любого свободомыслия.
Еще одной фигурой, стоявшей на перекрестке идейных по­
токов Возрождения и Реформации, был выдающийся голланд­
ский гуманист Эразм Роттердамский (Erasmus Roterodamus)
(1469-1536). Он был одним из знаменитейших людей свое­
го времени, в многочисленный круг его друзей и оппонентов
входили фон Гуттен и М. Лютер (см.: [Эразм Роттердамский,
1987]).
Хотя политика не была предметом особого интереса Э. Рот­
тердамского, социально-политические сюжеты нашли отра­
жение во многих его произведениях: «Оружие христианского
воина» (1501), «Похвала глупости» (1508), «Воспитание хри­
стианского государя» (1516), «Жалоба мира» (1517). К при157
Раздел II
меру, в сатире «Похвала глупости», выдержавшей в течение
нескольких месяцев до семи изданий, содержится острая кри­
тика государей и пап [Эразм Роттердамский, I960]1.
В близком Реформации духе Эразм считает: «Да будет сла­
бым влияние философов, если они не предписывают - пусть
и другими словами - того же, что и Священное писание»
[Эразм Роттердамский, 1987, с. 118]. Подлинно христиан­
ская мораль не знает различия «клирика» и «мирянина»,
зато предполагает осуждение гражданских войн «между па­
трициями и плебеями», а также неприятие борьбы между
«итальянцем» и «германцем» [там же, с. 176]. В трактате
«Жалоба мира» Эразм развивает сугубо пацифистскую кон­
цепцию. Он констатирует «вопли раздоров и споров» во всех
слоях и сферах современного ему общества. При этом го­
судари больше внимают алчности, чем здравым суждениям
разума, а папы служат своей алчности даже под предлогом
служения церкви. Но самым преступным он считает «ли­
цемерие тиранов», которые втягивают народ в войну ради
достижения своих корыстных целей.
Эразм предлагает этические средства лечения этой болезни,
ибо меры насильственные ничего не решают, лишь умножая
насилие. В этом пункте у голландского гуманиста обнару­
живаются принципиальные расхождения с Лютером. Он не
приемлет священников, которые «разжигают в государствах
и простом народе страсть к убийствам и войнам». Он призы­
вает государей действовать на основе евангельской («Возлюби
ближнего своего, как самого себя»), а не имперской («Раз­
деляй и властвуй!») морали. Причем библейскую мудрость
«князь гуманистов» подкреплял принципом взаимной выгоды
(признания): знатные люди, государи и должностные лица,
если они хотят добиться выгоды для самих себя, должны
1 Примечательно, что свой знаменитый трактат «К христианско­
му дворянству немецкой нации об улучшении христианского состоя­
ния» М. Лютер начинает с аллюзии на эту книгу. «Много раз случа­
лось, что дурак говорил мудро, и много раз мудрые люди говорили
грубейшие глупости» [Лютер, 2002, с. 18].
158
Политические учения Средневековья
уметь заботиться о выгоде своих подданных и подчиненных
[Эразм Роттердамский, 1989].
В целом Эразм не вписывался вполне ни в сугубо светский
идеал гуманизма, ни в идеологические каноны Реформации.
Для гуманистов он был слишком «страстным» христианином,
а для лютеран - слишком гуманным слугой Божьим.
Вершиной политической философии европейского гуманиз­
ма стало творчество Никколо Макиавелли (итал. Niccolo di
Bernardo dei Machiavelli) (1469-1527). Мыслитель вырос в ин­
теллигентной среде, а своей политической любознательностью
был обязан динамичной политической жизни родной Флорен­
ции. Солидный политический опыт он приобрел в должности
секретаря правительства Флорентийской республики. После
ее падения Макиавелли был сослан в деревню, где написал со­
чинения, сделавшие его имя бессмертным: «Государь» (1513),
«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» (1513-1516),
«История Флоренции» (1520-1525).
В историю политической мысли Макиавелли вошел как
один из основателей современной политической науки. Эта
наука была для Макиавелли прежде всего опытным знанием,
вооруженным методом сравнительно-исторического анализа.
В этом плане Макиавелли продолжает традицию древнеин­
дийских артхашастр, древнекитайских легистских трактатов,
аристотелевской «Политики».
Но веками не утихают споры и по принципиальным вопро­
сам политической философии великого флорентинца.
В противоположность богословской схоластике Макиавел­
ли выражает «готовность отстаивать любое мнение, опираясь
на разум и не прибегая к помощи авторитета и силы» [Маки­
авелли, 1982, с. 437]. Впрочем, силой, подобной Богу, он счи­
тает судьбу (fortuna). Но необходимость, воплощенная в судь­
бе, есть не роковая участь, а лишь условие игры. Суть же этой
игры - склонить фортуну на свою сторону, проявив доблесть
(virtu). Судьба распоряжается только половиной наших по­
ступков, а хозяином другой половины является сам человек.
Для Макиавелли virtu означает не христиански истолкован159
Раздел II
ную «добродетель» и не доблесть как абстрактное моральное
качество, но энергию сильной личности, действующей дерзко
и в конфликте с господствующей (т. е. христианской) мора­
лью.
В отношении христианства позиция Макиавелли неодно­
значна. С одной стороны, он указывает на «ужасную карти­
ну» языческих жертвоприношений, делавших людей крайне
жестокими, а также на то, что если бы в современных ему
государствах сохранялся первоначальный дух христианства,
то они были бы гораздо счастливее, чем они есть. Однако, с
другой стороны, итальянский гуманист полагает, что христи­
анский образ мыслей отдал мир во власть негодяям, которые
«могут безбоязненно распоряжаться в нем как угодно, видя,
что все люди, желая попасть в рай, больше помышляют о том,
как бы стерпеть побои, нежели о том, как бы за них распла­
титься» [Макиавелли, 1982, с. 449-450].
Из политико-прагматических соображений Макиавелли
считал религиозный культ совершенно необходимым услови­
ем процветания государств. Достоинство античной религии
он видел в почитании величия духа и силы тела. Оценивая
аналогичную роль христианской церкви в современной ему
Европе, Макиавелли не соглашается с тем, что благополучие
Италии зависит от римской курии. Напротив, с папством
Макиавелли связывает одну из главных причин бедственно­
го положения своей родины, поскольку Римская церковь, по
его словам, погрязла в разврате и занимается политически­
ми интригами.
Макиавелли ставит вопрос об особой политической морали,
не совпадающей с христианским миропониманием. Основой
этой морали у него выступают республиканские ценности:
«Все люди имеют одинаковое происхождение, и все одинако­
во старинны, и природа всех создала равными» [Макиавелли,
1987, с. 120]. В республике, по убеждению Макиавелли, за­
щита свободы должна быть поручена народу. Хотя тот в массе
своей плохо образован, в целом он мудрее любого самодержца.
Но главное - «у народа более честная цель, чем у знати: знать
160
Политические учения Средневековья
желает угнетать народ, а народ не желает быть угнетенным»
[Макиавелли, 1982, с. 329].
Республиканским идеалом определяется у Макиавелли и
решение вопроса о наилучшей форме правления. Вслед за
античными авторами он выделяет три правильных (монар­
хия, аристократия, народное правление) и три неправиль­
ных (тирания, олигархия, разнузданность) формы правления.
Все шесть он, однако, объявляет плохими - либо из-за крат­
ковременности их существования, либо из-за царящего в них
беззакония. Поэтому Макиавелли отдает предпочтение сме­
шанному республиканскому правлению как наиболее прочно­
му и уравновешенному. Древняя Спарта и республиканский
Рим - удачные образцы такого режима.
Понимание политики как независимой (от церкви и бо­
гословия) сферы общества со своей логикой, религией и мо­
ралью выразилось в макиавеллевском понятии государства
(итал. stato). В этом концепте отчасти предвосхищены черты
становящихся национальных государств Нового времени с их
принципом суверенитета и территориальной целостности. Ма­
киавелли уже сам был проникнут национально-патриотиче­
ским духом. На заманчивое предложение послужить француз­
скому королю он ответил знаменитой фразой: «Предпочитаю
умереть от голода во Флоренции, чем от несварения желудка
в Фонтенбло».
Если целью государства является охрана общественной
свободы, тогда для ее достижения любые средства хороши.
С учетом этого государь должен «по возможности не уда­
ляться от добра, но при необходимости не чураться и зла»
[там же, с. 352]. Более того, государь должен уметь быть злым
в общепринятом смысле, потому что с точки зрения высшей
политической целесообразности привычное различие добра
и зла может оказаться непригодным [там же, с. 345]. Но не
перестает ли мораль быть моралью, когда она разменивает­
ся, пусть даже на очень благородный (правда, только для его
сторонников) политический идеал? Этот вопрос остается спор­
ным у Макиавелли.
161
Раздел II
«Макиавеллизм» стал именем нарицательным для полити­
ческого аморализма, и немало в этом постарались идеологи
церкви1, а также защитники сословных порядков (пример
тому - книга прусского короля Фридриха II «Антимакиавелли»). Но у Макиавелли были и великие защитники. Высокую
оценку его творчеству давали Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо,
Ф. Бэкон, И. Г. Гердер, В. Парето, А. Грамши, Г. Лассуэлл и
многие другие мыслители. А живший в раздробленной Гер­
мании Гегель, хорошо понимая национальный пафос Макиа­
велли, решительно отвергал абстрактное морализаторство его
критиков, которые либо болтали о выборе праведных средств,
рекомендуя в политике «лечить гангрену лавандовой водой»
[Гегель, 1978, с. 151-152], либо, практикуя сами де-факто
макиавеллизм, тем громче «разоблачали» его у Макиавелли.
Своим благочестивым критикам, вот уже пять веков про­
клинающим его за «макиавеллизм», великий флорентинец
мог бы заметить, что борьба за гражданскую свободу не может
по определению вписываться в рамки этики, проповедующей
рабское смирение и непротивление злу насилием. Поэтому и
получается, что «от рабства освобождаются лишь неверные
и дерзновенные, а от нищеты — только воры и обманщики»
[Макиавелли, 1987, с. 120].
В отличие от республиканско-демократических пристра­
стий Макиавелли, для многих идеологов Возрождения и
Реформации было характерно высокомерное отношение к
«черни». Этому немало способствовало классовое размеже­
вание в ходе кровавых восстаний бедноты: заметное «попра­
вение» даже демократа Л. Бруни после восстания чомпи во
Флоренции в 1378 г. - типичный тому пример. Подчеркнуто
аристократическим высокомерием были отмечены и работы
младшего современника Н. Макиавелли, крупного флорен-
1 Хотя первые издания «Государя» печатались с разрешения
папы Климента VII, уже спустя всего два десятилетия папа Павел
VI осудил Макиавелли как «непристойного и порочного писателя»
[Юсим, 1990].
162
Политические учения Средневековья
тийского историка Франческо Гвиччардини (итал. Francesco
Guicciardini) (1483-1540). Он открыто симпатизировал «жир­
ным людям», в этом было его отличие от Н. Макиавелли
и Л. Бруни, которые считались выразителями интересов сред­
них слоев. Гвиччардини критикует центральный тезис Макиа­
велли, что народ - самый лучший защитник свободы. «Свобо­
да может держаться не иначе, как удовлетворенностью всех»
[Гвиччардини, 1934, с. 227], а для этого народовластие вовсе
не обязательно. В своем «Диалоге об управлении Флоренци­
ей» Гвиччардини называет народ «чудовищем», «тираном»
и коллективным «сумасшедшим» [там же, с. 210].
Но были и гуманисты, которые сочувствовали низшим сло­
ям тогдашнего общества. Английский гуманист Томас Мор
(англ. Sir (Saint) Thomas More) (1478-1535) - один из них.
Будучи адвокатом, Т. Мор не понаслышке знал о суровых усло­
виях жизни простого люда. В своей «Утопии»1, опубликован­
ной в 1516 г. по настоянию его друга Эразма Роттердамского,
Мор, следуя традиции Платона, рисует идеальное государство
с радикально новыми отношениями собственности, однако
устройство этого государства далеко от платоновских представ­
лений. Прежде всего, Мором движет чувство справедливости
в современном смысле: граждане его Утопии равны, причем
как в своих имущественных, так и в политических правах.
«Рабами» в этом государстве являются только преступни­
ки, которым принудительный труд на благо общества заменил
смертную казнь. Частной собственности и денег не существу­
ет, но трудиться должны все. Поощряется все, что воспитыва­
ет коллективизм и подавляет эгоизм, поэтому и семья высту­
пает здесь ячейкой общества, а не угрозой его единству.
1 Полное название книги Мора, опубликованной на латыни, зву­
чало так: «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная,
о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия».
Слово utopia было сконструировано Мором из греческой приставки
ου, выражающей отрицание, и существительного τόπος (место, стра­
на). В древнегреческом языке и классической латыни такого слова
нет. Дословно на русский utopia переводится как «нигде».
163
Раздел II
В первой части своего трактата Мор обличает тотальное зло
современного ему общества, которое вначале создает воров, а
потом карает их смертью и вдобавок еще испытывает наслаж­
дение от этой извращенной процедуры. Эта вопиющая неспра­
ведливость выводила Мора к главной проблеме современно­
го ему общества - живущим в роскоши «трутням», которые
«стригут до живого мяса» [Мор, 1978, с. 129] низшие сосло­
вия.
Осознав классовую подоплеку государства, Т. Мор видит
за ним, как за ширмой, некий «заговор богатых», преследую­
щих исключительно свои корыстные цели. Этим он объясняет
намеренную сложность и запутанность законодательства, де­
лающего недоступной правовую защиту как раз для тех, кто
в ней больше всего нуждается.
При описании политического устройства Утопии Т. Мор
предлагает вариант смешанной формы правления, по образцу
античного города-государства. В Утопии Мора гарантируется
свобода совести, хотя атеизм считается аморальным. Призна­
вая отделение церкви от государства, английский гуманист
входил в острое противоречие с церковной идеологией. Одна­
ко это не делало его сторонником Реформации; он не разделял
воинственного пафоса Лютера, считал войну «зверским заня­
тием». Более того, английский гуманист был казнен по обви­
нению в государственной измене, когда отказался признать
короля Генриха VIII главой независимой от папского престола
англиканской церкви. Пострадав за веру, Т. Мор был позднее
причислен к лику святых римско-католической церкви, хотя
из-за своей «Утопии» он мог бы вполне оказаться на костре
ее инквизиции.
Гуманистический смысл коммунистического проекта Т. Мо­
ра хорошо заметен на фоне «Города Солнца» Томмазо Кам­
панеллы (итал. Tommaso Campanella) (1568-1639) - домини­
канского монаха и патриота, который почти три десятилетия
провел в неаполитанских тюрьмах, борясь против испанского
владычества. По сравнению с «Утопией» Мора проект Кам­
панеллы, открытый «посредством философских умозаклю­
164
Политические учения Средневековья
чений», близок Платону по своим эгалитаристско-аскетиче­
ским мотивам. Буржуазный идеал свободно развитой лич­
ности не вдохновлял доминиканского монаха, ему важнее
было казарменное равенство: одинаковое питание, одинако­
вая одежда, одинаковое мышление. Граждане Города Солнца
даже развлекаются по единому плану. Семьи нет, жены об­
щие. Описание государственного устройства Города Солнца,
в отличие от моровской Утопии, совершенно фантастично:
высший правитель города - философ-метафизик, среди го­
сударственных должностей - «великодушие» и «бодрость».
Известный дефицит здравого смысла обнаруживает и кри­
тика Кампанеллой современных ему государей, которые, по
его словам, больше Библии почитают «политический амора­
лизм» Макиавелли.
Контрольные вопросы и задания
1. В чем суть средневековой доктрины «двух мечей»?
2. Какова роль категории «множества» в обосновании мо­
нархического идеала Фомы Аквинского?
3. За что подвергался критике схоластический концепт по­
литики в политической философии Уильяма Оккама и Марси­
лия Падуанского?
4. В чем состоит специфика ренессанского концепта поли­
тики в трудах Данте Алигьери и Леонардо Бруни?
5. В чем тождество и различие идеологий Реформации и
Возрождения?
6. В чем состояло политическое значение принципа «всеоб­
щего священства» Мартина Лютера?
7. Как оценивал Никколо Макиавелли роль религии в го­
сударственном строительстве? Каковым было его отношение к
христианству?
8. В чем состоят главные политические отличия между
утопиями Т. Мора и Т. Кампанеллы?
165
Раздел II
Темы эссе и рефератов
1. Теория «двух мечей»: конфликт интерпретаций.
2. Понятие государства и политической власти у Фомы
Аквинского. Иерархия законов.
3. Политические учения Предреформации: Джон Уиклиф
и Ян Гус.
4. «Левое» и «правое» в идеологии Реформации: Томас
Мюнцер и Мартин Лютер.
5. Кальвинизм как идеология республиканизма.
6. Н. Макиавелли: взаимоотношения фортуны, доблести и
свободы.
7. Политическая мораль Н. Макиавелли: pro et contra.
8. Ф. Гвиччардини против Н. Макиавелли: разновидности
республиканского идеала в политической мысли средневеко­
вой Флоренции.
9. Эразм Роттердамский и его друзья: политический круг
общения великого гуманиста.
10. Томас Мор: коммунист с репутацией католического свя­
того.
Литература
1. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литерату­
ры. М.: Наука, 1977.
2. Баткин Л. М. Утопия всемирной монархии у Данте:
К вопросу о социально-политических взглядах Данте // Сред­
ние века. 1958. Вып. 11.
3. Боргош Ю. Фома Аквинский. 2-е изд. М.: Мысль, 1975.
4. Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. Этические уче­
ния XV-XV веков. М.: Высшая школа, 1977.
5. Бруни Аретино Л. Введение в науку о морали. О Фло­
рентийском государстве // Сочинения итальянских гуманистов
эпохи Возрождения (XV век). М.: Изд-во Моск, ун-та, 1985.
6. Валла Л. Рассуждение о подложности так называе­
мой Дарственной грамоты Константина // Итальянские гу166
Политические учения Средневековья
манисты XV в. о церкви и религии. М.: Изд-во АН СССР,
1963.
7. Гвиччардини Ф. Заметки о делах политических и граж­
данских // Сочинения. М.: Academia, 1934.
8. Гегель Г. В. Ф. Политические произведения. М.: Наука,
1978.
9. Гуттен У. фон. Диалоги. Публицистика. Письма. М.:
Изд-во АН СССР, 1959.
10. Данте Алигьери. Малые произведения. М.: Наука,
1968.
11. Данте Алигьери. Монархия. М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 1999.
12. Зызыкин М. В. Патр1архъ Никонъ: его государствен­
ный и каноническ1я идеи. Варшава: Синодальная типограф1я,
1931.
13. Лютер М. К христианскому дворянству немецкой нации
об улучшении христианского состояния // 95 тезисов. СПб.:
Роза мира, 2002. С. 17-86.
14. Лютер М. О светской власти // Избранные произведе­
ния. СПб.: Фонд Лютеранского Наследия, 1994. С. 35-37.
15. Лютер М. 95 тезисов. Диспут о прояснении действенно­
сти индульгенций. СПб.: Герменевт, 1996.
16. Макиавелли Н. Избранные сочинения. М.: Художе­
ственная литература, 1982.
17. Макиавелли Н. История Флоренции. 2-е изд. М.: Наука,
1987.
18. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Вве­
дение // Сочинения. 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 1. С. 414-429.
19. Мор Т. Утопия. М.: Наука, 1978.
20. Ракитская Η. Ф. Леонардо Бруни Аретино (1370-1441)
и политико-правовая мысль Кватроченто // Правоведение.
1980. № 5. С. 98-105.
21. Фома Аквинский. О правлении государей // Полити­
ческие структуры эпохи феодализма в Западной Европе VIXVII вв. Л.: Наука, 1990. С. 224-244.
167
Раздел II
22. Чичерин Б. Н. История политических учений. Древ­
ность и средние века. 2-е изд. М.: И. Н. Кушнерев и Ко, 1903.
Ч. 1.
23. Эразм Роттердамский. Жалоба мира // Эразм Роттер­
дамский и его время. М., 1989.
24. Эразм Роттердамский. Похвала глупости. М.: Гос.
изд-во художественной литературы, 1960.
25. Эразм Роттердамский. Философские произведения.
М.: Наука, 1987.
26. Юсим М.А. Этика Макиавелли. М.: Наука, 1990.
Раздел III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Глава 6. Западноевропейские политические учения в эпоху
Нового времени
В Новое время в Западной Европе появляются институты
публичной политики - парламентаризм, конкурентные пар­
ламентские партии, гражданское общество, секуляризиро­
ванные законы, равно как и теории, оправдывающие и обо­
сновывающие их существование. В период середины XVIIXVIII в. возникает и первая идеологическая дифференциация либерализм (Д. Локк, Б. Констан, Ш. де Монтескьё и др.) и
консерватизм (Э. Бёрк, Ж. де Местр и др.), одинаково высту­
павшие против теологических трактовок государства и права.
Наука о политике в этот исторический период находилась в
рамках учения о праве. Однако сердцевиной политических и
правовых учений Нового времени явилась философия Просве­
щения.
Основные идеи этой идеологии и составляют пункты из­
ложения взглядов наиболее значимых персоналий данной
эпохи1: незыблемость установлений естественного права;
трактовка общественного договора не столько как механизма
возникновения государства, сколько как перманентного про­
цесса легитимизации верховной власти и фундамента обще­
ственных институтов, основанных на социальном консенсусе;
законодательная гарантия института частной собственности в
качестве базиса гражданского общества; всесторонняя крити­
ка тирании (нелегитимной власти одного лица) и деспотизма
(«власти помимо права»); выбор наилучшей формы правления
1 К сожалению, многие значимые фигуры этой эпохи, а также их
взгляды в силу ограниченности возможностей издания «вынесены
за скобки» изложения. Но влияние таких мыслителей, как Ф. Бэ­
кон, Вольтер, Д. Дидро, К. А. Гельвеций, Т. Джефферсон и др., на
становление менталитета новоевропейского мышления несомненно.
169
Раздел III
в пользу «смешанной», основанной на принципе разделения
властей в государстве, у большинства мыслителей Нового вре­
мени (за редким исключением у Ж.-Ж. Руссо, Б. Спинозы
или Т. Гоббса); негативное отношение к политическим партиям/фракциям, способствующим дестабилизации общества
и государства, и др.
Важнейшей гранью учений Нового времени и Просвеще­
ния явилась легисломания — неистребимая вера в то, что по­
средством улучшения законов можно улучшить общество,
государственное правление и сделать людей счастливыми.
Для этого необходима легислократия - «власть законов, а не
лиц». Разум, образование и просвещение как правителей, так
и народа, - вот залог будущего процветания человечества. Од­
нако достижение «общего блага» возможно различными путя­
ми установления патерналистского/полицейского государства
(у И. Г. Фихте) или его ограничения в пользу гражданского
общества (у В. фон Гумбольдта). Важной чертой мировоззре­
ния идеологов Нового времени был утопизм — не только как
форма изложения «идеального будущего», но и как допусти­
мая критика существующих социально-политических поряд­
ков (например, «Новая Атлантида» Ф. Бэкона). Поэтому не
случайно, что данный раздел заканчивается с появлением
политической философии марксизма, возникшего на стыке
критики прежних просветительских теорий (Гегель) и утопи­
ческих иллюзий, но призванного дать утопию новой эпохи.
6.1. Английская политическая мысль Нового времени
Одним из основоположников и настоящим классиком кон­
цепций естественного права и общественного договора стал
английский философ Томас Гоббс (1588-1679). Его политиче­
ские взгляды изложены в трактатах «О гражданине» и «Ле­
виафан».
Основа социально-политической жизни, ее движущая сила
и причина возникновения лежат в потребностях индивида.
Для их удовлетворения человек и вступает в общение с други170
Политические учения Нового времени
ми, ограничивая при этом свои собственные, индивидуальные
возможности и создавая искусственные тела. «Нужда - мать
всех изобретений». Таковым является и государство.
Человек - существо разумное, но глубоко эгоистичное. Он
имеет в качестве движущей силы «естественные страсти» властолюбие, жажду богатства, стремление к чувственным
удовольствиям, которые и ведут к недоверию, соперничеству
и вражде. Следовательно, «естественное состояние» челове­
ческого рода - это «война всех против всех», где принцип
выживания - homo homini lupus est. Люди тем самым стоят
перед угрозой самоистребления. Но разум, страх смерти и ин­
стинкт самосохранения дают «путеводную нить». Становит­
ся необходимым и очевидным создание «общей власти» для
гарантии мира и безопасности, чтобы тяготы подчинения ей
перевесили экзистенциальные минусы жизни в естественном
состоянии. Отсюда упования Гоббса на абсолютность власти
государства и общественный договор, консенсус, пронизы­
вающий все поры общества. Господство естественного права
означает практически ничем и никем не ограниченную абсо­
лютную свободу. Однако эта свобода иллюзорна в «обществе
войны каждого против каждого».
Главный естественный закон, из которого вытекают осталь­
ные 16, звучит так: необходимо везде стремиться к миру
и следовать ему.
Итак, государство основано на договоре, консенсусе лю­
дей, согласившихся добровольно ограничить свой произвол,
признать верховную политическую власть и подчиниться ей.
Другим системообразующим признаком государства является
политическая власть. С возникновением государства появля­
ются и особые политические отношения (господства и подчи­
нения), т. е. политическое состояние как таковое. В целом
Гоббс отрицает теорию разделения властей в государстве; вер­
ховная государственная власть должна быть едина, неделима,
централизована и сильна. Но компетенция в осуществлении
различных функций управления все же должна быть разде­
лена. Правильной философ считает ту политическую систе­
171
Раздел III
му, где суверен не сам решает все дела, а ограничивается на­
значением и избранием осуществляющих власть чиновников.
В противоположность феодальному абсолютизму Гоббс выдви­
гает идею политического (государственного) абсолютизма1.
Хотя верховная власть возникает в результате обществен­
ного договора, все же она им трактуется, скорее, антидемо­
кратически, ибо носителем и источником суверенитета явля­
ется не народ, а сама власть, т. е. государство. Несмотря на
то что он этатист, форма государственного правления - де­
мократическая, аристократическая/автократическая или мо­
нархическая - для него не имеет решающего значения, ибо
«народ правит во всяком государстве», поскольку действию
естественных законов суверен подчинен так же, как послед­
ний из его подданных. Личные симпатии философа на стороне
монархии, как наиболее соответствующей тезису об «абсолют­
ном государстве», где только и обеспечивается безопасность
личности. Критерием формы правления является то, кому по­
ручается верховная власть в результате общественного догово­
ра. При этом государства делятся на естественные, где власть
достигается благодаря «естественным силам и могуществу»,
и установленные, где власть добывается благодаря договору.
Договор - социальная ткань государства. Причем в государ­
стве понятия закона и права противоположны: если первый
(приказание) - узы, то второе - свобода.
Границы государственного законотворчества лежат в непревышении требований естественного права. Природа закона не в букве, а в его смысле. Да и верховная власть не может
отменить естественных законов, ибо первая меняется и прехо­
дяща, а вторые неизменны и вечны. Значит, они обязательны
и для государства. Свобода подданных заключается в возмож­
ности делать все, что не запрещено естественным законом.
1 В первом (английском) издании «Левиафана» Гоббс для обо­
значения государственности использует термин «общественное бла­
го» (в английском эквиваленте «республика»), а во втором - латин­
ском - «монархия».
172
Политические учения Нового времени
Продолжателем линии Т. Гоббса в Англии (и критиком)
выступил Джон Локк (1632-1704). К его социально-политиче­
ским произведениям относятся: «Письма о веротерпимости»
(где он обосновывает естественное человеческое право на сво­
боду совести, принципы толерантности и отделения церкви
от государства) и «Два трактата о государственном правле­
нии» (где первая часть посвящена критике книги Р. Филмера «Патриарх, или Естественная власть королей, и в част­
ности короля Англии», которая отражает господствовавшие
тогда отчасти теологические, отчасти патриархальные теории
происхождения и сущности государства; а вторая излает соб­
ственно идеи Локка). Здесь он подвергает критике и концеп­
цию Гоббса о неограниченной власти государства, но его он не
называет по имени, ибо в иных вопросах они едины. Именно
здесь Локк обосновал свою конституционно-монархическую и
либеральную теорию, став настоящим основоположником и
классиком идеологии либерализма Нового времени, предвос­
хищая идеи «Билля о правах».
Взгляды Локка значительны для становления английской
школы классической политической экономии. Предвосхищая
идеи А. Смита и К. Маркса, он указывает на труд как на источ­
ник частной собственности и полагает его мерилом стоимости
товаров. Труд извлекает из природы ее предметы, «облагора­
живает их», и это делает предмет частной/личной собствен­
ностью того, кто прилагает свой труд, ведь в природе предмет
принадлежит всем и составляет общую собственность. Главный
предмет собственности - земля: «Участок земли, имеющий та­
кие размеры, что один человек может вспахать, засеять, удо­
брить, возделать его и потребить его продукт, составляет соб­
ственность этого человека» [Локк, 1988, с. 279]. Собственность
(как, впрочем, и государство и общество) учреждается посред­
ством положительного соглашения (договора).
Естественное состояние Локк описывает как догосударственное, опираясь на идеи Гоббса; с другой стороны, у них
есть существенные различия. Для Локка это состояние пол­
ной свободы в отношении действий людей, их собственности
173
Раздел III
и личности, которые ничем не ограничены, кроме предписы­
вающего им закона природы. Этот закон означает, что ни один
из них не должен наносить ущерб жизни, здоровью, свободе
или собственности другого. В естественном состоянии один
человек приобретает какую-то власть над другим, однако же
стать деспотической эта власть не может. Здесь каждый об­
ладает исполнительной властью. Если по Гоббсу естественное
состояние характеризуется как «война всех против всех», то
для Локка оно - состояние мира и благожелательства. При­
чем здесь уже существуют общественные институты - соб­
ственность, естественное право, власть (отцовская/семейная).
«Отсутствие общего судьи, обладающего властью, ставит всех
людей в естественное состояние; сила без права, обращен­
ная против личности человека, создает состояние войны, как
в том случае, когда есть общий судья, так и в том случае, ког­
да его нет» [Локк, 1988, с. 273].
Стремление избежать этого положения войны и объединя­
ет людей в сообщество. Власть (как судья) прекращает эту
войну. Гражданскому (или политическому) обществу пред­
шествовала семья (ей соответствовала патриархальная власть
главы семьи — отцовская власть). Политическое общество, по
Локку, возникает там, где «каждый из его членов отказал­
ся от... естественной власти, передав ее в руки общества во
всех случаях, которые не препятствуют ему обращаться за
защитой к закону, установленному этим обществом» [там же,
с. 311]. В политическом (гражданском) обществе находятся
те, кто объединены в одно целое и имеют общий закон и су­
дебное учреждение.
Социально-политическая доктрина Локка, по существу,
направлена против абсолютизма; именно поэтому он счита­
ет, что «абсолютная монархия несовместима с гражданским
обществом» и не является, следовательно, даже формой
правления. А государь находится в естественном состоянии
в отношении тех, кто ему подвластен, ибо он не имеет уста­
новленного по общественному договору законодательного ор­
гана. Между тем люди видят в гражданском обществе защиту
174
Политические учения Нового времени
своей личности, собственности, свободы и безопасности имен­
но потому, что оно установлено по их согласию. Поскольку
люди по природе свободны, никто не может подчинить их
какой-либо власти без их согласия. Только таким путем и
получается государство как единый политический организм.
♦ Государство - это общество людей, установленное единствен­
но для сохранения и приумножения гражданских благ. Граж­
данскими благами я называю жизнь, свободу, телесное здоро­
вье и отсутствие физических страданий, владение внешними
вещами, такими как земли, деньги, утварь и т. д.» [Локк,
1988, с. 334]. Охранять эти блага - долг гражданского прави­
теля, опирающегося на законы, равно обязательные для всех.
Но никогда правитель не может распространить свою власть
на совесть, душу подданных.
Из анализа соотношения естественного и общественного со­
стояний в философии истории Локка видно, что, в отличие от
Гоббса, он полагал, что общество сложилось до появления го­
сударства, а последнее призвано не ограничивать индивидуаль­
ную свободу и инициативу, а гарантировать их. Суверенитет
принадлежит народу, который вправе, если правитель действу­
ет вопреки благу людей, его избравших, расторгнуть с ним пер­
воначальный договор, в том числе и насильственным путем.
По Локку, та или иная форма правления определяется тем,
у кого находится верховная власть, которая является законо­
дательной; в соответствии с этим форма государства определя­
ется тем, у кого находится законодательная власть. Из клас­
сической триады - монархия, аристократия, демократия - он
отдает предпочтение монархии, но конституционной, ограни­
ченной правом. Из монархий Локк выделяет наследственную,
где власть передана одному лицу пожизненно, а если после
его смерти право назначать преемника возвращается к боль­
шинству, то это выборная монархия.
Теория разделения властей в государстве служит крае­
угольным камнем в концепции Д. Локка. Это необходимо для
того, чтобы никто не смог, соединив в себе три эти силы, узур­
пировать власть в государстве, установив тиранию. Из всех
175
Раздел III
властей законодательная является верховной и неизменной
в руках тех, кому ее сообщество доверило. Ни один закон
не обязателен в государстве для всеобщего исполнения, если
он не получил санкцию законодательного органа. Итак, по
Локку, законодательная власть - это та власть, которая име­
ет право указывать, как должна быть употреблена сила го­
сударства для сохранения сообщества и его членов. Однако
законы необходимо непрерывно исполнять, поэтому нужно
существование власти, которая все время следила бы за их
исполнением. Исполнительная власть принадлежит кабинету
министров во главе с королем, но назначается и контролиру­
ется парламентом.
Право вести внешнюю политику, заключать мир и объяв­
лять войну, входить в коалиции принадлежит ему же и назы­
вается властью федеративной.
Но и исполнительная власть может иногда (в моменты ино­
странных вторжений, гражданских войн, эпидемий или ката­
строф) принимать на себя функции власти законодательной.
Этот механизм Локк называет прерогативой («право творить
общественное благо без закона» [Локк, 1988, с. 360]).
Власть деспотическая - власть не политическая, поскольку
«это такая власть, которой не дает природа... ее не может пре­
доставить и договор» [там же, с. 363]. Природа предоставляет
отцовскую власть; добровольное соглашение дает политиче­
скую власть, дабы обеспечить владение и пользование соб­
ственностью. Угроза же расплаты собственной жизнью дает
третий вид власти - деспотизм (над теми, кто лишен всякой
собственности).
Локк заложил традицию Нового времени в понимании
того, что деспотизм (тирания) - это осуществление власти по­
мимо права. Причем к ней может приводить не только мо­
нархия, но и иные формы правления. Это происходит везде,
если власть употребляется не для своих настоящих целей, а
во вред народу (все ли во власти, один или несколько).
Дэвид Юм (1711-1776) свою политическую теорию отразил
в «Трактате о человеческой природе», во второй части третьей
176
Политические учения Нового времени
книги «О морали» и в ряде своих политико-экономических
эссе. Принципиальные моменты этих работ - критика пози­
ций учений Т. Гоббса и Дж. Локка о естественном состоянии
и общественном договоре.
В этой критике Юм стремится разрушить теоретические
положения, оправдывающие революционные перевороты. Ре­
волюции направлены не против абсолютистских режимов,
а против буржуазного строя. Эпоха же восстаний и граждан­
ских войн уже в прошлом.
Наилучшей формой правления, по мнению Юма, является
конституционная монархия. Одно лицо, называется ли оно
дожем, князем или королем, обладает значительной долей
власти и составит необходимое равновесие или явится проти­
вовесом другим законодательным органам.
Политический мыслитель был одним из первых, кто при­
ступил к разработке социологии партий (фракций). Юм рев­
ностно относился к противоречиям, которые давали о себе
знать во взаимоотношениях двух правящих партий англий­
ской буржуазии - вигов и тори. Он всегда выступал сторон­
ником их сближения. Партии, как считал Юм, подрывали
систему правления, делали бессильными законы и порождали
яростную вражду среди людей одной и той же нации. Партии
(фракции) делились на «личные» и «реальные». Первые были
основаны на личной дружбе или вражде. «Реальные», в свою
очередь, делились на те, что основывались на интересе, прин­
ципе и привязанности. При анализе современных ему пар­
тий Юм обосновывает тезис, что при деспотических системах
правления часто не бывает партий, хотя они являются вполне
реальным политическим фактом.
Английский публицист, философ и политический деятель
Эдмунд Берк (1729-1797) явился настоящим основоположни­
ком классического консерватизма. Основной его труд — «Раз­
мышления о революции во Франции». Главные теоретические
противники его мировоззрения - это сторонники демократии
и революционного пути развития, адепты концепции обще­
ственного договора и естественного права. Подобных «рацио-
177
Раздел III
нал истов» Берк упрекал в их механистическом убеждении в
необходимости постоянного реформирования общества и госу­
дарства, тогда как для него последние - результат естествен­
ной эволюции, а не изобретение человека. Религия и церковь,
закон и собственность, политический строй и государственная
власть освящены историей народа и его традициями и не мо­
гут быть произвольно устраняемы и изменяемы. Сама идея
равенства людей - фикция, так как общество признает нера­
венство и приспосабливается к нему. Политическая мудрость
зиждется на опыте человеческого рода, который имеет в осно­
ве традиции и, более даже, предрассудки, нежели открытия
и разум. Людям свойственно уважение к власти и законам,
действительная ценность которых - в их давности и опоре на
обычаи и традиции народа. Сложившуюся в Англии полити­
ческую систему он считал почти идеальной. С этих позиций
Берк подверг резкой критике теорию и практику Француз­
ской революции, упрекая якобинцев в разрушении священ­
ных институтов церкви, собственности, монархии. Развязан­
ный террор именно поэтому привел к отрицанию ценности
человеческой личности и ее жизни. В результате анархия с
неизбежностью породила тиранию во Франции, худшую, чем
все злоупотребления королевской власти. Да и понятие «на­
род», по Берку, искусственно, равно как и идея «народного
суверенитета». Власть в государстве должна принадлежать
людям, обладающим крупной собственностью, ибо только по­
следняя и рождает чувство ответственности.
Одним из основоположников классического либерализма в
Англии стал Джон Стюарт Милль (1806-1873). Его взгляды
изложены в таких работах, как «О свободе», «Представитель­
ное правление», «Основы политической экономии». По его
мнению, свобода индивида - та «командная высота», которая
является ключевой для политических и правовых проблем.
Он перечислил основные постулаты либерализма: свобода че­
ловеческой личности, прогресс, порядок, оптимальный поли­
тический строй, ограниченные возможности государственного
интервенционизма и т. п. Индивидуальная свобода означает
178
Политические учения Нового времени
абсолютную свободу человека в сфере тех действий, которые
прямо касаются его личности (хозяйства, семьи, вероиспове­
дания). Здесь он может быть господином своей судьбы, но при
этом Милль выделяет границу этой свободы - свободу другого
человека. Автономия личности происходит не только от ин­
ститутов государства («от правительственной тирании»), но и
от взглядов большинства. Поэтому свобода индивида (частно­
го лица) первична по отношению к политическим структурам,
их функционированию. Милль полагает, что государство, га­
рантирующее все виды индивидуальных свобод - и притом
одинаково для всех своих членов, - способно установить у
себя и надлежащий порядок. В узком смысле порядок озна­
чает повиновение, а в более широком - «общественное спо­
койствие не нарушается никаким насилием частных лиц».
Взгляды Милля были весьма популярны в среде интеллиген­
ции России на рубеже ΧΙΧ-ΧΧ вв.
6.2. Политическая мысль Италии и Голландии
Одним из первых мыслителей Нового времени, выдвинув­
шим идею объективной закономерности исторического про­
цесса и политики, был итальянский философ Джамбатти­
ста Вико (1668-1744).
Исторический процесс протекает по законам исторического
круговорота, когда каждая нация в своем развитии проходит
цикл, состоящий из трех основных эпох: божественной, геро­
ической и человеческой. Всякий цикл кончается, в свою оче­
редь, общим кризисом и распадом данной формы общества.
Смена же эпох осуществляется в силу общественных перево­
ротов, где движущей силой исторического процесса оказыва­
ется борьба между противоположными общественными сила­
ми: отцами семейств и домочадцами (в божественную эпоху),
аристократией и простым народом (в эпоху героическую). Из
этой борьбы возникает и политическое государство (на рубе­
же божественной эпохи). Политическая организация челове­
ческого общества первой эпохи - теократия, где вся полнота
179
Раздел III
власти принадлежит жречеству. Господствующей формой об­
щественного сознания в этот период выступает мифология.
Божественной эпохе предшествует безгосударственный пери­
од естественной жизни семей. При переходе к героической
эпохе меняется и содержание собственно политического - го­
сударство здесь имеет форму аристократической республики,
опирающуюся на господство религии в общественном созна­
нии. Современную эпоху Вико именовал человеческой, по­
литическим государством которой полагал демократическую
республику или конституционную монархию, а приоритетной
формой мышления - философию. Основное отличие данного
периода от предшествующего заключается во всеобщем рас­
пространении правовых отношений, когда агентами права вы­
ступают все члены общества (в божественную эпоху - едини­
цы, в героическую - слой аристократии). Законы (в том числе
политические) прокладывают себе путь через общественную
деятельность людей, однако, в конечном счете, полагал Вико,
имеют все же надобщественный провиденциальный характер.
Голландские провинции Испании стали первой страной,
где в Новое время произошла буржуазно-демократическая
революция, здесь носившая характер национально-освободи­
тельной войны против испанских Габсбургов. Поэтому не слу­
чайно, что первые концепции государственного суверенитета
(наряду с Ж. Боденом) появились именно в Соединенных про­
винциях, в творчестве Гуго Гроция (1583-1645) и Б. Спинозы.
По Гроцию, предмет политической науки - вопросы целесо­
образности и пользы, а юриспруденции - вопросы справедли­
вости и права. Право Гроций делит на естественное и установ­
ленное в результате деятельности государства. Источником и
государства, и государственного права он считал обществен­
ный договор (соблюдение которого и есть требование права
естественного). В ходе реализации положений естественного
права в сфере политики к правовому принципу справедливо­
сти присоединяется политический принцип пользы и целесо­
образности. В области международного права Гроций высту­
пал за формирование нового типа международных отношений,
180
Политические учения Нового времени
основанных на требованиях разума и права, сотрудничества,
равенства, на идее единого международного правопорядка, до­
бровольно устанавливаемого и последовательно соблюдаемого
суверенными государствами. Даже войнам необходимо при­
дать черты правового явления. Гроций при этом возражает
мнению о несовместимости войны и права, ведь «войны ведут­
ся ради заключения мира», а мир - «конечная цель войны».
Выделяя войны частные (между лицами), публичные (меж­
ду органами гражданской власти), смешанные (из элементов
первых двух), справедливые и несправедливые, он определя­
ет войну как «состояние борьбы силою как таковою». А по
природе каждый является защитником своего права (в том
числе и силой). В области международного права Гроция на­
зывают его «отцом». Государство, по Гроцию, есть «совершен­
ный союз свободных людей, заключенный ради соблюдения
права и общей пользы». Догосударственное («естественное»)
состояние характеризуется общностью имущества и чувством
«чрезвычайной взаимной приязни», однако с развитием отно­
шений собственности и неравенства растет вражда и требуется
некое соглашение об основах безопасности, что и приводит
к возникновению государства, которое поэтому есть согла­
шение большинства против меньшинства, или союз слабых
и угнетенных против сильных и могущественных. Главный
признак государственный власти - суверенитет, а носитель государство в целом. Гроций упоминает следующие формы го­
сударственного правления: царская (единодержавная) власть,
власть знатнейших вельмож, свободная гражданская община,
демократическая республика и пр. Его симпатии на стороне
аристократических форм государства, особая критика адресу­
ется демократической республике и тирании (хотя, впрочем,
все формы имеют право на существование, что, в свою оче­
редь, определяется условиями первоначального общественно­
го договора).
Учение о государственном суверенитете продолжил гол­
ландский мыслитель Бенедикт (Барух) Спиноза (1632-1677).
Свои социально-правовые и политические взгляды он изла181
Раздел III
гал в «Богословско-политическом трактате» и «Политическом
трактате» (не окончен). Основой учения Спинозы выступает
этика как учение о человеке. Закон природный, естествен­
ный отличается им от общественного. Человек одновремен­
но подпадает под действие и того и другого. Как существо
природное, человек имеет основной целью самосохранение, а
стремление поддерживать свое существование, отстаивать его
перед другими вещами и людьми определяет всю эмоциональ­
ную жизнь, состоящую из аффектов, основными из которых
являются страсти, желания, радости, печали. Однако, с дру­
гой стороны, свобода недостижима для индивидуального че­
ловека, но только для общественного.
Естественное право как природная необходимость отож­
дествляется Спинозой с «мощью» - способностью любой ча­
сти природы к самосохранению. Если цель этики - в позна­
нии аффектов (с целью их преодоления), то задачей политики
объявляется выведение из строя человеческой природы того,
что наилучшим образом согласуется с практикой. Политика
должна основываться на том, что условием достижения обще­
го блага является обеспечение частной собственности. Пере­
ход людей из естественного состояния в государственное свя­
зывается не столько с заключением общественного договора
(это подразумевается), сколько с фактом общественного разде­
ления труда в силу разнообразия потребностей и способностей
людей. Однако юридические законы Спиноза все же трактует,
скорее, как моральные нормы, откуда и гипертрофия мораль­
ных функций государства, законы которого признаются глав­
ной причиной как пороков, так и добродетелей его граждан.
Поскольку большинство народа руководствуется в своей
жизни не разумом, а аффектами, то необходимость права и
государства рассматривается как внешняя «узда» (система по­
ощрений и наказаний). Таким образом, закон есть явление,
интегрирующее людей в сообщество и выражающее разумное
в человеке. Поэтому необходимо принятие закона на собрании
большинства народа, где взаимно гасятся аффекты, а значит,
наилучшей формой государства является демократическая
182
Политические учения Нового времени
республика. Спиноза вошел в историю мысли как убежденный
теоретик демократии, но при этом столь же последовательный
этатист. Сила государства пропорциональна «мощи», перене­
сенной на него при заключении первоначального общественно­
го договора. Понятно, что наиболее сильным и совершенным
является демократическое государство, на которое перенесена
«мощь» всех, а наименее - монархическое, основывающее­
ся на «мощи» одного. Единые власть, право и суверенитет главные признаки государства. Однако власть государства
небезгранична, предел положен перенесенной «мощью», вну­
тренним миром человека, мероприятиями, вызывающими не­
годование. В остальном гражданин и государство не равны
(целое значимее части). Но легитимность государство получа­
ет от своих граждан (перенесением их «мощи»). Подпадая под
действие естественного закона, государство, как и остальные
его объекты, стремится к самосохранению, т. е. к миру и бе­
зопасности своих граждан. С этой целью в государстве недо­
пустимо и разделение единой власти. Демократия при этом —
естественная, ближе всего стоящая к первобытному равенству
государственная форма, единственно только и обеспечиваю­
щая свободу индивида (состоящую в подчинении разумному договорному - закону, обуздывающему природные аффекты
граждан).
6.3. Французская политическая мысль Нового времени
Галерею представителей теории государственного суве­
ренитета во Франции в Новое время открывает Жан Боден
(1530-1596). Одним из первых мыслителей Нового време­
ни Воден выступал за веротерпимость. Его перу принадле­
жат следующие произведения: «Шесть книг о государстве»,
«Диалог семи человек». Он обосновывал деистическую идею
о «естественной религии».
По его убеждению, общество формируется под влиянием
естественной среды, что отражается не только на социаль­
но-психологическом портрете народа (южане и северяне-ски­
183
Раздел III
фы), но и на сущности его институтов права и государства.
Само общество образуется совокупностью кровнохозяйствен­
ных союзов. Государство происходит из разрастающейся се­
мьи либо учреждением из нее самой, либо отделяясь от быв­
шей метрополии. Резко критикуя эгалитаристские идеи Пла­
тона, Т. Мора и полагая частную собственность требованием
естественного закона, Боден между тем основную причину по­
литических переворотов видел в чрезмерном имущественном
неравенстве. Главным признаком государства он полагал су­
веренитет как абсолютную, не связанную никакими законами
и постоянную власть государства (но не обязательно госуда­
ря) над своими подданными. При этом источником установ­
ленного права выступает верховная государственная власть.
В функции суверена, кроме того, входят: отмена законов, на­
значение должностных лиц, объявление войны и заключение
мира, взимание налогов, право верховного суда. В семье как
основе государства Боден выделял три вида власти: супруже­
скую, родительскую и господскую. Но при этом он являлся
противником разрушающего суверенитет государства разде­
ления в нем властей, ибо все равно один из элементов будет
превалировать над другими. К демократии Боден относился
отрицательно, описывая ее, скорее, как охлократию. Так же
негативен он и в оценке аристократического государства, где
правит не всегда компетентное меньшинство, отчего оно чрез­
вычайно нестабильно и подвержено внутренним раздорам.
Симпатии Бодена на стороне монархии, в наибольшей степе­
ни отвечающей понятию суверенного государства. Здесь обе­
спечена компетентность (ибо советуют многие) и энергичность
(ибо решает один) власти.
Боден выделяет господские (вотчинные) государства и «за­
конные монархии». Первые характерны для Востока, вторые
возникли на Западе. Если политические отношения в господ­
ских государствах строятся по принципу «государь - отец,
подданные - дети», то в государствах западного типа взаимо­
связи господства-подчинения определяются законом (источ­
ником которого, впрочем, является тот же монарх). Но при
184
Политические учения Нового времени
этом границы власти монарха положены неприкосновенностью
собственности и естественными свободами подданных. Выбор­
ная монархия (на манер Речи Посполитой) неприемлема по той
же причине, что и государство аристократии. Однако при суве­
ренитете верховной монаршей власти государственное управле­
ние лучше иметь сложное, т. е. сочетающее элементы аристо­
кратии (на ряд должностей, преимущественно в войске и суде,
монарх назначает знатных) и демократии (ряд должностей в
государстве может быть доступен всем). При этом верховная
власть должна опираться на сословно-представительный орган,
имеющий статус совещательного. Боден различал два вида го­
сударственных объединений, говоря о сложных государствах:
основанные на неравенстве, где их части находятся в вассаль­
ной зависимости от суверена (сюда же отнесена и федерация,
в которой лишь союз в целом обладает суверенитетом), и осно­
ванные на равенстве, каждый из членов которых с момента их
объединения сохраняет суверенитет.
Настоящим классиком французского Просвещения и либе­
рализма XVIII в. был Шарль Луи де Монтескьё (1689-1775).
Он стал известен своей критикой деспотизма после опубли­
кования в Голландии в 1721 г. «Персидских писем». Однако
главным его произведением является труд «О духе законов».
Он отстаивал мысль, что только политические свободы
и республиканский образ правления являются гарантией про­
цветания и мощи государственного организма. Из факта един­
ства природы и человеческого общества проистекает тот факт,
что общественные явления, как и природа, подчинены посто­
янно действующим законам. По мнению Монтескьё, он уста­
новил общие начала и увидел: частные случаи как бы сами
собой подчиняются им и история каждого народа вытекает из
них как следствие. Совокупность юридически оформленных
законов (законодательство) имеет определяющее значение в
жизни общества1; понять ту или иную общественную форму —
1 В XX в. этот взгляд получил название «юридического мировоз·
зрения», или «юридического позитивизма».
185
Раздел III
значит прежде всего разобраться в ее законодательстве. Из
двух детерминаций общественно-исторического развития физической (природной) и моральной (системы законодатель­
ства) - философ отдает предпочтение последней. Именно она
существенна на поздних этапах развития народа.
Монтескьё различал два вида законов: естественные, вы­
текающие из самой природы человека, в том числе из его
природно-биологической сущности, и определяющие его по­
ступки в естественном состоянии; и собственно общественные.
Наиболее общие, естественные законы, которым подчинены
основы социальной жизни, следует отличать от тех «частных»
законов, которые устанавливаются законодательством. Мон­
тескьё считал, что законы в самом широком значении этого
слова суть необходимые отношения, вытекающие из природы
вещей. Свои принципы люди извлекают не из предрассудков,
а из самой природы вещей. К важнейшим естественным за­
конам он относил: установление мирных отношений между
людьми в естественном состоянии; добывание пищи; биоло­
гическую тягу людей друг к другу; стремление быть взаимно
полезными (социальность). Находясь в естественном состоя­
нии, человек должен был подумать о сохранении своего суще­
ствования; он должен был чувствовать свою слабость и быть
чрезвычайно пугливым. Здесь агрессия была ему чужда. Дообщественное состояние естественным образом превращается
в гражданское, общественное, ибо самим естественным зако­
ном люди объединяются друг с другом. Возникновение права
связывалось с появлением острых социальных конфликтов.
При этом философ выделял три основных вида установлен­
ного права: международное (регулирует отношения между
государствами), гражданское (между гражданами) и полити­
ческое (между правителями и управляемыми). Подобно Воль­
теру он отождествляет политическую свободу с личной безо­
пасностью, независимостью индивида от произвола властей.
Политическая свобода «есть право делать все, что дозволено
законами». Гражданская свобода состоит в безопасности или
в уверенности гражданина в своей безопасности (поэтому
186
Политические учения Нового времени
здесь центральным элементом выступает уголовное законода­
тельство).
Цель государства - погашение зарождающейся вражды,
примирение индивидов и направление конфликтов между
ними в правовое русло. Но на нем лежит и обязанность обе­
спечить всем гражданам прочные средства к жизни, пищу,
приличную одежду и род жизни, не вредящий здоровью.
Формы правления Монтескьё называл образами/видами
правления и выделял следующие: республика (аристократи­
ческая и демократическая), монархия, деспотизм. Каждая
из форм правления отличается собственной природой (это ее
внутренняя, сущностная сторона, означает количественный
признак) и принципом (внешняя сторона правления, харак­
теризующая государство с деятельной стороны, т. е. с точки
зрения взаимоотношения с гражданами). Принцип - стержне­
вой элемент образа правления, выражающий господствующие
здесь «человеческие страсти», побуждающие их действовать
так, чтобы он имел устойчивое существование. В республике
это - добродетель («действенная любовь к отечеству и равен­
ству»); в монархии - честь; в деспотии - страх. Республика
есть государство, где власть принадлежит всему народу (де­
мократия) либо его части (аристократия). Первая с наиболь­
шей полнотой обеспечивает свободу и равноправие большин­
ства нации; здесь правление осуществляется в строгом соот­
ветствии с политическими законами. Однако и у монархии
есть несомненное преимущество: здесь государственные дела
ведутся одним лицом, а значит, и указы исполняются скорее.
Особо останавливается Монтескьё на критике деспотизма, где
страх пронизывает все поры общества. В нем нет твердых за­
конов, их заменяют прихоть и воля тирана (почему и он фак­
тически несвободен, а раб их); нет и прочных гарантий жизни
и собственности подданных, которые лишены всех политиче­
ских прав. Деспотизм делает их льстивыми, жестокими, ко­
варными, робкими. Поэтому они имеют право на восстание:
«Неограниченная власть не может быть законной». Монархия
отличается и от республики, и от деспотизма; это то правле187
Раздел III
ние, «при котором управляет один человек, но посредством
установленных неизменных законов», в результате чего здесь,
как и в республике, царит «благодетельная политическая сво­
бода». Социальным носителем монархии выступает дворян­
ство.
Образы правления приходят в упадок с разложением их
принципа. Также гибельна и «прививка» чуждого принци­
па. Так, деспотическое правление рушится, если подданные
становятся приверженцами «политической добродетели» или
«чести», а «страх» перед правителем исчезает; республики же
приходят в упадок при ослаблении в них «добродетели» (в мо­
нархии - «чести»). Цель деспотических государств - тишина,
а погибнуть они могут из-за расширения или сужения своих
пределов.
Главная цель трактата «О духе законов» - обоснование
объективной детерминированности «законодательств» всех
государств. Это Монтескьё называл «духом законов» и опре­
делял как совокупность отношений, в которых находятся за­
коны определенной страны к ее климату, рельефу местности,
плодородности почвы, протяженности территории и плотно­
сти населения (физическая детерминация), из чего происте­
кают особенности хозяйствования, нравы, религия и обычаи
народа, а значит, специфика законодательства (пресловутый
«дух законов») и политический строй. «Власть климата силь­
нее всех властей».
Идеал образа правления для Монтескьё - английская кон­
ституционная монархия (для Франции, во всяком случае). Это «смешанная форма правления», где верховная власть ограни­
чена другими элементами (у монарха - исполнительная власть,
у парламента — законодательная, а у «большого жюри нации» —
судебная). Установление республиканского строя еще не оз­
начает достижения свободы членов общества. Для обеспече­
ния законности и свободы необходимо как в республике, так
и в монархии провести в жизнь принцип разделения властей.
В отличие от подобного у Д. Локка, Монтескьё особо подчерки­
вает, что различные ветви власти в государстве должны быть
188
Политические учения Нового времени
различными государственными органами и быть независимы­
ми друг от друга. Это система «сдержек и противовесов», как
в английской политической системе. Сосредоточение всей пол­
ноты власти в одних руках (или сословия, или органа) ведет к
произволу и злоупотреблениям. Законодательная власть долж­
на принадлежать народу, который ее делегирует парламенту.
Кроме того, в качестве самостоятельной Монтескьё выделяет
власть судебную. Двухпалатный парламент предполагает вы­
борную нижнюю и не избираемую верхнюю палату, состоящую
из наследственной аристократии власти.
Приверженцем идей общественного договора, народно­
го суверенитета и плебисцитарной демократии во Франции
и Швейцарии был Жан-Жак Руссо (1712-1778). Еще 1750 г.
на конкурсный вопрос Дижонской академии: «Способствова­
ло ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» - он
один парадоксально ответил отрицательно. В дальнейшем
этот подход предопределит его основные идеи, изложенные
в трактатах «Об общественном договоре...» и «Рассуждение
о причинах неравенства между людьми». Будучи одним из
авторов и основоположников знаменитой «Энциклопедии»,
он во многом заложил основы интеллектуальной моды того
времени.
Выступая критиком феодализма, причиной перехода к
общественному состоянию Руссо полагал присущую человеку
«способность к совершенствованию», выражающуюся в раз­
витии его ума, что было обусловлено жизненными потребно­
стями людей при расселении их из первоначально благодат­
ных мест в области, где питание добывается исключительно
трудом. Люди тут жили «как звери». Множился род людской,
климат менялся, становился холоднее, и люди вынуждены
были прибегнуть к строительству жилищ («первый перево­
рот» в их бытии). Это физически означало появление обосо­
бленных семей, которые затем объединились из необходимо­
сти выживания в племена.
«Второй переворот» в естественном состоянии - исчезно­
вение равенства, появление рабства и нищеты. Основой этого
189
Раздел III
было возникновение частной собственности. Этому предше­
ствовал еще один переворот - открытие искусства открывания
и обработки металлов и земледелия, что привело к возникно­
вению разделения труда, а следствием этого стала обработка
земли и ее раздел. Значит, собственность возникла из труда.
Физически более сильный и производил больше. Возникли
раздоры и войны из-за собственности. Возникает потребность
в единой высшей власти для защиты всех. Возникли челове­
ческие сообщества с единым законом и правлением.
Было бы ошибкой думать, что естественное состояние су­
ществовало на самом деле. Мы должны принимать это лишь
в качестве гипотезы, которая способствует лучшему понима­
нию существа человека. В этом гипотетическом состоянии
человек должен был жить в идиллии с природой и с други­
ми людьми, никого не бояться, не знать горестей и бед, быть
независимым и счастливым. Все это благолепие исчезает с
появлением частной собственности: «Первый, кто, огородив
участок земли, придумал заявить: “Это мое!” - и нашел лю­
дей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был под­
линным основателем гражданского общества» [Руссо, 19696,
с. 72]. Труд становится необходимостью, а природное равен­
ство исчезает.
Равенство между людьми заложено природой, а неравен­
ство установлено людьми. Но физически люди тоже не рав­
ны. В государстве имущественное (социально-экономическое)
неравенство дополняется делением общества на правящих
и подвластных (политическим). Если в естественном состоя­
нии права не было (понятие «естественного права» Руссо ис­
пользует лишь как обозначение «свободы морального выбора»,
чем люди наделены от природы и что порождает врожденное
чувство справедливости), то законы (политическое) появляют­
ся только с возникновением государства и основаны на дого­
воре («сила не создает права»).
Крайний предел неравенства наступает с перерождением
государства в деспотию, где нет законов, нравственности, пра­
вительства, «одни тираны и одно насилие». Здесь индивиды
190
Политические учения Нового времени
тоже равны, но в своем рабстве. Отсюда обоснование право­
мерности свержения деспота народом. В этом смысле деспо­
тизм - возврат в естественное состояние, «второе естественное
состояние».
Переход в состояние свободы предполагает заключение под­
линного общественного договора. В результате создается некое
общее управление, «которое ранее именовалось Гражданской
общиной, ныне же именуется Республикой, или Политиче­
ским организмом: его члены называют этот политический ор­
ганизм Государством, когда он пассивен, сувереном, когда он
активен, Державой, при сопоставлении его с ему подобными».
Члены ассоциации в отдельности называются гражданами,
как участвующие в верховной власти, и подданными - как
подчиняющиеся законам, а в целом - народом [Руссо, 1969а,
с. 161-162]. По условиям общественного договора человек те­
ряет свою естественную свободу и неограниченное право, при­
обретает же он свободу гражданскую и право собственности на
все, чем обладает. Исходя из своей концепции суверенитета,
Руссо отвергает теорию разделения властей, вместо нее пред­
лагая разграничение функций и полномочий единой власти.
Формы организации правительства могут быть различны (мо­
нархия, аристократия или демократия; а из сочетания могут
возникать различные смешанные формы правления, однако
при этом должен соблюдаться главный принцип: число выс­
ших магистратов должно находиться в обратном отношении к
числу граждан), но при народоправстве возможна только одна
форма правления - республика, где правят законы, а не люди.
Поэтому, кстати, и монархия может быть республикой. Рас­
пад государства происходит двумя путями: когда правитель­
ство не управляет государством сообразно законам и когда оно
узурпирует верховную власть/суверенитет. Злоупотребление
властью означает анархию; демократия может выродиться
в охлократию, а аристократия - в тиранию.
При заключении общественного договора имущество и
личность человека поступают под защиту сообщества. Суве­
ренитет в государстве принадлежит народу и проявляется
191
Раздел III
в осуществлении им законной власти. Свобода в том и заклю­
чается, что народ подчиняется законам, которые принимает
непосредственно сам (принцип плебисцитарной демократии:
«Общая воля всегда права»). При этом суверенитет обладает
тремя атрибутами: он неотчуждаем, непредставляем и неде­
лим. Суверенитет непосредственно выражается в перманент­
ном общественном договоре - плебисците, народном собра­
нии, которое проводится в установленные законом сроки и не
нуждается в санкции правительства. Значит, такая демокра­
тия возможна лишь в малых государствах, с небольшой плот­
ностью населения (аристократия - в средних, а монархия в больших). Поэтому философ являлся противником предста­
вительной формы правления (в том числе и демократии пар­
ламентского типа). Депутатство появляется, когда служение
обществу перестает быть главным делом граждан и они нани­
мают своих представителей, служа обществу своим кошель­
ком.
Представителем направления французского консерватизма
был Жозеф Мари де Местр (1753-1821) - французский поли­
тический деятель, философ и публицист. Его основные произ­
ведения: «О папе», «Опыт о порождающем принципе полити­
ческих учреждений», «Петербургские вечера...». Острие кри­
тики своего мировоззрения де Местр направил против идей
Просвещения и Французской революции, принципов есте­
ственного права и общественного договора. Альтернативой
революциям он полагал реставрацию политического порядка
теократической средневековой Европы, где конституирующая
роль принадлежит авторитету института папства. Особую
критику де Местр направил на концепцию рационального за­
конодательства: «Изобрести конституцию столь же невозмож­
но, как и придумать язык». Законы никем не учреждают­
ся, не изменяются, а отражают божественный общественный
дух, который уже существует. Высказывая взгляды, близкие
классическому консерватизму, де Местр полагал, что все кон­
ституции складываются исторически из начал, инклюзив­
ных характеру и обычаю народа, причем основные законы
192
Политические учения Нового времени
создавались не в результате теоретического, предварительного
обсуждения, а политическими практиками - аристократами
и царями. Конституции закрепляют ту или иную степень
свободы, которая обусловливается исключительно потребно­
стями народа. Поэтому изменение основных законов зависит
от изменения шкалы человеческих потребностей. Для Фран­
ции, считал он, единственный выход заключен в возврате
к традиционной форме правления, к историческому основно­
му закону - к монархии, - и через нее возможно получить
свободу. Причем это возможно и путем реставрации Бурбонов,
и с помощью власти Наполеона, и даже революционного пра­
вительства, поскольку оно освободилось от террористической
анархии; отсюда его идея о палаче как вершителе порядка.
Основная идея де Местра - о воссоздании единства политики
и религии. Это основано на его убеждении в греховности при­
роды человека, который настолько зол, что нуждается более
в порабощении и обуздании, нежели в свободе. Палач и страх
более потребны человеку, чем равенство и закон. А религия
является основанием всех человеческих учреждений (науки,
политического быта, воспитания). Революции происходят от
ослабления веры в Бога и ослабления освященной историей
общественной традиции. При этом де Местр нащупал действи­
тельно слабое место в идеологии Просвещения - это незыбле­
мая вера во всемогущество человеческого разума и во всеси­
лие рационального законодательства, при недооценке тради­
ционных общественных установлений.
Либеральный вектор французской политической мысли
представлял Бенжамен Констан (1767-1830) - французский
политический мыслитель, писатель, идеолог либерализма
и теоретик литературного романтизма. В своем творчестве
основное внимание он уделял проблемам личной свободы, по­
нимаемой как свобода совести, слова, предпринимательства,
частной инициативы. Констан различает политическую свобо­
ду и свободу личную. Древние народы знали исключительно
свободу политическую, которая сводится к праву соучастия
в осуществлении политической власти; в то же время граждане
193
Раздел III
были подчинены государственной регламентации и контролю
в частной жизни. Народы Нового времени политическую сво­
боду ценят меньше, потому что государства стали большими
и голос одного человека уже ничего не значит. А воинствен­
ный дух древних народов сменился коммерческим духом;
современники более заняты торговлей и промышленностью,
и у них просто нет времени заниматься политикой. Поэто­
му приоритет отдается личной, гражданской свободе, и люди
уже болезненно реагируют на вмешательство потестарных
органов в их частную жизнь. Государство не может вмеши­
ваться в промышленную деятельность, потому что оно ведет
дела «хуже и дороже, чем мы сами». Оценивая угрозу лич­
ной свободе со стороны монархического государства, вместе
с тем Констан возражает и сторонникам идеологии народно­
го суверенитета (в духе Ж.-Ж. Руссо), которые отождествили
свободу с властью. Неограниченный народный суверенитет не
менее опасен для гражданской свободы, чем неограниченный
суверенитет монарха. Он осуждает любую форму правления,
где существует «чрезмерная степень власти» и отсутствуют
гарантии индивидуальной свободы (общественное мнение,
разделение властей и т. п.). Выступая за расширение муници­
пального самоуправления, власть муниципальную он оцени­
вает как власть особую. Теория Констана обстоятельно была
изложена им в «Курсе конституционной политики».
Особое место в политико-правовой мысли Франции XIX в.
занимает исследователь и политический деятель Алексис де
Токвиль (1805-1859). Его главное произведение - «О демо­
кратии в Америке». Работа написана на основе многолет­
них наблюдений во время пребывания автора на американ­
ском континенте. В результате сформировались либеральные
взгляды мыслителя на основе идей Ф. Гизо о том, что весь ход
истории ведет к триумфу среднего класса - основы демокра­
тии. Цель книги: «по возможности полно и научно описать»
функционирование американских политических и правовых
институтов, о которых в Европе имели весьма смутное и пре­
вратное представление.
194
Политические учения Нового времени
Понятие демократии Токвилем используется в несколь­
ких значениях: всеобщее избирательное право; «народ»; обо­
значение представительной формы правления; стремление
к уравниванию всех сторон общественной жизни. Фактически
демократия означает тот общественный строй, который про­
тивоположен феодальному и не знает социальных, сословных
границ между низшими и высшими классами. Составляющие
демократии - это равенство и свобода. Вот только их соотно­
шение неоднозначно, и для людей ценность их неодинакова.
Равенство - это равенство общественного положения индиви­
дов, одинаковость их «стартовых возможностей» в экономи­
ке, политике, социальной деятельности. Дни аристократии
сочтены, и процесс ее вытеснения плутократией (власть «де­
нежных мешков») необратим. Люди склонны между равен­
ством и свободой всегда выбирать первое, которое им дается
легче и которое большинство «переживает с удовольствием».
Радости, доставляемые равенством, не требуют ни жертв, ни
чрезмерных усилий. А вот существование в условиях свобо­
ды требует от человека дополнительного напряжения сил,
связанного с необходимостью быть самостоятельным и нести
ответственность за сделанный самим выбор. Свобода по сути свобода выбора; правительство же должно выступать лишь
в роли некоего сдерживающего фактора, к помощи которо­
го следует прибегать, если исчерпала себя частная инициа­
тива, а извращенная склонность к равенству, присущая всем
правительствам, низводит всех до уровня массы и приводит
к равенству в рабстве. «Кто ищет в свободе чего-либо другого,
а не ее самой, тот создан для рабства».
Сам мыслитель убежден: современная демократия возмож­
на лишь при единстве свободы и равенства. Токвиль посту­
лирует неизбежное движение всех стран к демократии, ибо
торжество просвещения и цивилизации одновременно знаме­
нует победу демократии. Кроме того, основной чертой демо­
кратического общества является право, когда люди относятся
к закону как к своему личному делу, любят его и без труда
подчиняются ему. Когда каждый человек наделен правами
195
Раздел III
и уверен в неотъемлемости их, между основными классами
устанавливается доверие. При этом Токвиль видит и недостат­
ки демократии: она устанавливается «в грохоте сражений»
и порождает революционные беспорядки, что просто надо пе­
режить; мысли людей, живущих в демократических странах,
часто имеют неустойчивый характер, это - стиль «абстрактно­
го слова» и убеждения, где лидер — демагог.
Демократия - это не самая искусная форма правления, но
только она может постепенно возвысить толпу до своего уров­
ня. Путь к деспотизму - централизация всех методов управле­
ния в обществе. А путь к демократии - постепенное развитие
свободы «на местах».
6.4. Немецкая политическая философия Нового времени
Социально-политические и правовые взгляды немецкого
философа Иммануила Канта (1724-1804) были изложены
в его трактатах: «Метафизика нравов», «Идея всеобщей исто­
рии во всемирно-гражданском плане», «К вечному миру».
Центральной темой творчества философа является тема
человека. Задача науки - действительно помочь ему стать
свободным. И этика, и право имеют один источник и еди­
ную цель - утверждение всеобщей свободы. Правовые зако­
ны - лишь первая ступень (или минимум) нравственности.
По кантовской мысли, право должно основываться на нрав­
ственности и сообразовываться с ней. При этом право обеспе­
чивает лишь внешнюю благопристойность поведения челове­
ка, не затрагивая внутренние побудительные мотивы людей.
В обществе, где господствует только право (без морали), меж­
ду индивидами сохраняется «полный антагонизм».
По Канту право - это совокупность условий, при которых
произвол одного лица совместим с произволом другого с точ­
ки зрения всеобщего закона свободы. Таковыми условиями
он объявляет: собственность, равенство всех членов общества
перед законом, разрешение всех споров лишь в судебном по­
рядке, гарантию личных прав. По мысли Канта, свободные
196
Политические учения Нового времени
индивиды способны сами урегулировать свои взаимоотноше­
ния и нуждаются лишь в том, чтобы эти отношения получили
надежную правовую защиту и гарантию в лице государства.
Эти положения и дают повод полагать Канта основоположни­
ком теории правового государства (хотя справедливости ради
следует отметить, что для него любое государство правовое,
поскольку право - его сущность).
Рассматривая систему права, Кант делит его на частное
и публичное, а последнее, в свою очередь, - на государствен­
ное, международное и космополитическое. Право в концепции
Канта - лишь внешняя узда, способная оберегать личность от
посягательств других.
Чтобы избежать произвола, общество и заключает перво­
начальный «общественный договор». «Это и есть тот первона­
чальный договор, на котором только и можно основать граж­
данское, стало быть, чисто правовое, устройство и установить
общность. Однако этот договор... как объединение всех от­
дельных и частных воль в народе в одну общую и публичную
волю» не есть факт, но идея разума [Кант, 19656, с. 86-87].
Отсюда Кант выводит свое классическое определение государ­
ства: «Государство (civitas) — это объединение множества лю­
дей, подчиненных правовым законам» [Кант, 1965а, с. 233].
В догосударственном состоянии человек приобретает субъ­
ективные естественные права (в том числе и право собствен­
ности), но они ничем не обеспечены, кроме физической силы
индивида, и являются предварительными. Подлинно юриди­
ческий и гарантированный характер частное право приобрета­
ет только в государстве, с утверждением публичных законов.
Естественное право основано на ясных, априорных принци­
пах, имманентных человеку. Его Кант и называет «частным
правом». Право же положительное — это результат позитив­
ной деятельности законодателя; оно публичное, поскольку
нуждается в обнародовании. Публичное (позитивное) право
Кант именует еще и гражданским. Поскольку оно вытекает из
положений естественного права, то вместе они в совокупности
образуют право в широком смысле слова. Здесь Кант опреде­
197
Раздел III
ляет право и как моральную способность обязывать других.
С этой точки зрения существуют право прирожденное (вну­
треннее) и приобретенное (внешнее).
Частное право регулирует отношения между людьми, спо­
собными действовать свободно. Исходным отношением здесь
выступает «мое — твое», т. е. право собственности. Собствен­
ность у Канта - не врожденное качество, а установленный
социальный институт. Где нет общества, там и нет права соб­
ственности.
В отношениях собственности работает договор как «акт
объединенного произвола двух лиц, посредством которого
вообще свое одного переходит к другому». По Канту, граж­
данское состояние как состояние правовое основано на таких
априорных принципах, как: 1) свобода каждого члена обще­
ства как человека; 2) его равенство с каждым другим как
подданного; 3) самостоятельность каждого члена общности
как гражданина [Кант, 19656, с. 79]. «Тот, кто имеет пра­
во голоса в этом законодательстве, называется гражданином
(citoyen, гражданин государства, а не горожанин, bourgeois).
Для этого ему необходимо кроме естественных свойств...
только одно-единственное качество, а именно чтобы он был
сам себе господин... и, следовательно, имел какую-нибудь
собственность... которая давала бы ему средства к существо­
ванию... чтобы он не служил... никому, кроме общества»
[Кант, 19656, с. 84-85].
В строении идеального/правового государства Кант конста­
тирует наличие системы разделения властей. Они дополня­
ют друг друга «для совершенства» и взаимоподчинены (ни
одна из них не может взять на себя функции другой; таким
образом, положение Локка о прерогативе в учении о разделе­
нии властей Кантом не разделяется). Путем объединения вет­
вей власти - законодательной, исполнительной и судебной в едином государстве «они каждому подданному предоставля­
ют его права» [Кант, 1965а, с. 236].
Законодательная власть должна принадлежать объединен­
ной воле народа и не может быть передана правителю, так
198
Политические учения Нового времени
как это противоречит самой сущности принципа разделения
властей и природе верховной власти. В этом, по Канту, суть
гражданского/правового состояния. Правитель в системе ин­
ститутов государства ничем не владеет как своей собственно­
стью и одновременно владеет всем как повелитель народа, да­
рующий каждому свое.
Кант специально подвергает критике патерналистское го­
сударство, «правление отеческое (imperium paternale), при ко­
тором подданные, как несовершеннолетние, не в состоянии
различить, что для них действительно полезно или вредно,
и вынуждены вести себя только пассивно, дабы решения во­
проса о том, как они должны быть счастливы, ожидать от
одного лишь суждения главы государства... такое правление
есть величайший деспотизм... при котором уничтожается вся­
кая свобода подданных, не имеющих в таком случае никаких
прав» [Кант, 19656, с. 79]. Ему он противопоставляет правле­
ние отечественное, патриотическое (imperium non paternale,
sed patrioticum).
Вообще из всех форм государственного устройства Кант
выделял две основные: республиканскую/республиканизм и
деспотическую/деспотизм. В первом случае проведен принцип
разделения властей и законодательная власть отделена от ис­
полнительной (правительства). В другой модели господствует
«принцип самовластного исполнения государством законов,
данных им самим» [Кант, 1966, с. 269].
При этом Кант не придавал особого значения схеме клас­
сификации форм правления, идущей еще от Аристотеля и ос­
нованной на критерии количества правящих лиц (монархия,
аристократия, демократия). В его интерпретации монархия
могла оказаться республикой, если в ней проведено разделе­
ние властей. При этом, по мысли немецкого философа, лег­
че всего достигнуть республиканской формы правления там,
где осуществление государственной власти находится в руках
наименьшего числа лиц, а в идеале одного (т. е. монархия,
ограниченная законом и базирующаяся на юридическом ра­
венстве граждан).
199
Раздел III
Настоящим классиком немецкого Просвещения и филосо­
фии был Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831). В его
всесторонней и логически выстроенной системе философия
права, исследующая социально-политические и правовые во­
просы, раскрывается в таких произведениях, как «Конститу­
ция Германии», «Философия права», «Философия истории»
и др.
Историческое развитие общества - прогресс в сознании сво­
боды и вытекающие из этого преобразования в социальном
и политическом устройстве. Задача философского постиже­
ния государства и права лежит в выявлении идеи права и,
соответственно, идеи государства. Настоящим предметом ге­
гелевской философии права выступает право, рассмотренное
под углом зрения, во-первых, идей, лежащих в его основании,
а во-вторых, его осуществления. Под идеей права Гегель по­
нимал правовые идеалы. Наука о праве стремится к постиже­
нию государства как некой разумной субстанции: она не ста­
вит себе целью указать, каким должно быть государство; ее
задача - исследовать, каким образом государство, как нрав­
ственный универсум и тотальность, должно и может быть по­
знано. Личность, семья, общество, государство - это не просто
последовательность предметов исследования, но и градация
их реальной ценности, объективной значимости в диалектиче­
ски иерархизированной политико-правовой жизни.
Понятие права у Гегеля употребляется в следующих основ­
ных значениях: 1) право как свобода (идея права); 2) право
как определенная ступень и форма свободы (особое право);
3) право как закон (позитивное право). Исходным пунктом
развития идеи права выступает свободная воля. Первая за­
поведь права по Гегелю: будь юридическим лицом и уважай
других в качестве таковых. Право - это определенная ступень
в развитии свободы, где человек впервые обретает свободу,
т. е. на этапе абстрактного (формального) права, где свобода
выражается во владении вещью (собственность) и во взаимо­
отношениях с другими лицами относительно собственности
(договор и неправда). Эта ступень охватывает сферу имуще200
Политические учения Нового времени
ственных правоотношений и основы уголовного права. Лишь
благодаря частной собственности человек делается личностью.
Абстрактное право затрагивает внешние поступки индиви­
да и не касается внутреннего отношения лица к своим поступ­
кам. Вторая ступень в развитии идеи права - мораль, где речь
идет об оценке личностью своих поступков с точки зрения до­
бра и зла, преступления и ответственности и др. Третья (выс­
шая) ступень - нравственность, где свобода индивидов прояв­
ляется в различных формах социального общения, к каковым
относятся семья, гражданское общество и государство. В та­
ком понимании право объемлет все социальные отношения.
При этом философ решительно возражал против концепции
происхождения государства в результате общественного дого­
вора: «естественное право» и «естественное состояние» суть
положения произвола и бесправия, о которых нельзя ничего
сказать, кроме того, что «из него необходимо выйти». Только
в государстве человек обретает подлинную свободу благодаря
должности и профессии, а также любой своей трудовой дея­
тельности.
Гегель отверг концепт естественного состояния и ввел по­
нятие гражданского общества, последовательно разграничив
его и государство. При этом гражданское общество он изобра­
жает с помощью гоббсовских эпитетов, относящихся к есте­
ственному состоянию: «война всех против всех», поскольку
его сфера - это система материальных потребностей, соци­
альный строй, основанный на эгоистическом экономическом
интересе, где «каждый для себя цель, все другие - суть для
него никто».
В основе гражданских отношений лежат материальные по­
требности, которые определяют, в свою очередь, специфику
трудовой деятельности и трудовых отношений, что и озна­
чает принадлежность лица к данному сословию. Рост наро­
донаселения и промышленности ведет не к сглаживанию,
а к обострению социальных противоречий. При чрезмерном
богатстве общество недостаточно богато, чтобы преодолеть
чрезмерность бедности. Эта диалектика заставляет граждан201
Раздел III
ское общество выйти за свои пределы. Внешне это выглядит
как колонизация, а внутренне - как установление корпора­
тивного строя, реализуется попечение над гражданами. Так
нравственность достигает своей высшей ступени - государ­
ства.
Само гражданское общество делится на три сословия: суб­
станциальное, связанное с основой/субстанцией националь­
ного богатства в соответствии с идеологией физиократизма с землей (крестьяне и дворяне-землевладельцы); промышленное/формальное (фабриканты, ремесленники, торговцы); все­
общее (чиновники).
Сопоставляя различные государственные формы, Ге­
гель высказывался за такую, которая сводит до минимума
влияние личностных качеств правителя на судьбы страны.
Конституционную монархию, в соответствии с интеллекту­
альной модой той поры, он ставит выше демократической
республики. Причем гарантией прочности государственного
строя выступает чиновничество, которое, в отличие от ари­
стократии, не составляет изолированного строя, а связано
с народом, выражая не частные интересы, как иные сосло­
вия, а всеобщие, имея его лучшие качества: ум, образован­
ность, правосознание. Это — «соль земли», лучшая опора за­
конности власти и правительства; чиновничество - основа
правительственной/исполнительной власти в государстве.
Сюда же относится и суд, перед которым все должны быть
равны. Задача этой ветви власти - исполнение решений мо­
нарха, поддержание законов и учреждений. Власть законо­
дательная должна принадлежать двухпалатному парламенту
на манер английского. А княжеская/монархическая власть
служит началом, объединяющим остальные виды власти
в единое целое. Таким образом, Гегель - сторонник концеп­
ции разделения властей. При этом в концепцию разделения
властей он вносит и нечто свое: власти в государстве не про­
тивоборствующие, не самостоятельные и не независимые.
Необходимо их органическое единство, в чем и состоит вну­
тренний суверенитет государства.
202
Политические учения Нового времени
Можно выделить три основных момента гражданской жиз­
ни: систему потребностей, отправление правосудия, полицию
и корпорацию. Здесь он обосновывает необходимость публич­
ного судопроизводства и оглашения законов, суда присяж­
ных. Гражданское общество и государство соотносятся как
рассудок и разум: гражданское общество - это «внешнее го­
сударство», «государство нужды и рассудка», а подлинное го­
сударство разумно. Следовательно, в логическом плане граж­
данское общество - момент (в немецкой языковой традиции:
«подчиненный элемент целого») государства, то, что снимает­
ся в нем. Идея государства достигается лишь при достижении
личной независимости и равенства всех перед законом, когда
учреждены представительство и конституционное правление.
Продолжателем идей И. Канта, по его собственным словам,
был немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814).
В своем творчестве он пережил радикальную эволюцию, кото­
рую принято подразделять на два этапа по месту жительства:
йенский (основная работа - «Основы естественного права...»)
и берлинский («Замкнутое торговое государство»). В первый
период философ, вдохновленный идеями французского Про­
свещения и революции, шел вполне в русле естественно-пра­
вовой школы и теории общественного договора. В работах
данного этапа он полагал, что государство существует в силу
общественного договора, который представляет собой обмен
правами: человек отказывается от части своих естественных
прав, взамен получая права гражданские. Данный договор
невозможен, если он противоречит неотчуждаемым правам,
нравственному закону. Право на изменение формы государ­
ства столь же неотчуждаемо от людей.
Человек противоречит своему родовому понятию, если жи­
вет в изоляции. Государство выступает только средством для
создания совершенного общества, ведь оно в конце концов
исчезнет, ибо «цель любого правления - сделать себя излиш­
ним», что, впрочем, является делом далекого будущего. По­
следняя цель любого общества - полное равенство всех своих
членов. Именно благодаря обществу устраняется физическое
203
Раздел III
неравенство людей, установленное природой. Человек, более
того, должен сам выбирать свою сословную принадлежность.
Формам правления Фихте не придавал особенного значе­
ния. Отдать ли предпочтение монархии или республике - это
проблема не философии, а политики. Однако решительно воз­
ражает он против демократии (это «антиправовое установле­
ние», ибо весь народ не может брать на себя функции власти)
и деспотии. Будучи противником режима разделения властей,
философ все же считал, что гарантией против деспотизма мо­
жет быть высшая контрольная инстанция - эфорат. Эфоры
стоят над властью, назначаются народом и периодически сме­
няются. У эфора только одна главная функция - накладывать
запрет на незаконные действия власти. Без собственности нет
гражданина; каждый должен обладать минимумом жизнен­
ных благ, чтобы кормить себя и свою семью. Иначе человек
превращается в люмпена. Каждый должен иметь возмож­
ность жить своим трудом, а государство обязано тому создать
необходимые условия. «Если народ ходит голышом, смеш­
но говорить о праве на портняжное ремесло» [Гулыга, 1986,
с. 141]. Правом может быть лишь то, что действительно ре­
ализуется. Следовательно, государству вменяется в обязан­
ность контролировать экономическую жизнь и имуществен­
ные отношения. В обществе, таким образом, не должно быть
ни богатых, ни тунеядцев. Отдельное лицо становится частью
«организованного целого», гражданином государства, благо­
даря чему он «получает в государственной системе определен­
ное положение в порядке вещей».
Идею государственного регулирования общественной жиз­
ни Фихте делает центральной в берлинский период своего
творчества, особенно в работе «Замкнутое торговое государ­
ство». Это происходит на фоне поражения германских госу­
дарств во время наполеоновских войн и роста патриотизма,
апологетом идеологии которого стал Фихте. С точки зрения
экономики данное государство стремится превратить стра­
ну в «самодостаточный, самообеспечивающийся организм».
Это - разумное автаркическое государство, где существует
204
Политические учения Нового времени
три сословия: производители (сельское население), мастеро­
вые (городские ремесленники) и купечество. Кроме того, есть
категории лиц, занятых в культуре (художники), политике,
армии. Труд ученых, философов Фихте оценивает весьма вы­
соко, считая их истинными наставниками нации, способными
двинуть ее по пути прогресса. Государство регулирует отно­
шения между сословиями, их численность. Жестко регламен­
тируется быт. Количество же производителей зависит от про­
дуктивности сельского хозяйства (модная идея физиократов).
Государство само устанавливает цены, контролируя не только
производство, но и торговлю. В идеальном государстве Фихте
все - слуги целого, и каждый получает свою справедливую
долю общественного богатства. Никто не обогащается за счет
другого, но никто и не прозябает в нищете; продажа земли
запрещена.
Исследователи творчества Фихте до сих пор спорят, клас­
сиком какой модели государства он был: корпоративной или
полицейской (Polizeistaat). Возможно здесь и интеллектуаль­
ное влияние идей французских социалистов-утопистов. Но
в действительности устройство «замкнутого торгового госу­
дарства» внешне напоминает казарму: каждый гражданин
повсеместно, где это требуется, должен быть опознан в каче­
стве того или иного лица; никто не имеет права оставаться
неизвестным полицейскому чиновнику.
Представителем либерального направления и критиком па­
радигмы полицейского государства в немецкой политической
мысли был Вильгельм фон Гумбольдт (1767-1835). Его основ­
ной работой был «Опыт установления границ деятельности
государства» (в ином переводе: «Опыт установления пределов
государственной деятельности»), где главной темой было со­
отношение индивида и государства, а задачей - «найти наи­
более благоприятное для человека положение в государстве».
Таковым механизмом философ полагал включенность всесто­
ронне развитой индивидуальности, самобытного «я» челове­
ка в разнообразные и тесные связи между людьми. Одним из
первых он придерживается линии разграничения сфер обще205
Раздел III
ства и государства. По его мнению, общество принципиально
значимее государства, а человек есть нечто гораздо большее,
чем гражданин - член государственного союза. Цель государ­
ства - служение обществу: «Государственный союз есть толь­
ко подчиненное средство, которому нельзя жертвовать истин­
ною целью, именно человеком...» [Гумбольдт, 1908, с. 90].
Государство, реализуя эту роль в своей деятельности, не
должно преследовать ничего иного, кроме обеспечения вну­
тренней и внешней безопасности граждан. Здесь Гумбольдт
выступает адептом либеральной парадигмы «минимального
государства». В будущем государство отомрет естественным
образом, а на смену ему придут добровольные, самодеятель­
ные «народные союзы» / общины, основанные на договорах
граждан друг с другом. Диапазон активности государства дол­
жен быть резко ограничен, поскольку оно плохо переносит
свойственную общественному союзу пестроту великого мно­
жества индивидуальностей, воль, интересов, поступков, мне­
ний. Особенно опасным для индивида государство становится
тогда, когда начинает чрезмерно опекать людей, брать на себя
патерналистскую миссию. Это расслабляет их волю и энер­
гию, отучает самостоятельно принимать решения и преодоле­
вать возникающие трудности. Постоянное ожидание помощи
со стороны государства в итоге оборачивается бездеятельно­
стью человека, нищетой. Это прямым путем ведет к абсолю­
тизму и тирании. Государство с патерналистской опекой даже
при самых «лучших законах» может быть «спокойным, ми­
ролюбивым и богатым», но все равно напоминает «толпу от­
кормленных рабов, а не союз свободных людей, действующих
в границах права». Государственные мероприятия «всегда так
или иначе сопряжены с принуждением» [там же, с. 19]. По­
скольку государственное устройство всегда связано с ограни­
чением свободы, на него нельзя смотреть иначе как на «зло,
пусть и необходимое».
Еще одним критиком полицейского государства, но только
с классовых (пролетарских) позиций был Карл Маркс (18181883) - немецкий ученый, теоретик рабочего и коммунисти206
Политические учения Нового времени
ческого движения, один из авторов историко-материалисти­
ческого объяснения политики, всего комплекса политических
отношений. Маркс предпринял серьезную попытку обосно­
вать детерминированность политических отношений уровнем
и характером экономического развития общества. Совокуп­
ность материальных производственных отношений составляет
тот «реальный базис, на котором возвышается юридическая
и политическая надстройка» [Маркс, 1959, с. 7]. Эти идеи он
также высказывал в работах «Классовая борьба во Франции
с 1848 по 1850 г.», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»,
«Критика Готской программы» и др.
В политической теории Маркса проблемы власти, государ­
ства занимают центральное место. Уже в ранних работах ана­
лизируется классовая подоплека этих явлений. Политическая
система общества, по Марксу, есть результат классовой борь­
бы. Антагонизм классов грозит обществу уничтожением, поэ­
тому возникает специальный общественный орган - государ­
ство, который наделяется публичной властью. Политическая
власть имеет такую форму, которая воспроизводит специфи­
ку экономических отношений. Организатором политических
отношений выступает экономически господствующий в дан­
ную эпоху класс, который свою волю делает абсолютной,
а собственные интересы — общегосударственными.
В «Манифесте Коммунистической партии» политическая
власть определяется как организованное насилие одного клас­
са для подавления другого. Класс становится господствую­
щим тогда, когда овладевает государственным механизмом.
С появлением рабочего класса на арене политической борьбы
был поставлен вопрос о завоевании им политической власти.
Таким образом, Марксом были заложены основы теории
политических партий, особенно пролетарских. Освобождение
пролетариата возможно при осознании им своих классовых
интересов, политической организации и завоевании государ­
ственной власти. Диктатура пролетариата - это преходящая
политическая форма, которая, по Марксу, позволит обобще­
ствить средства производства, преодолеть эксплуатацию и со207
Раздел III
здать плановое разделение труда, которое обеспечит всем лю­
дям равный доступ к общественной культуре. Для того чтобы
одержать победу над политически господствующей буржуази­
ей, пролетариат должен вооружиться научной идеологией, со­
здать политическую партию коммунистов, которая выполнит
функцию политической организации рабочего класса, и под
руководством партии овладеть политической властью, чтобы
сразу организовать общество на социалистических основах.
После этого общество будет быстро продвигаться к коммуниз­
му, по мере возникновения которого государство будет посте­
пенно передавать свои функции общественным организациям.
При коммунизме, как полагал Маркс, политическая форма
организации общества исчезнет за ненадобностью, как и дру­
гие формы отчуждения.
Современная политическая мысль долго будет испытывать
влияние марксистской теории. Методология Маркса широко
применялась и применятся при анализе многих политических
явлений и процессов, несмотря на то, что целый ряд положе­
ний потерял свою актуальность.
Образец тестового задания
1. Классиком политического консерватизма в Новое время
был:
а) Д. Локк;
б) Т. Гоббс;
в) Э. Бёрк;
г) Б. Спиноза.
2. Какое из названий исторических эпох не принадлежит
Д. Вико:
а) эпоха героев;
б) эпоха людей;
в) эпоха богов;
г) эпоха философов.
208
Политические учения Нового времени
3. Наилучшей формой правления, по Б. Спинозе, является:
а) монархия;
б) олигархия;
в) демократия;
г) аристократия.
4. В концепцию разделения властей Д. Локк не включил
следующий вид власти:
а) судебная;
б) федеративная;
в) исполнительная;
г) законодательная.
5. Политический идеал Ж. де Местра:
а) демократия;
б) теократия;
в) монархия;
г) аристократия.
6. Автором работы «О демократии в Америке» был:
а) Т. Джефферсон;
б) Б. Франклин;
в) А. де Токвиль;
г) Т. Пейн.
7. Французский король Фридрих II писал о творчестве это­
го мыслителя: «Задача королей - осуществлять идеи филосо­
фов»; кого он имел в виду:
а) Вольтер;
б) X. Вольф;
в) С. Пуфендорф;
г) X. Томазий.
8. У кого из философов принято выделять два периода
творчества - йенский и берлинский:
а) И. Г. Фихте;
209
Раздел III
б) И. Кант;
в) Г. Гегель;
г) В. фон Гумбольдт.
9. Что не является «началом права» по Дж. Вико:
а) собственность;
б) свобода;
в) защита;
г) демократия.
10. Кому из мыслителей принадлежит афоризм: «Все пра­
вительства основаны на мнении»:
а) Д. Юм;
б) Дж. Пристли;
в) Г. Болингброк;
г) Т. Гоббс.
1
2
в
Г
3
Ключ к тесту
4
5
7
6
8
9
10
в
а
а
В
а
б
В
б
Литература
1. Антология мировой философии: в 4 т. М.: Мысль, 1971.
Т. 2.
2. Берк Э. Размышления о революции во Франции // Социс.
1991. № 6. С. 113-121; № 7. С. 125-132; № 9. С. 113-124.
3. Вико Д. Основания новой науки об общей природе на­
ций. М.; Киев: REFL-book: ИСА, 1994.
4. Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.
5. Гоббс Т. О гражданине // Сочинения: в 2 т. М.: Мысль,
1989. Т. 1. С. 271-427.
6. Гроций Г. О праве войны и мира. М.: Юридическая лите­
ратура, 1956.
7. Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М.:
Мысль, 1986.
210
Политические учения Нового времени
8. Гумбольдт В. фон. Опыт установления пределов госу­
дарственной деятельности. СПб.: Лугинин, 1908.
9. Кант И. К вечному миру // Собрание сочинений: в 6 т.
М.: Мысль, 1966. Т. 6.
10. Кант И. Метафизика нравов в двух частях // Собрание
сочинений: в 6 т. М.: Мысль, 1965α. Т. 4, ч. 2.
11. Кант И. О поговорке «Может быть, это и верно в те­
ории, но не годится для практики» // Собрание сочинений:
в 6 т. М.: Мысль, 19656. Т. 4, ч. 2.
12. Констан Б. О свободе древних в ее сравнении со свобо­
дой современных людей // Полис. 1993. № 2. С. 97-106.
13. Локк Д. Два трактата о государственном правлении.
Книга вторая // Сочинения: в 3 т. М.: Мысль, 1988. Т. 3.
С. 262-405.
14. Маркс К. К критике политической экономии // Сочи­
нения. 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс. М.: Госполитиздат,
1959. Т. 13. С. 1-167.
15. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Трактаты. М.:
Наука, 1969а. С. 151-247.
16. Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основани­
ях неравенства между людьми // Трактаты. М.: Наука, 19696.
С. 31-109.
17. Спиноза Б. Политический трактат // Избранные произ­
ведения: в 2 т. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 2. С. 285-382.
18. Токвиль А. де. О демократии в Америке. М.: Прогресс,
1992.
19. Фихте И. Г. Собрание сочинений: в 2 т. СПб.: Мифрил,
1993.
211
Раздел III
Глава 7. Политические учения в России XVIII —
начала XX века
В период с XVIII по XIX в. в Российской империи проис­
ходят существенные изменения, связанные с возникновением
капиталистического уклада и постепенным разложением фе­
одальных отношений. Расширение пространства страны, рост
населения, увеличение мануфактурного производства вместе
с отменой в 1753 г. внутренних таможенных пошлин стали
стимулами для развития товарного производства, роста ку­
печеского капитала. Между тем эти изменения в сфере про­
изводства и обмена значительно опережали эволюцию поли­
тической надстройки. Данное противоречие на долгие годы
стало предметом осмысления для российской интеллектуаль­
ной элиты. Будучи европейски образованной, эта элита неиз­
бежно сравнивала Россию с Западом, то стремясь там найти
политические рецепты для решения проблем российской дей­
ствительности, то, напротив, углубляясь в недра российской
истории и культуры, уповая на утраченную в ходе петровских
реформ самобытность.
Так, ЗО-е годы XIX в. были ознаменованы дискуссией
между славянофилами и западниками, предметом которой
явилась историческая судьба России, ее государственность и
культура, пути дальнейшего развития. Возникновение славя­
нофильства принято связывать с выдвижением тезиса о непо­
вторимости пути исторического развития России, принципи­
ально отличного от западноевропейского пути. Западники же
полагали, что нет и не может быть иного пути развития, кро­
ме того, который подчинен универсальным закономерностям.
Собственно, социальная среда в то время была еще недо­
статочно зрелой для того, чтобы то или иное направление по­
литической мысли можно было рассматривать как отражение
политической воли какой-либо социальной группы или клас­
са. Так, и на учении славянофилов, и на учении западников
лежала печать просветительства русского интеллигента, ра­
деющего за счастье и благополучие своей отчизны. Поэтому
212
Политические учения Нового времени
основным итогом этой дискуссии была не выверенная обще­
принятая позиция по вопросам реформирования России, а
определение концептуальных рамок, подходов к проблеме ре­
формирования, которые уже вскоре, в пореформенный период,
нашли своих социальных носителей и обрели доктринальную
форму в виде либерализма, консерватизма и радикализма.
Обратимся к более подробному анализу этих направлений
русской политической мысли с XVIII по XIX в.
7.1. Русская традиция политического либерализма
Либерализм в России не стоит искать в письмах Екатери­
ны II, у первых масонов и западников. Восстание декабри­
стов разбудило политическую мысль в России, в которой уже
четко прослеживалось два направления - республиканское и
монархическое. Среди монархистов не было единства, так как
одни из них выступали за сохранение в России абсолютной
монархии, а другие - за установление монархии конституци­
онной. Предтечей республиканских настроений в России яви­
лись идеи Михаила Михайловича Сперанского (1772-1839),
который по поручению императора Александра I разраба­
тывал план политических реформ в стране. В 1810 г. был
учрежден Государственный совет, который был первым этапом
к ограничению законодательной функции императора и к ре­
ализации кантовской идеи разделения властей на исполни­
тельную, законодательную и судебную. Однако установление
в России конституционной монархии не состоялось, а сам
Μ. М. Сперанский попал в опалу.
В 40-х гг. XIX в. столичная интеллигенция разделилась на
западников (В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, А. И. Герцен
и др.), которые были сторонниками Чаадаева, и славянофилов
(А. С. Хомяков, И. С. Аксаков, братья И. В. и П. В. Киреев­
ские, Ю. А. Самарин и др.), которые были его противника­
ми. Западники фактически продолжили развитие республи­
канских идей декабристов, а славянофилы считали западный
путь развития России, основанный на рационализме, господ213
Раздел III
стве права во всех сферах общественной жизни, неправиль­
ным и неприемлемым для России. По сути, оба течения были
утопическими и не принесли ничего полезного русскому наро­
ду и государству, однако они способствовали формированию
либерального, консервативного и революционного учений в
русской общественно-политической мысли, которая активи­
зировалась после Крымской войны. Н. И. Цимбаев отмечал:
«Политическая доктрина славянофильства при всем ее глу­
боком своеобразии может быть верно понята только в русле
традиций российского либерализма. В основных, принципи­
альных вопросах (отношение к крепостному праву, рефор­
мистский путь решения социально-политических проблем,
враждебность революции) славянофилы неотличимы от запад­
ников. Подлинный двуликий Янус» [Цимбаев, 1986, с. 120].
В России после крестьянской реформы 1861 г. быстрое раз­
витие получили капиталистические отношения. В отличие от
Европы, процесс либерализации общества начался сверху, что
наложило специфический отпечаток на развитие российского
либерализма XIX столетия. Умеренными или радикальны­
ми либералами в России были К. Д. Кавелин, Б. Н. Чиче­
рин, А. Д. Градовский и целый ряд других ученых. В 1862 г.
Б. Н. Чичерин отмечал, что «общественное мнение в России
решительно либерально» [Чичерин, 19976, с. 38] и имеет три
главных направления:
- уличный либерализм, который «питает непримиримую
ненависть... ко всякому авторитету», науке, а искусство счи­
тает «плодом аристократической праздности» [там же, с. 42];
- оппозиционный либерализм, который отрицает суще­
ствующий порядок по системе «отменить, разрешить, унич­
тожить», для которого «верхом благополучия представляется
освобождение от всяких законов, от всяких стеснений» [там
же, с. 44];
- охранительный либерализм, который «состоит в прими­
рении начал свободы с началами власти и закона. В политиче­
ской жизни лозунг его: либеральные меры и сильная власть»
[там же, с. 49]. К охранительному направлению российского
214
Политические учения Нового времени
либерализма относились либеральные профессора, писатели,
политики и государственные деятели.
Одним из родоначальников самобытного российского либе­
рализма, не основанного на полном заимствовании европей­
ских моделей политической и правовой систем, был Констан­
тин Дмитриевич Кавелин (1818-1885). Он писал, что рус­
ский народ, после 1861 г. вышедший из рабского состояния,
безграмотный и бедный, не сможет составить конкуренцию
дворянству в предвыборной борьбе в народно-представитель­
ный орган. Это приведет к формированию этого института
только из представителей одной социальной группы и при­
нятию таким составом парламента чисто дворянской консти­
туции.
Конституционные принципы, по мысли Кавелина, вообще
не имеют в России никакой почвы. Во-первых, конституция
закрепит разделение властей и будет служить тем слоям на­
селения, которые с ее помощью захватят руководство страной
в свои руки. Саму идею разделения властей Кавелин считал
обманом, фальшью и иллюзией. Во-вторых, введение консти­
туции в России приведет к захвату власти дворянством, что
придаст этому сословию политический характер.
Все европейские конституции, по его мнению, - это дого­
воры богатых людей государства со своими правительствами,
где сильные стороны диктуют слабым свои законы. Кроме
того, разграничение и распределение властей на законода­
тельную, судебную и исполнительную предполагают разные
интересы у государя и народа, их враждебность. Поэтому
в системе распределения властей Кавелин видел скрытую те­
орию разделения общества на классы и опасность этого для
России. Введение конституции привело бы в России к стол­
кновению царской власти с политическим народным предста­
вительством и к политическому кризису в стране.
Политический строй, который мог бы адекватно отразить
быт России XIX в., Кавелин называл «самодержавной респу­
бликой». Организовать верховную власть в такой республике
он планировал в форме наследственной неограниченной мо215
Раздел III
нархии, которая не должна допускать политического разгра­
ничения сословий. Русский либерал писал, что ни в коем слу­
чае нельзя допускать параллельного существования верховной
власти государя и выборного органа народного представитель­
ства, а на уровне местного управления - власти губернатора,
назначенного царем, и выборного представительства. Суще­
ствование двух представительных институтов на всех уровнях
власти с аналогичными функциями неминуемо привело бы
к столкновению различных точек зрения на проблемы и мето­
ды их разрешения.
Помимо монарха «самодержавная республика» основывает­
ся на системе трех сенатов: Законодательного, Административ­
ного и Судебного. Законодательный Сенат должен быть орга­
ном, доступным для всех сословий. Треть его состава избирают
земства, треть назначает сам государь, а еще треть избирается
из числа уходящих членов предшествующего состава Сената.
Этому органу принадлежит власть в случае отсутствия или
смерти государя, он координирует все институты государствен­
ного управления на коллегиальной основе. Административный
Сенат должен соединять в себе власть Государственного совета,
Комитета министров и первого департамента Правительствую­
щего Сената. Будучи совещательным органом при императо­
ре, Административный Сенат призван координировать работу
правительства в соответствии с принятыми законами, обеспе­
чивать единство в управлении страной. Судебный Сенат дол­
жен быть по численности в два раза меньше административ­
ного и законодательного и состоять только из лиц, имеющих
юридическое образование и стаж работы в системе правосудия.
Последующие обновления состава сенатов должны проходить
постепенно, каждые пять лет. Председатели сенатов должны
утверждаться императором из числа двух или трех кандидатов,
избираемых каждым сенатом из своей среды.
В статье К. Д. Кавелина «Разговор с социалистом-револю­
ционером» (1880) центральной проблемой является вопрос
о социализме, который русский либерал исследует утонченно
и всесторонне, с учетом положительных и отрицательных черт
216
Политические учения Нового времени
этого учения. Положительным Кавелин считал саму доктри­
ну социализма, построенную на стремлении создать общество
счастья для всех. Отрицательным - нигилистическое отноше­
ние к историческому опыту народа и его культуре, отсутствие
взаимообусловленности старого и нового.
К. Д. Кавелин не принимал всерьез утверждение револю­
ционеров о том, что революция возможна без диктатуры. По
его мнению, революционеры знают, что диктатура будет, но
скрывают это. К тому же эта диктатура будет «самая жесто­
кая, самая убийственная». Кавелин подчеркивал: «Насильно
освободить кого бы то ни было - значит убивать свободу в
самом ее источнике, обращать людей в рабов свободы, т. е.
в нравственных уродов» [Кавелин, 1989, с. 427]. Пропаганда
революционных идей в России, по мнению Кавелина, явля­
ется большим злом, которое грозит вылиться в величайшую
трагедию - социальную революцию. Весь пыл и благие стрем­
ления революционеров он желает направить на борьбу с при­
дворной партией, на поддержание реформационных перемен
в области государственного управления России.
Кавелин предполагал осуществить территориальное устрой­
ство страны по принципу автономии общин, союза общин, со­
юза областей под эгидой Земского собора России. В вопросе о
форме правления идея Кавелина не была полностью поддер­
жана видными отечественными либералами конца XIX - на­
чала XX в.
Ученик К. Д. Кавелина, взгляды которого на будущее го­
сударственное устройство России отличались от взглядов его
учителя, Борис Николаевич Чичерин (1828-1904), не толь­
ко предлагал свой государственный идеал России, но и был
автором фундаментальной работы «Философия права». Вы­
пускник юридического факультета Московского университета,
профессор права Московского университета в 1861-1868 гг.,
в 1868 г. он ушел в отставку в знак протеста против наруше­
ния университетского устава и стал заниматься обществен­
но-политической и научной деятельностью. В 1882-1883 гг.
был городским головой Москвы.
217
Раздел III
В развитых обществах признается человеческая личность,
а там, где этого нет, там только зачатки общежития, а поэто­
му «индивидуализм, состоящий из признания свободы лица,
составляет краеугольный камень всякого истинного человече­
ского здания» [Чичерин, 1900, с. 66]. Б. Н. Чичерин разли­
чал внутреннюю (свобода воли, мысли) и внешнюю (действия)
свободу человека. В силу этого право у него понимается как
«внешняя свобода человека, определяемая общим законом»
[там же, с. 84].
В вопросе политического идеала Б. Н. Чичерин, как и
Μ. М. Сперанский, выступал за конституционную монархию,
за народное представительство. По его мнению, «все народы,
способные к развитию, рано или поздно приходят к пред­
ставительному порядку. Свобода составляет один из самых
существенных элементов как общественного благосостояния,
так и политического могущества, а свобода, естественно, не­
удержимо ведет к участию народа в решении государствен­
ных вопросов» [Чичерин, 1997а, с. 53]. Народы Европы уже
пошли по этому пути. По этому пути пойдет и Россия. По
его мнению, для России идеалом представительного устрой­
ства может быть лишь конституционная монархия. Люди
должны быть равны и свободны, поскольку «равенство без
свободы не возвышает, а унижает людей» [там же, с. 63]. Со­
здание народного представительства, по мнению Б. Н. Чиче­
рина, будет способствовать консолидации целей общества и
государственной власти. Он призывал правительство начать
соответствующие реформы сверху [там же, с. 75]. При этом
русский либерал выступал против всякого насилия над лич­
ностью и обществом при движении к идеалу общественной
и государственной жизни. Ошибку католической церкви в
Средние века он видел в том, что она вела народ к спасению
путем принуждения.
Сергей Андреевич Муромцев (1850-1910) был гуманистом и
либералом, который верил в действенную силу человеческой
личности, в ее разум и совесть, в идею справедливости как
творческое начало в истории. Он был одним из основателей
218
Политические учения Нового времени
и лидеров кадетской партии в России. В 1906 г. был избран
Председателем первой Государственной думы.
Как многие либералы, С. А. Муромцев выступал против
смертной казни и за гуманизацию законов. Интересны сужде­
ния С. А. Муромцева о справедливости, так как это понятие
он мыслил как юридическое. «Под справедливостью, - писал
он, - следует разуметь присущую в данное время данной об­
щественной среде совокупность субъективных представлений
о наиболее совершенном правовом порядке» [Муромцев, 2004,
с. 146]. Справедливостью первоначально считали такой право­
порядок, к которому надо стремиться и которым нужно заме­
нить существующий. Он видел две главные причины, которые
ведут к несоответствию правового порядка и справедливости.
Первая заключается в отсутствии баланса интересов членов
общества, а вторая — в несоответствии действующего права
справедливости из-за несовершенства правовой организации
законодательных и судебных органов власти, в «заблужде­
ниях и ложных привычках судебного персонала».
Павел Иванович Новгородцев (1866-1924) был сторонни­
ком теории правового государства, критиковал славянофиль­
ские учения, выступал против самодержавия в России, за раз­
рыв с прошлым и за политические перемены. В 1910 г. он
издал труд «Политические идеалы древнего и нового мира.
Очерки по истории философии права». В этой работе он писал,
что мыслители всегда хотели усовершенствовать действитель­
ность. При этом все политические идеалы решали «одну и ту
же проблему справедливого устройства общественных отно­
шений, и, несмотря на видимое разноречие, все они в наибо­
лее глубоких и классических своих выражениях приходят к
одному и тому же выводу, что для разрешения этой проблемы
недостаточно одних внешних политических средств, что для
достижения прочной и устойчивой гармонии общественных
отношений... необходима также и гармония душ» [Новгород­
цев, 1910, с. 10].
В 1917 г. вышла в свет главная работа П. И. Новгородце­
ва «Об общественном идеале», в которой получили развитие
219
Раздел III
его ранние воззрения. Он одинаково критиковал либеральное
правовое государство, социалистическое государство и анар­
хизм. П. И. Новгородцев при этом возлагал большие надеж­
ды на русское православие, считая, что оно приведет всех к
взаимной любви. Без этико-религиозных ценностей не может
быть истинной свободы, равенства и справедливости. Как сто­
ронник И. Канта, русский мыслитель тоже вынашивал идею
построения планетарного государства.
Будучи либералом, П. И. Новгородцев считал, что он сам
и его партия «народной свободы», к которой он принадле­
жал, занимаются подготовкой человека к «лучшему будуще­
му». Вечный идеал политики заключается в полном расцвете
личности, в создании для нее достойных условий существо­
вания. Неутопическим идеалом партии «народной свободы»,
основанным на научных и философских убеждениях, было
построение правового демократического государства.
Идея конституционной монархии в России во втором деся­
тилетии XX в. стала терять популярность и уступила место
республиканскому идеалу, отмене смертной казни и др.
Иоанникий Алексеевич Малиновский (1868-1932) в 1909 г.
издал книгу «Кровавая месть и смертная казнь», в которой
выступил за отмену смертной казни. Приговоры смертной
казни, по его мнению, «не есть уголовное наказание, а кров­
ная месть. В основе их лежит не идея права, просветленно ­
го разумом и облагороженного нравственными началами, а
животный инстинкт, опирающийся на грубую силу» [Мали­
новский, 1909, с. 76]. Причем это классовый инстинкт, по­
скольку «законы о смертной казни всегда были направлены...
против низших классов общества» [там же, с. 109].
И. А. Малиновский считал, что самодержавие не является
самобытным устоем русской жизни, ее исконным началом.
Поэтому со временем оно должно уступить место другому об­
разу правления, а именно демократической парламентарной
республике. По мнению Малиновского, за 11 лет после уста­
новления в России ограниченной монархии народ увидел не­
совершенство монархической формы правления. Фактически
220
Политические учения Нового времени
сама жизнь выдвинула требование замены монархии респу­
бликой. «Если раньше, всего каких-нибудь 11-12 лет тому
назад, установление республики было бы актом насилия над
русским народом, над его политическими воззрениями и тра­
дициями, то теперь актом насилия над русским народом была
бы реставрация монархии» [Малиновский, 1909, с. 25].
С осени 1905 г. российские либералы провозгласили свои­
ми программными целями установление в России конститу­
ционной монархии и равенства всех граждан перед законом.
Пропагандой этих идей либерализма занимался непосред­
ственно председатель ЦК конституционно-демократической
партии с 1907 г. Павел Николаевич Милюков (1859-1943).
Его деятельность в Государственной думе во многом способ­
ствовала февральскому перевороту 1917 г. В 1917 г. пункт о
конституционной монархии в программе либералов был заме­
нен положением о создании демократической парламентской
республики.
Взгляды либералов на оптимальную для России форму го­
сударства не отличались постоянством, что и привело позднее
к потере популярности этих идей в годы гражданской войны.
7.2. Консервативная политическая мысль России
Как умонастроение, консерватизм в России всегда был
присущ широким слоям населения. Выражаясь в форме свое­
образной политической философии, он ориентирован на защи­
ту традиционных устоев общественной жизни, основополага­
ющих ценностей, отрицает революционные и иные радикаль­
ные преобразования. Главной особенностью российского кон­
сервативного сознания рассматриваемого периода являлось
доминирование идеи безальтернативности самодержавия, ко­
торое понималось как присущая России форма организации
политической власти, уходя своими корнями в эпоху форми­
рования и укрепления централизованного государства.
Другой особенностью является апелляция к православному
христианству как универсальному идеалу вселенской прав221
Раздел III
ды, верность которому Россия сохраняет с X в. Разделение
христианской церкви на Западную и Восточную рассматрива­
лось на Руси как появление в христианстве пагубной ветви в
лице католицизма, который сродни ереси. Византийское же,
а в дальнейшем и русское христианство рассматривалось как
христианство истинное, православное. Данная консерватив­
ная идея легла в основу мессианской идеи особого положения
русского народа в мире и истории.
Еще одна особенность российского консерватизма этого
времени - апелляция к общинному укладу жизни русского
народа, который рассматривается как важнейшее условие
воспроизводства и укрепления государственности и право­
славной веры.
К специфике российского консерватизма относится отсут­
ствие единой доктрины, принятой всеми сторонниками этого
направления политической мысли, что, конечно же, объясня­
ется их социально-политической неоднородностью. Поэтому
консервативные учения имеют очень широкий спектр, вклю­
чающий как умеренно-консервативные концепции, так и ра­
дикально-консервативные.
Особое звучание российская консервативная идеология
приобретает в XVIII-XIX вв. в контексте краха абсолютизма в
Европе, а также распространения либеральных и радикалистских идей в самой Российской империи. Так, по словам Ни­
колая Михайловича Карамзина (1766-1826), которому при­
надлежит авторство первой концепции политического консер­
ватизма, сохранение «мудрого самодержавия», основавшего и
воскресившего Россию, воспроизводится в разных формах и в
самых разных консервативных учениях в противоположность
идее его реставрации и уничтожения.
Известный прежде всего как ученый и писатель, Η. М. Ка­
рамзин заслуженно считается идеологическим лидером той
части российского дворянства, которая не разделяла либе­
ральных идей, распространявшихся в те годы в Российской
империи. В контексте таких идей в первую очередь рассма­
тривался модернизационный проект Μ. М. Сперанского, ко­
222
Политические учения Нового времени
торый был подвергнут жесткой критике в «Записке о древней
и новой России в ее политическом и гражданском отношени­
ях». Эта книга в систематическом виде излагает целый ряд
консервативных идей, которые в совокупности могут рассма­
триваться в качестве консервативного проекта империи, во
многом ставших востребованными как при жизни мыслителя,
так и после его смерти.
Основополагающим постулатом этого манифеста русского
консерватизма стало положение о недопустимости ограниче­
ний власти самодержавной монархии. Ведь такие ограниче­
ния неизбежно ведут к коллизии власти государя и права,
которая должна найти проявление во внутренних противоре­
чиях страны. Именно моральная, но не юридическая ответ­
ственность самодержца за судьбу страны перед будущими и
прошедшими поколениями, наделившими его властью, долж­
на рассматриваться гарантом радения его за благо народа.
По мнению Η. М. Карамзина, тенденция либеральных
трансформаций русской жизни возникла еще при Петре Ве­
ликом и связана с реформами, направленными на разрушение
родовой исключительности дворянства. Речь идет о принятии
при жизни реформатора «Табели о рангах», согласно которой
дворянский статус мог быть присвоен императором за заслуги
перед Отечеством. Негативные последствия имели и петров­
ские ограничения прав православной церкви.
Государство, полагал Η. М. Карамзин, должно основывать­
ся не столько на законах, сколько на вековых традициях. По­
этому именно традиционный образ жизни русского сословия
является важной опорой государства и, соответственно, госу­
даря, а его разрушение ведет к деградации народа и упадку
государства.
В связи с этим Η. М. Карамзин крайне негативно относился
не только к идее отмены крепостного права и принятия кон­
ституции, но и к новым министерствам и Государственному
совету, введенным Александром I в результате влияния идей
Μ. М. Сперанского. Это неизбежно, по его мнению, должно
было привести к социальному хаосу.
223
Раздел III
В своем консервативном проекте Η. М. Карамзин излагает
идею вредности развития самоуправления на местах. Он по­
лагает, что управление государством должно развиваться на
основе усиления вертикали власти. Так, не самоуправление,
а губернаторы, выбранные из преданных государю людей,
должны обеспечить развитие промышленности и просвеще­
ния. В связи с этим и судебная власть не может быть незави­
симой, но должна находиться под контролем государя.
Основополагающее значение для консервативного учения
Η. М. Карамзина имеет тезис о том, что нравы и обычаи рус­
ского народа складывались многие века. Соответственно, нет
никакой необходимости вводить какие-либо новые законы, но
достаточно обобщить те, которые издавались ранее в едином
Своде законов.
Известным представителем русского консерватизма явля­
ется Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885). Широко
образованный человек, будучи биологом и общественным дея­
телем, историографом и публицистом, он написал книгу «Рос­
сия и Европа», которая в свое время имела шумный успех.
Россия, по его мнению, - это определенный культурно-исто­
рический тип. В противоположность рационалистической тра­
диции Данилевский утверждает, что общечеловеческой циви­
лизации не существует и не может существовать. Существуют
лишь различные культурно-исторические типы цивилизации.
В их ряду - египетский, греческий, китайский и др. В совре­
менной истории, по мнению Данилевского, решающую роль
играют германо-романский и славянский типы цивилизации.
Известно, что «Россия и Европа» писалась вскоре после
Крымской войны, когда вся Европа объединилась против Рос­
сии. Поэтому ключевой вопрос, на который ищет ответ Да­
нилевский, «Россия или Европа?», сводится к вопросу о ме­
сте России в мире: является ли Россия элементом в системе
Европы или она равноправно должна ей противостоять? Для
Данилевского очевидна самобытность государственности и
культуры России. В ее орбиту включены народы Востока
и Юга, в ней ищет опору все славянство. Отсюда Данилевский
224
Политические учения Нового времени
делает вывод, что Россия является не только равноправной
по отношению ко всей Европе, но также ее противовесом и
балансом.
В дальнейшем книга Данилевского стала кодексом консер­
ваторов. Но важнейшим теоретическим достижением учено­
го явился тезис о национальной основе всякой культуры и
государственности. Из этого вытекает, что всякая денацио­
нализация культуры опасна. Установление господства одного
культурно-исторического типа было бы гибельным для чело­
вечества, так как лишило бы его необходимого условия совер­
шенствования - разнообразия. Данилевский гораздо раньше
своих современников понял опасность отрыва от националь­
ных истоков государственности, необходимость перемен в на­
правлении русского и славянского, истинно всемирно-истори­
ческого и святого дела.
Константин Николаевич Леонтьев (1831-1891) был уче­
ником и последователем Н. Я. Данилевского. Однако их уче­
ния во многом различны. Леонтьев утверждает, что человече­
ство в целом и в частях его проходит три последовательных
состояния: первоначальная простота, «цветущая» сложность
и смесительное упрощение (вторичная простота). Современ­
ная ему Европа входит в эпоху дряхлости, умирания и разло­
жения. Новое и выдающееся теперь возможно лишь в России.
Новая будущность России желательна и возможна, но не не­
избежна. Леонтьев не абсолютизирует самобытность государ­
ственности, не ищет ее истоки в особенностях русской культу­
ры и общинном быте. Сторонник византийской государствен­
ности, он подчеркивал, что государство должно быть сложно,
крепко, сословно, сурово, иногда до свирепости; церковь - не­
зависима; быт - поэтичен, национально разнообразен; законы строже; люди - добрее; наука должна развиваться в духе глу­
бокого презрения к своей пользе. Идеал Леонтьева был ви­
зантийским, а не славянским. Славянство для него - термин
без всякого определенного культурного содержания, а значит,
слияние славян с Россией опасно: оно усилило бы струями
уравнительного прогресса наши разлагающиеся демократи­
225
Раздел III
ческие элементы и ослабило бы истинно консервативные,
т. е. византийские начала нашей жизни [Леонтьев, 1990].
Данилевский и Леонтьев оказали огромное влияние на со­
стояние русской общественной мысли, формирование нацио­
нального самосознания и процесс демократических преобра­
зований. Хотя нужно отметить, что их консервативные идеи
часто подвергались критике.
Наиболее выдающимся теоретиком русской консерватив­
ной идеологии, исследовавшим проблему государственности в
свете указанных вопросов, является Лев Александрович Тихо­
миров (1852-1923) - философ, политический деятель.
Исходный пункт учения Тихомирова - положение, соглас­
но которому человек - это самостоятельное (самодеятельное)
существо. Власть же и свобода «это лишь различные прояв­
ления одного и того же факта - самостоятельности человече­
ской личности». А история, как арена деятельности лично­
сти, «есть история различных приспособлений власти и при­
нуждения, точно так же, как, с другой точки зрения, это есть
история человеческой свободы» [Тихомиров, 1993, с. 33].
Принуждение (насилие) и свобода изначально присущи че­
ловеку как существу общественному. Когда и в какой мере
они необходимы, определяется нашей верой, философией,
окружающими условиями, а также - на основе этого - су­
ществующими в обществе ценностями и традициями, самой
исторической практикой. Важно то, что «все это не порождает
власти и проистекающего от нее принуждения, а лишь стре­
мится подчинить то и другое действию разума и нравственно­
го начала. Сами же по себе власть и принуждение, все-таки,
остаются вечны; потому что проистекают из природы челове­
ка, и не уничтожаются в числе орудий человеческого общежи­
тия, которое вырастает из природы личности» [там же, с. 34].
Неверно, рассуждает Тихомиров, отождествлять государ­
ство с принуждающей силой, а общество - со свободным
союзом. Общество действительно составляет сферу более са­
мостоятельной деятельности личности, чем государство, но
лишь потому, что в обществе личность способна выбирать то
226
Политические учения Нового времени
или иное подчинение и приобретать личную власть. Но это
не значит, что в обществе отсутствует власть и принуждение.
Будучи совокупностью мелких союзов, общество пропитано
властью и принуждением, так как без них никакой союз не
возможен.
Различие между обществом и государством - лишь в ха­
рактере власти. Причем государство является в этом смыс­
ле высшим торжеством свободы, так как лишь оно способ­
но обеспечить свободу личности в обществе. «Та способность
к свободе, которая воспитывается по преимуществу в обще­
стве, - рассуждает философ, - получает возможность приво­
дить к фактической свободе по преимуществу благодаря госу­
дарству. Государство в этом отношении является лишь допол­
нением и завершением общества» [Тихомиров, 1993, с. 35].
Будучи общественным деятелем, Тихомиров писал свои
произведения в острой полемике с социалистами. Соглас­
но социалистической доктрине, государство возникает лишь
при дифференциации общества на классы. Господствующему
классу, в руках которого находятся производительные силы,
необходимо средство для обеспечения этого господства. Та­
ким средством является государство. Так, основой (экономи­
ческой) государства считается формирующаяся с выходом из
первобытного состояния частная собственность. С уничтоже­
нием частной собственности уничтожается и основа государ­
ства. Это возможно лишь при переходе к коммунизму.
Социалисты, по мнению Тихомирова, абсолютизируют роль
насилия в истории, с одной стороны, и свободы (коммунизм) с другой. На самом деле «с тех пор как люди живут сколь­
ко-нибудь сознательно, с тех пор как они имеют историю,
человечество живет на основе государственности» [там же,
с. 36]. Основой государства является верховная власть. Одна­
ко отождествлять государство с верховной властью не следу­
ет. Государство вообще не порождает верховной власти. По­
следняя рождается из нации. По мере развития национальной
жизни «начинает обнаруживаться в сознании всех, что над
всеми этими частными лицами, группами и семьями есть или
227
Раздел III
должна быть некая высшая сила, сила для всех обязательная,
объединяющая все частные и групповые интересы» [Тихоми­
ров, 1993, с. 42]. Таким образом, согласно Тихомирову, госу­
дарство - это нация, соединенная единой верховной властью
во всем, что, по сознанию нации, выражающемуся в данном
принципе верховной власти, требует общего, обязательного
единства.
Л. А. Тихомиров, излагая свое понимание проблемы госу­
дарственности, должен был ответить на важнейший вопрос:
почему в мире существуют различные формы государственно­
сти? Русский философ является оппонентом распространенной
в его время универсалистской парадигмы, согласно которой
история человечества - это прогрессивное движение от самых
примитивных архаических форм жизнедеятельности к более
совершенным и прогрессивным. Государственность эволюцио­
нирует в том же направлении, и в ходе этой эволюции можно
выделить как менее, так и более совершенные прогрессивные
формы. Самой прогрессивной формой государственности, со­
гласно этой доктрине, является демократия. Соответственно,
монархия, как антипод демократии, менее прогрессивна. По­
скольку существующие в мире общества находятся на различ­
ном уровне развития, то и формы государственности, соответ­
ствуя определенному уровню, в мире различны.
В противоположность этому существует и другое понима­
ние социума, государства и культуры. Согласно этому пони­
манию, человечество - это совокупность локально существу­
ющих культур, каждая из которых самостоятельно преодо­
левает все этапы эволюции - рождение, развитие, смерть.
Отталкиваясь, видимо, от этого понимания, имеющего глу­
бокие корни в российской философской традиции, Тихоми­
ров утверждает, что разнообразие существующих в мире форм
государственности объясняется разнообразием существующих
в мире культур, которые могут иметь как сходные, так и от­
личительные черты.
В истории, утверждает Тихомиров, всегда существовали
лишь три формы государственности: монархия, аристократия
228
Политические учения Нового времени
и демократия. Форма государственности — это объективиро­
ванная идея верховной власти, которая, в свою очередь, есть
«объединительная национальная идея, воплотившаяся в кон­
кретной силе и организующая государство» [Тихомиров, 1993,
с. 54]. Поэтому «современное» учение о государстве является
ложным учением, исходя из идеи о том, что человечество неу­
клонно движется к демократии как к наиболее прогрессивной
форме государственности.
«Оставаясь на почве фактов, - поясняет Л. А. Тихомиров, современная политическая наука прекрасно знает, что все ос­
новные начала верховной власти действовали у разных наро­
дов с незапамятных времен. Эти основные начала, создающие
основные формы верховной власти: монархия, аристократия
и демократия. Ничего, кроме этих основных форм, остава­
ясь на почве фактов, нельзя найти и ныне, как не было ни­
когда» [там же].
Итак, политическое творчество народа, создавая верховную
власть, вращается в круге трех основных форм: монархии,
аристократии и демократии. Чем же именно обусловливает­
ся предпочтение, отдаваемое разными народами и разными
эпохами той или иной форме? Почему один народ формирует
свое государство на монархическом начале, а другой - на де­
мократическом? Тихомиров отвечает: «Это обусловливается,
очевидно, известным психологическим состоянием нации, ко­
торому соответствуют свойства самого принципа, выдвигаемо­
го в значении верховного... Нация, то есть народ, внутренне
слившийся в нечто целое, с известными привычками, тради­
ционным опытом, общим характером, с известным духом и
миросозерцанием, а стало быть, с известными идеалами, эта
нация есть первоисточник власти. Она составляет силу, ко­
торая создает верховную власть того или иного типа...» [там
же, с. 66].
Поскольку всякая власть требует силы, способной защи­
щать идейную основу нации, решающую роль играет то, ка­
кой власти нация более доверяет. Так, демократия выража­
ет доверие к силе количественной. Аристократия выражает
229
Раздел III
доверие к силе качественно высшей, некоторую разумность
силы. Монархия же является представительницей силы иде­
альной, нравственной. Именно монархия, подчеркивает Ти­
хомиров, наиболее полно выражает идею русской нации,
являясь продуктом культурно-исторического творчества рос­
сийского народа. «Монархия является тогда, когда в нации
наиболее сильно живет целый, всеобъемлющий нравственный
идеал, всех приводящий к добровольному себе подчинению,
а потому требующий для своего верховного господства не фи­
зической силы, не истолкования, а просто наилучшего вы­
ражения, какое, конечно, способна дать отдельная личность,
как существо нравственное. Единоличное начало появляется
тогда и подготовляет монархию...» [Тихомиров, 1993, с. 78].
Поэтому монархия - это верховенство нравственного идеала,
что соответствует, говоря современными словами, русскому
менталитету.
Из этого, по Тихомирову, следует, что монархия не от­
рицает, а предполагает свободу личности. Свобода не фор­
мальна, она основывается на духовности. В конечном счете
подчинение подданных монарху, олицетворяющему идею
Бога и всеобщего блага, есть христианское служение Богу и
всеобщему благу. В этом служении человек способен стать
свободной личностью, поскольку его действия подчинены не
принуждающей норме права, а свободно избранному нрав­
ственному идеалу. Нравственное действие не может быть не­
свободным.
Таким образом, мы видим в концепции Л. А. Тихомирова
следующие важнейшие положения. Во-первых, государство
является способом бытия нации; во-вторых, форма власти
(государственности) является продуктом культурно-историче ­
ского творчества народа; в-третьих, предпочтение определен­
ной форме власти объясняется господствующим в обществе
идеалом; в-четвертых, доверие к форме государственности
определяется доверием общества к коллективной, качествен­
но высшей или идеальной (нравственной) силе; в-пятых, до­
минирующая роль нравственного идеала в российском обще230
Политические учения Нового времени
стве предполагает монархию как наиболее адекватную форму
государственности и власти в России.
Необходимо учитывать историческую обусловленность
взглядов Тихомирова, его политические пристрастия и миро­
воззренческие установки для того, чтобы правильно понимать
как суть его учения, так и его значение для нашего времени.
Так, надо иметь в виду, что философ выражал идеи части мо­
нархически настроенной интеллигенции России начала XX в.
Но это не умаляет его роли в истории отечественной политиче­
ской мысли. Квинтэссенцией консервативного мировоззрения
Тихомирова является положение о связи государственности,
социума и культуры. В условиях социальных и политических
изменений он призывал ориентироваться на национальную
культурную почву, что и должно быть залогом органического
единства общества и государства.
7.3. Революционный радикализм в истории русской
политической мысли
Первоначально российский радикализм имел религиоз­
ную окраску и был связан с церковным расколом XVII в.
Противники никонианской реформы, протопоп Аввакум
и Никита Пустосвят, положили начало длительному этапу
борьбы против государства и церкви, подкрепленной идеоло­
гией религиозного радикализма. Эта идеология умещалась в
одной фразе, имевшей глубокие политические и идеологиче­
ские последствия: «Третий Рим пал - пришло время анти­
христа». Массовые самосожжения старообрядцев стали пе­
чальным символом этого радикального движения в XVII в.,
а восстания Стеньки Разина, Булавина и Пугачева, которые,
по некоторым оценкам, также были старообрядцами, надол­
го остались в народной памяти. Почти два века раскольники
делали попытки поднять крестьянство на бунт против церк­
ви и государства.
Это время следует рассматривать как начало русского ра­
дикализма.
231
Раздел III
Однако раскольники, опираясь на соответствующие рели­
гиозные источники, не имели политической доктрины. Фор­
му политического учения русский радикализм получает лишь
в XIX в., в контексте ставшей очевидной необходимости со­
циальных преобразований, в разные периоды своего разви­
тия опираясь на разные социальные и политические источни­
ки. Первым таким историческим периодом был дворянский,
в ходе которого возникло движение декабристов.
Декабристы были достаточно близки к созданию полити­
ческого учения радикального толка и ставили целью ради­
кальные преобразования посредством свержения монархии и
установления иных форм правления. Но социальная поверх­
ностность декабризма напоминала ориентацию на дворцовые
перевороты как на метод социальных преобразований, что так­
же является свидетельством отсутствия у его представителей
соответствующей доктрины. Так, одни из них выступали за
конституционное ограничение монархии, федерализм, другие
же были сторонниками республиканской системы правления,
унитаризма. Вместе с тем нужно признать, что разработка та­
ких программных документов, как «Проект конституции» Ни­
киты Михайловича Муравьева (1795-1843) и «Русская прав­
да» Павла Ивановича Пестеля (1793-1826), свидетельствует
о мотивированности декабристов соответствующими философ­
скими, политическими и правовыми представлениями.
Второй период - народнический, в ходе которого возни­
кают разные политические учения, прежде всего «русский
социализм» и анархизм. «Русский социализм» Александр
Иванович Герцен (1812-1870) определял как «тот социализм,
который идет от земли и крестьянского быта, от фактического
надела и существующего передела полей, от общинного владе­
ния и общинного управления, - и идет вместе с работничьей
артелью навстречу той экономической справедливости, к ко­
торой стремится социализм вообще и которую подтверждает
наука» [Герцен, 1966, с. 193].
Необходимо отметить, что ко времени создания А. И. Гер­
ценом и Η. П. Огарёвым «русского социализма» утвердилось
232
Политические учения Нового времени
мнение о фундаментальной роли экономических отноше­
ний в обществе. По словам Николая Платоновича Огарёва
(1818-1877), «наука общественного устройства все больше и
больше приходит к необходимости принять за свое средоточие
экономические отношения общества» [Огарёв, 1956, с. 199].
Поэтому в мыслях Герцена и Огарёва отсутствуют элемен­
ты социального мистицизма, присущие многим их предше­
ственникам, попытавшимся осмыслить перспективы россий­
ской социальной и политической действительности. По этой
же причине они не склонны и к столь популярной (начиная
с Чаадаева) идее мессианства.
Герцен и Огарёв, опираясь на фундаментальные гумани­
стические стереотипы европейской цивилизации, основным
из которых являлась для них «свобода личности», тем не ме­
нее видели неадекватность капитализма этим ценностям. Со­
циализм рассматривался ими как то социально-политическое
устройство, к которому объективно толкает исторический
прогресс и которое способно реализовать основные гуманисти­
ческие принципы.
Капитализм, по мнению этих мыслителей, является необ­
ходимой и неизбежной стадией на пути к более совершенной
социальной организации. Однако капитализм культивирует
порочные установки человеческой деятельности, которые,
как им казалось, несовместимы с гуманизмом. Капитализм это мещанство и стяжательство. Нужно отметить, что Герцен
и Огарёв были прекрасно образованными людьми, часто и по­
долгу жили за границей, прекрасно знали не только светлые,
но и темные стороны европейского капитализма. И как истин­
ные патриоты своей родины, Герцен и Огарёв были озадачены
вопросом: можно ли России, которую еще не тронула капита­
листическая стадия развития, миновать эту стадию? Может
ли Россия пройти эту стадию так, «как зародыш проходит
низшие ступени зоологического существования»? [Герцен,
1957, с. 186]. Так рождается идея «скачка», который мог бы
избавить Россию от капитализма.
233
Раздел III
Оказывается, что этот скачок возможен по двум причи­
нам: во-первых, благодаря существованию социально-эконо­
мической предпосылки социализма в виде общины, которая
отсутствует на Западе; во-вторых, благодаря тому преимуще­
ству, которое имеют «отставшие» народы перед народами ци­
вилизованного мира. По мнению Герцена и Огарёва, община
культивирует именно те формы социальной и экономической
жизни, которые свойственны социализму: коллективизм, об­
щественную собственность, совместный труд.
Вместе с тем они отмечали, что община может быть и пре­
пятствием социализму. Дело в том, что она не дает развития
личному началу. Но проблема развития личности без утраты
общинного начала вполне преодолима. Достаточно лишь дать
свободно развиваться общине, предоставить ей самостоятель­
ность. Способная к развитию община, обеспечивающая сво­
бодное развитие личности, является основой социализма.
Вторая причина указанного скачка обусловлена тем, что
«мы... потому дальше Европы и свободнее ее, что так отста­
ли от нее...» [Герцен, 1955, с. 12]. Впервые озвученная Ча­
адаевым мысль о преимуществе «отставших» народов вос­
производится вновь и вновь. У Герцена эта мысль по своей
развернутости и обоснованности достигает пределов теории:
«Либералы боятся потерять свободу - у нас нет свободы; они
боятся правительственного вмешательства в дела промышлен­
ности - правительство у нас и так мешается во все; они боятся
утраты личных прав - нам их еще надобно приобретать» [там
же, с. 13].
Но если история - это объективный процесс становления
форм социальности, то как «отставание» может быть усло­
вием перехода к новому обществу? Для того чтобы ответить
на этот вопрос, Герцену потребовалось создать оригинальную
историческую концепцию. Логике исторического процесса ра­
ционалистов Европы Герцен противопоставил идею «импро­
визации истории».
На самом деле история, как и природа, никуда не идет,
а значит, готова идти всюду. Она как бы творит бесчислен­
234
Политические учения Нового времени
ные импровизации на одну тему. Вместе с тем она постоянно
стремится реализовать полностью однажды найденные фор­
мы, и если ничто не мешает этому, доводит их до совершен­
ства. История каждого народа - это результат взаимодействия
множества причин, которые либо препятствуют общему на­
правлению развития, либо модифицируют его. Исторический
процесс многообразен - это основная мысль историософии
Герцена, которая оказала огромное влияние на Данилевского
и Леонтьева.
И перед Россией, как считает Герцен, расстилается ши­
рочайший простор для импровизаций, она вовсе не обрече­
на на следование западному пути развития. Одной из таких
импровизаций является социалистическая перспектива на ос­
нове развития общинных начал российской жизни, предпо­
лагающих коллективность, общественную собственность, са­
моуправление. И если западное общество лишь теоретически
обосновывает возможность такой перспективы, то в России
это является одной из важнейших этнических особенностей
культуры народа.
Начиная с Герцена стремление обосновать социалистиче­
ский идеал действием неких метаисторических закономер­
ностей стало определяющим в творчестве многих российских
мыслителей. Другим примером этого является деятельность
Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889). Опира­
ясь на классиков социальной утопии, Чернышевский при­
ходит к выводу, что социализм есть неизбежный результат
социально-экономической теории общества на пути к кол­
лективной собственности и «принципу товарищества». Чер­
нышевский видит в экономической науке ключ, способный
открыть дверь в историю, показав механизм перехода от
«сегодня» к «завтра». В основе этого перехода лежит объ­
ективная закономерность. Так, анализ капиталистического
общества приводит его к заключению, что основным направ­
лением развития капитализма является рост крупной про­
мышленности и возрастание обобществления труда. А это
должно с необходимостью привести к ликвидации частной
235
Раздел III
собственности, «когда отдельные классы наемных работни­
ков и наниматели труда исчезнут, заменившись одним клас­
сом людей, которые будут работниками и хозяевами вместе»
[Чернышевский, 1949, с. 487].
Подобно Герцену и Огарёву, Чернышевский исходит из
идеи свободной личности. Гуманистический смысл социализ­
ма состоит в том, что именно это общество создало необхо­
димые условия для освобождения человека. Однако, несмо­
тря на апелляцию к личной свободе, социализм Чернышев­
ского тяготеет к уравнительному принципу распределения,
к тотальной заботе государства об использовании свободного
времени, участии в управлении производством и пр. Нако­
нец, основное отличие доктрины Чернышевского заключается
в том, что она содержит огромный разрушительный потенци­
ал в виде призыва к крестьянской революции. Реформам не
по силам решить все исторические задачи. По мнению Черны­
шевского, это должен сделать народ путем хоть и кровавых,
но революционных действий.
Итак, «разумность» истории и «свобода» являются есте­
ственным свойством природы человека — вот та основа, на
которой произрастает русский социализм. Если «свобода»
в таком понимании оставалась незыблемой на уровне раз­
ных социальных, философских и политических доктрин, то
«разумность» истории могла пониматься по-разному. Боль­
шое влияние на эту парадигму оказал марксизм с его теорией
классовой борьбы. Однако в рамках описываемого народниче­
ского периода речь пойдет не о самом марксизме, а о теории,
которая чрезвычайно ему родственна по своему радикалистскому потенциалу, - об анархизме Михаила Александровича
Бакунина (1814-1876).
Глубоко и разносторонне образованный человек, Бакунин
принимал активное участие в революционном движении не
только России, но и Европы. Долгое время он был проповед­
ником марксизма. Однако его социалистическая доктрина
весьма сурово критиковалась Марксом. В результате он был
«отлучен» от коммунистического интернационала.
236
Политические учения Нового времени
Государство - вот главный вопрос взаимного непонимания
Бакунина и Маркса, а также исходный пункт бакунинской
социальной доктрины. Квинтэссенцию учения русского анар­
хиста можно выразить цитатой из его небольшого произве­
дения «Наша программа»: «Мы хотим полной воли для всех
народов, ныне угнетенных империей, с правом полнейшего
самораспоряжения на основании их собственных инстинктов,
нужд и воли, дабы, федерируясь снизу вверх, те из них, кото­
рые захотят быть членами русского народа, могли бы создать
сообща действительно вольное и счастливое общество в дру­
жеской федеративной связи с такими же обществами в Европе
и в целом мире» [Народническая..., 1958, с. 121].
Концепция Бакунина опиралась на идею естественного
права. Из этого вытекал его государственный нигилизм.
Если человек от природы свободен, то государство является
общественным злом, которое может быть преодолено только
полным его разрушением. Государство объективно в своем
появлении, и в этом смысле оно исторично и временно. Го­
сударство - это необходимая в определенных исторических
условиях (т. е. неизбежная) форма организации общества.
Однако поскольку оно изначально противоречит человеческой
природе, исключая стремление человека к свободе, т. е. к са­
моуправлению своей жизнью, то человек имеет данное ему
природой право на бунт против государства. Государство не
может гарантировать социального равенства и справедливо­
сти. В нем равенство всегда оборачивается рабством, а свобо­
да - несправедливостью. Поскольку государство никогда до­
бровольно не сдаст своих позиций, нет альтернативы насиль­
ственному разрушению государственной машины. Это можно
сделать, пробуждая у массы инстинкт свободолюбия.
Нужно сказать, что народничество, из которого вырастает
анархизм Бакунина, никогда не пользовалось популярностью
в народе. Их проповеди о прогрессе и социальной справед­
ливости расценивались «невежественными» крестьянами как
бунт против государя и святой церкви. Не случайно поэтому
третий исторический этап русского радикализма, связанный
237
Раздел III
с распространением марксизма в России, начинается именно
с критики идеологии народничества.
В отличие от радикализма народников, марксизм в послед­
ней четверти XIX в. имел в стране достаточно широкую соци­
альную базу, прежде всего в лице растущего быстрыми темпа­
ми рабочего класса. Первым выдающимся популяризатором
марксизма на русской почве стал Георгий Валентинович Пле­
ханов (1856-1918), который критиковал народничество с по­
зиции марксистской теории. Рассматривая классовую борьбу
как борьбу политическую, Плеханов отвергал отождествление
политической борьбы с индивидуальным террором. Прежде
всего, он показывал, что игнорирование народниками рабо­
чего класса как ведущей силы политического процесса, по
сути дела, означает отказ от борьбы с самодержавием. Тео­
ретической базой такого подхода был монистический взгляд
на историю, суть которого состоит в понимании идеологии и
политического строя как явлений, обусловленных экономиче­
ским базисом общества. Это позволило Плеханову обосновать
ведущую роль рабочего класса как в политической борьбе, так
и в развитии общества, поскольку реализация интересов дан­
ного класса, на чем настаивали все марксисты, соответствует
поступательному развитию общества.
В этом контексте нельзя не упомянуть об идее отмирания
государства, разрабатываемой марксизмом. Она отражена в
работе Маркса и Энгельса «Критика Готской программы», а
также в работе Владимира Ильича Ленина (Ульянова) (18701924) «Государство и революция» [Ленин, 1969]. В этой рабо­
те В. И. Ленин развивает учение о классовой борьбе и рево­
люции, о социалистическом государстве и условиях его «от­
мирания». Поскольку государство имеет классовый характер
и реализует функцию подавления эксплуатируемого класса,
оно должно быть свергнуто этим классом, что и происходит
в истории на переломных этапах ее развития. По словам Ле­
нина, классы - это «большие группы людей, различающиеся
по их месту в исторически определенной системе обществен­
ного производства, по их отношению (большей частью закре­
238
Политические учения Нового времени
пленному и оформленному в законах) к средствам производ­
ства, по их роли в общественной организации труда, а следо­
вательно, по способам получения и размерам той доли обще­
ственного богатства, которой они располагают» [Ленин, 1970,
с. 15].
Было время, когда государства не было, поскольку не было
классов, и поскольку движение к коммунистическому обще­
ству связано с исчезновением классов, то исчезают постепенно
и объективные предпосылки для существования государства.
Если Бакунин не видел альтернативы насильственному слому
государственной машины, то марксизм подчеркивает посте­
пенность отмирания государства.
Впрочем, и марксизм настаивает на сломе буржуазного го­
сударства, но это еще не означает для него полного исчезнове­
ния государства как такового, поскольку сразу после револю­
ции классы еще остаются, а значит, остаются и предпосылки
для существования государства. Правда, оно теряет при этом
свою эксплуататорскую сущность. Ленин называл такое го­
сударство диктатурой пролетариата. Основной задачей этой
диктатуры является подавление эксплуататорских классов в
союзе с трудовым крестьянством, что является реализацией
подлинно демократического режима, поскольку соответствует
интересам абсолютного большинства населения.
Нужно сказать, что учение о диктатуре пролетариата наи­
более соответствует левому радикализму большевиков, а его
реализация на практике в процессе строительства социали­
стического государства показала антигуманную сущность дан­
ного учения.
Контрольные вопросы и задания
1. В чем суть спора славянофилов и западников?
2. За что К. Д. Кавелин критиковал социалистов-револю­
ционеров?
3. Какие виды либерализма выделял Б. Н. Чичерин?
4. Как определял общественный идеал П. И. Новгородцев?
239
Раздел III
5. Что такое консерватизм вообще и русский консерватизм
в частности?
6. Сформулируйте главные идеи теории государства, пред­
ложенной Л. А. Тихомировым.
7. Какова роль церковного раскола в зарождении русского
политического радикализма?
8. За что М. А. Бакунин критиковал К. Маркса?
9. В чем отличие политической идеологии народников от
политической идеологии российских социал-демократов и со­
циалистов-революционеров?
Темы эссе и рефератов
1. Своеобразие русского либерализма XIX столетия.
2. Проект «самодержавной республики» К. Д. Кавелина.
3. Политический идеал Б. Н. Чичерина.
4. Были ли славянофилы консерваторами?
5. Византизм в консервативном измерении (по произведе­
ниям К. Н. Леонтьева).
6. Исторические особенности формирования русского кон­
серватизма.
7. Феномен русского радикализма.
8. Декабристы и декабризм: драма идей и человеческих су­
деб.
9. «Русский социализм»: основные идеи.
10. Русская вольница в доктрине анархистов.
Литература
1. Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М.:
Правда, 1989.
2. Герцен А. И. Письма из Франции и Италии // Собрание
сочинений: в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 5.
3. Герцен А. И. Порядок торжествует! // Собрание сочине­
ний: в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1966. Т. 19.
4. Герцен А. И. Старый мир и Россия (Письма к В. Линто240
Политические учения Нового времени
ну) // Собрание сочинений: в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1957.
Т. 12.
5. Иванников И. А. История политико-правовой мысли о
форме российского государства. М.: Юрлитинформ, 2012.
6. Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по фило­
софии русской истории и культуры. М.: Правда, 1989.
7. Карамзин Η. М. Записка о древней и новой России в ее
политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991.
8. Контарев А. А. Идеи российской государственности. Ро­
стов н/Д: РЮИ МВД России, 2000.
9. Ленин В. И. Великий почин // Полное собрание сочине­
ний. 5-е изд. М.: Политиздат, 1970. Т. 39.
10. Ленин В. И. Государство и революция // Полное собра­
ние сочинений. 5-е изд. М.: Политиздат, 1969. Т. 33.
11. Леонтьев К. Н. Национальная политика как орудие все­
мирной революции // Наш современник. 1990. № 7. С. 155-184.
12. Малиновский И. А. Кровавая месть и смертная казнь.
Томск: Типо-лит. Сиб. т-ва печ. дела, 1909. Вып. 2.
13. Муромцев С. А. Определение и основное разделение пра­
ва. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004.
14. Народническая экономическая литература. Избранные
произведения. М.: Соцэкгиз, 1958.
15. Новгородцев П. И. Политические идеалы древнего и но­
вого мира. Очерки по истории философии права. М.: У нив.
тип., 1910. Вып. 1, 2.
16. Огарёв Η. П. С утра до ночи // Избранные социально-по­
литические произведения: в 2 т. М.: Госполитиздат, 1956. Т. 2.
17. Опыт русского либерализма: антология. М.: Канон+,
1997.
18. Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву //
Избранные философские сочинения. Л.: Гослитиздат, 1949.
19. Тихомиров Л. А. Единоличная власть как принцип госу­
дарственного строения. М.: Трим, 1993.
20. Цимбаев Н. И. Славянофильство (из истории русской
общественно-политической мысли XIX в.). М.: Из-во Моск,
ун-та, 1986.
241
Раздел III
21. Чернышевский Н. Г. Очерки из политической экономии
(по Миллю) // Полное собрание сочинений: в 15 т. М.: ГИХЛ,
1949. Т. 9.
22. Чичерин Б. Н. Конституционный вопрос в России //
Опыт русского либерализма: антология. М.: Канон-Ι-, 1997а.
23. Чичерин Б. Н. Различные виды либерализма // Опыт
русского либерализма: антология. М.: Канон+, 19976.
24. Чичерин Б. Н. Философия права. М.: Типо-лит. Т-ва
И. Н. Кушнерев и Ко, 1900.
242
Раздел IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ XX ВЕКА
Глава 8. Политические учения XX века
в Западной Европе и США
Историю политической мысли XX в. можно условно раз­
делить на несколько этапов и направлений - в зависимости
от актуализации тех или иных социально-экономических и
политических проблем и их отражения в политических те­
ориях. На рубеже ΧΙΧ-ΧΧ вв. ответом на рост социальных
проблем и социально-экономического неравенства в услови­
ях индустриализации стало нарастающее рабочее, тред-юни­
онистское и социалистическое движения. Этот период харак­
теризуется бурным развитием марксистской экономической
и политической мысли в Германии, Австрии и России и на­
растающим осознанием кризиса классического либерализма
в Великобритании, США и других странах. Попыткой выхо­
да из сложившейся ситуации стал социальный либерализм,
ставивший задачей реализацию в политической практике
концепции государства всеобщего благосостояния, которая
доминировала в политике европейских стран и США вплоть
до экономического кризиса 1970-х гг. Параллельно происхо­
дит критическое осмысление последствий индустриализации
в виде «омассовления» общества и трансформации институ­
тов либеральной демократии. Рефлексия этих процессов на­
шла выражение в теориях элит, партийных систем и в новых
концепциях демократии.
Рубежным событием начала XX в. стала Первая мировая
война, воспринимавшаяся как крушение всей западной ци­
вилизации XIX в. Мировой экономический кризис 1930-х гг.
вызвал тотальное разочарование в либерализме, что повлекло
за собой возвышение консерватизма, нередко принимавшего
весьма крайние националистические формы, и немарксист­
ских направлений социализма. Одним из идейных преемни­
ков «консервативной революции» в Германии и фашистского
243
Раздел IV
движения в Италии стал национал-социализм, популяриза­
ция которого привела ко Второй мировой войне.
Первая мировая война, расколовшая рабочее движение и
ведущих марксистов-теоретиков, последовавшие за этим кри­
зис II Интернационала и возвышение сталинизма в России
фактически дискредитировали марксизм как политическую
практику в среде западных левых интеллектуалов. В резуль­
тате марксистская мысль перемещается в академическую сре­
ду, и в качестве альтернативы «ортодоксальному марксизму»
формируется «западный марксизм». Своеобразную трансфор­
мацию в этот период претерпел и феминизм. В первой четвер­
ти XX в. суфражистское движение, в котором нашла свое де­
ятельное выражение первая волна феминизма, пошло на спад.
С одной стороны, суфражизм решил некоторые из поставлен­
ных задач: во многих европейских странах и США женщины
добились целого ряда базовых прав. С другой стороны, многие
из декларированных прав закрепили равенство полов лишь
формально, не предоставив женщинам фактически равных со­
циальных возможностей. Осмыслить эти проблемы предстоя­
ло послевоенному поколению представителей феминизма.
Окончание Второй мировой войны, разделение мира на два
лагеря и холодная война между ними поставили перед по­
литической теорией задачи осмысления феномена тоталита­
ризма. Вьетнамская война спровоцировала движение «новых
левых», выступивших с критикой буржуазного общества и
культуры. В это же время широкое распространение получа­
ют концепции «постиндустриального общества». Экономиче­
ский кризис 1970-х гг. актуализировал идеи возрожденного
Л. фон Мизесом, Ф. фон Хайеком, М. Фридманом и др. клас­
сического либерализма, которые оказали интеллектуальное
влияние на движение «новых правых» и нашли свое прак­
тическое воплощение в 1980-х гг. в реформах М. Тэтчер,
Р. Рейгана и др.
Новые проблемы, которые принес с собой XX век, привели
к появлению новых направлений политической рефлексии: на
волне критики либерализма в 1980-х гг. возник коммунита244
Политические учения XX века
ризм; со второй половины XX в. на политику европейских
стран и США все большее влияние оказывают экологизм,
мультикультурализм и др. С распадом СССР и Варшавского
блока вновь актуализировались проблемы становления нового
мирового порядка и будущего человечества. Такова, в первом
приближении, панорама политической мысли XX в.
8.1. Проблемы либеральной демократии и государства
всеобщего благосостояния
Возникший на рубеже ΧΙΧ-ΧΧ вв. социальный либера­
лизм испытал существенное теоретическое влияние со сто­
роны двух политических мыслителей-гегельянцев - Томаса
Хилла Грина (1836-1882) и Дэвида Джорджа Ричи (18531903), обосновавших необходимость государственного вмеша­
тельства в экономику с целью обеспечения всеобщего блага,
целостности общества и решения социальных проблем. Их
аргументы были восприняты и развиты двумя самыми из­
вестными британскими социал-либералами - Леонардом Трелони Хобхаусом (1864-1929) и Джоном Аткинсоном Гобсо­
ном (1858-1940). Отталкиваясь от концепции общего блага
Т. X. Грина, Л. Т. Хобхаус пересмотрел базовые либеральные
принципы индивидуальной свободы и конкуренции в поль­
зу понятий солидарности, сотрудничества и взаимопомощи.
В работе «Либерализм» (1911) он утверждал, что доктрина
конкуренции и свободного рынка, доминировавшая в клас­
сическом либерализме, основывалась на ложной атомистиче­
ской концепции индивида, что выразилось в предпочтении
«несоциальной свободы», несовместимой с общественным
контролем. Этому он противопоставил «социальную свобо­
ду», основывающуюся на ограничении, моральной самодис­
циплине индивидов и развитии личности. Обеспечить такое
развитие способно только «позитивное государство», берущее
на себя, кроме традиционных задач обеспечения безопасности
и правопорядка, функции интеллектуального и морального
развития индивида, а также «обеспечение условий, при ко245
Раздел IV
торых его граждане способны добиться своими собственными
усилиями всего, необходимого для достижения ими полной
гражданской эффективности» [Гобхаус, 2000, с. 145].
Не менее важные идеи в социальный либерализм привнес
Дж. А. Гобсон. В работе «Социальные проблемы» (1901) он
также отказывается от атомизма классического либерализма,
следуя организмической концепции общества. Общество в его
представлении обладает собственным бытием и собственными
целями, поэтому оно может требовать и своих собственных
прав. Органицизм в интерпретации Дж. А. Гобсона не озна­
чает приоритета и превосходства целого над частью, но целое
(общество) есть условие для развития отдельных индивидов.
В свою очередь, свобода и возможности саморазвития для ин­
дивидов обязательны для здоровья общественного организма.
Поэтому бедность отдельного лица есть моральная проблема
всего общества. Развивая эти идеи в работе «Кризис либера­
лизма» (1909), Дж. А. Гобсон легитимизировал государствен­
ный интервенционизм и распределительную политику госу­
дарства с целью стимулирования потребления и решения про­
блем социальной справедливости.
Идеи Л. Т. Хобхауса, Дж. А. Гобсона и других социаль­
ных либералов во многом предвосхитили взгляды основателя
кейнсианского направления в экономической теории Джона
Мейнарда Кейнса (1883-1946). Уже в статьях 1925-1926 гг.
«Я - либерал?» и «Конец laissez fair* Дж. Кейнс отмежевал­
ся от индивидуализма и политики laissez faire классического
либерализма, назвав их «старомодными» и не соответствую­
щими современности [Кейнс, 2000, с. 299]. Поэтому в чис­
ле главных задач для нового либерализма Дж. Кейнс видел
«переход от экономической анархии к такому строю, целью
которого является контроль над экономическими силами и их
ориентация на поддержку интересов социальной справедли­
вости и стабильности» [там же, с. 302]. Экономический базис
этих идей был развит в самой известной работе Дж. Кейнса
«Общая теория занятости, процента и денег» (1936), положив­
шей начало так называемой кейнсианской революции, под
246
Политические учения XX века
которой понимался подход к экономической политике, сосредоточившийся на управлении спросом с целью обеспечения
занятости. В этой работе Дж. Кейнс обосновал необходимость
исправления «дефектов и злоупотреблений» индивидуалисти­
ческого капитализма с целью обеспечения личной свободы и
свободы выбора как способа гарантировать выживание либе­
ральных демократических институтов и ценностей, а также
сохранение мира [Кейнс, 1978, с. 455].
Идеи британских социал-либералов не остались без внима­
ния и в США. В 1935 г. увидела свет работа американского
социального философа и педагога Джона Дьюи (1859-1952)
♦ Либерализм и социальное действие», в которой автор актуа­
лизировал понятие общественной пользы как предоставления
возможностей для самореализации каждому индивиду. Рас­
смотрев историю раннего либерализма, Дж. Дьюи констати­
рует его кризис, обусловленный неспособностью классических
либералов сочетать свободу, индивидуализм и раскрепощение
разума с решением проблем социальной организации как
средства развития индивидуальных способностей. Единствен­
ным способом возродить либерализм, согласно Дж. Дьюи,
было «радикализировать» его, т. е. осознать необходимость
радикальных перемен в устройстве институтов: «Единствен­
ной возможной в наше время устойчивой формой социаль­
ной организации является та, при которой осуществляется
совместный контроль над новыми силами производства и они
используются в интересах реальной свободы и культурного
развития индивидов, составляющих общество» [Дьюи, 2000,
с. 362].
С 40-х и вплоть до конца 60-х гг. XX в. кейнсианство и
социальный либерализм доминировали в экономической на­
уке и политической практике многих европейских стран и
США. Однако не все либералы столь благодушно восприняли
рецепты социального либерализма. Целый ряд экономистов и
политических теоретиков выступили против государственного
интервенционизма, регулирования экономики и распредели­
тельной социальной политики. Это привело к возрождению
247
Раздел IV
классического либерализма (Л. фон Мизес, Ф. фон Хайек,
М. Фридман и др.).
В работе «Социализм. Экономический и социологический
анализ» (1922) с резкой критикой антикапиталистических
идей выступил Людвиг фон Мизес (1881-1973). Он показал
нежизнеспособность социалистического планового хозяйства
по причине отсутствия свободы ценообразования, в результа­
те чего экономический расчет основывается не на объектив­
ных индикаторах - рыночных ценах, а на бюрократическом
произволе. Следствием этого волюнтаризма, по Мизесу, ста­
новится «запланированный хаос». Однако объектом критики
в этой и последующих работах («Либерализм» (1927), «Кри­
тика интервенционизма» (1929)) выступал не только социа­
лизм, но и государственный интервенционизм в целом. Тезис
социального либерализма о «нелиберальности» капитализма
Л. фон Мизес считал опасным заблуждением, настаивая на
возрождении классического либерализма с его базовыми цен­
ностями разделения труда, частной собственности и свободно­
го рыночного обмена.
Идеи Л. фон Мизеса оказали существенное влияние на ав­
стрийско-американского экономиста и политического фило­
софа Фридриха Августа фон Хайека (1899-1992). В работе
«Дорога к рабству» (1944) Хайек опроверг расхожее проти­
вопоставление фашизма и коммунизма, показав, что оба яв­
ляются разновидностями социализма. В критике последнего
Ф. фон Хайек во многом солидарен с Л. фон Мизесом, де­
монстрируя экономическую несостоятельность социализма по
причине невозможности централизованного планирования на
базе неполной информации. Не менее важное значение при
планировании имеют непредвиденные последствия множества
социальных действий. Нередко фон Хайеку приписывают вы­
вод, что любые социалистические движения с необходимо­
стью ведут к тоталитаризму. Однако, как пояснял сам автор,
суть проблемы заключается в другом: «...непредвиденные, но
неизбежные последствия социалистического планирования
создают состояние дел, при котором, если мы будем продол248
Политические учения XX века
жать эту политику, тоталитарные силы возьмут верх» [Хай­
ек, 2005, с. 23]. Таким образом, острие критики в «Дороге к
рабству» направлено и против популярных в то время в Вели­
кобритании социалистических идей по вопросам экономиче­
ской политики, проникших в консерватизм и либерализм, и
против государственного вмешательства в экономику вообще.
До конца жизни Ф. фон Хайек оставался убежденным сторон­
ником классических либеральных принципов ограниченного
правительства, верховенства закона, частной собственности и
экономической свободы.
Массовое общество, элиты и проблемы демократии.
Другой проблемой, с которой столкнулся либерализм на ру­
беже ΧΙΧ-ΧΧ вв., стало омассовление общества и сопряжен­
ные с этим процессы трансформации институтов либеральной
демократии. Психологические аспекты этого феномена были
исследованы в 90-х гг. XIX в. в работах «Психология толп»
(1895) Гюстава Лебона (1841-1931), «Мнение и толпа» (1892)
Габриеля Тарда (1843-1904), «Преступная толпа» (1892) Сци­
пиона Сигеле (1868-1913) и др. Поведение масс, с точки зре­
ния данного подхода, мотивируется страстями и потому опи­
сывалось исследователями в терминах патологии и связыва­
лось с различными моральными и социальными девиациями.
В 1921 г. Зигмунд Фрейд (1856-1939) продолжил обозначен­
ную традицию, опубликовав работу «Психология масс и ана­
лиз человеческого “Я”», в которой применил психоаналитиче­
ское понятие «либидо» для объяснения вождизма: в феномене
массы он увидел архаическую «вновь ожившую первобытную
орду», а привязанность к вождю обосновывал тоской о не­
ограниченной власти «первобытного отца». О политических
последствиях «полного захвата массами общественной вла­
сти» писал испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет (18831955) в вышедшей в 1929 г. книге «Восстание масс» [Ортега-и-Гассет, 2002, с. 15], доказывая, что массовая «гиперде­
мократия», перераспределяющая власть в пользу заурядного,
безответственного и иррационального большинства, резуль­
татом будет иметь полное огосударствление жизни, которое
249
Раздел IV
X. Ортега-и-Гассет считал «наихудшей из опасностей» для ев­
ропейской цивилизации.
Таким образом, «вторжение» масс в политику, породившее
массовые движения и перераспределение власти в обществе,
первоначально воспринималось как непосредственная угроза
либеральной демократии. Осознание этой угрозы актуализи­
ровало цикл исследований роли элит и их влияния на демо­
кратический процесс, что на рубеже ΧΙΧ-ΧΧ вв. нашло отра­
жение в теории элит двух итальянских социологов и полити­
ческих мыслителей Гаэтано Моски (1858-1941) и Вилъфредо
Парето (1848-1923). В работе «Элементы политической нау­
ки» (1896) Г. Моска пришел к выводу, что власть в обществе
всегда находится в руках «правящего класса» - организован­
ного меньшинства, обладающего специфическими способно­
стями, которые варьируются в зависимости от исторической
эпохи, - военной доблестью, богатством или священством.
В структуре и динамике «правящего класса» Г. Моска выделил
две разнонаправленных тенденции: аристократическую, вы­
ражающуюся в стремлении передать власть потомкам на пра­
вах наследования, и демократическую, характеризующуюся
обновлением властных структур выходцами из «управляемого
класса». Третьим способом обновления элиты Г. Моска считал
«кооптацию» - прямое назначение новых лиц в «правящий
класс». Развивая идеи Г. Моски, В. Парето в «Трактате по об­
щей социологии» (1916) предложил концепцию «циркуляции
элит». Он исходил из идеи неравномерности распределения
способностей среди людей: индивидов, обладающих способно­
стью к управлению, В. Парето назвал «элитой» (от фр. elite «лучший, избранный») и считал, что движущей силой об­
щественного развития является бесконечный процесс борь­
бы за власть двух типов элит - «лис», склонных к хитрости
и обману, и «львов», предпочитающих насилие. Эти иссле­
дования были продолжены немецко-итальянским социоло­
гом Робертом Михельсом (1876-1936), сформулировавшим
в работе «Социология политической партии в условиях де­
мократии» (1911) «железный закон олигархии», заложен250
Политические учения XX века
ный в природе социальной организации. В рамках массовой
демократии большие шансы добиться власти имеют те груп­
пы, которые обеспечат себе наибольшую поддержку со сторо­
ны организованных масс. Условием этой организации является
возникновение властной иерархии с постоянно действующим
бюрократическим аппаратом. Профессиональный аппарат об­
разует закрытый внутренний круг, противопоставляет себя ря­
довым членам и подменяет первоначальные политические цели
инструментальными целями сохранения самой организации.
Стремление аппарата закрепить власть в своих руках приво­
дит ко все большему разрыву между интересами его лидеров
и интересами рядовых членов организации. В результате обра­
зуется олигархия. Общий вывод Р. Михельса пессимистичен:
по мере развития организации демократия приходит в упадок.
Менее скептично в отношении организационных аспектов
массовой демократии был настроен немецкий социолог Макс
Вебер (1864-1921). В работах «Парламент и правительство в
новой Германии» (1918), «Хозяйство и общество» (1921) и др.
М. Вебер соглашался с исследователями психологии масс в
том, что «наипервейшая государственно-политическая опас­
ность массовой демократии заключается в возможности по­
давляющего преобладания эмоциональных элементов в поли­
тике» [Вебер, 2003, с. 243]. Масса иррациональна, пассивна
и легко подвергается влиянию демагогов. Результатом дея­
тельности масс может быть только «демократия улицы», ко­
торая возникает в странах с безвластным парламентом при
нехватке рационально организованных партий. Таким обра­
зом, «иррациональное господство улицы» преодолевается,
по М. Веберу, политической организацией активности масс,
а в роли таких организаций выступают профсоюзы, партии
и т. д. В таком контексте и демократия понимается как меха­
низм конкуренции партийных элит за поддержку со стороны
масс и управление массами в их повседневной жизни с помо­
щью рационально организованной бюрократии.
Изменение в формах организации участия масс в политике
было отрефлексировано в новых теориях демократии. Идеи
251
Раздел IV
М. Вебера были развиты австрийским и американским эконо­
мистом и политическим мыслителем Иозефом Шумпетером
(1883-1950) в концепции элитарной демократии. В работе
«Капитализм, социализм и демократия» (1942) он исходил из
базовых законов конкуренции, действующих как в экономи­
ке, так и в политике. Политические силы в борьбе за власть
вынуждены апеллировать к массовому избирателю, предлагая
свои программы, а избиратель осуществляет выбор из предло­
женных альтернатив. В результате формируется правитель­
ство. Тем самым акцент переносится с электората на профес­
сиональные элиты и лидеров, поскольку народу отводится
лишь роль «принять или не принять тех или иных людей,
которые должны им управлять» [Шумпетер, 1995, с. 372], а
под демократией понимается «институциональное устройство
для принятия политических решений, в котором индивиды
приобретают власть принимать решения путем конкурентной
борьбы за голоса избирателей» [там же, с. 355]. Экономиче­
ский подход к демократии Й. Шумпетера впоследствии раз­
вивался такими экономистами и политологами, как К. Эрроу,
Э. Даунс, Г. Беккер, Г. Таллок и др.
В ответ элитистским теориям Артуром Бентли (18701957), Гарольдом Джозефом Ласки (1893-1950), Робертом
Аланом Далем (1915-2014) и др. была разработана концепция
плюралистической демократии, в соответствии с которой по­
литику определяют группы интересов и правящие элиты, но,
в отличие от узкоэлитистских концепций, сторонники дан­
ной теории не отказывают народу в участии в управлении,
полагаясь на децентрализацию политической власти. Разви­
вая эти идеи, Р. А. Даль совместно с Чарльзом Линдбломом
в 50-х гг. XX в. разработал оригинальную концепцию полиар­
хии (от греч. πολυαρχία - правление многих), т. е. политическо­
го режима, при котором «возможности публичного соперни­
чества доступны значительной доле населения» [Даль, 2010,
с. 235]. Для реализации полиархии необходимо выполнить
ряд ключевых условий: конкурентность и открытость режи­
ма, децентрализация экономики и доступа к средствам при252
Политические учения XX века
нуждения и социально-экономическим санкциям, высокий
уровень социально-экономического развития, низкий уровень
неравенства, субкультурный плюрализм, слабое влияние ино­
странных держав, наличие убеждений политических активи­
стов в легитимности институтов полиархии, в их эффективно­
сти в решении важнейших проблем, высокий уровень доверия
и кооперации, возможность компромиссов. Таким образом,
полиархия есть относительно (но не полностью) демократиче­
ский режим, открытый для публичных дискуссий и обеспечи­
вающий высокую степень политического участия [Даль, 2010,
с. 14].
Не менее известной является концепция делиберативной
(совещательной) демократии, сформулированная в 1980-х гг.
немецким философом Юргеном Хабермасом (род. 1929).
Ядром этой концепции является идея достижения консенсу­
са, отвечающего требованиям рациональности и демократиче­
ской легитимности, посредством соответствующих процедур
обсуждения. Естественным образом эта концепция критиче­
ски направлена против элитистских моделей, устраняющих
народ из сферы публичной политики по причине его «не­
компетентности и иррациональности». В основе элитистской
концепции демократии лежит инструментальное понимание
рациональности, ориентированное на реализацию успеха.
Этим обусловлено и предпочтение, отдаваемое элитам, кото­
рые более «профессиональны» в инструментальном смысле.
Напротив, в представлении Ю. Хабермаса и его последовате­
лей более важное значение для политики имеет «коммуни­
кативная рациональность», которая интерсубъективна, фор­
мируется «жизненным миром» участников взаимодействия
и ориентирована на их взаимопонимание. В соответствии
с этим и делиберативная демократия понимается как сово­
купность институтов, обеспечивающих всеобщую и публич­
ную коммуникацию с целью достижения разумных результа­
тов. «Делиберативная политика», по Ю. Хабермасу, должна
учитывать «многообразие форм коммуникации, в которых
совместная воля образуется не только на пути этического са253
Раздел IV
мосогласия, но и за счет уравновешивания интересов и до­
стижения компромисса, за счет целерационального выбора
средств, морального обоснования и проверки на юридическую
связность» [Хабермас, 2001, с. 391].
Обсуждение обозначенных проблем политическими теоре­
тиками продолжалось вплоть до конца XX в. и до сих пор не
нашло своего завершения. В дискуссиях были сформулиро­
ваны и другие модели демократии и демократизации (парти­
ципаторная, консенсусная, минималистская, экономическая
и др.). Таким образом, от критики иррациональности масс
интерес политических теоретиков сместился к поиску опти­
мальной организации участия масс в политике посредством
демократических институтов. Развивая идеи М. Вебера о том,
что организованные партии есть ключевые институты, позво­
ляющие решить проблемы демократии в массовом обществе,
а также концепцию демократии как системы рекрутирования
элит Й. Шумпетера, французский социолог Морис Дюверже
(1917-2014) в книге «Политические партии» (1951) разра­
ботал теорию партий и партийных систем. М. Дюверже
соглашается с Р. Михельсом в том, что «всякое правление
олигархично, что неизбежно ведет к господству немногих лиц
над массой» [Дюверже, 2000, с. 510]. Однако это не означает
фатальной олигархизации любых массовых организаций. На­
против, партии, выполняющие функции формирования обще­
ственного мнения, политического рекрутирования и предста­
вительства, есть атрибут демократии. Демократии, по мысли
М. Дюверже, угрожают не партии, а военный, религиозный и
тоталитарный тип их организации. Из этого следует то важ­
ное значение, которое М. Дюверже придавал организацион­
ной структуре партий, системе членства и органам руковод­
ства. По этим критериям он выделил кадровые и массовые
партии. Первые выражают политические интересы господ­
ствующих классов, ориентированы на победу на выборах,
и основным их структурным элементом являются комитеты,
главная функция которых заключается в проведении избира­
тельных кампаний. Массовые партии появились с введени254
Политические учения XX века
ем всеобщего избирательного права; они ориентированы на
формирование элит из народа, заинтересованы в привлечении
новых членов, поэтому их базовыми элементами выступают
секции или ячейки, ведущие агитацию. М. Дюверже одним из
первых выявил взаимосвязь между партийной и избиратель­
ной системами.
Дискуссия о справедливости и эгалитарный либера­
лизм. Расширение полномочий правительства, новые со­
циальные программы и интервенционистская экономиче­
ская политика, санкционированные «новыми либералами»
в Великобритании и США и воплощенные в «Новом курсе»
Ф. Рузвельта, а затем и в других европейских государствах,
основывались на утилитаристской методологии подсчета об­
щей пользы: интересы каждого гражданина учитывались оди­
наково, и задачей правительства полагалось создание условий
для того, чтобы прибыль победителей в сумме перевешивала
совокупные потери проигравших. В 1970-х гг. этот утилитар­
ный принцип подвергся критике со стороны некоторых ли­
берально ориентированных политических философов, таких
как Джон Ролз (1921-2002), Рональд Дворкин (1931-2013)
и др., не ставивших под сомнение необходимость государ­
ственного вмешательства и перераспределения благ в обще­
стве, но весьма критично воспринимавших утилитаристскую
методологию этого распределения.
В работе «Теория справедливости» (1971) Дж. Ролз пред­
ложил контрактуалистскую альтернативу утилитаризму,
которая основывает распределение на двух принципах спра­
ведливости: 1) все люди обладают равными правами на мак­
симально большую совокупность равных основных свобод,
совместимых с подобной схемой свобод для всех; 2) социаль­
ные и экономические неравенства должны быть устроены так,
чтобы они были направлены к наибольшей выгоде наименее
обеспеченных, а доступ к положениям и должностям был бы
открыт для всех [Ролз, 1995, с. 66]. Утилитаристский прин­
цип обоснования экономического распределения основывался
на идее «равенства возможностей». Из этого принципа сле255
Раздел IV
довало, что неравенства в доходах и социальном положении
допустимы, если были соблюдены правила конкуренции в их
распределении. Дж. Ролз обратил внимание на то, что природ­
ные способности людей не равны, а распределение способно­
стей от рождения никак не связано с заслугами, что приводит
к несправедливости в распределении благ. Взамен Дж. Ролз
предложил принцип различия: люди только тогда могут пре­
тендовать на большую долю в распределении, если это прине­
сет пользу всем членам общества. Теория Дж. Ролза оказала
огромное влияние на все последующее развитие политической
мысли Западной Европы и США, вызвав бурное обсуждение и
критику с самых разных политических позиций.
Либертарианство (libertarianism). Одной из таких зна­
чимых интеллектуальных реакций стала книга «Анархия,
государство и утопия» (1974) американского политического
философа Роберта Нозика (1938-2002). Р. Нозик предложил
альтернативную ролзовской теорию справедливости, основан­
ную на титулах собственности. При этом он исходил из трех
ключевых принципов распределения: справедливость первич­
ного присвоения; справедливость перехода титула собствен­
ности на имущество от одного индивида к другому; принцип
исправления несправедливости [Нозик, 2008, с. 195]. Говоря
иначе, Р. Нозик следует либертарианскому принципу спра­
ведливости распределения: оно справедливо, если возникает
в результате либо первоначального приобретения, либо сво­
бодных обменов между людьми. Из этого вытекает важный
вывод о недопустимости перераспределения со стороны пра­
вительства с помощью налогов. И действительно, Р. Нозик
выступает за «ультраминимальное государство», которое по­
зволяет себе вмешиваться в действия индивидов только в двух
случаях: если эти действия нарушают свободу других и если
индивиды сами добровольно передали государству часть своих
естественных прав.
Коммунитаризм (communitarianism). Другой реакцией
стал коммунитаризм (от англ, community - сообщество) - по­
литическое движение и философия, утверждающие приори256
Политические учения XX века
тет ценностей сообщества над либеральным индивидуализмом
и тесно связанные с республиканизмом. Коммунитаризм как
движение возник в 1980-х гг. и был возглавлен его бессмен­
ным интеллектуальным лидером - профессором Амитаем
Этциони. В это же время, хотя и во многом независимо от
практики этого движения, возникло коммунитаристское на­
правление в англосаксонской политической философии, пред­
ставленное трудами таких авторов, как М. Уолцер, А. Макинтайр, М. Сэндел и Ч. Тейлор, положившее начало «спору
между либералами и коммунитаристами», в центре которого
находилось либеральное понимание индивидуальности, обще­
ства и рациональности.
Исходным импульсом для этой дискуссии послужила опу­
бликованная в 1981 г. книга «После добродетели: исследова­
ния теории морали» шотландско-американского политическо­
го философа Аласдера Макинтайра (род. 1929). По мнению
А. Макинтайра, весь проект Просвещения, на котором осно­
вывалась политическая и моральная философия Нового вре­
мени, и прежде всего либерализм, был обречен. Рациональное
обоснование норм морали, ориентированное на автономного
морального субъекта, имело следствием не улучшение чело­
веческой природы, а утрату оснований для моральных дис­
куссий, в результате чего в современном потребительском об­
ществе развернулась масштабная манипуляция человечески­
ми страстями. Концепцию А. Макинтайра иногда называют
♦революционным аристотелизмом», поскольку выход из сло­
жившейся ситуации он видит в возрождении аристотелевской
этики добродетелей.
Американский политический философ Майкл Сэндел (род.
1953) опубликовал в 1982 г. книгу «Либерализм и пределы
справедливости», в которой подверг критике асоциальную
и индивидуалистическую концепцию человеческой лично­
сти, положенную в основу теории справедливости Дж. Ролза
и Р. Дворкина. Либеральный субъект изолирован от культур­
ного контекста, социальных привязанностей и морального
опыта. Подобная концепция, по мнению М. Сэндела, не про­
257
Раздел IV
сто представляет собой карикатуру на реального человека, но
и имеет негативные политические последствия для современ­
ных обществ.
Значительный вклад в дискуссию внесли Майкл Уолцер
(род. 1935) и Чарльз Тейлор (род. 1931). В работе «Сферы
справедливости: защита плюрализма и равенства» (1983)
М. Уолцер показал, что претензии Дж. Ролза и других те­
оретиков на создание универсальной теории справедливости
бессмысленны, поскольку представления о справедливости
всегда контекстуальны для того или иного сообщества. При­
рода общего блага была исследована Ч. Тейлором в работе
«Пересечение целей. Спор между либералами и коммунита­
ристами» (1989) и др. Представляя общее благо как недости­
жимое иным образом и являющееся важнейшим фактором
кооперации, Тейлор выводит альтернативный либеральному
республиканский проект социальной организации.
8.2. Неомарксизм, феминизм, анархизм
Одним из ключевых политических мыслителей, оказавших
формирующее влияние на западный марксизм, был венгер­
ский философ Дьердь (Георг) Лукач (1885-1971).
Наиболее известной политической работой Д. Лукача яв­
ляется «История и классовое сознание» (1923). В центре кни­
ги находится проблема отчуждения, или «овеществления».
Д. Лукач подчеркивает, что товарный фетишизм в рамках со­
временного капитализма приобретает специфическое качество,
отличающее его от всех предыдущих общественно-экономиче­
ских формаций. Именно в современном капитализме товар­
ное обращение становится конститутивной формой общества,
т. е. товарная форма «пронизывает всю совокупность жиз­
ненных проявлений общества и трансформирует их по своему
образу и подобию» [Лукач, 2003, с. 180]. Таким образом, в
позднем капитализме достигает своего апогея и логического
завершения тенденция капитализма к «рационализации» (это
понятие Д. Лукач использует в веберовском смысле - как ори­
258
Политические учения XX века
ентацию на калькулируемое!·!., разрыв с «органическо-иррациональным» [Лукач, 2003, с. 184]). Одним из важнейших
результатов «овеществления» является свойственный буржу­
азному мышлению фетишизм фактов и утрата целостности
действительности. Но развитие капитализма уже достигло
той стадии, когда пролетариат, поскольку он мыслит диалек­
тически, способен понять и преодолеть формы «овеществле­
ния» и из объекта стать субъектом истории. Подобной преоб­
разующей функцией обладает только «ставшее практическим
классовое сознание пролетариата» [там же, с. 285].
Не менее влиятельным марксистским политическим мыс­
лителем был основатель и руководитель Коммунистической
партии Италии Антонио Грамши (1891-1937). Самым извест­
ным его политическим произведением являются «Тюремные
тетради», написанные в 1929-1935 гг. в заключении. Как
и Д. Лукач, А. Грамши отверг экономический детерминизм
ортодоксального марксизма, сосредоточившись на исследова­
нии роли культуры, идеологии и человеческой деятельности
в объяснении исторического развития. Одним из ключевых
у А. Грамши является понятие «гегемония». В нем объеди­
нились как традиционные формы экономического и силового
доминирования, так и механизмы интеллектуального и мо­
рального лидерства. Это позволило включить в анализ сред­
ства, которыми правящие классы обеспечили «спонтанное»
согласие управляемых на осуществление господства [Грамши,
1991, с. 332]. В связи с этим А. Грамши выделил «два над­
строечных этажа»: гражданское общество, под которым по­
нималась сеть частных организаций господствующего класса,
прямо не включенных в аппарат государства, и политическое
общество, т. е. государство. Первому «этажу» соответствует,
по А. Грамши, функция гегемонии господствующей группы
во всем обществе, второму - функция «прямого господства»,
выражающаяся в деятельности государства и «законного»
правительства [там же]. Прямое господство основывается на
распространении мировоззрения правящего класса. Послед­
нее есть функция интеллигенции. Отсюда - важная роль,
259
Раздел IV
которую А. Грамши отводил партии, способной организовать
интеллигенцию, «заботясь об укреплении связей между орга­
нической интеллигенцией... господствующей группы и тра­
диционной интеллигенцией» [Грамши, 1991, с. 336], с целью
воспитания нового человека посредством образования, печа­
ти, литературы и т. д. и подготовить пролетариат к револю­
ции и осуществлению гегемонии.
Франкфуртская школа. Из работ Д. Лукача и особенно
A. Грамши следовало, что одно из главных направлений борь­
бы с капитализмом - это критика буржуазной культуры и
идеологии, структур и форм отчуждения, освобождение со­
знания от овеществления социальных отношений и т. д. Эти
идеи были восприняты и развиты представителями крити­
ческой теории Франкфуртской школы, получившей свое
название от Института социальных исследований во Франк­
фурте-на-Майне. Ядро этой школы составили такие мысли­
тели, как Макс Хоркхаймер (1895-1973), Теодор Визенгрунд
Адорно (1903-1969), Герберт Маркузе (1898-1979), Вальтер
Беньямин (1892-1940), Эрих Фромм (1900-1980), Вильгельм
Райх (1897-1957), Юрген Хабермас и др. Критическая тео­
рия общества предполагала анализ человеческих отношений
во всей их сложности, с тем чтобы выявить условия освобо­
ждения человека от всех форм доминирования. В связи с этим
резко негативно оценивалась позитивистски ориентированная
социальная наука, видящая своей целью объективное отобра­
жение действительности вместо ее преобразования. В мето­
дологии Франкфуртской школы элементы марксизма сочета­
лись с гегельянством и психоанализом 3. Фрейда.
Австрийско-американский
психоаналитик
Вильгельм
Райх присоединился к Франкфуртской школе уже в США,
куда школа эмигрировала после прихода к власти Гитлера.
B. Райх был одним из учеников 3. Фрейда и считается осново­
положником фрейдомарксизма. В цикле работ, посвященных
неврозам, В. Райх обосновал программу «сексуальной рево­
люции», в которой предусматривалось сексуальное образова­
ние всех слоев населения, контроль рождаемости посредством
260
Политические учения XX века
разрешения абортов и распространения контрацептивов, раз­
решение разводов, раскрепощение сексуальной энергии и др.
В основе этой программы лежат представления В. Райха о
♦ невротической личности». «Невротический характер», по
В. Райху, формируется в результате подавления сексуально­
сти с помощью социальных запретов, авторитарной семьи и
церкви, склонен к слепому подчинению и способствует уста­
новлению авторитарного строя. В 1930-х гг. этот подход был
применен В. Райхом в анализе фашизма («Психология масс
и фашизм» (1933)). Фашизм как определенный тип обще­
ственного порядка есть выражение иррациональности и де­
структивности «невротического характера». «Сексуальная ре­
волюция», которую пропагандировал В. Райх, должна была
устранить невротическое общество и стать предпосылкой
пролетарской революции. Концепция «невротической лично­
сти» В. Райха повлияла на последующие исследования «ре­
прессивного общества» Г. Маркузе, «авторитарной личности»
Т. Адорно (рук.), «человеческой деструктивности* Э. Фромма
и ДР.
Герберт Маркузе в книгах «Эрос и цивилизация» (1956)
и «Одномерный человек» (1964) сосредоточился на критике
репрессивности современного ему общества, которое неравно­
мерно распределяет нужду и подавление. Основой господства
Г. Маркузе видел формирование «ложных» потребностей,
т. е. тех, которые «закрепляют тягостный труд, агрессив­
ность, нищету и несправедливость» [Маркузе, 1994, с. 6].
Эти потребности привязывают индивида к современному об­
ществу, поэтому Г. Маркузе называет их «репрессивными».
В результате возрастающих и унифицирующихся потребно­
стей складывается «одномерное общество»: «В развитой ин­
дустриальной цивилизации царит комфортабельная, покой­
ная, умеренная, демократическая несвобода» [там же, с. 1].
Преодолеть подавление возможно только с помощью Великого
Отказа - от репрессивной цивилизации в целом и ее ценно­
стей - и создания цивилизации нерепрессивной, гармони­
зирующей принцип реальности с принципом удовольствия.
261
Раздел IV
Свои надежды на реализацию этой гармоничной цивилизации
Г. Маркузе связывал с отказом интеллектуалов служить си­
стеме господства, который «может найти поддержку другого
катализатора - инстинктивного отказа протестующей молоде­
жи» [Маркузе, 1995, с. 309].
Критическая теория общества, и особенно работы В. Райха
и Г. Маркузе, сильно повлияла на идеологию «новых левых».
Феминизм. Одной из самых значительных феминистских
работ XX в. стал трактат французского философа-экзистенци ­
алиста Симоны де Бовуар (1908-1986) «Второй пол» (1949),
в котором автор поставила проблему подлинности бытия жен­
щины и возможности осуществления ее свободы. С позиций
экзистенциализма, которому следовала С. де Бовуар, человек
есть существо, способное к трансценденции - деятельности по
конструированию целей и смыслов своей жизни, а также их
реализации. Отсюда и знаменитое высказывание С. де Бову­
ар: «Женщиной не рождаются, ею становятся» [Бовуар, 1997,
с. 310], т. е. никакой предзаданной от рождения «сущности»
женщины нет, есть только «существование» как реализация в
поступках проекта свободы, выхода за пределы имманентно­
сти «в мир». Женщина же, по С. де Бовуар, обществом обре­
кается на имманентность, поскольку цели ее существования
определяются чужими - мужскими - целями, а сама она вы­
ступает в роли Другого, т. е. объекта, а не субъекта целепо­
лагания. Соответственно, и возможности для освобождения
женщины были исключительно негативными: за всю историю
человечества женщина не знала других форм освобождения,
кроме непослушания, порока и греха. Этому ложному, нега­
тивному освобождению С. де Бовуар противопоставила свою
концепцию подлинного существования, к которому должна
стремиться женщина: только активная производительная де­
ятельность, создание и реализация своих собственных про­
ектов, соотнесение деятельности с поставленными целями
позволят женщине самоутвердиться в качестве реального
субъекта, испытать чувство ответственности и обрести свою
трансцендентность.
262
Политические учения XX века
Книга С. де Бовуар оказала огромное влияние на после­
дующее развитие феминизма, составив базу так называемой
«радикальной» его версии. Проблематизация личной сферы,
которая традиционно исключалась из рассмотрения полити­
ческой теорией, есть один из важнейших вкладов «радикаль­
ного феминизма» XX в. в историю политической мысли. Ло­
зунг «Частное есть политическое» (К. Пэйтман, С. М. Окин
и др.) бросил вызов как традиционному способу политическо­
го мышления, различающему со времен Античности частную
сферу и публичную, так и ключевым понятиям европейской
политической философии - «государству», «политике», «спра­
ведливости» и др. Теоретики «радикального феминизма» по­
казали, что исключаемая из политического анализа семья
как сфера частной жизни есть арена сексуальной политики и
угнетения и выступает фундаментом структур патриархата*.
Понятие «патриархат» было введено в феминистскую теорию
Кейт Миллет и означало «такой институт, где одна полови­
на населения (женщины) контролируется другой половиной
населения (мужчинами)» [Миллет, 1994, с. 150]. На базе ис­
следований С. де Бовуар также получила развитие концепция
особой «женской этики заботы» (К. Гиллиган, Н. Ноддингс,
С. Раддек, Дж. Тронто и др.), противопоставляемой «мужской
этике справедливости».
«Этика заботы» характеризуется акцентом на чувственно­
сти, коммуникабельности и поддержании связи, в то время
как «этика справедливости» критикуется за рациональность,
индивидуальность и автономию.
Для возрождения либерального феминизма большое значе­
ние имела книга «Загадка женственности» (1963) американ­
ской журналистки Бетти Фридан (1921-2006). Она обрати­
ла внимание на следующую проблему: получая образование,
сами женщины добровольно замыкаются в узком мире домаш­
него хозяйства и отказываются от дальнейшего личностного
роста. Несмотря на формально-юридические возможности для
самореализации, женщины отказываются их использовать.
Б. Фридан возложила ответственность на СМИ, навязываю263
Раздел IV
щие образы «настоящей женщины, следующей своему при­
званию», «женской доле», «женской судьбе», «женскому дол­
гу» и тем самым закрепляющие господство мужчин: «Суть
мистификации в том, что наивысшей ценностью и единствен­
ным долгом женщины провозглашается реализация женских
качеств и исполнение своего предназначения» [Фридан, 1994,
с. 81]. Проблема, по Б. Фридан, состоит в том, что эта ми­
стифицированная «женственность» есть не более чем роман­
тизированный образ домохозяйки. Решение этой проблемы,
предложенное Б. Фридан, составило требования либерального
феминизма XX в.: она развенчивает «мистику женственно­
сти», полагая необходимым для женщин учиться самостоя­
тельности, независимости, продолжать саморазвитие и само­
образование, а также не отказываться от работы вне семьи.
Феминизм «третьей волны», набирающий силу с 1980-х гг.,
еще более расширил проблематику, включив в сферу своего
рассмотрения проблемы расы, гендера, идентичности, муль­
тикультурализма и постмодерна. При этом критике подвергся
сам традиционный феминизм, преувеличивавший различия
между женщиной и мужчиной, но не замечавший различий
в опыте самих женщин. В связи с этим теоретики феминизма
заговорили о «постфеминизме», или «феминизме различий».
Анархизм. Французский теоретик революционного анар­
хо-синдикализма Жорж Сорель (1847-1922) оказал значи­
тельное влияние на социально-политическую мысль самых
различных направлений: под этим влиянием находились не
только марксисты Д. Лукач, А. Грамши и др., неогегельянец
Б. Кроче, но и К. Шмитт и даже Б. Муссолини. Одной из самых
известных работ Ж. Сореля является книга «Размышления о
насилии» (1906). В основу книги положены три ключевых
идеи: миф, насилие и всеобщая стачка. Под «мифами» Ж. Со­
рель понимал «совокупность образов, способных инстинктив­
но вызывать именно те чувства, которые соответствуют раз­
личным проявлениям социалистической борьбы против совре­
менного общества» [Сорель, 2013, с. 129]. Участники прямого
действия, за которое ратовал Ж. Сорель, представляют себе
264
Политические учения XX века
это действие как битву, которая принесет победу их общему
делу. В таком контексте и всеобщая стачка синдикалистов, и
катастрофическая революция К. Маркса, и даже социализм суть мифы. Функция мифов - объединять людей и побуждать
их к действию. Насилие - тоже миф. и его задача - воздей­
ствовать на умы людей, мобилизовать их к решительным
действиям. Насилие Ж. Сорель отличал от силы. Сила есть
принуждение со стороны государства, она «имеет целью уста­
новить социальный порядок, основанный на власти меньшин­
ства» [Сорель, 2013, с. 170]; насилие есть действие пролета­
риата, направленное на уничтожение этого порядка. Поэтому
насилие выполняет функции морали: оно не есть цель в себе,
но лишь средство морального очищения пролетариата, рево­
люционного уничтожения государства и буржуазной культу­
ры. А результатом революции должно стать социалистическое
общество «свободных производителей, работающих на фабри­
ке без хозяев» [там же, с. 233].
8.3. Консерватизм, фашизм, национал-социализм
Существенно обогатилась в рассматриваемый период и про­
блематика консерватизма, который приобретает не харак­
терную для него националистическую окраску; очень крити­
чески относится к традиционному консерватизму; как и соци­
альный либерализм, заимствует некоторые элементы социа­
лизма и даже провозглашает «консервативную революцию».
Радикализм «консервативной революции». Эссе Освальда
Шпенглера (1880-1936) «Пруссачество и социализм», напи­
санное в 1919 г., стало одним из первых документов «консер­
вативной революции» - политико-идеологического течения,
возникшего в Веймарской Германии и сочетающего консер­
вативные идеи с социалистическими в борьбе с либерализмом
и парламентаризмом. Это эссе было составлено из заметок
ко второму тому нашумевшей работы «Закат Европы» (1918)
и направлено против западного либерализма, парламента­
ризма и марксизма. Нужно избавить немецкий социализм,
265
Раздел IV
полагал О. Шпенглер, от марксистского влияния. Социализм
и пруссачество («старопрусский дух») есть одно и то же:
«...идея социализма... [есть] воля к власти, борьба за счастье
не отдельных лиц, а целого» [Шпенглер, 2002, с. 68]. Эту
идею О. Шпенглер противопоставляет немецкому либерализ­
му, формировавшемуся под английским интеллектуальным
влиянием и в результате пришедшему к отрицанию государ­
ства. Глубокие корни и значение в Германии может иметь
только социализм, сочетаемый с «прусским духом» - «опре­
деленной совокупностью чувства реальности, дисциплины,
корпоративного духа и энергии» [там же, с. 49]. «Прусский
дух» есть идея воспитательная, исторической действительно­
стью которой стали прусская армия, прусское государство и
прусский народ. Социализм лучше всего сочетается со стилем
жизни прусского народа, основой которой является труд.
Не менее значимыми для «консервативной революции» ста­
ли работы Артура Меллера ван ден Брука (1876-1925) «Пра­
во молодых народов» (1918) и «Третий Рейх» (1922), в кото­
рых автор сформулировал «революционное» видение консер­
ватизма и политического будущего Германии, а также цикл
публикаций немецкого писателя и политического мыслите­
ля Эрнста Юнгера (1895-1998). Эссе «Рабочий. Господство
и гештальт» (1932) - главный социально-философский труд
Э. Юнгера. Задачей этой книги он видел «показать гештальт ра­
бочего как действенную величину, которая уже со всей мощью
вмешалась в историю и повелительно определяет формы изме­
нившегося мира» [Юнгер, 2000, с. 60]. Гештальт, по Э. Юнгеру, есть «целое, содержащее больше, чем сумму своих частей»
[там же, с. 88], он не сводится к экономическому измерению,
это, скорее, метафизическая категория, противопоставленная
категории «бюргер». Бюргерскому мышлению отношение к
тотальности не дано, оно стремится определить рабочего как
экономическую абстракцию. Поэтому экономикоцентризм
ортодоксального марксизма на деле есть лишь идеологическое
продолжение буржуазной эпохи. Эпоха бюргеров была эпохой
мнимого господства, которое предстоит преодолеть рабочему;
266
Политические учения XX века
он становится представителем нового общества, характеризу­
емого равнозначимостью экономики и судьбы. Эти надежды
были обусловлены новым отношением рабочего к стихийно­
му, к свободе и власти. Рабочий может действовать в сти­
хийном пространстве, в котором бюргер ощущает недостаток
безопасности; свобода понимается как экзистенциальная ве­
личина, которая связана с ответственностью перед гешталь­
том рабочего; наконец, власть является репрезентацией этого
гештальта, в котором стирается различие между господством
и служением.
Эрнст Никит (1889-1967) - немецкий журналист, по­
литик, идеолог национал-болыпевизма. Во многом взгляды
Э. Никита перекликались с идеями Э. Юнгера, с которым
он был в тесном контакте. Большевизм в концепции Э. Ни­
кита рассматривается как «перманентная революция против
Западной Европы» [Никит, 2011, с. 57], символизирующей
идеи индивидуализма, капитализма, марксизма и парламен­
таризма. Классовая борьба в Германии должна сочетаться
с национальным пафосом, а социалистическая революция дополняться революцией национальной. Целями этой борь­
бы объявлялись установление социализма в Германии и отказ
от Версальской системы. «’’Социализм** с незапамятных вре­
мен был упованием измученных, не способных свести концы
с концами слоев населения... » [там же, с. 60]. Однако этот
«социализм» не есть социализм рабочих, поскольку не пред­
полагал революционной классовой борьбы. Признаний в вер­
ности марксистскому учению недостаточно, чтобы называть
себя социалистом. Только «полное решимости восстание про­
тив буржуазного мира» [там же, с. 70] может означать реаль­
ный социализм.
Карл Шмитт (1888-1985) - немецкий юрист и политиче­
ский теоретик, всю свою жизнь выступавший против либера­
лизма, за сильное суверенное государство и исполнительную
власть. В эссе «Диктатура» (1921) критически проанализи­
ровал Конституцию Веймарской Германии, показав, что сла­
бость парламентской демократии была обусловлена ее сове­
267
Раздел IV
щательным характером. Поэтому для реализации экстраор­
динарных задач требуется диктатура. Правительство, чтобы
быть эффективным, должно иметь возможность получения
чрезвычайных полномочий в исключительных обстоятель­
ствах. Эти идеи были развиты К. Шмиттом в известной книге
«Политическая теология» (1922), в которой с чрезвычайным
положением уже связан суверенитет государства: «Суверенен
тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении»
[Шмитт, 2000, с. 15], т. е. суверен находится вне нормаль­
но действующего правопорядка, он сам определяет этот по­
рядок в конституции и отменяет его в случае необходимости.
К. Шмитт указывал, что либеральная идея правового государ­
ства стремится устранить суверена. В его понимании суверен
выведен за пределы правового поля, в экстраординарных слу­
чаях он не связан никакими законами. Своеобразно интерпре­
тированные идеи К. Шмитта повлияли на государственно-пра­
вовую теорию национал-социализма и продолжают оказывать
влияние на неоконсервативную мысль.
«Новые правые» и неоконсерватизм. В 70-х гг. XX в.
в ряде европейских стран и США возникает новое интеллек­
туальное течение «новых правых», ставшее реакцией на дви­
жение «новых левых» и «контркультуры» 1960-1970-х гг.
и включившее довольно противоречивый конгломерат идей.
В экономических вопросах «новые правые» исходят из идеи
неделимости свободы, развиваемой в трудах Л. Мизеса,
Ф. Хайека, М. Фридмана и др., и обновленной концепции
минимального государства, сформулированной Р. Нозиком,
А. Рэнд и другими либертарианцами. На этой базе сформи­
ровался англо-американский «новый консерватизм», предста­
вителями которого считаются Дэниел Белл, Ричард Уивер,
Роберт Нисбет, Уолтер Липпман, Лео Штраус, Рассел Кирк и
др. Считается, что экономические реформы Р. Рэйгана в США
и М. Тэтчер в Великобритании были проведены под сильным
влиянием неоконсерватизма. В сфере культуры и политики
«новые правые», напротив, критикуют моральную и ценност­
ную деградацию Европы, мультикультурализм, глобализацию
268
Политические учения XX века
и экономикоцентризм, выступая за традиционализм и наци­
онально-культурные ценности. К этому направлению, несмо­
тря на существенные различия между ними, обычно относят
традиционалистов Алена де Бенуа, Рене Генона и Юлиуса
Эволу, технократа Арнольда Гелена, теоретика консерватизма
Герда-Клауса Кальтенбруннера и др. Однако, ввиду сложно­
сти и противоречивости взглядов «новых правых», это тече­
ние крайне аморфно и с трудом поддается классификации.
Итальянский фашизм. В 1920-х гг. на волне антилиберальных настроений в Италии зарождается фашизм, а в Гер­
мании - национал-социализм, катастрофически изменившие
ход мировой истории. К ведущим теоретикам итальянского
фашизма обычно относят итальянского философа Джованни
Джентиле (1875-1944) и итальянского журналиста и поли­
тического деятеля, лидера Национальной фашистской партии
и диктатора Бенито Муссолини (1883-1945). Ими в соавтор­
стве было написано эссе «Доктрина фашизма» (1932) (при пу­
бликации авторство было приписано только Б. Муссолини).
В основе философии фашизма, по утверждению авторов, ле­
жит единство мысли и действия, и в этом смысле он противо­
стоит материалистическому позитивизму XIX в. и атомизму
классического либерализма. Индивид понимается в неразрыв­
ном единстве с нацией и государством, и только в этом един­
стве он осуществляет свое духовное бытие и ценность своей
жизни. Вне государства нет ни групп, ни индивидов, лишь
в его пределах признается их реализация в корпоративной
системе интересов. Государство создает единую нацию, усили­
ями элиты сплачивая народ вокруг идеи нации. Основу прак­
тической политики фашизма составляют милитаризм (война
и жизнь есть долг), отрицание марксизма и классовой борь­
бы (фашизм верит в святость и героизм, не мотивированные
экономическими интересами), антидемократизм и антилибе­
рализм (фашизм признает, что неравенство неизбежно), авто­
ритаризм под видом демократии (фашизм определяется как
организованная, централизованная и авторитарная демокра­
тия), корпоративное государство (индивид рассматривается
269
Раздел IV
как часть социальных групп, которые государством органи­
зуются в нацию), контролируемый государством капитализм.
Целью же фашистского государства объявляется воля к вла­
сти и господству, а также стремление к империи.
Национал-социализм. Одним из идейных предшественни­
ков национал-социализма называют англо-немецкого писате­
ля и философа Хьюстона Стюарта Чемберлена (1855-1927),
который в книге «Основания девятнадцатого столетия» (1899)
соединил идею расового превосходства с понятием « герман ство». Эта книга повлияла на таких теоретиков национал-со­
циализма, как Адольф Гитлер (1889-1945) и Альфред Розен
берг (1893-1946).
Свои взгляды А. Гитлер изложил в книге «Моя борьба»
(1925). Они основаны на нескольких принципах: пангерма­
низм и расизм, обосновывающий превосходство «арийской
расы» над всеми другими; антисемитизм, попытка обвинить
во всех бедах Германии «еврейскую расу»; антимарксистский
социализм, идейно напоминающий «прусский социализм»
О. Шпенглера и других теоретиков «консервативной револю­
ции»; фашизм, сочетающий идеи корпоративного «народно­
го» государства с вождизмом. Эти идеи были детализирова­
ны идеологом НСДАП Альфредом Розенбергом в книге «Миф
XX века» (1930). На практике реализация национал-социа­
лизма в Германии в 1933-1945 гг. привела к созданию тота­
литарного государства и бесчеловечному уничтожению целых
категорий людей (евреев, цыган, душевнобольных и др.), раз­
вернулась в одну из самых кровопролитных войн в истории
человечества и в итоге поставила Германию на грань гибели.
8.4. Новые рефлексии политических проблем XX века
Исследования и критика тоталитаризма. Термин «то­
талитаризм» впервые был использован в 1923 г. итальянским
публицистом Джованни Амендолой (1882-1926) в его крити­
ке режима Б. Муссолини и впоследствии взят на вооружение
авторами «Доктрины фашизма» как характеристика всеобъ270
Политические учения XX века
емлющего, проникающего во все сферы общественной жизни
государства. Некоторые элементы этой концепции можно об­
наружить в «Тотальной мобилизации» (1930) Э. Юнгера, «По­
вороте к тотальному государству» (1931) К. Шмитта и работах
других теоретиков «консервативной революции» в Германии.
Феномен тоталитаризма стал предметом критического анали­
за теоретиков самых различных идеологических ориентаций:
А. Грамши, М. Хоркхаймера, Г. Маркузе, Э. Фромма, Ф. Пол­
лока, Ч. Милоша, Дж. Толмана, Р. Арона, К. Поппера и др.
Но наиболее известны работы «Истоки тоталитаризма» (1951)
одного из самых интересных и оригинальных мыслителей
XX в. Ханны Арендт (1906-1975) и «Тоталитарная диктату­
ра и автократия» американских политологов Карла Фридриха
(1901-1984) и Збигнева Бжезинского (1928-2017).
Согласно X. Арендт, тоталитаризм, существовавший в
Германии в 1933-1945 гг. и в России в 1929-1953 гг., есть
феномен исключительно XX в.; он отличается от всех преж­
них форм политического подавления принципиальным амо­
рализмом, правовым нигилизмом и стремлением к всепро­
никающему господству. База тоталитаризма - порожденное
крушением классовой структуры в начале XX в. массовое об­
щество, состоящее из озлобленных атомизированных индиви­
дов. Массы организуются на основе «отрицательной солидар­
ности», выражающейся в отрицании социальных ценностей и
их политического представительства. Среди психологических
источников тоталитаризма - антисемитизм, расизм и импе­
риализм. Целью тоталитарных режимов является превраще­
ние огромных масс людей в машину по воплощению в жизнь
незыблемых «законов Природы или Истории», практическим
выводом из которых является необходимость исправления че­
ловеческой природы посредством двух видов принуждения:
«...с одной стороны, внешнее принуждение тотального тер­
рора, который... сбивает в одно стадо массы изолированных
индивидов, с другой - самопринудительная сила идеологики,
логической дедукции, которая по отдельности готовит к тер­
рору каждого индивида, в его одиночестве и разобщенности
271
Раздел IV
со всеми другими» [Арендт, 1996, с. 615]. Уничтожая в дви­
жении к своей цели человеческую свободу как «способность
начинать и творить новое» [там же, с. 614], тоталитарное го­
сподство стремится парализовать саму способность человека
к действию, а в пределе - устранить «косное человечество» с
пути самодвижения исторической или природной необходи­
мости: «Тоталитаризм стремится не к деспотическому господ­
ству над людьми, а к установлению такой системы, в которой
люди совершенно не нужны» [там же, с. 592].
По мнению К. Фридриха и 3. Бжезинского, тоталитарные
режимы представляют собой специфическую форму автокра­
тии, характерной чертой которой является неподотчетность
правителя кому бы то ни было в своих действиях. Автокра­
тия - феномен, восходящий к самым истокам человеческой
истории. Тоталитаризм же - феномен XX в., возникающий
в условиях массовой демократии и современной технологии.
Тоталитарная диктатура обладает шестью отличительными
признаками: официальная идеология; единственная массо­
вая партия, возглавляемая вождем; террористический, по­
лицейский контроль; монополия на СМИ; полный контроль
над вооруженными силами; централизованная экономика.
В совокупности перечисленные признаки составляют модель
тоталитаризма.
Экологиям. Проблемы экологии и выживания человече­
ства приобрели особенно острую актуальность во второй поло­
вине XX в. Политические аспекты защиты окружающей сре­
ды, сохранения природных ресурсов разрабатывались такими
авторами, как Мюррей Букчин (1921-2006), Джанет Биль
(род. 1953), Джей Форрестер (1918-2016), Деннис Медоуз
(род. 1942), Михайло Месарович (род. 1928), Эдуард Пестель
(1914-1988), Аурелио Печчеи (1908-1984), Витторио Хесле
(род. 1960) и др.
Соединить анархизм и экологизм попытался Мюррей Букчин - американский философ, представитель и один из осно­
вателей экоанархизма. В работе «Экология свободы» (1982)
М. Букчин рассматривает экологические проблемы в соци272
Политические учения XX века
ально-политическом контексте. Он полагает, что практики
доминирования человека над природой есть следствие до­
минирования человека над человеком. Этим обусловлен ин­
терес М. Букчина к социальным иерархиям - культурным,
традиционным и психологическим системам подчинения и
управления, исследование которых позволит найти средства
и методы построения гармоничного экологического общества.
Более детально эти вопросы были разработаны в книге «Ре­
конструкция общества: на пути к зеленому будущему» (1989).
М. Букчин был убежден, что на уровне иерархически органи­
зованного национального государства решить экологические
проблемы невозможно. Напротив, достижение гармоничного
баланса с природой есть сегодня общечеловеческий интерес,
способный объединить человечество вне и помимо иерархи­
ческих структур: «Чтобы жизненные процессы на планете не
управлялись тоталитарной системой, современное общество
должно следовать базовым экологическим предписаниям»
[Букчин, 1996, с. 117]. Свой подход к решению данной про­
блемы сам М. Букчин назвал «либертарным муниципализ­
мом»: «Революционный проект должен исходить из фунда­
ментальной либертарной предпосылки: каждый нормальный
человек компетентен управлять делами... сообщества, членом
которого он является» [там же, с. 118]. Таким сообществом
выступает город как «соразмерный человеку, самоуправляе­
мый муниципалитет, свободно и конфедеративно ассоцииро­
ванный с другим соразмерным человеку и самоуправляемым
муниципалитетом» [там же, с. 123]. Подобные малые децен­
трализованные города способны не только решить проблемы
свободы в современном мире, но и удовлетворить потребность
жить в равновесии с природой.
Теории политики в постиндустриальном обществе.
В конце 1960-х — начале 1970-х гг. в США и некоторых евро­
пейских странах появилась так называемая новая технокра­
тическая волна, которая связывала социально-политические
изменения в обществе с научно-техническим прогрессом. Один
из представителей этой волны - американский экономист
273
Раздел IV
и социолог Джон Кеннет Гэлбрейт (1908-2006) - сформули­
ровал концепцию нового индустриального общества в одно­
именной книге, опубликованной в 1967 г. Развитие общества,
согласно Дж. Гэлбрейту, определяется техническим прогрес­
сом, а не идеологией противостояния капитализма и социа­
лизма: «Требования, диктуемые техникой и организацией
производства, а не идеологические символы - вот что опреде­
ляет облик экономического общества» [Гэлбрейт, 2004, с. 23].
В таком контексте и капитализм, и социализм суть разновид­
ности новых индустриальных обществ со сходными системами
планирования и социальной организации. Этим обусловлена
конвергенция капитализма и социализма, и завершением это­
го процесса станет единая плановая система, основными ком­
понентами которой будут корпорации и государство, а власть
перейдет к «техноструктуре» - управляющим корпорациями.
В это же время возникает концепция постиндустриального
общества, автором которой считается американский социо­
лог Дэниел Белл (1919-2011). В книге «Грядущее постинду­
стриальное общество» (1973) Д. Белл рассматривает историю
сквозь призму технологии и знания, как последовательную
смену трех типов социальной организации: доиндустриальный тип базируется на примитивных, добывающих формах
хозяйственной деятельности; индустриальный основан на фа­
бричном производстве заранее определенных продуктов, тре­
бует возрастающей квалификации работника, а основным про­
изводственным ресурсом становится энергия; чертами пост­
индустриального общества являются переход от производства
товаров к экономике услуг, непрерывное воздействие на окру­
жающую среду, основным ресурсом становится информация,
в общественной иерархии все большее значение приобрета­
ет технократия. Последнее вынуждает политиков конкури­
ровать с «жрецами нового строя» - учеными, инженерами,
технократами; и сложности взаимоотношений между обще­
ственной структурой и политическим порядком становят­
ся одной из главных проблем власти в постиндустриальном
обществе [Белл, 1999, с. 17]. Политическим последствием это274
Политические учения XX века
го является рост требований к правительству: «Требования
дополнительных услуг и неадекватность рынка для удовлет­
ворения потребностей людей в нормальной окружающей сре­
де, равно как в лучшем здравоохранении и образования, ведут
к развитию [функций] правительства...» [Белл, 1999, с. 172].
Определенный вклад в развитие концепции постиндустри­
ального общества сделал американский футуролог Элвин Тоффлер (1928-2016). В книге «Третья волна» (1980) он выделил
три последовательно сменяющих друг друга цивилизации:
аграрную, индустриальную и постиндустриальную. Послед­
няя характеризуется кризисом всех систем индустриально­
го общества: национального государства, экономической и
финансовой систем, политических институтов и ценностей.
Изменяется и содержание демократического правления, ко­
торое основывается на следующих принципах: власть мень­
шинств, полупрямая демократия, разделение решений, рас­
ширение элит и др. В работе «Метаморфозы власти» (2003)
Э. Тоффлер обращает внимание на «смещение власти» на всех
уровнях. Определяющим фактором функционирования вла­
сти становится знание, которое приходит на смену физиче­
ской силе и богатству - двум другим источникам власти, до­
минировавшим соответственно в аграрном и индустриальном
обществах.
Концепции нового мирового порядка. С окончанием хо­
лодной войны перед политической теорией встала задача ос­
мысления последствий противостояния двух сверхдержав,
перспектив складывающегося мирового порядка и будуще­
го всего человечества. В 1989 г. в консервативном журнале
«The National Interest» американский философ и политолог
японского происхождения Фрэнсис Фукуяма (род. 1952), опу­
бликовал нашумевшее эссе «Конец истории?», в котором обо­
сновывал следующий тезис: с окончанием холодной войны,
дискредитацией коммунистической идеологии и универса­
лизацией западной либеральной демократии и капитализма
достигнута финальная точка идеологической эволюции чело­
вечества. Это означает окончание идеологической борьбы по
275
Раздел IV
вопросам лучшей организации правительства в человеческих
сообществах.
Иная позиция представлена американскими политолога­
ми Сэмюэлом Хантингтоном (1927-2008) и Збигневом Бже­
зинским (1928-2017). В работе «Столкновение цивилизаций
и преобразование мирового порядка» (1996) С. Хантингтон
прямо называет взгляды Ф. Фукуямы «иллюзиями гармо­
нии», порожденными эйфорией окончания холодной войны
[Хантингтон, 2007, с. 30]. Как полагает С. Хантингтон, в бу­
дущем мире основным источником конфликтов будет уже не
идеология или экономика, а культура: наиболее значимые
глобальные конфликты будут разворачиваться между ци­
вилизациями. Он выделил восемь цивилизаций: западную,
исламскую, индуистскую, конфуцианскую, японскую, лати­
ноамериканскую, православную и африканскую. Возникаю­
щему мировому порядку, в основе которого лежат цивилиза­
ционные идентичности, угрожают глобальные конфликты за­
падной цивилизации с исламом и Китаем, а также локальные
конфликты между мусульманами и немусульманами.
3. Бжезинский в ряде работ, из которых самой известной
является «Великая шахматная доска (Господство Америки
и его геостратегические императивы)» (1997), продолжает
традицию геополитических исследований Фридриха Ратцеля (1844-1904), Альфреда Тайера Мэхена (1840-1914),
Юхана Рудольфа Челлена (1864-1922), Карла Хаусхофера
(1869-1946), Хэлфорда Джона Маккиндера (1861-1947) и др.
В этой книге сформулированы принципы глобальной гегемо­
нии США в условиях однополярного мира. Согласно 3. Бже­
зинскому, США занимают доминирующие позиции в четырех
ключевых областях мировой власти: военной, экономической,
технологической и культурной [Бжезинский, 1998, с. 37].- Но
для того, чтобы реализовать претензии на глобальное первен­
ство, США нужно получить контроль над Евразией. Имен­
но Евразию 3. Бжезинский называет «шахматной доской»,
на которой разворачивается борьба за глобальное господство:
«Все потенциальные политические и/или экономические
276
Политические учения XX века
вызовы американскому преобладанию исходят из Евразии»
[Бжезинский, 1998, с. 45]. На этой основе должна строиться
евразийская геостратегия для США в ближайшей перспекти­
ве: сохранение глобальной гегемонии.
Концепции «конца истории», «столкновения цивилиза­
ций» и «однополярного мирового порядка» обсуждались
вплоть до конца 90-х гг. XX века. Одной из важнейших работ,
написанных в ответ С. Хантингтону, стала книга «От импе­
рии к сообществу: новый подход к международным отноше­
ниям» (2004) американского представителя коммунитаризма
Амитая Этциони (род. 1929). А. Этциони выступил против
доктрины Realpolitik в международных отношениях, которой
следуют С. Хантингтон, 3. Бжезинский и др., в пользу этиче­
ских начал в данной сфере. Он стремится разработать модель
справедливого глобального сообщества, в котором уравнове­
шены автономия личности и нормативный социальный кон­
троль. «Новой тенденцией» в глобальном масштабе, согласно
А. Этциони, является не фатальное противостояние цивили­
заций, но «синтез стержневых ценностей Востока и Запада»
[Этциони, 2004, с. 43], т. е. синтез западных индивидуаль­
ных ценностей с восточными ценностями социальных обяза­
тельств: «...происходящие сейчас в международном масштабе
моральные диалоги ведут к формированию ряда глобальных
норм и ценностей, а также к зарождению общей политиче­
ской культуры... Этот процесс... создает базу для образования
нового сообщества» [там же, с. 268]. В результате постепенно
формируются новые, глобальные формы гражданского обще­
ства и системы власти, что в итоге позволяет достичь нрав­
ственного консенсуса на транснациональном уровне и создать
«всемирное сообщество сообществ» [там же, с. 263].
Образцы тестовых заданий
Система оценки: группа «А» - 1 балл за тест, группа «В» —
2 балла за тест, группа «С» - 3 балла за тест.
277
Раздел IV
Al. «Консервативной революцией» называют:
1) «Пивной путч» в Мюнхене 9 ноября 1923 г.;
2) политические и экономические реформы в Великобрита­
нии, проведенные М. Тэтчер в 80-х гг. XX в.;
3) политико-идеологическое течение, возникшее в 19181919 гг. в Веймарской Германии и сочетавшее консерватив­
ные идеи с социалистическими;
4) движение «новых правых», возникшее в 70-х гг. XX в.
А2. Одним из ключевых требований «новых правых» стал
тезис:
1) о необходимости реализации социальной справедливо­
сти, защите наименее преуспевших слоев населения;
2) о неделимости экономической и политической свободы,
минимизации вмешательства государства в экономическую
сферу;
3) о взаимозависимости различных сфер общества, важно­
сти преодоления классовых конфликтов;
4) о тотальной критике буржуазной культуры и идеологии,
необходимости преодоления отчуждения и овеществления.
АЗ. Одной из базовых характеристик социального либера­
лизма является:
1) пересмотр принципов индивидуальной свободы и кон­
куренции в пользу понятий солидарности, сотрудничества и
взаимопомощи;
2) требование невмешательства государства в экономиче­
ские процессы;
3) постулирование абсолютного права собственности на свое
тело и продукты своего труда;
4) борьба за равноправие женщин и мужчин.
А4. Одним из базовых тезисов коммунитаризма является:
1) приоритет ценностей сообщества над либеральным инди­
видуализмом ;
2) проблема сохранения природных ресурсов для будущих
поколений;
3) позитивная дискриминация по половому, расовому, эт­
ническому признакам;
278
Политические учения XX века
4) приоритет демократических ценностей над республикан­
скими.
А5. К политическим мыслителям, оказавшим формирую­
щее влияние на «западный марксизм», обычно относят:
1) Л. фон Мизеса и Ф. фон Хайека;
2) М. Барреса и Ш. Морраса;
3) Л. Т. Хобхауса и Дж. А. Гобсона;
4) Д. Лукача и А. Грамши.
В1. Впишите недостающий термин: «Политическая фило­
софия, обосновывающая принципы общественного устройства
исключительным правом собственности человека на свое тело
и продукты своего труда, называется__________________ ».
В2. Принцип, согласно которому любая форма социальной
организации неизбежно вырождается во власть немногих из­
бранных, получил название_________________________ .
ВЗ. Последовательную смену элит в процессе борьбы за
власть В. Парето назвал_____________________________ .
В4. Согласно классификации М. Дюверже, политические
партии делятся на_______________ и________________ .
В5. Согласно Кейт Миллет, институт, где одна половина
населения (женщины) контролируется другой половиной на­
селения (мужчинами), называется_____________________ .
С1. Перечислите ключевые идеи либертарианства:_______ .
С2. Назовите основные признаки постиндустриального об­
щества в концепции Д. Белла:_______________________ .
СЗ. Назовите две тенденции в динамике «правящего клас­
са», выделенные Г. Моской:__________________________ .
С4. «Делиберативная демократия», согласно Ю. Хаберма­
су, - это_________________________________________ .
С5. Дайте определение понятия «гегемония» А. Грамши:_ .
Ключ к тесту
Номер теста
Правильный ответ
А1
А2
3
2
279
Раздел IV
АЗ
А4
А5
В1
В2
ВЗ
В4
В5
С1
С2
СЗ
1
1
4
Либертарианство
Железный закон олигархии
Циркуляция элит
Кадровые и массовые
Патриархат
Исключительное право собственности человека на
свое тело и продукты своего труда
Переход от производства товаров к экономике
услуг; непрерывное воздействие на окружающую
среду; повсеместное распространение интеллекту­
альных технологий; рост значимости технократии
в общественной иерархии
Аристократическая, демократическая
С4
Совокупность институтов, обеспечивающих всеоб­
щую и публичную коммуникацию с целью дости­
жения разумных результатов
С5
Господство, основанное не только на насилии и
принуждении, но и на активном согласии подчи­
ненных групп, признающих культурно-идеологи­
ческое лидерство господствующего класса
Темы эссе и рефератов
1. Социальный либерализм и дискуссии о государстве все­
общего благосостояния.
2. Современные теории элит.
3. Теории демократии XX в.
4. Спор между либералами и коммунитаристами.
5. Либертарианство: основные идеи и фигуры XX в.
6. Европейский марксизм в XX в.
7. «Консервативная революция» в Германии.
8. «Новые правые» и неоконсерватизм.
9. Фашизм и национал-социализм.
280
Политические учения XX века
10. Теории тоталитаризма.
11. Политические идеи феминизма XX в.
12. Политическая философия анархизма в XX в.
13. Экологическое движение: идеи и основные представи­
тели.
14. Теории политики в постиндустриальном обществе.
15. Концепции нового мирового порядка.
Литература
1. Арендт X. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996.
2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт
социального прогнозирования. М.: Академия, 1999.
3. Бжезинский 3. Великая шахматная доска (Господство
Америки и его геостратегические императивы). М.: Междуна­
родные отношения, 1998.
4. Бовуар С. де. Второй пол: в 2 т. М.: Прогресс; СПб.: Алетейя, 1997.
5. Букчин М. Реконструкция общества: на пути к зеленому
будущему. Нижний Новгород: Третий путь, 1996.
6. Вебер М. Политические работы (1895-1919). М.: Праксис, 2003.
7. Грамши А. Тюремные тетради: в 3 ч. М.: Политиздат,
1991. Ч. 1.
8. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М.: ACT:
Транзиткнига; СПб.: Terra Fantastica, 2004.
9. Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция. М.: Изд. дом
ГУ-ВШЭ, 2010.
10. Дьюи Дж. Либерализм и социальное действие // О свобо­
де. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX ве­
ка). М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 331-384.
11. Дюверже М. Политические партии. М.: Академический
Проект, 2000.
12. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и де­
нег. М.: Прогресс, 1978.
13. Кейнс Дж. М. Я - либерал? // О свободе. Антология
281
Раздел IV
мировой либеральной мысли (I половина XX века). М.: Про­
гресс-Традиция, 2000. С. 295-304.
14. Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования
по марксистской диалектике. М.: Логос-Альтера, 2003.
15. Макинтайр А. После добродетели: исследования тео­
рии морали. М.: Академический проект; Екатеринбург: Дело­
вая книга, 2000.
16. Маркузе Г. Одномерный человек. М.: REFL-book, 1994.
17. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Киев: Port-Royal,
1995.
18. Мизес Л. фон. Социализм. Экономический и социоло­
гический анализ. М.: Catallaxy, 1994.
19. Миллет К. Сексуальная политика (главы из книги) //
Вопросы философии. 1994. № 9. С. 148-172.
20. Никит Э. Политические сочинения. СПб.: Владимир
Даль, 2011.
21. Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: Мысль,
2010.
22. Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН,
2008.
23. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс: сб. М.: ACT, 2002.
24. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во
Новосиб. ун-та, 1995.
25. Современный либерализм: Ролз, Берлин, Дворкин,
Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон. М.: Дом интеллектуаль­
ной книги, 1998.
26. Сорель Ж. Размышления о насилии. М.: Фаланстер,
2013.
27. Фридан Б. Загадка женственности. М.: Прогресс-Лите­
ра, 1994.
28. Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политиче­
ской теории. СПб.: Наука, 2001.
29. Хайек Ф.А. фон. Дорога к рабству. М.: Новое издатель­
ство, 2005.
30. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ACT:
Митгард, 2007.
282
Политические учения XX века
31. Гобхаус Л. Т. Либерализм // О свободе. Антология ми­
ровой либеральной мысли (I половина XX века). М.: Про­
гресс-Традиция, 2000. С. 83-182.
32. Шмитт К. Политическая теология: сб. Μ.: КАНОНпресс-Ц, 2000.
33. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия.
М.: Экономика, 1995.
34. Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М.: Праксис,
2002.
35. Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к
международным отношениям. М.: Ладомир, 2004.
36. Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. Тотальная
мобилизация. О боли. СПб.: Наука, 2000.
37. The Cambridge History of Twentieth-Century Political
Thought / Ed. by T. Ball. Cambridge: Cambridge University
Press, 2005.
38. 21st Century Political Science: A Reference Handbook /
Ed. by J. T. Ishiyama, M. Breuning. Los Angeles: SAGE
Publications, Inc., 2011.
39. The Encyclopedia of Political Science: in 5 vols. / Ed. by
G. T. Kurian. Washington: CQ Press, 2011.
Глава 9. Советская и русская политическая мысль XX века
Для человека, только начинающего изучать историю поли­
тической мысли, может показаться странным сочетание таких
понятий, как «советская политическая мысль» и «русская по­
литическая мысль» в XX столетии. Но тот, кто знает историю
о «философском пароходе», на котором в 1922 г., в период
НЭПа*, по приказу В. И. Ленина в ходе борьбы с инакомыс­
лием были высланы за границу более 160 философов и поли­
тических деятелей России, понимает о чем идет речь: одной
из главных особенностей советского режима было отрицание
самой возможности оппозиционности и инакомыслия не толь­
ко в политике, но и в политической теории. На инакомыслии
лежала печать контрреволюционности, что расценивалось как
283
Раздел IV
угроза политическому режиму. В период НЭПа такая мера
ответственности, как расстрел, была заменена на высылку, и
значительная часть российской интеллигенции оказалась за
границей, где и продолжала свою творческую деятельность.
Многие из эмигрантов стали на Западе известными и признан­
ными политическими философами. Лишь в 90-х гг. прошлого
века нам стали известны их произведения.
Между тем эмигрантская мысль оставалась русской мыс­
лью как по форме, так и по содержанию: многие труды изда­
вались на русском языке; их предметом была историческая
судьба России, ее государственность, место и роль в мире,
перспективы политического развития; эти проблемы изуча­
лись в рамках тех парадигм русской политической мысли,
которые были сформированы в дореволюционный период ее
истории. Поэтому, говоря о политической мысли нашей стра­
ны этого периода, следует вести речь не только о советской
политической мысли, но и о политических учениях русского
зарубежья.
Политические учения русского зарубежья характеризуют ­
ся разнообразием и пестротой, что объясняется отсутствием
у их представителей единой методологической и интеллекту­
альной платформы, неопределенностью социального статуса
и ориентацией на научные и философские традиции, выра­
ботанные еще в царской России. В их числе: консерватизм,
либерализм, радикализм и др. Существенную роль в этих уче­
ниях играет идея монархической государственности, идеи ев­
разийства и др.
В отличие от русского зарубежья, советская политическая
мысль была лишена внутренних источников развития в виде
столкновения и борьбы идей. Советская политическая наука
формировалась на основе безальтернативности официальной
политической идеологии, а ее идеологическая функция рас­
сматривалась в качестве основной и определяющей, в ущерб
познавательной и прогностической. В итоге советская поли­
тическая мысль полностью сливалась с государственной иде­
ологией, а догматизм стал основным методологическим прин284
Политические учения XX века
ципом анализа политических процессов. Лишь в 1960-х гг.
советские политические теоретики получили возможность об­
щения с зарубежными коллегами. Это значительно обогатило
политическую мысль страны. В научный оборот был введен
целый ряд новых понятий и категорий, что расширило ме­
тодологию и углубило предмет отечественной политической
науки.
Но главные изменения происходят в 1980-х гг. - в пери­
од перестройки и либерализации государственной политики.
Демократические преобразования, возникновение новых об­
щественных отношений делают очевидной необходимость рас­
ширения политического знания и его методологии. Проблемы
открытого общества, политического процесса, демократиза­
ции политических отношений, правового социалистического
государства становятся приоритетными, а политическая на­
ука осознает необходимость отказа от безальтернативности
классового подхода в анализе политики. Именно в это время
теоретические журналы и другие издательства начинают из­
давать работы русского зарубежья, которые уже рассматрива­
ются как часть отечественной политической мысли.
Итак, в настоящем разделе мы рассмотрим наиболее важ­
ные учения советской политической мысли, а также содержа­
ние основных политических учений русского зарубежья.
9.1. Советская политическая мысль
Советская политическая мысль охватывает период с Ок­
тябрьской революции 1917 г. до времени распада СССР в на­
чале 90-х годов XX в. В данном параграфе мы сосредоточим­
ся на политических идеях В. И. Ленина, Н. И. Бухарина,
Л. Д. Троцкого, И. В. Сталина, Ю. В. Андропова, М. С. Горба­
чева, на некоторых идеях политологов 1980-х гг. и др.
Политические идеи Владимира Ильича Ленина (Ульянова)
(1870-1924) стали основой советской политической доктри­
ны. В таких работах, как «Империализм как высшая стадия
капитализма» (1916), «Государство и революция» (1917), «Ве285
Раздел IV
ликий почин» (1919), «Детская болезнь “левизны” в комму­
низме» (1920) и др., он сформулировал идеи, сыгравшие роль
как в практике революции и государственного строительства,
так и в формировании политической идеологии ленинизма.
Основополагающее значение имели идеи исторической неиз­
бежности социальной революции на стадии империализма
как высшей стадии развития капиталистического общества,
в силу целого ряда объективных причин рассматриваемой им
как преддверие социалистической революции, разрешающей
противоречия, связанные с экономическим, социальным и
политическим развитием. Прикладное значение для России
имела идея о возможности прорыва цепи империализма в
его слабом звене, которым она и являлась в силу отсталости
экономической и социальной сфер жизни общества. Не менее
важно исследование Лениным диалектики объективных усло­
вий и субъективного фактора в социалистической революции,
необходимости создания пролетарской партии нового типа
и ее исторической миссии, борьбы с буржуазной и реформист­
ской идеологией как условия победы социалистической рево­
люции.
Особое же значение имело учение о государстве, в рамках
которого Ленин обосновывал необходимость слома буржуазной
государственной машины и установления диктатуры пролета­
риата, сущность которой рассматривалась как ничем не огра­
ниченная его власть, опирающаяся на революционное насилие.
Важно то, что Ленин рассматривал это на уровне закономерно­
сти функционирования и развития советской власти, которая
является не чем иным, как формой диктатуры пролетариата.
Большинство из указанных идей было обосновано Лени­
ным еще в дореволюционные годы. Однако Октябрьская ре­
волюция и дальнейшее строительство государства «нового
типа» показали их востребованность и безальтернативность в
политической практике. Поэтому они и сыграли такую боль­
шую роль в советской политической мысли. Так, очевидно их
влияние на учения не только Н. Бухарина и И. Сталина, но и
Л. Троцкого.
286
Политические учения XX века
Николай Иванович Бухарин (1888-1938) был талантливым
экономистом, которого весьма ценил В. И. Ленин. В числе его
основных работ следует назвать «Мировое хозяйство и импе­
риализм» (1915), «Экономику переходного периода» (1920),
«Теорию исторического материализма» (1921), «Учение Марк­
са и его историческое значение» (1933).
Как правоверный ленинец, Бухарин абсолютизирует роль
классовости в государстве и праве, которые, по его убежде­
нию, являются продуктом классов и их антагонистического
противостояния. Соответственно, он превозносит и роль наси­
лия в истории, где государственная власть всегда выступала
как организованное насилие одного класса над другим. Отсюда
и другой важный тезис его учения: всякое государство по своей
природе является диктатурой. Поэтому буржуазная демокра­
тия есть не что иное, как завуалированная форма диктатуры,
поскольку формально-юридическое равенство в буржуазном
обществе оборачивается фикцией, так как нереализуемо при
реальном экономическом неравенстве. Указанные обстоятель­
ства объясняют отношение Бухарина к диктатуре пролетари­
ата как к квинтэссенции марксистского учения — «евангелию
современного пролетарского движения». Диктатура пролета­
риата - это война, которую рабочий класс, во главе с партией,
объявил всем своим врагам.
По мысли Бухарина, диктатура пролетариата решает две
основные задачи, первая из которых состоит в выкорчевы­
вании частнособственнических отношений, уничтожении бур­
жуазного государства и подавлении классовых врагов проле­
тариата, а вторая - в осуществлении принуждения. При этом
«государственное принуждение при пролетарской диктатуре
есть метод строительства коммунистического общества» [Бу­
харин, 1990, с. 167], поскольку «пролетарское принуждение
во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая тру­
довой повинностью, является, как парадоксально это ни зву­
чит, методом выработки коммунистического человечества из
человеческого материала капиталистической эпохи» [там же,
с. 198]. Дело в том, что переход от капитализма к комму287
Раздел IV
низму занимает достаточно длительное время, в ходе кото­
рого обобществленные средства производства используются
для строительства нового общества, а диктатура пролетари­
ата выступает одновременно пролетарской демократией: ведь
в условиях своего «единодержавия» пролетарский класс для
себя и внутри себя может реально обеспечить демократиче­
ские порядки. Для экономической сферы это означает, что хо­
зяйствующим субъектом является не все общество, а рабочий
класс, точнее - пролетарское государство. Такое государство,
по сути дела, трансформирует экономические отношения в по­
литические, подчиняя их политическим факторам.
Лев Давидович Троцкий (Бронштейн) (1879-1940) занима­
ет особое положение в среде политических теоретиков совет­
ского режима по причине оппозиционности многих его идей
воззрениям последователей В. И. Ленина. Это касается как
понимания классовости государства, диктатуры пролетари­
ата, так и форм и методов строительства пролетарского го­
сударства. В качестве главной канвы мысли Троцкого, при­
ведшей к идейной конфронтации со Сталиным, может быть
названа его оценка состояния современного ему сталинского
государства, которое он рассматривал в работах «Преданная
революция» (1936), «Переходная программа» (1938) и др. как
«режим переродившегося рабочего государства». По мысли
Троцкого, советское государство обременено существенным
пороком, а именно: классовая борьба в нем идет между «ста­
линской бюрократией» и рабочим классом.
Троцкий понимает, что бюрократия неизбежно сопутствует
любому государству, являясь его атрибутом. Но он обращает
внимание на то, что советская бюрократия не просто социаль­
но обособлена, но и политически преферентна, а ее интере­
сы прямо противоположны интересам рабочего класса. Про­
летарская диктатура, таким образом, трансформировалась
в диктатуру сталинской бюрократии, и в конечном итоге со­
ветская бюрократия свергнет режим пролетарской диктату­
ры, что будет означать перерождение пролетарского государ­
ства в буржуазное.
288
Политические учения XX века
Из теоретических взглядов Троцкого следует выделить его
теорию перманентной революции, которую он разрабатывал
с 1905 г. По его мнению, завоевание власти не является за­
вершением революции, но только ее началом. Так, социали­
стическое строительство возможно лишь на основе классовой
борьбы, и не только в национальном, но и в международном
масштабе. Такая борьба объективно ведет как к граждан­
ской, так и к международной революционной войне. На этой
основе Троцкий и делает вывод о перманентном характере ре­
волюции. При этом он настаивает, что такой ее характер не
зависит от того, в какой именно стране революция возникает,
в отсталой или в развитой, прошедшей через долгую эпоху
демократии и парламентаризма.
Одним из важнейших элементов этой теории выступает
идея комбинированного развития. По мнению Троцкого, ре­
волюция в крестьянских странах, таких как Россия, лишь го­
товит почву для развития капитализма, а социализм является
далекой перспективой. Развитые же страны после революции
непосредственно переходят к социализму. Но в том-то и за­
ключается смысл его теории перманентной революции, что
революция в России станет началом всеобщей революционной
войны и после ее успешного завершения Россия сможет в ми­
ровом социалистическом пространстве перейти к социалисти­
ческому развитию.
После смерти В. И. Ленина Иосиф Виссарионович Сталин
(Джугашвили) (1879-1953) стал главным хранителем лени­
низма и теоретиком марксизма. Эта роль главного ленинца
ему вполне удалась, и нужно сказать, что во многом именно
благодаря Сталину советская политическая мысль обрела то
содержание и направление развития, которые и создали ее
феномен.
Основные свои политические идеи Сталин высказал в та­
ких работах, как «Об основах ленинизма» (1924), «К вопро­
сам ленинизма» (1926), «О проекте Конституции Союза ССР»
(1936), «Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе
ЦК ВКП(б)» (1939). В этих и других своих работах Сталин
289
Раздел IV
обосновывает статус и функции коммунистической партии в
эпоху диктатуры пролетариата, которая должна монопольно
обладать всей полнотой власти, исключать внутреннюю фрак­
ционность и оппозиции; формулирует идеи об обострении
классовой борьбы по мере строительства социализма, о воз­
можности строительства социализма в одной отдельно взятой
стране. Большое значение для советской политической док­
трины имели положения о военных и идеологических угрозах
со стороны капиталистических стран, неизбежности военного
противостояния СССР с империализмом. Очевидно, что та­
кие идеи, как идея необходимости ускоренной модернизации
с опорой на собственные интеллектуальные и материальные
ресурсы, а также разработки модели строительства социализ­
ма на основе плановой экономики, стали основополагающими
для советской экономической политики.
Концепт диктатуры пролетариата рассматривается Стали­
ным в трех основных аспектах. Прежде всего, «диктатура
пролетариата есть не ограниченное законом и опирающееся
на насилие господство пролетариата над буржуазией, поль­
зующееся сочувствием и поддержкой трудящихся и эксплу­
атируемых масс» [Сталин, 1947, с. 114]. В организационном
аспекте диктатура пролетариата представляет собой «специ­
альный орган» как основную опору в реализации намеченных
целей. Этот орган не что иное, как пролетарское государство,
которое возникает «на развалинах старого государства, госу­
дарства буржуазии» [там же, с. 113].
Другой аспект диктатуры пролетариата - социальный,
представляющий собой союз рабочего класса и крестьянства,
третий - хронологический, как исторический переход от ка­
питализма к коммунизму.
Государство Сталин рассматривает как машину «в руках
господствующего класса для подавления сопротивления сво­
их классовых противников». В соответствии с таким пони­
манием выделяются и основные его функции: «Две основные
функции характеризуют деятельность государства: внутрен­
няя (главная) - держать эксплуатируемое большинство в узде
290
Политические учения XX века
и внешняя (неглавная) — расширять территорию своего, го­
сподствующего класса за счет территории других государств
или защищать территорию своего государства от нападений
со стороны других государств» [Сталин, 1997, с. 334].
Социалистическое государство - это новый тип государ­
ства, культивирующий и новый тип демократии - пролетар­
ской, которая, в отличие от буржуазной, привлекает широкие
трудящиеся массы к управлению. Таким образом, согласно
Сталину, демократия не предполагает реализацию всей пол­
ноты гражданских, социально-экономических, культурных,
политических и иных прав отдельного индивида, личности,
являющейся их носителем. Демократия ориентирована не на
человека, а на массы, в которых права человека теряются,
становятся малозначимыми, поскольку социалистическая де­
мократия - это оборотная сторона диктатуры пролетариата.
Особую роль Сталин отводил обоснованию положения о ру­
ководящей роли большевистской партии. Подводя теоретиче­
скую основу под это положение, в одной из своих работ он
пишет: «...руководителем в системе диктатуры пролетариа­
та является одна партия, партия пролетариата, партия ком­
мунистов, которая не делит и не может делить руководства
с другими партиями» [Сталин, 1948, с. 27]. Нужно сказать,
что это положение было реализовано полностью. Так, Кон­
ституция СССР 1936 г. включила норму о руководящей и на­
правляющей роли партии. Она содержится и в Конституции
1977 г. (ст. 6). Лишь в Конституции СССР 1989 г. эта норма
отсутствует.
Как справедливо отмечает В. С. Нерсесянц, «с включени­
ем такой записи в Основной Закон страны можно считать,
что Сталин в общем завершил создание в рамках ленинизма
идеологии тоталитарной политической системы. Его сужде­
ния о фазах развития и функциях советского государства, о
национально-государственном устройстве Советского Союза,
об отмирании социалистического государства (через укре­
пление карательных органов последнего) и некоторые дру­
гие принципиально ничего не меняют в этой идеологии. Она
291
Раздел IV
явилась закономерным результатом эволюции большевист­
ской политической мысли» [История политических..., 2004,
с. 835].
В 1980-х гг. необходимость преобразований на фоне углу­
бляющегося экономического кризиса стала предпосылкой
развития политической мысли на основе отказа от многих
догматов марксистско-ленинского политического учения.
Широкий общественный резонанс получила статья Юрия Вла­
димировича Андропова (1914-1984) «Учение Карла Маркса и
некоторые вопросы социалистического строительства в СССР»
(1983), так же как и книга Михаила Сергеевича Горбачева
(род. 1931) «Перестройка и новое мышление для нашей стра­
ны и для всего мира» (1987), уже на следующий день после
выхода в свет ставшая бестселлером. Ю. В. Андропов в своей
статье поставил вопросы: «Что же такое социализм?», «Что
представляет собой общество, в котором мы живем?». Гене­
ральный секретарь ЦК КПСС констатировал необходимость
рассматривать социалистическое общество не на основе закос­
невших догм, а в реальной динамике, в контексте всех его
противоречий и проблем развития. По сути дела, речь шла об
официальном признании кризисного состояния общества и не­
обходимости поиска путей выхода из него. Андропов намечает
программу выхода из кризиса, пути модернизации. Но модель
модернизации, предложенная сначала М. С. Горбачевым, а за­
тем и Б. Н. Ельциным, существенно отличалась от модели
Ю. В. Андропова. В указанной выше книге М. С. Горбаче­
ва были изложены либеральные принципы «перестройки» и
нового мышления в СССР, рассмотрены вопросы демократи­
зации советского общества и международных отношений. Ли­
беральный подход, сформулированный М. С. Горбачевым, во
многом определил дальнейшее развитие советской политиче­
ской мысли вплоть до распада СССР.
Очевидно, что сложившаяся к середине 1980-х гг. офи­
циальная политическая доктрина, во многом основанная на
либеральных ценностях и трансформирующая социалистиче­
скую идею, которой теперь не была чужда и идея правового
292
Политические учения XX века
государства, имела источник не только в социально-экономи­
ческих проблемах, кризисном состоянии общества тех лет,
что делало очевидной необходимость экономической и поли­
тической модернизации, но и в инакомыслии как альтернати­
ве официальной идеологии, за несколько десятилетий превра­
тившемся в достаточно устойчивую традицию неофициальной
политической мысли Советского Союза. Эта по своей сути
диссидентская мысль эволюционировала разными путями,
находя выражение как в художественном, публицистическом
творчестве самиздата, так и в некоторых научных доктринах
гуманитарного знания. Последнее связано с попытками прео­
доления догматизма крайне идеологизированных гуманитар­
ных наук, с определением объективной основы их предмета
и методологии, итогом чего может быть названа иная парадиг­
ма общества, закономерностей его развития, где классовый
подход либо не имеет значения, либо уходит на периферию
методологии. В художественном же творчестве доминирова­
ло нравственное истолкование проблемы свободы, пронизы­
вая всю диссидентскую литературу чувством боли за народ,
страдающий под прессом машины советского тоталитаризма.
Как справедливо отмечает Б. М. Фирсов, в 1980-х гг. прои­
зошли «тектонические сдвиги в мировоззрении советских лю­
дей в эпилоге советской истории. Смена вех всегда надежно
указывает на изменение направления вектора общественного
сознания, его своеобразную “контрэволюцию", которая неиз­
бежно ведет к коллапсу социальной системы и, как следствие,
резкому изменению курса развития. Советский Союз здесь не
составил исключения» [Фирсов, 2008, с. 6].
Начало этому процессу было положено осуждением куль­
та личности Сталина на XX съезде КПСС, которое породило
ожидание реформ общественной и политической системы. Это
брожение умов, начавшееся в 1960-х гг., в период гласности и
перестройки получило новые масштабы, когда «заряд, зало­
женный в 60-е гг., рванул в 80-е. Хотя этого, вероятно, никто
не ожидал» [Российская социологическая традиция..., 1994,
с. 33]. Какие же именно идеи породил этот длительный пе293
Раздел IV
риод и как они повлияли на новую политическую доктрину,
ставшую провозвестницей коренных социально-политических
преобразований?
Прежде всего, необходимо отметить значение националь­
ных, религиозных движений в советских республиках, в ходе
которых происходил генезис важнейших доктринальных
представлений о взаимодействии государства и гражданского
общества, принципах федерализма, правах и свободах челове­
ка как основных ценностях в системе политической аксиоло­
гии. Значительный импульс они получили со времени приня­
тия Хельсинкских соглашений и образования Хельсинкских
групп во многих республиках СССР, когда идейное противо­
стояние с властью не только стало организационно легально,
но, что особенно важно, обрело четкую доктринально-полити­
ческую основу.
Национально-демократические, националистические, со­
циал-демократические идеологии в Советском Союзе в период
1960-1980-х гг. причудливо сочетались с идеологиями соци­
алистического толка, консолидировавшись на основе призна­
ния сложившегося в стране политического строя искажением
социалистической идеи. Несмотря на их пестроту и идейную
разобщенность, они объединялись под знаком правозащитно­
го движения, которое как таковое не имело организационного
оформления. Как утверждает Л. М. Алексеева, днем рожде­
ния правозащитного движения можно считать 5 декабря
1965 г., когда в Москве на Пушкинской площади состоялась
первая демонстрация под правозащитными лозунгами [Алек­
сеева, 1992]. Строки Осипа Мандельштама вполне могут стать
основным лозунгом этого движения, выражающим как его
эмоциональную, так и идейную составляющую: «Мы живем,
под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слыш­
ны».
Среди наиболее значимых представителей правозащитно­
го движения следует назвать Андрея Дмитриевича Сахарова
(1921-1989). В 1968 г. А. Сахаров пишет работу «Размыш­
ления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллекту294
Политические учения XX века
альной свободе», в которой на основе либеральных ценностей
дает интерпретацию наиболее существенных прав и свобод
человека, их реализации в политической системе. «Размыш­
ления...» были пронизаны убеждением, что в нынешний век
ни одна страна не может решить своих проблем в отрыве от
общечеловеческих. С другой стороны, по мнению Сахарова,
такие проблемы, как сохранение мира и процветание челове­
чества на нашей планете, могут быть решены лишь общими
усилиями всех стран. Важнейшим условием устойчивого раз­
вития является интеллектуальная свобода - тоже необходи­
мая в масштабах всего мира. Сахаров верил в возможность
демократических преобразований в СССР в ближайшие годы
и охарактеризовал свои взгляды как «глубоко социалисти­
ческие». Однако желаемым направлением мирового разви­
тия Сахаров считал не «победу коммунизма во всем мире»,
а распространенную в либеральных кругах Запада теорию
конвергенции, в основе которой лежит идея мирного сближе­
ния социализма и капитализма, слияния их в единое откры­
тое плюралистическое общество со смешанной экономикой.
В наиболее концентрированном виде эти идеи Сахаров вы­
разил в 1975 г. в своей Нобелевской лекции, которую он на­
звал «Мир, прогресс, права человека»: «Мир, прогресс, права
человека - эти три цели неразрывно связаны, нельзя достиг­
нуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими... между­
народное доверие, взаимопонимание, разоружение и между­
народная безопасность немыслимы без открытости общества,
свободы информации, свободы убеждений, гласности, свободы
поездок и выбора страны проживания... свобода убеждений,
наряду с другими гражданскими свободами, является основой
научно-технического прогресса и гарантией от использования
его достижений во вред человечеству, тем самым - основой
экономического и социального прогресса, а также является
политической гарантией возможности эффективной защиты
социальных прав» [Сахаров, 1976, с. 43].
Другим важным направлением политической мысли тех
лет является неославянофилъство (почвенничество), пред295
Раздел IV
ставленное Александром Исаевичем Солженицыным (19182008). Оно исходит из идеи уникальности российского куль­
турного опыта и быта, неповторимости исторического пути
развития, рассматривая советский режим как противореча­
щий традиционным российским ценностям. В сентябре 1973 г.
А. Солженицын написал свое «Письмо вождям Советского Со­
юза» и тогда же отправил его адресатам. Оно сразу же стало
программным для складывавшегося в то время русского на­
ционально-религиозного направления. В этом произведении
Солженицын пишет, что, может быть, наша страна не дозрела
до демократического строя и что авторитарный строй в усло­
виях законности и православия был не так уж плох, раз Рос­
сия сохранила при этом строе национальное здоровье вплоть
до XX в.
Между тем именно социалистическое мировидение долгие
годы оставалось доминирующим в советском инакомыслии.
Диссидентский социализм не был един. Одним из авторитет­
ных направлений этого течения было партийно-демократи­
ческое, представленное Роем Александровичем Медведевым
(род. 1925). По его мнению, это течение близко позиции
итальянской, испанской, австралийской и некоторых дру­
гих коммунистических партий. Партийно-демократическая
концепция признавала «правильным» ленинизм и политику
большевиков в ленинский период. В то же время он не при­
емлет сталинизм, возлагая на Сталина и его ближайшее окру­
жение вину за искажение социалистической сути советского
государства. Тем не менее Медведев признает советскую си­
стему тех лет социалистической по сути, по ее «фундаменту»,
отрицая, что СССР является обществом развитого социализ­
ма, как утверждала официальная идеология. Соответственно,
демократизация советской системы является основной пер­
спективой эволюции государства [Медведев, 1972, с. 63].
Однако Р. Медведев сводит проблему к внутрипартийной
демократии, в то время как вопросы объективной основы со­
ветского строя остаются вне поля его зрения. То есть про­
блема демократизации социалистического общества не мо296
Политические учения XX века
жет быть сведена к проблеме внутрипартийного общения, но
к закономерностям становления и функционирования социа­
листического общества, искаженным в результате сталинской
трансформации социалистических идей.
На эту сторону проблемы обращает внимание А. Зимин
(псевд.). В 1981 г. в Нью-Йорке вышла его книга «Социализм
и неосталинизм», в которой он утверждает, что советский
строй, который он называет неосталинизмом, нельзя рассма­
тривать как стихийное завершение социалистического стро­
ительства, начатого Лениным и большевистской партией по­
сле Октябрьской революции. Он есть результат сознательного
искажения ленинского замысла Сталиным. Итогом является
то, что в СССР все «пронизывается интересами и стремле­
ниями, традициями, амбициями и мифологией Российско­
го государства, унаследованными от капиталистического и
даже докапиталистического прошлого» [Зимин, 1981, с. 157],
и в нынешнем мире капитализм является демократической
альтернативой чудовищному порождению сталинизма. По
мнению Зимина, «общественный строй в СССР, ныне именую­
щий себя реальным социализмом, не только далек от подлин­
ного социализма... Этот строй... не содержит в себе объектив­
ных закономерностей и тенденций возврата на путь развития
в направлении социализма, а его политически властвующая
элита не заинтересована в таком развитии» [там же, с. 170].
Итогом такого развития является тупик, в который завела
сталинская политика, - это и не социализм, и не капитализм.
Очевидно, что официальная политическая доктрина, сфор­
мировавшаяся в середине 1990-х гг., объективно мотивиро­
ванная необходимостью коренных преобразований экономи­
ческой и политической сфер, субъективно может быть рассмо­
трена в качестве некоторого итога эволюции инакомыслия,
предлагавшего разнообразные рецепты модернизации как на
либеральной, так и на социалистической основе. Так или ина­
че, доктрина нового политического мышления является по­
пыткой эклектического соединения того и другого, где идея
реализации потенциала социализма (подлинного социализма,
297
Раздел IV
социализма «с человеческим лицом») фактически является
признанием необходимости либерализации и свободы не толь­
ко в форме гласности, но и в форме рыночной экономики.
Апофеозом такого учения является идея социалистического
правового государства [Алексеев, 1988], признающая, что
дальнейшее развитие советского общества связано с импле­
ментацией иных начал, идей, принципов и ценностей - пра­
вовых, либеральных. Поэтому предложенная Б. Н. Ельциным
либеральная политическая доктрина классического типа яв­
ляется не столько альтернативой доктрине М. С. Горбачева,
как иногда принято считать, сколько ее дальнейшим после­
довательным развитием и интерпретацией в новых историче­
ских условиях.
9.2. Русская политическая мысль в эмиграции
Если в Советской России политическое инакомыслие пре­
следовалось даже в рамках господствующей государственной
идеологии, то в русской эмиграции политическая мысль полу­
чила широкое развитие. Многие философские и политические
труды гениев русского зарубежья еще до конца не изучены.
Русская эмиграция была разобщена по политическим и иде­
ологическим убеждениям, но наибольшим влиянием пользо­
вались монархисты, которые выступали не только сторонни ­
ками православия, но и критиками либеральных и революци­
онных идей.
Бывший председатель ЦК конституционно-демократиче­
ской партии, министр иностранных дел Временного прави­
тельства Павел Николаевич Милюков (1859-1943) в россий­
ских эмигрантских кругах был человеком известным, но не
имел авторитета и считался главным виновником в сверже­
нии монархии в России. Его политические взгляды измени­
лись. Вслед за Н. В. Устряловым он констатировал, что состо­
ялся провал белого движения и вооруженной борьбы против
большевиков, но он выступал за тот режим в России, который
был после февральской революции 1917 г. Милюков отри298
Политические учения XX века
цал военную интервенцию против Советской России. В годы
войны стал патриотом Советской России и в статье «Правда
о большевизме» призывал эмиграцию поддержать Сталина
в борьбе с Гитлером.
Известной личностью в русской эмиграции был философ
Николай Александрович Бердяев (1874-1948). Начинал он
свою общественно-политическую жизнь как сторонник марк­
сизма, затем либерализма, а закончил как православный пу­
блицист и философ. Бердяев верил, что Россия в будущем
станет «великой и могущественной», а «русский народ по
духу своему и по призванию своему сверхгосударственный
и сверхнациональный» [Бердяев, 1990 (1918), с. 29]. Со­
циалистическую революцию 1917 г. Бердяев оценил нега­
тивно и в 1922 г. был выслан из Советской России. Почти
всю оставшуюся жизнь прожил в г. Кламаре под Парижем.
Н. А. Бердяев - автор многочисленных статей и книг: «Смысл
творчества», «Философия свободы», «Смысл истории», «Фи­
лософия неравенства», «Истоки и смысл русского коммуниз­
ма» и др. Он выступал за ограничение власти государства.
Современность рассматривал критически, так как видел в ней
дехристианизацию и дегуманизацию культуры. Бердяев счи­
тал революцию в России и установление коммунистического
режима продуктом кризиса.
Большой интерес вызвали работы основоположника национал-болыиевизма, бывшего кадета Николая Васильеви­
ча Устрялова (1890-1937). После 1917 г. он стал пропове­
довать идею об особом пути развития России, о ее великом
мессианском призвании. Значение учения Устрялова в том,
что он первым отграничил теорию большевизма от марксизма
и оказал существенное влияние на эволюцию сталинской
идеологии. События октября 1917 г., по мнению Устрялова,
показали, что европейский либерализм в России себя изжил
и государство может спасти только диктатура. Первоначально
он видел диктатора в лице адмирала А. В. Колчака, но после
разгрома последнего начал поиски диктатора из числа лиде­
ров правящей элиты Советской России.
299
Раздел IV
Анализируя происходящие в России события, Устрялов
пересмотрел свои политические взгляды. Он пришел к вы­
воду, что революция 1917 г. была неизбежным и закономер­
ным следствием предшествовавшего периода развития Рос­
сии. После победы большевистской революции и с началом
новой экономической политики изменились политические
взгляды многих русских эмигрантов из числа интеллиген­
ции. В ее среде возникло политическое течение сменовехов­
цев, которое объединило многих молодых русских ученых.
Это течение не было однородным. В его рамках возникли ев­
разийство, национал-большевизм и другие ветви политиче­
ской мысли. Они признавали, что с 1920-х гг. Россия начала
развиваться по особому пути, не основанному на заимство­
вании государственно-правовых институтов от стран Запада.
В большевиках Устрялов увидел силу, которая может проти­
востоять распаду страны, создать новую форму государства
великой России. Переход большевиков к НЭПу Устрялов рас­
сматривал как начало русского термидора*. Он начал сравни­
вать большевиков с французскими революционерами 90-х гг.
XVIII в.
Большевизм, по мнению Устрялова, есть типично русское
порождение и как таковое немыслимо вне русской истории.
Большевизм, по Устрялову, есть форма русского мессианства.
Устрялов был апологетом мощного государства и был уверен
в том, что только революция способна восстановить русское
великодержавие. Если советская власть будет свергнута, счи­
тал он, то Россию ждет развал, борьба политических партий за
власть, а закончится все разделом ее иностранными государ­
ствами. Устрялов понимал, что Россия должна быть сильной
в условиях капиталистического окружения. Однако методами
коммунистического хозяйствования это сделать не удалось,
и советская власть вступила в компромисс с жизнью, начала
возрождать предпринимательство, встала на путь термидора.
Устрялов допускает незначительный «дворцовый переворот»,
который устранит наиболее одиозные фигуры коммунисти­
ческого руководства руками их собственных сподвижников,
300
Политические учения XX века
если они «не приспособятся», не примут новую жизнь и но­
вую политику лидеров. Отказ Ленина от коммунистического
утопизма и переход к НЭПу яркий тому пример. Устрялов
оправдывал даже большевистский террор, считая его исто­
рической необходимостью. Белой эмиграции, по его мнению,
необходимо было принять активное участие в экономическом
возрождении России.
Устрялов являлся лидером новых сменовеховцев, которые
были глубоко разочарованы в том, что в прошлом вели борь­
бу с Россией, и в силах, осуществлявших эту борьбу (Колча­
ке, Деникине, Врангеле, буржуазном Западе, пестрой русской
эмиграции). Новые сменовеховцы испытывали глубокую то­
ску по России. Среди них наблюдался рост примиренческих
настроений к советской власти. Группу Устрялова называли
в эмигрантской прессе «национал-болыпевиками», хотя они
были чужды большевизму, а большевизм чужд им. Устряловцы - это часть русской эмигрантской интеллигенции, кото­
рая, в сущности, приняла советскую власть, признала ошибки
дореволюционной интеллигенции.
Идеология «национал-болыпевизма» привела к расколу
в рядах русской эмиграции первой волны. Устрялов стал под­
держивать советскую власть и после ее отказа от НЭПа, заяв­
ляя, что раньше он мечтал не о перерождении большевизма
в капитализм, а об установлении в России смешанной (ги­
бридной) формы «культурного государства». Это государство
характеризуется «авторитарно-этатистскими, государствен­
но-социалистическими моментами», пронизывающими всю ее
политическую структуру. Русский национал-большевик отка­
зывается от идеи перерождения революции, считает сменове­
ховство пройденным этапом. После смерти Ленина он признал
власть Сталина. Соответственно, взгляды Устрялова менялись
вместе с проводимой Сталиным политикой. И все же он ве­
рил в трансформацию диктатуры пролетариата в демократи­
ческую советскую республику, но без коммунистов.
Против заимствования Россией западноевропейских госу­
дарственно-правовых институтов, помимо национал-болыпе301
Раздел IV
виков, в 1920-х гг. выступали и евразийцы. Евразийство было
одной из ветвей более широкого движения - сменовеховства и возникло почти одновременно с ним. Русских евразийцев
часто называют консервативными революционерами. Они
предлагали третий путь развития России: не «по-красному»
и не «по-белому», а «по-евразийски». Евразийство понима­
лось ими как синтез монархии и социализма, православия
и большевизма и т. п. Евразийцы обращались к геополити­
ке, были новаторами в философии и политологии. В самом
начале 1920-х гг. евразийцами стали себя называть молодые
русские эмигранты, которые имели самые разные граждан­
ские профессии. Среди них был сын академика В. И. Вер­
надского, историк Г. В. Вернадский, географ и экономист
Π. Н. Савицкий и др. Евразийцы вели активную политиче­
скую и научную переписку с Харбином, где жил лидер смено­
веховцев Н. В. Устрялов.
Одним из глубоких мыслителей евразийского течения был
Николай Николаевич Алексеев (1879-1964). После февраль­
ской революции 1917 г. он сотрудничал с Временным пра­
вительством, участвовал в подготовке созыва Учредительного
собрания. Был с белой армией в Крыму, где немного препо­
давал в Таврическом университете Симферополя. После раз­
грома белой армии находился в эмиграции. Жил и работал
в Праге, Белграде, а с 1948 г. и до конца жизни проживал
в Женеве. Η. Н. Алексеев входил вместе с Π. Н. Савицким,
Г. В. Вернадским и др. в пражскую группу евразийцев. Он
заложил основу евразийского права, изложил свой взгляд на
идеальное государственное устройство России с евразийских
позиций. Ответ на вопрос о том, как должно строить государ­
ство, по Алексееву, зависит от того, как его строили ранее. Он
отмечал тот факт, что со времен Петра Великого высшие клас­
сы России воспитывались на западноевропейской культуре.
Но в 1917 г. был полностью разрушен старый государствен­
ный порядок. В тот момент у империи не нашлось сильных
защитников. Она возбуждала ненависть. Алексеев выступа­
ет против заимствования государственно-правовых институ302
Политические учения XX века
тов от западноевропейских стран и внедрения их в России.
Евразийское государство можно строить на основе Советской
Республики, которая реализовала в годы правления Сталина
ряд евразийских принципов.
Заслугу Ленина и Сталина Алексеев видит в том, что они
спасли Россию от эксплуатации иностранным капиталом,
не дали превратить ее в полуколонию европейских держав.
Большим делом Сталина является, по Алексееву, установле­
ние независимости советского социалистического хозяйства
от хозяйства мирового. Проблема построения социализма
в одной стране фактически привела к осуществлению эконо­
мической автаркии евразийского мира. Как все евразийцы и
национал-болыпевики, Алексеев видел, что марксизм в Рос­
сии не прижился, так как он не соответствует русской куль­
туре. Попытка построения в СССР социализма во многом не
соответствовала теории марксизма (введение НЭПа, отказ от
мировой революции и т. д.).
Но марксизм свою историческую и социальную роль в этой
стране выполнил. Когда он уйдет, писал Алексеев, останется
старая русская народническая идея построения некапитали­
стического государства. Однако этому прогнозу русского мыс­
лителя сбыться не удалось.
Новое идеальное государство видится Η. Н. Алексееву как
государство гарантийное: идеократическое (служит опреде­
ленной идее), правовое, в котором народ сам защищает свое
государство. Идея гарантийности государства находит свое
юридическое выражение в конституции страны, основу кото­
рой должна составить Декларация обязанностей государства.
Гарантийное государство, писал Η. Н. Алексеев, не может
быть монархией, так как эта форма правления несовмести­
ма с народным суверенитетом и суверенитетом основной го­
сударственной идеи, которую данный народ осуществляет.
В гарантийном государстве должен быть режим республики
как общего дела. Это государство будущего.
Совершенное государство, по Алексееву, должно строиться
на основе следующих принципов:
303
Раздел IV
- принцип единства культурных целей и интересов вер­
ховной власти и общества. Это достигается при решении ряда
вопросов путем референдума или путем создания на демокра­
тической основе народного представительства;
- принцип свободы. Это означало, что деятельность госу­
дарственной власти должна быть свободной, «и в то же время
сообразной с законами и подконтрольной» [Алексеев, 1998,
с. 600]. Подконтрольность может быть достигнута путем реа­
лизации принципа разделения властей;
- принцип политического плюрализма, т. е. многопартий­
ности. Это предполагало и множество идеологий. Интересы
же всего общества «если и могут быть сформулированы, то
только в стабилизированной идеологии ведущего слоя» [там
же];
- принцип нравственности. В первую очередь нравствен­
ными должны быть носители государственной власти. Это
особенно важно для вселенской власти планетарного прави­
тельства в планетарной федерации, которое может возник­
нуть в будущем. Над этим правительством не будет внешней
власти, а поэтому оно должно основываться «на внутренней
правде»;
- принцип законности. Идеальная политическая систе­
ма, по Алексееву, должна сочетать властную активность, об­
щественные интересы и подконтрольность, т. е. соединять
в устройстве официальных государственных органов едино­
личное начало с началом коллегиальным.
Если государство обеспечивает гарантийный порядок,
а власть в нем нравственна, то оно совершенно. Отрицание
Η. Н. Алексеевым марксизма, признание наличия в идеаль­
ном государстве политической системы Советов, конститу­
ционализма и федерализма во многом напоминают бакунин­
скую модель федеративной республики. В Советах народных
депутатов Η. Н. Алексеев видел позитивные элементы. Эта
особенность его учения существенно отличала его от других
представителей русской эмигрантской политической мысли,
в первую очередь от монархистов.
304
Политические учения XX века
Самыми популярными в эмиграции были ностальгические
настроения в отношении дореволюционного монархического
прошлого России. Выразителями монархических настроений
были профессор философии и права, публицист И. А. Ильин
и политический публицист И. Л. Солоневич.
Историю России XIX и начала XX в. Иван Александрович
Ильин (1883-1954) показал как историю борьбы монархистов
и республиканцев. Монархисты, по его мнению, желали до­
стичь процветания России путем реформ сверху. К этому те­
чению лояльного монархизма он относит В. А. Жуковского,
Н. В. Гоголя, Ф. И. Тютчева, Ф. М. Достоевского, славянофи­
лов, Д. А. Милютина и тех, кто был причастен к реформам
Александра II, П. А. Столыпина и всех его сторонников.
Республиканская идея в России возникла как альтернати­
ва монархической. По мнению И. А. Ильина, она была прямо
противоположной монархическому правосознанию русского
народа. К числу республиканцев он относит П. И. Пестеля,
народовольцев и всех лидеров конституционно-демократиче­
ской партии.
Основная причина крушения монархии в 1917 г., по
И. А. Ильину, заключалась в том, что настоящего, крепкого
монархического правосознания в стране не было. Резко кри­
тиковал Ильин и федералистские взгляды республиканцев.
Эта форма государственного устройства предполагает уста­
новление договора. Негативные черты федерации, по Ильину,
заключаются в том, что она «разжигала личное честолюбие и
властолюбие».
Критикуя сталинское время, коммунистический быт,
И. А. Ильин пытался идеализировать дореволюционную аб­
солютную монархию. Для него Россия как государство пере­
стала существовать после прихода к власти большевиков. Она
погибла, но в силах возродиться.
И. А. Ильин верил в возрождение России, условием кото­
рого должен стать национализм, способствующий националь­
ному самосохранению и единению русского народа. Вновь воз­
рожденная после коммунистического режима Россия будет не
305
Раздел IV
монархией, а авторитарной диктатурой. И. А. Ильин готов
принять эту возрожденную Россию даже республикой и слу­
жить ей верой и правдой. Но эта новая республика уже не
будет республикой коммунистов. Она будет такой, каким бу­
дет уровень народного правосознания возрожденной России.
Возрожденная Россия не сможет стать сразу монархией, по­
тому что монархии требуется не только династия, но и новые
традиции, соответствующие правосознанию народа. Государ­
ственную форму И. А. Ильин понимал не как «отвлеченное
начало» и не как «политическую схему», безразличную и не
зависящую от жизни народа.
К какой бы государственной форме ни относилась воз­
рожденная Россия, она бы включала в себя как корпоратив­
ные, так и учрежденческие характеристики. Чем обширнее
была бы ее территория и многонациональное народ, тем от­
четливее проявлялись бы признаки учрежденческой формы.
Доминирование учрежденческих принципов в организации
государственной формы было бы одним из условий воспита­
ния в народе монархического правосознания, т. е. появилась
бы почва к перевоспитанию народа. Этот процесс потребовал
бы времени, духовной культуры, педагогических навыков. Но
если бы у народа было достаточно развито какое-либо иное
правосознание, то эту работу вовсе не следует начинать, тем
более если территориальные и иные критерии будут в пользу
корпоративной государственной формы.
В своей статье 1948 г. «Кое-что об основных законах буду­
щей России» И. А. Ильин писал, что Россия должна стать в бу­
дущем правовым, унитарным государством с единым составом
граждан, единой государственной властью и с монархической
формой правления. Ильин верил в реставрацию российской
монархии. Это будет возможно, по его мнению, тогда, ког­
да народ российский станет обладать здоровым (что значит монархическим, унитаристским и авторитаристским) право­
сознанием.
Иван Лукьянович Солоневич (1891-1953) являлся одной
из самых ярких и противоречивых личностей среди русских
306
Политические учения XX века
эмигрантов в Европе второй половины 30-х - конца 40-х гг.
XX в.
Проживая в Советской России, Солоневич пришел к вы­
воду, что советская власть - явление временное, и рано или
поздно она будет свергнута, однако после этого в России бу­
дет невозможна реставрация государственного устройства,
существовавшего при Николае II. Россия будущего виделась
ему бессословной монархией, опирающейся на народное са­
моуправление. Сбежав в 1934 г. за границу, И. Л. Солоне­
вич выбрал страной своего проживания Германию, что вряд
ли можно считать случайностью. Его откровенно привлекала
агрессивная антикоммунистическая направленность немец­
ких национал-социалистов, их идея национального возрожде­
ния Германии. И. Л. Солоневич увидел в лице А. Гитлера
спасителя России. В этом он был похож на украинского на­
ционалиста С. А. Бандеру, который надеялся, что Германия
будет способствовать созданию независимого украинского го­
сударства. «Прозрение» и изменение отношения к нацистам
наступили у И. Л. Солоневича лишь осенью 1941 г., когда
германские власти «попросили» его публиковать статьи не
о будущем России, а об успехах немецкой армии. За непод­
чинение этим требованиям Солоневич сначала был арестован,
а затем выслан в провинцию под надзор гестапо, газета его
была закрыта. В 1947 г. он переехал в столицу Аргентины Бу­
энос-Айрес, где начал издавать газету под названием «Наша
страна». Из-за угрозы ареста И. Л. Солоневич перебрался из
Аргентины в Уругвай, где в 1953 г. умер.
За годы жизни за границей И. Л. Солоневич написал и опу­
бликовал такие книги, как «Россия в концлагере», «Великая
фальшивка февраля», «Диктатура импотентов», «Диктатура
слоя», «Народная монархия». В художественно-биографиче­
ском сочинении «Россия в концлагере» (1935) он описал тя­
желые условия труда и быта населения СССР в конце 1920-х начале 1930-х гг. В «советском раю» 7 июня 1934 г. был при­
нят закон, карающий побег за границу смертной казнью. Вла­
стью, пишет Солоневич, создан аппарат принуждения такой
307
Раздел IV
мощности, какого история еще не знала, и это в то время,
когда происходит «голодное вымирание страны». Строй, кото­
рый отправляет в могилу миллионы русских людей, русские
не только имеют право ненавидеть, но обязаны это делать.
Самой большой по объему книгой И. Л. Солоневича являет­
ся «Народная монархия» (первоначальное название - «Белая
империя»), написанная им в годы Великой Отечественной вой­
ны. Цель этого произведения, по мнению автора, заключалась
в том, чтобы дать русской эмиграции самые основные положе­
ния о русской монархии. Каждый народ, утверждал Солоневич, стремится создать не только свою культуру, свою государ­
ственность, но и свою империю: «Если он этого не делает, то не
потому, что не хочет, а потому, что не может. Или потому, что
понимает недостаточность своих сил» [Солоневич, 1991, с. 15].
Российская империя, по утверждению Солоневича, возник­
ла во времена Рюриковичей и является внутренним нацио­
нальным миром. Специфика ее состояла в том, что на всей
территории были прекращены межнациональные войны, все
народы страны могли спокойно жить и работать. Русская
идея всегда была сверхнациональной - как сверхнациональ ­
ной была и русская государственность. Солоневич писал, что
«решающим фактором всякого государственного строитель­
ства является психология, “дух” народа-строителя, втягива­
ющего в свою орбиту или торговым путем, как это делали
англичане, или путем насилия, как это пытались делать ис­
панцы, или путем общности интересов, как это делали мы»
[там же, с. 21].
Революция 1917 г. в России - это, по словам Солоневи­
ча, «европеизация» страны, которая была осуществлена при
помощи русской интеллигенции, ничего не понимавшей
в России и в революции, не знавшей прошлого своего народа
и государства. Напротив, сам Солоневич идеализировал до­
петровскую Россию. Все реформы Петра I он считал «нерус­
скими», а государственную конструкцию, которая возникла
в результате их проведения, - совершенно не устраивающей
русский народ.
308
Политические учения XX века
В России будущего, по Солоневичу, необходимо добиться:
а) свободы труда и творчества, б) устойчивости свободы тру­
да и творчества. Солоневич выступал за многообразие форм
собственности и хозяйственности. «Народно-Монархическое
Движение, - писал он, - никак не протестует против государ­
ственных, кооперативных, земских и прочих форм хозяйства,
но только при том условии, чтобы эти формы не носили на­
сильственного характера, чтобы они не устраняли ни частной
собственности, ни частной инициативы, чтобы они служили
делу Нации, а не интересам партии» [Солоневич, 1991, с. 55].
Самоуправление не должно превращаться в партию, а са­
модержавие в диктатуру, как это было, по мнению Солоневи­
ча, в Санкт-Петербургский период истории России. Русское
самодержавие он считал индивидуальным явлением, типично
русским, организованным народной массой и опирающимся
на церковь. Устойчивость всей национальной жизни в России,
по мнению Солоневича, зиждилась на трех «китах», или трех
основных факторах: монархия, церковь и народ. Русский
народ, отмечал он, живший и живущий в неизмеримо более
тяжелых условиях, чем какой бы то ни было иной культур­
ный народ в истории человечества, создал наиболее мощную в
этой истории государственность. «Русскую монархию нужно
рассматривать как классическую монархию мировой истории,
а остальные монархии этой истории - как отклонение от клас­
сического типа, как недоразвитые, неполноценные формы мо­
нархии» [там же, с. 80].
Государственный режим в будущей российской монархии
русский мыслитель видел демократическим. Россия должна
быть многопартийным и народным государством. Русская мо­
нархия исторически возникла в результате восстаний низов
против боярства, и пока она существовала, она всегда стояла
на защите именно низов. Русская монархия есть государство,
построенное не на юридических или экономических, а на чи­
сто моральных основах, - таково убеждение Солоневича.
Заслуга И. Л. Солоневича состоит в попытке показать свое­
образие русской психологии и русской истории, а также рас309
Раздел IV
крыть во всей полноте и глубине «русскую идею», которая
вбирала бы в себя весь исторический опыт русского народа,
русской государственности. Следует заметить, что Солоневич,
подобно Ильину, понимал под национализмом нечто идеаль­
ное - мораль, дух. Их национализм противопоставлялся, по
сути дела, основополагающему принципу идеологии социали­
стического государства - интернационализму.
Подобно национал-болыпевикам и евразийцам, Ильин и Со­
лоневич негативно оценивали теорию марксизма и предсказы­
вали скорый кризис советской власти в России. Однако, в от­
личие от национал-болыпевиков и евразийцев, они не нашли
в советской форме государства никаких положительных черт,
так как отрицали любую республику и федерализм в России.
И. А. Ильин по своим взглядам близок К. П. Победоносцеву
и К. Д. Кавелину в их идеализации петровского государства.
И. Л. Солоневич, напротив, абсолютизирует допетровскую
Россию и в этом является продолжателем идей славянофилов
и Л. А. Тихомирова. В целом учения Ильина и Солоневича во
многом были оторваны от политических реалий. Они не учи­
тывали ни соотношения классовых сил в России, ни правосоз­
нания народа в период 1920-1940-х гг. Поэтому их идеи по
реанимации монархии в посткоммунистической России могли
бы реализоваться только на руинах советского социалистиче­
ского государства. А в крушение СССР они верили, причем
небезосновательно.
Политические труды русского зарубежья XX в. не только
содержат уникальную аналитическую информацию о собы­
тиях в России периода революций и гражданской войны, но
и открывают исследовательские перспективы для современ­
ной политической науки и практики.
Контрольные вопросы и задания
1. Каковы причины «раздвоения» отечественной полити­
ческой мысли на советскую и политическую мысль русского
зарубежья?
310
Политические учения XX века
2. Каковы основные особенности политической мысли рус­
ской эмиграции?
3. Перечислите особенности политико-правового учения
Петражицкого.
4. Почему евразийцы отводят особое место России в новой
эпохе?
5. Можно ли назвать учение евразийцев панславизмом?
6. В чем заключается существенная разница монархиче­
ских учений И. А. Ильина и И. Л. Солоневича?
7. Как бы вы интерпретировали фразу И. А. Ильина «Мы государство»?
8. Как понимает Н. А. Бердяев роль гуманизма в формиро­
вании современного государства?
9. Какова роль классового подхода в советской политиче­
ской доктрине?
10. Почему Н. И. Бухарин полагал, что диктатура пролета­
риата не противоречит демократии?
11. Почему И. В. Сталин считал, что по мере строительства
социализма классовая борьба усиливается?
12. Что стало стимулом развития советской политической
науки в 1970-х гг.?
13. Каковы особенности развития советской политической
мысли в 1980-х гг.?
Темы рефератов
1. Феномен советской политической мысли 1920-1940-х гг.
2. Советская правовая доктрина.
3. Социалистическая идея в советском инакомыслии.
4. Национальные движения в СССР и их доктринально-по­
литическая платформа.
5. Доктрина перестройки и нового мышления в середине
1980-х гг. (по книге М. С. Горбачева «Перестройка и новое
мышление для нашей страны и для всего мира»).
311
Раздел IV
Литература
1. Алексеев Η. Н. Государственный идеал // Антология ми­
ровой политической мысли: в 5 т. М.: Мысль, 1997. Т. 4.
С. 635-640.
2. Алексеев Η. Н. Русский народ и государство. М.:
Аграф, 1998.
3. Алексеев С. С. Правовое государство - судьба социализ­
ма. М.: Юридическая литература, 1988.
4. Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР. Виль­
нюс: Весть, 1992.
5. Бердяев Н. А. Духовный кризис интеллигенции. СПб.:
Общественная польза, 1910.
6. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.:
Наука, 1990.
7. Бердяев Н. А. Судьба России. Опыты по психологии вой­
ны и национальности: [репринт, изд-я 1918 г.]. М.: Философ­
ское общество СССР, 1990.
8. Бухарин Н. И. Избранные произведения. М.: Экономи­
ка, 1990.
9. Бухарин Н. И. Путь к социализму и рабоче-крестьян­
ский союз // Избранные произведения. М.: Политиздат, 1988.
С. 146-230.
10. Гаджиев К. С. Политология: учебник для вузов. М.: Выс­
шее образование, 2005.
11. Зимин А. Социализм и неосталинизм. Нью-Йорк: Chalidze
Publications, 1981.
12. Ильин И. А. Наши задачи. Историческая судьба и буду­
щее России. Статьи 1948-1954 гг.: в 2 т. М.: Рарог, 1992.
13. Ирхин Ю. В., Зотов В. Д„ Зотова Л. В. Политология:
учебник. М.: Юристъ, 2002.
14. История политических и правовых учений: учебник
для вузов / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. М.: Норма,
2004.
15. Марченко Μ. Н., Мачин И. Ф. История политических и
правовых учений. М.: Проспект, 2009.
312
Политические yw»u л Л trt-i
16. Медведев Р. Книга о социалистической демократии.
Амстердам; Париж: Фонд имени Герцена, 1972.
17. Мухаев Р. Т. Политология. М.: Проспект, 2010.
18. Российская социологическая традиция шестидесятых
годов и современность: материалы симпозиума (23 марта
1994 г.). М.: Центр документации, публикации и анализа
Международной социологической ассоциации, 1994.
19. Сахаров А. Д. О стране и мире. Нью-Йорк: Хроника,
1976.
20. Солоневич И. Л. Народная монархия. М.: Феникс, 1991.
21. Сталин И. В. К вопросам ленинизма // Сочинения:
в 18 т. М., 1948. М.: ОГИЗ, 1948. Т. 8. С. 13-90.
22. Сталин И. В. Об основах ленинизма // Сочинения. М.:
ОГИЗ, 1947. Т. 6. С. 69-188.
23. Сталин И. В. Отчетный доклад на XVIII съезде партии
о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 года // Сочинения: в 18 т.
М.: Писатель, 1997. Т. 14. С. 290-341.
24. Устрялов Н. В. Смена Вех // Антология мировой поли­
тической мысли: в 5 т. М.: Мысль, 1997. Т. 4. С. 772-776.
25. Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Антология
мировой политической мысли: в 5 т. М.: Мысль, 1997. Т. 4.
С. 723-735.
26. Фирсов Б. М. Разномыслие в СССР. 1940-1960-е годы:
история, теория и практики. СПб.: Европейский дом, 2008.
Глава 10. Политическая мысль XX века в странах Востока,
Африки и Латинской Америки
10.1. Политическая мысль арабского Востока в XX веке
Политическая мысль арабского Востока данного периода
развивается в контексте религиозно-политических теорий
исламской средневековой мысли. Несмотря на значительное
доктринальное влияние ислама, в этот период начинает про­
слеживаться воздействие политических теорий, возникших
на Западе. Не меньшее значение имело и антиколониальное
313
Раздел IV
движение в мусульманских странах. По верному замечанию
Μ. Т. Степанянц, «вопрос о религии и государстве имеет раз­
личные аспекты. В период борьбы за достижение политиче­
ской независимости он был поставлен под углом зрения от­
ношения исламского вероучения к идеологии национализма»
[Степанянц, 1982, с. 115]. Возникновение таких политиче­
ских течений, как арабский национализм и арабский социа­
лизм, во многом происходило в контексте политического про­
тивостояния СССР и западных стран.
Не менее значимыми оставались религиозные концепции,
которые вплоть до сегодняшнего дня имеют влияние на фор­
мирование современных исламских политических теорий.
Упадок мусульманской цивилизации в позднем Средневеко­
вье на долгое время прервал бурное развитие научной и бого­
словской мысли исламского мира. Активная колонизаторская
политика западных стран становится фактором социокуль­
турного влияния на мусульманский мир. Рост политического,
экономического, научного потенциала Запада заставляет ис­
ламских интеллектуалов и религиозных мыслителей искать
новые ответы на непростые вопросы современности. Ислам­
ские политические доктрины проявляли себя в борьбе идей и
мнений, находились в состоянии поисков дальнейшего пути
развития.
В XVIII в. продолжателем салафитской мысли как фун­
даменталистской теории стал основоположник религиозно-по­
литического движения ваххабизма Мухаммад ибн Абд-альВаххаб (1703-1792). Родившись на территории современной
Саудовской Аравии, он жил в эпоху политического господства
Османской империи. На богословскую позицию Абд-аль-Ваххаба в значительной степени повлияла политическая ситуа­
ция. Разрабатывая идеи строгого единобожия, он развил сала­
фитскую идею такфира - обвинения в неверии. Сбившимися
с «истинного» пути мусульманами для основателя ваххабиз­
ма становились османские турки, которые внесли свои тра­
диционные особенности в исламскую религиозную традицию.
«Проявляя определенную терпимость в отношении “людей
314
Политические учения XX века
Писания”, христиан и иудеев, ваххабитский взгляд на такфир
сводился к ужесточению требований к мусульманам» [Добаев,
2003, с. 142].
Таким образом, основная политическая цель идеологиче­
ских установок ваххабизма концентрировалась на делегити­
мизации политической власти османских турок, джихад с ко­
торыми трактовался как война с «врагами ислама». При этом
в большей степени Абд-аль-Ваххаб сосредоточил внимание на
вопросах веры и совершенства мусульманской уммы, поэтому
«социальные и политические проблемы его не интересовали»
[Левин, 2005, с. 107]. Тем не менее в последующем ваххабит­
ские идеи об «истинном единобожии» стали неотъемлемым
компонентом современных радикальных исламистских кон­
цепций. Как правило, именно данные положения использу­
ются в дискуссиях в рамках определения «правильных» и
«неправильных» мусульман. Это становится основой для раз­
вития радикальных политических теорий, делящих религиоз­
ное пространство на своих и врагов.
Проблема типологизации современных идейных течений в
исламе на сегодняшний день остается открытой.
Большинством авторов принята триадная схема: традици­
онализм, фундаментализм, модернизм (иногда применяются
понятия «ортодоксия», «возрожденчество», «реформаторство»
и т. д.). Все три идеологических течения взаимно переплете­
ны. Несмотря на сконцентрированность концепции западной
реформации на отделении государства от церкви, общеприня­
той точкой зрения является то, что в современной исламской
политической теории нет четкого разделения на религиозное
и светское.
Столкновение с западной культурой, явно превосходившей
ислам по уровню своего развития, требовало от мусульман­
ских интеллектуалов переосмысления главных постулатов
вероучения. Основным очагом интеллектуального брожения
становились мусульманские страны, которые имели наибо­
лее обширные контакты с инокультурой, в частности коло­
низированные Египет и Индия. Примерно с середины XIX в.
315
Раздел IV
в мусульманской религиозно-политической мысли начали
формироваться два противоположных течения - фундамента­
лизм и модернизм, которые пытались сформулировать новые
концепции в ответ на столкновение с западной цивилизацией.
Среди тех, кто выступал за возврат к «золотому веку ис­
лама» через обращение к фундаментальным основам рели­
гии, был египтянин Хасан аль-Банна - основоположник и
идеолог организации «Братья-мусульмане». К более поздним
классикам исламского радикального фундаментализма отно­
сятся египтянин Саид Кутб, пакистанец Абу аль-Ала Маудуди (1903-1979), иранский аятолла Рухолла Хомейни (18981989)и др.
С. Кутб стал вторым по значимости идеологом движения
«Братья-мусульмане» и окончательно доработал политиче­
скую теорию, основанную на дихотомии «мир ислама» и «мир
войны». «Миром войны» в первую очередь становился Запад,
который до начала активной колонизации не представлял для
мира ислама политической угрозы.
Большое значение приобретает борьба с джахилией - «вар­
варским сообществом», в которое, по их мнению, преврати­
лось все мировое сообщество. С. Кутб по этому поводу отме­
чает: «Прежде всякой дискуссии или убеждения необходимо
свергнуть правящий режим в Египте, так как он варварский,
все режимы, так как они варварские, даже те, которые при­
зывают к исламу в своих документах и конституциях» [Добаев, 2003, с. 73]. Для С. Кутба светские политические режимы
в арабских государствах становятся проводниками западно­
го влияния на страны исламского мира, что, по его мнению,
представляет угрозу. В конечном итоге за радикальные взгля­
ды С. Кутб был казнен официальными властями Египта.
Другим идеологом умеренного исламского радикализма
был Абу аль-Ала Маудуди - лидер и основатель пакистанской
партии «Исламское общество». Задачей исламского государ­
ства, по его мнению, является реализация божественной воли
через обеспечение условий для максимально полного соблю­
дения шариата. Эмир является главой государства и обладает
316
Политические учения XX века
неограниченной властью. Само государство служит распро­
странению ислама, а власть должна принадлежать людям,
убежденным в универсальности такой политической идеоло­
гии. Кто не разделяет подобных взглядов, может жить в этом
государстве на положении зимми - «защищенных».
Идеальным образцом государства для А. Маудуди являет­
ся халифат четырех праведных сподвижников. Изначально
он выступал против конституции. В процессе деколонизации
Британской Индии он стал настаивать на том, что Пакистан
должен быть исламским государством. После создания Паки­
стана в 1947 г. Маудуди включился в борьбу за создание кон­
ституции и уже не отвергал возможность подобной политиче­
ской системы. Также он пересмотрел свои взгляды на партий­
ные выборы. Это случилось после того, как партия «Ислам­
ское общество» с помощью выборных процедур пришла к вла­
сти в Пакистане. А. Маудуди стал признавать возможность
человеческого законотворчества, но считал, что оно должно
осуществляться в рамках шариата. Вопросы с неоднозначной
трактовкой, по его мнению, должны рассматриваться комис­
сией богословов и ученых-правоведов, т. е. шурой (советом).
Меджлис (парламент) и шура избираются для помощи эмиру.
Глава государства обязан консультироваться с шурой и имеет
право накладывать на его решения вето или распускать этот
орган. Спорные вопросы между эмиром и шурой выносятся
на всеобщее обсуждение. Такая форма государства получает
определение «теодемократии» [Добаев, 2003, с. 63-67].
Процесс развития модернизационных теорий в исламе на­
чался с середины XIX в. Среди основоположников модерниза­
торского движения были Джемалъ ад-Дин алъ-Афгани (18381897), Мухаммед Абдо (1849-1905) и др. Основоположники
исламского модернизма в первую очередь призывали к рефор­
мированию системы обучения и преодолению закоснелости
традиционного ислама.
Аль-Афгани, пытаясь выявить основные причины отстава­
ния мусульманских стран, вел поиск путей прогрессивного
развития. Однако он в то же время предостерегал мусульман
317
Раздел IV
от бездумных культурных заимствований у Запада. Панацею
от всех болезней уммы он видел в возрождении истинной
веры в Аллаха и выступал с идеями социального равенства
и справедливости, основанными на морально-этическом уче­
нии ислама. Одним из главных шагов на пути к возрождению
аль-Афгани считал освобождение от колониальной зависимо­
сти и объединение против экспансии Запада мусульманских
стран, в которых должен быть конституционный образ прав­
ления [Левин, 2005, с. 55]. Воля народа становилась законом
для правителя, а представительство нации также исходит от
самого народа. Не ограниченное ничем правление, по мнению
реформатора, является тиранией. Таким образом, аль-Афгани выступал с критикой деспотизма. Он считал необходимым
объединение мусульман в борьбе против европейских держав
и создание конфедерации мусульманских государств с хали­
фом во главе. Предполагаемый союз в первую очередь дол­
жен был носить духовный характер, не имея прямого отно­
шения к политическому объединению мусульман. Подобная
концепция, сочетавшая в себе идеи национализма и ислама,
получила определение «панисламизма» [Степанянц, 1982,
с. 118-148].
Ученик аль-Афгани М. Абдо также был общепринятым те­
оретиком, идейным и политическим лидером мусульманских
реформаторов. Он был убежден в необходимости нравствен­
ного очищения человека и общества как основы решения со­
циальных проблем. Для М. Абдо не ислам и вера подлежат
пересмотру - в реформе нуждаются сами мусульмане. Он
критиковал устаревшие взгляды, обычаи, осуждал духовен­
ство за формализм, непонимание нужд людей и потребностей
времени. Понимая, что мусульмане психологически не гото­
вы к восприятию ценностей индустриальной цивилизации,
М. Абдо считал необходимым готовить умму к восприятию
нового. Как и все реформаторы, М. Абдо полагал, что лю­
бой, кто обладает традиционными религиозными знаниями,
может толковать Коран, не уклоняясь от него. Реформатор
призвал отказаться от слепого следования авторитетам клас318
Политические учения XX века
сических исламских школ. Каждое новое поколение, по мне­
нию М. Абдо, должно толковать первоисточники исламского
учения «в свете собственного опыта и знаний» [Левин, 2005,
с. 56-76].
Третьим идейным течением исламской мысли является
традиционализм. Он характеризуется тем, что его сторонники
выступают против каких-либо реформ ислама, за сохранение
его таким, каким он в основном сложился в эпоху добуржуазных социально-экономических, политических и культур­
ных институтов и представлений. Поэтому вопрос о причи­
не кризиса в умме не является приоритетным. Само течение
остается в значительной степени аполитичным, что, в общем,
исключает теоретическую разработку политических концеп­
ций. В основном данное течение представлено официальным
исламским духовенством, поддерживающим различные поли­
тические режимы.
Таким образом, современный фундаментализм и традици­
онализм отдают приоритет слепой вере, а модернисты-рефор­
маторы признают высокую роль человеческого интеллекта.
Традиционалисты в меньшей степени отдают предпочтение
иджтихаду - переосмыслению отдельных философско-право­
вых вопросов, так как, по их мнению, все ответы были сфор­
мулированы средневековыми ортодоксами и остается лишь
следовать их указаниям и «скорректировать» современность
по давно установленным правилам. Фундаменталисты, напро­
тив, считая открытыми врата иджтихада, не признают тради­
ционалистские взгляды, полагают их недостаточно соответ­
ствующими букве писания, т. е. Корану и Сунне. По мнению
модернистов, иджтихад должен стать основой для прорыва
в современность, но при условии, что он будет соответствовать
не только духу писания, но и современным условиям жизни
мусульманской уммы. Фундаментализм в нынешнем состо­
янии мусульманского общества обвиняет как самих мусуль­
ман, отошедших от буквы писания, так и их политических
лидеров. Кроме того, причины кризиса фундаменталисты ви­
дят в агрессивной политике Запада, пытающегося «уничто319
Раздел IV
жить ислам» и навязать западный образ мысли и мышления.
Поэтому в любом заимствовании западных идей они видят
греховное нововведение, которое должно строго пресекать­
ся. Фундаментализм выступает с позиции осуждения любых
идеологических заимствований у Запада за исключением
технологических достижений. Решение возникших проблем
фундаменталисты видят в восстановлении халифата, которое
возможно лишь при условии строгого соблюдения постулатов
исламского вероучения. При этом концепция джихада сво­
дится к войне с неверными и является одним из главных ин­
струментов строительства халифата.
Идеалом общественно-политического устройства для фун­
даменталистов по-прежнему остается халифат времен четы­
рех праведных халифов. По мнению традиционалистов, его
строительство невозможно, так как простые мусульмане «не
способны» постичь тонкости ислама и шариата и создать ха­
лифат. Для фундаменталистов, напротив, неприемлема инерт­
ность в вопросе халифата. Это важная задача, которая должна
быть выполнена для достижения былой славы ислама. Для
этого необходим джихад, который в их трактовке представля­
ет собой войну не только с неверными, но и со всеми полити­
ческими режимами в исламском мире.
Для модернистов воссоздание халифата не является прио­
ритетным вопросом, поэтому и джихад - это в первую очередь
усилие над собой в вопросах веры, нравственное совершен­
ствование и т. д. Сначала необходимо воспитание мусульман­
ской уммы в духе писания и времени, общины, способной со­
здать единый духовный союз братьев по вере. При этом форма
государственного устройства не имеет большого значения для
сторонников реформационных политических теорий в исламе.
Именно фундаментализм наиболее подвержен политизиро­
ванности в радикальных формах. Фундаменталисты выступа­
ют за крайне радикальные трактовки исламского вероучения,
которые соответствуют их политическим установкам и целям.
Подобные политические концепции служат главным орудием
манипуляции сознанием их сторонников и обосновывают их
320
Политические учения XX века
политическую практику, которая может реализовываться в
том числе и с применением насилия и даже терроризма.
Модернизм, в отличие от аполитичности традиционализма
и политизированности фундаментализма, выступает на пози­
циях не только политической модернизации, но и модерни­
зации социальных отношений - как внутри мусульманских
сообществ, так и в их отношениях с окружающим миром. По
мнению его сторонников, только приобщившись к наследию
общечеловеческих достижений, часть из которых необходимо
принять и переосмыслить, мусульманский мир может встать
на путь своего возрождения и будет полноправным членом
мирового сообщества.
Сторонники исламского модернизма настаивают на более
взвешенном толковании первоисточников мусульманского ве­
роучения с учетом современности. Выступают с позиции про­
свещения и приобщения уммы к общемировым достижениям
культуры и человеческой цивилизации. Модернизм в исламе
выступает, скорее, как широкое общественное движение и
остается относительно аполитичным. Однако при этом в нем
могут присутствовать элементы политико-идеологической кон­
цепции с конструктивной позицией по вопросам политики.
10.2. Политическая мысль стран африканского континента
Зарождение политической мысли Черного континента про­
исходило в условиях колониального господства западных дер­
жав, что обусловило решающее идеологическое влияние по­
следних. Даже наиболее радикальные в своих антиколониаль­
ных устремлениях проекты представляли собой адаптацию
европейских идей к африканским реалиям. Непосредствен­
ным источником идей и лозунгов для зарождающегося обще­
ственно-политического движения африканских народов стали
организации афроамериканцев, возникшие в США после от­
мены рабства и боровшиеся за права чернокожего населения.
Попытки построения режима расового угнетения, предпри­
нятые властями южных штатов после поражения в Граждан-
321
Раздел IV
ской войне 1861-1865 гг., вызвали активное сопротивление
чернокожего населения, нашедшее организованное выраже­
ние в Таскигийском движении Букера Вашингтона. Однако
вскоре недовольные его умеренной позицией представители
негритянской интеллигенции и буржуазии объединились во­
круг Уильяма Дюбуа (1868-1963), который в начале XX в.
становится ведущим лидером националистического движения
афроамериканцев. Осознание исторической общности судеб
чернокожего населения колониальной Африки и США при­
вело к зарождению идеологии панафриканизма [Высоцкая,
2003, с. 13-28].
У его истоков, кроме У. Дюбуа, стоял Эдуард Блайден
(1832-1912) - американский журналист и общественный де­
ятель, эмигрировавший в 1851 г. в Либерию. Центральными
идеями его сочинений стали доктрина «духовной деколониза­
ции» Африки, представления об особенностях африканского
менталитета, который, в отличие от бездушно-рационального
Запада, основан на духовности и неутилитарных ценностях.
В силу приоритетного значения именно духовных аспектов
концепция Э. Блайдена нередко характеризуется как «куль­
турный национализм» [Френкель, 1977, с. 85]. Его харак­
терной чертой стало стремление максимально размежеваться
с культурой колонизаторов, затронувшее в том числе и во­
просы религии. В своей резонансной работе «Христианство,
ислам и негроидная раса» (1887) Э. Блайден утверждал, что
только ислам может стать объединяющей религией Черной
Африки, в то время как религия колонизаторов - христиан­
ство - оказывает на традиционную культуру деструктивное
воздействие. Реакцией на белый расизм, распространенный
на Западе, в трудах Э. Блайдена стали «зеркальные» идеи
черного расизма. Вслед за белыми расистами автор был скло­
нен придавать расовым различиям универсальное значение,
распространяя их на врожденные психологические особенно­
сти, только со своей стороны он ставил африканцев в этом
отношении выше европейцев. Точно так же он выразил свое
отрицательное отношение к межрасовым бракам.
322
Политические учения XX века
Собственно, именно расовый фактор изначально оказался
центральным в концепции панафриканизма. Однако, осозна­
вая ущербность такого «антропологического» подхода, идео­
логи движения изначально стремились найти более широкие
основания для утверждения идеи единства всех африканских
народов. Несмотря на значительную культурную, языковую и
этносоциальную пестроту континента, панафриканисты пыта­
лись обозначить некие универсальные черты, присущие чер­
ному человеку, выросшему как на исторической родине, так
и вне ее. Несмотря на всяческое подчеркивание уникальности
и своеобразия культуры и менталитета коренного африкан­
ского населения, основные положения панафриканизма ока­
зались достаточно типичны для идеологии традиционализма,
и особенно - для ее колониальных версий. Кроме уже упо­
мянутого противопоставления рационального и технократи­
ческого Запада одухотворенной местной культуре, существу­
ющей в гармонии с природой, и конструирования во многом
искусственной общности «африканцев», в них была заметная
антиколониальная составляющая, идея «особого пути» Афри­
ки как в прошлом, так и в будущем, а также идеализация
доколониального прошлого.
Однако, кроме пропагандистской составляющей, в идеоло­
гии панафриканизма присутствовали вполне реалистичные
требования, казавшиеся многим современникам разумными
и справедливыми. Они нашли свое отражение в резолюци­
ях первых панафриканских конгрессов. Резолюция Первого
конгресса, прошедшего в феврале 1919 г., содержала обраще­
ние к мировому сообществу с просьбой принять свод законов
о международной защите коренного населения Африки и со­
здать особое бюро при Лиге наций для контроля за их испол­
нением. Резолюции последующих конгрессов добавили тре­
бования развития природных ресурсов континента, введения
всеобщего бесплатного образования, наделения африканцев
правом участия в административном управлении колониями.
В 1923 г. свет увидела книга «Философия и взгляды Мар­
куса Гарви», написанная чернокожим общественным деяте323
Раздел IV
лем с Ямайки и выражавшая достаточно радикальные подхо­
ды панафриканизма. В частности, автор открыто отстаивал
идею расовой чистоты негров, призывал к возвращению чер­
нокожего населения в Африку и предрекал объединение неза­
висимой Африки под властью черного короля. На роль гряду­
щего панафриканского монарха М. Гарви прочил императора
Эфиопии Хайле Селассие I. Данная идея впоследствии стала
одним из краеугольных камней религиозного движения растафарианства, возникшего на Ямайке и впоследствии
распространившегося за ее пределами. Одним из пророков но­
вой религии и был объявлен М. Гарви. Радикальные взгляды
М. Гарви оказали существенное влияние на многих участни­
ков антиколониального движения.
Разгром нацизма во Второй мировой войне обусло­
вил рост антиколониальной борьбы во всем мире, включая
Африку. Значительное участие африканских солдат в боевых
действиях на стороне западных держав предопределило рост
национального самосознания африканских народов, что на­
шло отражение в обращениях, принятых на V панафрикан­
ском конгрессе. Так, в составленном К. Нкрумой «Обращении
к рабочим, крестьянам и интеллигенции» проявилось влия­
ние марксистских идей, а также содержались прямые призы­
вы к «борьбе всеми возможными способами».
С именем Кваме Нкрумы (1909-1972) связано развитие
влиятельного левого направления в идеологии антиколони­
альной борьбы в Африке. Выходец из среды традиционной
аристократии, получивший качественное западное образова­
ние, он уже в молодости увлекся идеями панафриканизма,
одновременно проявляя интерес к марксизму.
В будущем, когда К. Нкрума стал первым президентом
независимой Ганы (1957-1966 гг.), он попытался синтезиро­
вать марксизм с христианством в рамках собственного уче­
ния - коншиенсизма (англ, consciencism - «философия созна­
тельности»). Центральное место в нем заняла идея свободы,
рассматриваемая одновременно в личностном и националь­
но-политическом аспекте. Развивая данную идею, К. Нкрума
324
Политические учения XX века
выдвинул положение о трех степенях свободы: политической
(полная, не только номинальная, но и фактическая независи­
мость страны), демократической (отсутствие диктатуры и не­
зависимость личности) и социальной реконструкции (свобода
от бедности и экономической эксплуатации, что требует целе­
направленной реализации осознанно выдвигаемой программы
преобразования общества). В основании реализации каждой
в отдельности и всех вместе свобод лежит организуемое чело­
веческое усилие.
Политическая программа К. Нкрумы, построенная им на
принципах коншиенсизма, включала три категорических
принципа: 1) национализм; 2) панафриканизм; 3) социализм.
Отказ от любого из них, по мнению К. Нкрумы, означал бы не­
удачу национального возрождения африканских государств.
Оставаясь приверженцем панафриканизма, К. Нкрума,
в отличие от большинства теоретиков данного направления,
попытался подвести под него рациональные основания. Идее
«негритянского национализма», содержащей в себе элемен­
ты расизма и политического романтизма, он противопоставил
концепцию «африканского национализма», предусматривав­
шую консолидацию африканской идентичности на принци­
пах, близких к европейской гражданской нации. В отличие от
последователей Э. Блайдена, идеализировавших традицион­
ного африканца, К. Нкрума настаивал на необходимости из­
менения менталитета жителей Черного континента, без чего,
по его мнению, было невозможно преодоление экономической
отсталости бывших колоний. Преодоление европейского влия­
ния, согласно его воззрениям, не означало отказа от полезных
и прогрессивных достижений западной цивилизации.
Идеи африканского национализма получают широкую по­
пулярность на этапе деколонизации, широко развернувшейся
в конце 50-х - начале 60-х гг. XX в. В трудах первого по­
коления ученых независимых африканских государств вто­
рое рождение переживает концепция культурного национа­
лизма Э. Блайдена, современной версией которой стали идеи
негритюда. Ее основоположниками считаются сенегалец
325
Раздел IV
Л. С. Сенгор, мартиниканец Э. Сезер (автор термина) и гви­
анец Л.-Г. Дамас, которые в 1934-1941 гг. издавали в Пари­
же журнал «Черный студент». Распространявшаяся поначалу
в образованных кругах населения Карибского региона, сво­
его максимального развития на африканской почве теория
негритюда получила в трудах будущего первого президента
Сенегала Леопольда Седара Сенгора (1906-2001).
Как и многие лидеры африканского националистического
движения, Л. Сенгор получил хорошее западное образование,
закончив престижнейший университет Сорбонну, а в 1935 г.
ему была присвоена степень доктора наук по специальности
«Французская филология и литература». В годы Второй ми­
ровой войны он сначала сражался во французской армии,
а затем участвовал в партизанском движении. После войны
работал в парламентских и правительственных структурах
Французской республики, занимал пост вице-спикера Наци­
онального собрания. Несмотря на столь блестящую карьеру,
Л. Сенгор никогда не отказывался от идеалов африканского
национализма, усвоенных им в молодости.
В основе сенгоровского негритюда лежало представление
не просто о самобытности, а о равноценности традиционной
африканской цивилизации западным обществам.
Как и Э. Блайден, Л. Сенгор исключительное внимание
уделял ментальным аспектам африканской личности, ду­
ховные качества которой, в его представлении, значительно
превосходят европейские. В своих ирредентистских претен­
зиях негритюд вышел за границы африканского континента,
развивая идею всемирной солидарности чернокожих. Точно
так же в вопросах «духовной деколонизации» сторонники не­
гритюда пошли дальше простого обращения к традиционным
ценностям африканцев, пытаясь реконструировать «негритянство» во всей целостности его социокультурных компонен­
тов. Кроме того, часть приверженцев негритюда отстаивала
мессианские идеи великого предназначения черных африкан­
цев. Мысль о будущем цивилизационном величии Черного
континента заставила Л. Сенгора, вопреки широко деклари326
Политические учения XX века
руемому неприятию колонизаторской культуры, выступить с
собственной концепцией грядущей глобализации, итогом ко­
торой он видел появление равноправного надгосударственного
объединения - Евроафрики.
Превознесение традиционных ценностей, навязчивое про­
тивопоставление их европейским в политической сфере оз­
начали отказ от принципов западной эталонной демократии.
Так, Л. Сенгор выступил с концепцией «разговорной демо­
кратии», будто бы идеально соответствующей традициям
и культуре африканцев. Суть ее сводилась к идее ничем не
ограниченной свободы обсуждений, которые заканчиваются
принятием решения большинства, которому меньшинство
обязано безоговорочно подчиниться. Автор концепции считал
ее идеальным вариантом политической практики, оберегаю­
щим от крайностей анархии и диктатуры. Кроме того, с пози­
ций традиционализма Л. Сенгор оправдывал культ личности
национальных лидеров, широко распространившийся в афри­
канских государствах вскоре после обретения ими независи­
мости. С точки зрения Л. Сенгора, почитание правителей со­
ответствовало обычаям африканских народов и должно было
быть укоренено в государствах континента.
Концепция негритюда, с ее безоглядным восхвалением все­
го исконно африканского и ориентацией на прошлое (чаще
всего - воображаемое), несмотря на свою популярность,
встретила и достаточно жесткую критику со стороны пред­
ставителей интеллектуальной элиты молодых африканских
государств. Резкое несогласие с идеями негритюда выразил
К. Нкрума, долгие годы оппонировавший Л. Сенгору и его
сторонникам. Последовательным критиком негритюда был
нигерийский писатель, нобелевский лауреат Воле Шойинка
(род. 1934). Сторонники модернизации увидели в негритюде
опасность консервации отсталости и подмену конструктивных
лозунгов развития идеологическими мифами.
Уже при жизни Л. Сенгора негритюд в своем классиче­
ском виде растерял сторонников и в 80-х гг. XX в. многими
воспринимался как анахронизм. Тем не менее на его основе
327
Раздел IV
в ряде африканских государств складываются различные вер­
сии местных социал-демократических доктрин с националь­
ным уклоном. Наиболее радикальные националистические
и панафриканистские идеи негритюда получили свое про­
должение в учении афроцентризма. Что характерно, как и
100 лет назад, наиболее радикальные версии африканского
национализма получают основную духовную подпитку извне,
и в частности - из США. Наиболее заметным и последователь­
ным идеологом афроцентризма на сегодняшний день является
профессор кафедры афроамериканских исследований Темпльского университета Филадельфии Молефи Кете Асанте
(род. 1942), выступивший с идеей создания новой науки афрологии, сущность которой он определил как «кристалли­
зацию идей и методов ученых, ориентированных на черную
расу» [Давидсон, 2002, с. 56]. К прежним идеям африканской
идентичности и культурной обособленности от Запада в афро­
центризме добавились требования об искуплении историче­
ской вины европейцев (или шире - всех белых цивилизаций)
перед африканцами, частью которых должны стать солидные
материальные компенсации.
Кроме того, в отличие от прежних идей культурной са­
модостаточности, афроцентризм приобрел заметную «прозелитическую» составляющую. Так, по мнению М. К. Асанте,
«западный мир должен быть возвращен к подлинным идеям
Африки» [там же, с. 57]. Примером наступательной риторики
по отношению к западным культурам можно считать моно­
графию афроамериканской исследовательницы Маримбы Ани
«Афроцентристская критика европейской культуры и поведе­
ния», весьма популярную в афроцентристских кругах.
Как в свое время негритюд, так и афроцентризм сегодня
встречает достаточно жесткую критику со стороны предста­
вителей африканской научной и общественной мысли. На­
пример, компенсационные инициативы афроцентристов пре­
зидент Сенегала Абдулайе Ваде охарактеризовал как «ребя­
чество». Еще более критическую позицию заняли социологи,
представляющие школу «африканской внутренней мысли» во
328
Политические учения XX века
главе с А. Кабу. По их мнению, динамичное развитие госу­
дарств континента невозможно без отказа от мифов об особой
африканской духовности и обоснования всех проблем дня се­
годняшнего колониальным прошлым и мировым заговором.
10.3. Политические учения современной Латинской Америки
Развитие стран Латинской Америки изначально протека­
ло под действием противоречивых тенденций. Довольно рано
(в 20-х гг. XIX в.) избавившиеся от прямого колониального
господства, молодые латиноамериканские государства быстро
оказываются в экономической зависимости от ведущих запад­
ных держав. В силу этого лейтмотивом латиноамериканской
политической мысли на долгое время становится тема освобо­
ждения.
Свой существенный отпечаток на развитие ибероамерикан­
ской политической мысли наложил значительный социокуль­
турный контраст, существовавший в большинстве стран реги­
она. «Высокая» европейская культура крупнейших городов
и господствующих элит сочеталась там со средневековыми
порядками аграрной глубинки, архаикой аборигенной пери­
ферии. В силу этого идеологическое противостояние в стра­
нах региона долгое время сохраняло достаточно радикальный
характер.
Вскоре после обретения независимости происходит раскол
господствующей верхушки на консервативный и либераль­
ный лагеря. Либералы ибероамериканских государств, от­
стаивая идеи классического либерализма: свободу частного
предпринимательства, свободу личности, печати, политиче­
ской деятельности, - дополнительными требованиями выдви­
гали актуальные для стран региона отмену рабства, наделение
избирательными правами коренного индейского населения
и федерализацию государственного устройства. Консерваторы,
не отрицая необходимости реформ, выступали за умеренный
характер последних и неприкосновенность таких институтов,
как церковь, семья и сильная государственная власть. Со вре­
329
Раздел IV
менем именно из радикальных фракций либеральных партий
выросли политические движения левой направленности.
Идеи социализма стали проникать в Латинскую Амери­
ку еще в XIX в. С идеей создания «социальной цивилиза­
ции», принципиально отличной от «индивидуалистической»,
«эксплуататорской» цивилизации Западной Европы, впер­
вые выступил венесуэльский просветитель Симон Родригес
(1771-1854). В условиях сохраняющегося значительного об­
щественного неравенства левые идеи быстро завоевали мно­
гочисленных приверженцев в большинстве государств Латин­
ской Америки. Уже в 70-х гг. XIX в. в Аргентине действовали
секции I Интернационала, марксизм и анархизм приобрели
заметное влияние, особенно в рабочей среде. После Первой
мировой войны и Октябрьской революции в России в стра­
нах региона образуются компартии, ставшие частью мирового
коммунистического движения.
Главными конкурентами коммунистов в борьбе за рабочее
движение оказались социал-демократы, которым в условиях
радикализации настроений социальных низов в первой по­
ловине XX в. было суждено потерпеть поражение. Одной из
причин этого стала неспособность умеренных левых предло­
жить программу и идеологию, близкую и понятную «трудя­
щимся массам», в то время как в полной мере использовав­
шие стихию революционных настроений коммунисты суме­
ли адаптировать марксистское учение к местным условиям.
Среди наиболее заметных теоретиков латиноамериканского
коммунизма можно выделить такие фигуры, как Викторио
Кодовилъя и Родольфо Гиолъди (в Аргентине), Луис Корвалан
(в Чили), Карлос Луис Престес (в Бразилии), Родней Арисменди (в Уругвае), Арнольдо Мартинес Вердуго (в Мексике),
Хосе Карлос Мариатеги (в Перу), Габриэль Мачадо (в Вене­
суэле).
Для коммунистов, особенно на ранних этапах, была харак­
терна твердая ориентация на СССР, участие в работе Комин­
терна и взгляд на местные революционно-коммунистические
движения как на часть мировой революции. Раскол в ми330
Политические учения XX века
ровом коммунистическом движении отразился и на странах
Латинской Америки, где после изгнания Л. Д. Троцкого из
СССР развивается собственное троцкистское движение, осо­
бенно заметное в Мексике, куда в конечном счете эмигриро­
вал Троцкий.
Несмотря на определенную популярность коммунистиче­
ских идей, чрезмерный идейный догматизм коммунистов,
ориентировавшихся прежде всего на рабочий класс, придер­
живавшихся интернационалистских установок и не скры­
вавших своей просоветской ориентации, привел к тому, что
нигде, кроме Кубы (1958 г.), им не сопутствовал серьезный
политический успех. В большинстве же случаев торжество ле­
вой идеи проходило, как правило, под лозунгами социализма
в его различных версиях. Одним из наиболее заметных тео­
ретиков и практиков социализма в Латинской Америке стал
чилийский президент Сальвадор Альенде, представивший
собственное видение справедливого общества в послании кон­
грессу от 21 мая 1971 г. «Наш путь к социализму». Здесь он
выдвинул пять основных пунктов, которые положил в основу
построения «чилийского социализма»: гарантия принципа за­
конности, укрепление государственно-правовых институтов,
соблюдение политических свобод, исключение любого наси­
лия и обобществление средств производства.
Отличительной чертой большинства социалистических
доктрин, ориентированных на условия конкретного наци­
онального государства, стал их симбиоз с идеями государ­
ственного национализма. Первым опытом на этом пути стала
концепция апризма, название которой происходит от аббре­
виатуры APRA (Alianza Popular Revolucio naria Americana) Американского народно-революционного альянса, созданного
в 1924 г. основоположником учения, перуанским обществен­
ным деятелем В. Р. Айа де ла Торре (1895-1979). Отвергая
марксизм как чуждую для ибероамериканских стран идеоло­
гию, апристы поставили целью создание учения, основанного
на идеях латиноамериканской самобытности и ведущего к на­
циональному и социальному освобождению. Придавая важное
331
Раздел IV
значение не только иберийским, но и индейским корням лати­
ноамериканских обществ, сторонники учения провозгласили
радикальный лозунг «Латинская Америка - индейцам». При
этом вся Латинская Америка (или Индо-Америка по термино­
логии апристов) рассматривалась как единое недифференци­
рованное целое. Социальные конфликты в их представлении
сводились к противостоянию буржуазно-помещичьей олигар­
хии, выступающей агентом империализма, массам трудящих­
ся. Оптимальной социально-экономической моделью для госу­
дарств региона апристы считали госкапитализм.
В Аргентине Хуаном Доминго Пероном (1895-1974), воен­
ным диктатором республики, была создана доктрина хустисиализма, также называемого «аргентинским социализмом».
Ее фундаментальными положениями стали лозунги эконо­
мической независимости, политического суверенитета и со­
циальной справедливости. Перонистская доктрина отдавала
предпочтение авторитарному принципу правления, провоз­
глашая, что «вождь, руководящие кадры и организованная
масса являются тремя опорами хустисиалистского режима».
В области международной политики X. Д. Перон выступал за
создание националистической коалиции латиноамериканских
государств, противостоящих империалистическим державам.
Основные идеи хустисиализма X. Д. Перон изложил в книгах
«Политическое руководство», «Перонистская доктрина».
Президентом Бразилии Жетулио Варгасом (1882-1954)
была выдвинута близкая по духу концепция трабалъизма,
отличавшаяся крайним популизмом.
Колумбийская разновидность националистического со­
циализма - анапизм, доктрина которого была разработана
видным политическим деятелем Хорхе Элисером Гайтаном
(1903-1948), - имела ярко выраженный левый уклон и вы­
двигала прежде всего антиимпериалистические и антиолигархические лозунги. Большое значение придавалось развитию
демократических институтов.
Новейшей разновидностью латиноамериканского «социаль­
ного национализма» стала концепция боливарианства, или
332
Политические учения XX века
боливарианского социализма (якобы отражающего основные
идеи творца латиноамериканской независимости Симона Боли­
вара), выдвинутая президентом Венесуэлы Уго Чавесом (19542013). Можно сказать, что наиболее общей чертой всех концеп­
ций социалистического национализма является идея «треть­
его пути», отличного как от марксистского социализма, так
и от западного капитализма. Отличаясь друг от друга сте­
пенью радикализма и глубиной теоретических обоснований,
все перечисленные концепции провозглашают преобладание
госсектора и корпоративных структур в экономике, последо­
вательный антиимпериализм во внешней политике, идеалы
латиноамериканской солидарности и государственную под­
держку беднейших слоев населения, предполагающую широ­
кие меры социальной эмансипации.
Существование разнообразных доктрин национального
социализма привело к значительной размытости идеологи­
ческих границ между правым и левым флангом, поскольку
многие идейные течения Латинской Америки, оцениваемые
как правые, несли в себе элементы социалистических идей.
Примером наиболее правой идеологии, взятой на вооружение
рядом ибероамериканских диктаторских режимов, можно
считать латинизм. Данная доктрина, основанная на позити­
вистских идеях О. Конта и Г. Спенсера, но при этом не ли­
шенная элементов политического романтизма, была призвана
обосновать органическое единство романских наций и культур
в противовес «англосаксонскому» миру. Решающее значение
в развитии региона латинисты придавали эмиграции из Евро­
пы и помощи иностранного капитала. Ведущим теоретиком
данного направления выступил перуанский философ и исто­
рик Франсиско Гарсиа Кальдерон (1834-1905). Заметно более
ксенофобский характер носил близкий латинизму паниспанизм, призванный консолидировать только испаноязычные
страны. Для данного течения была характерна идеализация
колониальных порядков и католический традиционализм.
Наиболее яркими примерами правонационалистических
концепций отдельных ибероамериканских государств являют333
Раздел IV
ся архентинидад и бразилианидад. Первый из них представ­
лял собой достаточно разработанную доктрину аргентинско­
го правого национализма. Проповедуя крайне ксенофобные
взгляды, архентинидад имел заметно антидемократический
характер, маскируемый идеологией коммунитаризма, являв­
шейся осовремененным вариантом фашистского корпорати­
визма. Бразилианидад представлял собой не столько целост­
ную концепцию, сколько набор лозунгов и общих представле­
ний. Для него было характерно выпячивание португальских
корней Бразилии, а также экспансионистские устремления
и претензии на континентальную гегемонию, преподносимые
как «высокая миссия Бразилии».
Популярность в обществе левых идей привела к симбиозу
последних не только с националистическими представлени­
ями, но и с христианским вероучением. Таким образом, на
латиноамериканской почве родилась оригинальная доктри­
на - «теология освобождения». Ее видными представителями
считаются перуанский священник Густаво Гутьеррес Мерино
(род. 1928) и бразильский теолог Леонарду Бофф (род. 1938).
Многие церковные деятели, воспринявшие идеи теоло­
гии освобождения, стремились синтезировать христианство
и марксизм, настаивая, что оба учения в своих основах не
противоречат друг другу. С подобными идеями, в частности,
выступил Г. Г. Мерино в своей фундаментальной работе «Те­
ология освобождения». Главную цель земного существования
человека - спасение души - приверженцы учения считали
невозможной без экономического, политического, социально­
го и идеологического освобождения как значимого признака
человеческого достоинства. С богословской точки зрения глав­
ной отличительной чертой теологии освобождения было то,
что она строилась на практических основаниях, а не на отвле­
ченных рассуждениях.
Крайним проявлением левореволюционных настроений в
среде христианского духовенства стало участие его предста­
вителей в вооруженных действиях. Ярким представителем
духовенства, чья деятельность оказала большое воздействие
334
Политические учения XX века
на развитие теологии освобождения, стал колумбийский свя­
щенник Камилио Торрес, погибший в 1966 г. в столкновении
с правительственными войсками. Его приверженцы выдвину­
ли лозунг «Каждый христианин должен быть революционе­
ром», а необходимость участия в вооруженной борьбе обосно­
вывали евангелической идеей самопожертвования ради дру­
гих как высшего проявления христианской любви.
Еще одним примером оригинального вклада латиноамери­
канской политической мысли в мировую традицию можно счи­
тать «теорию зависимости», у истоков которой стояли британ­
ский экономист Ханс Зингер (1910-2006) и его аргентинский
коллега Рауль Пребиш (1901-1986). Со временем латиноаме­
риканское направление, развивавшее данную теорию, выдели­
лось в особую школу, связанную с идеями структурализма и,
помимо Р. Пребиша, представленную работами С. Фуртадо, А.
Пинто. Теория зависимости рассматривала современный мир
как единую систему, которой присуще четкое деление на центр
и периферию. Отношения между ними строятся на принципах
господства-подчинения. Основой эксплуатации в современном
мире, согласно данной теории, является эксплуатация разви­
тым центром отсталой периферии, разрыв между которыми
со временем только увеличивается. Капитализм в странах пе­
риферии имеет ряд отличительных черт, которые позволили
Р. Пребишу назвать его «периферийным» [Пребиш, 1992].
В отличие от развитого капитализма центра, он может кон­
сервировать недемократические порядки, коррупцию и куль­
турную отсталость.
Особое место в политической теории ибероамериканских
стран занимают различные теории самобытного развития,
в числе которых стоит выделить индеанизм (индехенизм) [Гон­
чарова, 1979]. В основе данного направления общественной
мысли и практики изначально лежало стремление теоретиче­
ски осмыслить индейский вопрос и отыскать пути его разре­
шения в процессе национальной консолидации и внутренней
интеграции своих стран. В процессе развития индеанизм вы­
ступал в двух разных качествах: как основа формирования
335
Раздел IV
местной националистической идеологии (боливийские наци­
оналисты Ф. Тамайо, Г. Наварро, X. Мендос; мексиканские
А. Рейес, А. Касо, X. Васконселос) и как идеология интегра­
ции индейских обществ региона. Основные рассуждения те­
оретиков индеанизма строились вокруг вопросов сохранения
национальной самобытности коренных индейских народов
и проблемы их интеграции в современное общество, прав
и политической автономии индейцев, самостоятельного уча­
стия в политическом процессе.
Если говорить о латиноамериканской политической мысли
на современном этапе, то нельзя не упомянуть одного из наи­
более оригинальных политиков и теоретиков современности так называемого субкоманданте Маркоса (род. предпол. 1957).
Этот лидер индейского сапатистского движения мексиканского
штата Чьяпас прославился своей «публичной анонимностью».
Несмотря на значительную мировую известность, он продолжа­
ет скрывать свое настоящее имя под ироничным псевдонимом,
а собственное лицо - под маской. Как теоретик левого движе­
ния, субкоманданте Маркос стал известен благодаря моногра­
фии «Четвертая мировая война», подвергающей ожесточенной
критике неолиберальную идеологию, которую он характеризу­
ет как новую религию, направленную на доведение до конца
порабощающей глобализации [Субкоманданте Маркос, 2005].
На сегодняшний день Маркос признается одним из ведущих
теоретиков левого антиглобализма (альтерглобализма).
Контрольные вопросы и задания
1. Назовите основные факторы, повлиявшие на развитие
политических учений в исламе в XX в.
2. Раскройте особенности фундаменталистского идейного
течения в исламской политической мысли.
3. Каковы особенности модернистского идейного течения
в исламе?
4. Назовите основных современных авторов политических
фундаменталистских концепций.
336
Политические учения XX века
5. В чем состоят особенности генезиса идеологии панафри­
канизма?
6. Насколько идеи панафриканизма можно считать ориги­
нальными по сравнению с аналогичными традиционалистски­
ми доктринами Старого и Нового света?
7. В чем суть коншиенсизма как политической идеологии?
8. Обозначьте основные положения негритюда.
9. В каком направлении шла эволюция социалистических
идей, адаптируемых к латиноамериканским условиям?
10. Какие общие черты можно обнаружить у левых и пра­
вонационалистических идеологий ибероамериканских госу­
дарств?
11. В чем суть «теологии освобождения»?
12. Какие политические выводы следуют из теории «пери­
ферийного капитализма» Р. Пребиша?
Темы для рефератов и творческих заданий
1. Исламские политические концепции о преобразовании
человека, общества и государства.
2. Панисламизм в политических концепциях XX в.
3. Концепции реформаторов в современных исламских по­
литических учениях.
4. Современные религиозно-политические течения в исла­
ме: фундаментализм и модернизм.
5. Деятельность панафриканских конгрессов и становление
национально-освободительной идеологии народов колониаль­
ной Африки.
6. Доктрина «культурного национализма» Э. Блайдена.
7. Политико-философские взгляды К. Нкрумы.
8. Зарождение и развитие идеологии негритюда.
9. Традиционализм и модернизм в современной Африке.
10. Панафриканизм, государственный национализм и трай­
бализм в идеологии и политике африканских государств.
11. Идеология боливарианского социализма на современном
этапе.
337
Раздел IV
12. Идеологические метаморфозы правого национализма
в странах Латинской Америки.
13. Становление и развитие индеанизма в государствах Ла­
тинской Америки.
14. Антиглобалистская концепция субкоманданте Марко­
са.
Литература
1. Васильев Л. С. История религий Востока: в 2 Т. М.: Выс­
шая школа, 1994. Т. 2.
2. Высоцкая Н. И. Эволюция национализма в Тропической
Африке. XX век. М.: Ин-т Африки РАН, 2003.
3. Гончарова Т. В. Индеанизм: идеология и политика. Боли­
вия, Перу, Эквадор. 50-60-е годы XX века. М.: Наука, 1979.
4. Добаев И. П. Исламский радикализм: генезис, эволю­
ция, практика. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2003.
5. Давидсон А. Б. Антирасистский расизм // Новая и но­
вейшая история. 2002. № 2. С. 51-71.
6. Игнатенко А. А. Ислам и политика: сб. статей. М.: Ин-т
религии и политики, 2004.
7. Идейные течения в Тропической Африке. М.: Наука,
1969.
8. Левин 3. И. Реформа в исламе. Быть или не быть? М.:
ИВ РАН: Крафт, 2005.
9. Национализм в Латинской Америке: политические и
идеологические течения. М.: Наука, 1976.
10. Нкрума К. Африка должна объединиться. М.: Наука,
1964.
11. Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему аль­
тернатива? М.: ИЛА РАН, 1992.
12. Семенов С. И. Мутации левой политической культуры
в цивилизационном контексте Латинской Америки. Сер. Ана­
литические тетради ИЛА РАН. М., 1999. Вып. 6.
13. Степанянц Μ. Т. Мусульманские концепции в филосо­
фии и политике (ΧΙΧ-ΧΧ вв.). М.: Наука, 1982.
338
Политические учения XX века
14. Субкоманданте Маркос. Четвертая мировая война.
Екатеринбург: Ультра: Культура, 2005.
15. Фадеева И. Д. Концепция власти на Ближнем Востоке.
Средневековье и Новое время. 2-е изд. М.: Восточная литера­
тура, 2001.
16. Френкель М. Ю. Общественная мысль Британской За­
падной Африки во второй половине XIX в. М.: Наука, 1977.
17. Фролова Е. А. Арабская философия. Прошлое и настоя­
щее. М.: Языки славянских культур, 2010.
18. Хомейни И. Путь к свободе: Речи и завещание. М.: Пелея, 1999.
Заключение
Авторы данного учебного пособия стремились ввести сту­
дентов-бакалавров в круг важнейших идей, проблем и спо­
ров мировой политической мысли, взятой в широком исто­
рическом и географическом контексте. И по мере знакомства
с книгой можно было видеть, что в зависимости от эпох и куль­
турных пространств соотношение научных и идеологических
компонентов политических учений существенно менялось.
В одни эпохи акцент делался на научных теориях, в другие
времена - на идеологических системах. Да и каждый из этих
компонентов по-разному представлен в различные историче­
ские периоды и в разных культурах: где-то политические уче­
ния ориентированы теоретически, а где-то - прагматически;
в одних политических культурах силен рациональный компо­
нент, в других - эстетический. Это, помимо прочего, учит нас
быть толерантными и гибкими (как в теории, так и на прак­
тике) в трактовке базисных понятий политических доктрин
и теорий, прежде всего — в понимании сути самой политики.
На протяжении всей книги читатель мог также убедить­
ся в том, что основные понятия политики по природе сво­
ей - «сущностно оспариваемые» понятия. Полемика легистов
и конфуцианцев в Древнем Китае, Платона и Аристотеля
в Древней Греции, либералов и консерваторов в Новое время
и т. д. - все эти многовековые дискуссии остаются актуальны­
ми и для любого мыслящего человека наших дней.
Конечно, в политических учениях Платона, Аристотеля,
Макиавелли, Гоббса, Маркса и др. были не только универ­
сальные, но и частные идеи, отвечавшие специфике своего
времени. Аристотель, к примеру, был «универсальной голо­
вой» Античности, но даже он не смог бы догадаться о гряду­
щем европейском капитализме и постиндустриальном обще­
стве, а его идея охотничьей науки о добывании рабов сегодня
ассоциируется скорее с восточным невольничьим рынком, чем
с европейской традицией прав человека. И тем не менее прав
340
Заключение
Г. Алмонд, замечая: «Современные ведущие политологи Р. Даль, С. Роккан, С. Липсет, С. Хантингтон, С. Верба или
Р. Патнэм - исходят практически из тех же предпосылок, что
и Аристотель в своей “Политике” и “Этике”»1.
Разумеется, изложить историю даже основных политиче­
ских теорий на страницах средних размеров книги - пред­
приятие рискованное и чреватое немалыми «потерями». Но,
сознавая ограниченность объема и задач изложения, авторы
учебника постарались нарисовать перед студентами хотя бы
контуры той великой духовной традиции, к которой будущие
бакалавры так или иначе начинают свое приобщение. Пусть
в этой картине-мозаике останется много незаполненных мест:
дальнейшее знакомство с профессией и личные интеллекту­
альные пристрастия помогут студентам довершить картину.
Авторам же книги остается лишь надеяться, что у молодых
ее читателей не иссякнет желание «рисовать», т. е. мыслить,
эту картину дальше.
1 Алмонд Г. А. Политическая наука: история дисциплины //
Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина,
Х.-Д. Клингеманна. М.: Вече, 1999. С. 74.
341
Словарь терминов
Абсолютизм (лат. absolutus - независимый, неограничен­
ный) - политический режим абсолютной монархии, возника­
ющий в позднем феодализме. При абсолютизме монарх обла­
дает законным (в отличие от тирана) правом принимать любое
решение по своему усмотрению. Идеологическим обосновани­
ем абсолютизма стал тезис о божественном происхождении
верховной власти.
Авиньонское пленение пап - вынужденное пребывание
римских пап во французском Авиньоне с 1309 по 1377 г.
(с перерывом в 1367-1370 гг.). Пленению предшествовала по­
беда французского короля Филиппа IV над папой Бонифаци­
ем VIII в споре о прерогативах духовных и светских властей.
В этот период политика пап (французов по происхождению)
в значительной мере определялась политикой французских
королей.
Автократор (др.-греч. αύτοκράτωρ - самовластный) - офи­
циальный грекоязычный эквивалент титула «император»; в
отличие от титула василевса, не мог быть разделен между со­
правителями.
Александрийская школа катехетов - древнейшее христи­
анское училище в г. Александрии, представленное рядом
выдающихся восточных богословов II-IV вв., развивавших
мистические и аллегорические (иносказательные) приемы
христианской экзегезы. Катехет (др.-греч. κατηχέω - (устно)
учить, наставлять) - лицо, излагающее учение христианской
веры в вопросах и ответах.
Арианство - течение в христианстве, получившее распро­
странение в IV-VI вв. Название происходит от имени основате­
ля учения - александрийского священника Ария, жившего в
III-IV вв. Ариане утверждали, что Бог Сын есть по отношению
к Богу Отцу некий новый, другой и производный (вторичный)
Бог. Арианство было предано анафеме на первом (Никейском)
вселенском соборе христианской церкви как еретическое.
342
Словарь терминов
Василеве (др.-греч. βασιλεύς - царь) - официальный титул
византийского императора с середины VII в. (после разгрома
Ирана в 627 г., за правителем которого ранее признавался
этот титул); неофициально употреблялся с IV в.
Великий западный раскол - раскол в римско-католиче­
ской церкви в 1378-1417 гг., когда сразу два (а с 1409 г. три) претендента объявили себя истинными папами. Раскол
в церкви произошел после смерти папы римского Григория
XI в 1378 г. Папскому расколу предшествовало «авиньонское
пленение пап».
Восточная деспотия - форма государственной власти, при
которой полномочия обожествляемого главы государства не
ограничены, светская и духовная власти объединены в одном
лице, власть отправляется многочисленной централизованной
бюрократией, а права и свободы личности тотально подавля­
ются.
Гностицизм - совокупность эклектических религиозно-фи­
лософских учений поздней Античности, в которых главным
было понятие гносиса (др.-греч. γνωσις - познание, знание)
как тайного знания о Боге и человеке, доступного лишь по­
священным. Обладание таким знанием трактовалось как путь
к истинному спасению, которое уготовано только избранным.
Доминат (лат. dominatus от dominus - господин) - поли­
тическая система поздней Римской империи, пришедшая на
смену принципату, при которой власть императора, реализу­
емая через разветвленный бюрократический аппарат, приоб­
ретает неограниченный характер, а личность императора обо­
жествляется; установлена императором Диоклетианом (284305 гг. н. э).
Ересь, еретик (др.-греч. αϊρεσις - выбор, намерение, избран­
ный образ жизни или мыслей) - отклонение от официально
признанных догматов церкви. В христианской традиции фе­
номен ереси связывается с человеческой гордыней как смерт­
ным грехом.
Иммунитет (лат. immunitas - освобождение, избавление) право (привилегия) неподсудности, защищенности от дей343
Словарь терминов
ствия государственной юрисдикции определенной личности
или территории; при феодализме - соединение землевладель­
ческих прав с политической властью над зависимым населе­
нием посредством исключения владений феодала из сферы
действия государственного права, судопроизводства и фи­
скальной системы.
Империй (лат. imperium) - в древнейшую эпоху сово­
купность прав римского царя, или рекса (лат. гех). В эпоху
Римской республики - полнота власти высших магистратов
(консулов и преторов), ограниченная коллегиальностью и го­
дичным сроком, а в пределах померия (сакральной городской
черты города Рима) также и интерцессией (правом отменять
решения) плебейских трибунов и правом провокации (апел­
ляции к народу), которым обладал римский гражданин. Сим­
волом империя служили фасции (лат. fasces) - перетянутые
красным шнуром либо связанные ремнями пучки вязовых
или березовых прутьев.
Историософия - учение, направленное на постижение со­
кровенного смысла истории как воплощения божественного
плана спасения человечества, понимание и переживание исто­
рии как теофании (др.-греч. Θεοφάνια) - непосредственного яв­
ления божества.
Каролингское возрождение - период культурного подъема
в Западной Европе в конце VIII - XI в. в период правления
франкских королей из династии Каролингов; характеризова­
лось - на фоне повышенного внимания к античному (латин­
скому) культурному наследию - расцветом наук и искусств,
учреждением новых школ и подготовкой образованных адми­
нистративных кадров для новой империи.
«Константинов дар» (лат. Constitutum Constantini) - под­
ложный дарственный акт Константина Великого (272-337)
римскому папе Сильвестру (?-335). Документ говорил о пе­
редаче Константином верховной власти над Западной Рим­
ской империей главе Римской церкви. С половины XI в.
«Константинов дар» служил одним из главных оснований
для папских притязаний не только на верховную власть
344
Словарь терминов
в церкви, но и на высший сюзеренитет в средневековой
Европе.
Конституционная монархия - форма правления, при кото­
рой главой государства является монарх, но его власть огра­
ничена конституцией. Обычно противопоставляется абсолют­
ной, или неограниченной монархии.
Лестничное право (очередной порядок) - древнерусская
система престолонаследия, согласно которой все княжеские
столы, начиная с киевского, распределялись между членами
рода Рюриковичей по их старшинству и в соответствии с по­
литическим и экономическим значением каждого княжества;
появление вакансии на любой из ступеней этой иерархии при­
водило к перемещению всех нижестоящих на более престиж­
ные престолы.
Либертарианство (англ, libertarianism) - политическая фи­
лософия, обосновывающая принципы общественного устрой­
ства исключительным правом собственности человека на свое
тело и продукты своего труда.
Маздеизм - название ряда древнеиранских религиозных
воззрений, происходящих от имени верховного божества Аху­
ра Мазды. Впервые культ Ахура Мазды распространился в
северо-западном Иране в VIII в. до н. э. Термин «маздеизм»
иногда употребляется как синоним зороастризма, хотя, по
другим трактовкам, он в качестве политеистической религии
предшествует дуалистическому учению Зороастра.
Монтанизм - христианская секта, основанная фригийцем
Монтаном (Montanus) в середине II в. Монтанисты ненавиде­
ли Римскую империю, предвещая близкое пришествие Спаси­
теля и установление его «тысячелетнего царства». М. осуждал
властолюбие иерархов церкви, проповедовал аскетизм, отказ
от собственности, мученичество во имя Христа. В монтанистских общинах царил демократичный дух первоначально­
го христианства.
Неоплатонизм - философско-мистическое направление
поздней Античности, возникшее в III в. н. э. и соединявшее
восточные учения с греческой философией, прежде всего с
345
Словарь терминов
идеями Платона и в меньшей мере - Аристотеля. Неоплато­
низм, не отказываясь от политеизма и языческой мифологии,
в то же время подчинял их более высокому принципу - Еди­
ному, которое можно было интерпретировать в монотеистиче­
ском духе.
Никейский символ веры - догмат о единосущной Троице
(Боге Отце, Боге Сыне и Боге Духе Святом). Принят и одобрен
первыми вселенскими соборами христианской церкви (Никейским в 325 г. и Константинопольским в 381 г.). Согласно
данной формуле, Бог Сын (Христос) равен, а не подобен Богу
Отцу (как утверждали последователи Ария).
Номинализм (лат. nomen - имя, название) - философское
учение, согласно которому всеобщие понятия, или универса­
лии, образуются только в человеческом уме посредством аб­
страгирования, а помимо этого не обладают никакой онто­
логической значимостью. В Средние века номинализм был
одним из течений схоластики, противостоящим реализму в
споре об универсалиях.
Номы (др.-греч. νομός, лат. nomus) - греческое и римское
название административной единицы в Древнем Египте (еги­
петское название звучит как «сепат»), утвердившееся с элли­
нистического периода и применяемое в науке к более древним
эпохам истории Египта.
НЭП (новая экономическая политика) - проводившаяся
в Советской России с 1921 по 1928 г. экономическая полити­
ка, сменившая политику военного коммунизма в годы Граж­
данской войны. НЭП предполагал замену продразверстки
(изъятие двух третей произведенного продукта) продналогом
(изъятие только одной трети), допущение рынка и различных
форм собственности (помимо государственной), а также при­
влечение иностранного капитала.
Патриархат (др.-греч. πατριαρχείο — власть отца) — форма со­
циальной организации, в которой мужчина играет доминиру­
ющую роль в семейной, хозяйственной и общественной жизни.
Полития (др.-греч. πολιτεία - политический строй, государ­
ство, гражданство) - понятие античной и византийской по­
346
Словарь терминов
литической теории и практики, означавшее систему управле­
ния государством и обществом, определенную политическую
традицию и совокупность граждан (подданных) конкретного
государства.
Политогенез — понятие, предложенное советским этногра­
фом Л. Е. Куббелем для обозначения генезиса и развития
политической подсистемы общества, которая может транс­
формироваться в государство или его аналог. В западной по­
литической антропологии для описания сходных явлений ис­
пользуется термин «процесс образования государства» (state
formation process).
Потестарно-политические системы (лат. potestas - сила,
мощь, власть) - термин, предложенный в советской этноло­
гии для обозначения организации власти в догосударственных обществах.
Принципат (лат. principatus, от princeps - первый, глава) политическая система ранней Римской империи (27 г. до н. э. 284 г. н. э.), при которой сосуществовали монархические и
республиканские институты власти, а император носил титул
принцепса - первого сенатора.
Ромей (др.-греч. ρωμαίος - римлянин) - самоназвание (политоним) православных подданных Византийской империи
(Ромейского царства (Βασιλεία'Ρωμαίων), Романии ('Ρωμανία)).
Самодержец (др.-рус. самодьржьць) - дословный перевод
греческого слова «автократор» (αύτοκράτωρ); неофициально
применялось по отношению к некоторым русским князьям
начиная с XII в.; с середины XVI в. - один из официальных
титулов правителей Московского государства.
Секулярный (лат. saeculum - срок жизни, век, поколение,
мир) - свободный от церковного влияния, светский, мирской.
В гуманитарном знании под «секуляризацией» понимают про­
цесс освобождения всех сфер общественной и личной жизни
из-под контроля религии.
Симфония (властей) (др.-греч. συμφωνία - согласие, гармо­
ния) - одно из ключевых понятий византийских учений о со­
отношении духовной и светской власти, в разных трактовках
347
Словарь терминов
означавшее либо разграничение их юрисдикции и взаимное
невмешательство в сферу ответственности друг друга (Новел­
лы Юстиниана), либо взаимозависимость и взаимообусловлен­
ность (Эпанагога патриарха Фотия).
Сотериология (др.-греч. σωτηρία - спасение, восполнение,
исцеление + λόγος - учение) - учение об искуплении и спасе­
нии человека и человечества, мира в целом.
Сюзеренитет-вассалитет - организация военного сословия
в виде иерархии, основанной на отношениях личного служе­
ния и покровительства, а также четкой фиксации прав и обя­
занностей вассала и сюзерена.
Табориты - радикальное крыло гуситов, т. е. участников
реформаторского религиозного движения XV в., вдохновлен­
ного идеями Яна Гуса. Название «табориты» происходит от
горы Табор, где был основан первоначальный лагерь привер­
женцев движения. Т. отрицали церковную иерархию, требо­
вали секуляризации (передачи светской власти) церковных
богатств, упразднения привилегий дворянства, ликвидации
крепостного права и феодальных повинностей.
Теократия (др.-греч. θεός - бог + κράτος - власть, могуще­
ство) - форма правления, при которой глава государства яв­
ляется одновременно его религиозным главой.
Теория двух истин - концепция западноевропейской сред­
невековой философии, признающая естественным несовпаде­
ние и/или противоречие между положениями философии и
теологии. В сфере политических учений это вело к выводу
о размежевании светской (государственной) и духовной (цер­
ковной) властей.
Термидор - буржуазный контрреволюционный перево­
рот (от названия переворота, осуществленного 9 термидора
(25 июля) 1794 г. во Франции, положившего конец диктатуре
якобинцев).
Феодализм - социально-экономический и политический
строй, в котором имеют место: 1) феодальная рента (сопряжен­
ное с внеэкономическим принуждением присвоение собствен­
никами земли части прибавочного продукта, произведенного
348
Словарь терминов
самостоятельно хозяйствующими, но лично и поземельно за­
висимыми от них крестьянами); 2) феодальная собственность
на землю (корпоративная собственность военного сословия на
землю, при которой владельческие права отдельного феодала
обусловлены несением службы и обеспечены действием имму­
нитета*); 3) сюзеренитет-вассалитет*.
Филиппика (др.-греч. Φιλιππικοί) - образное выражение для
обозначения гневной, обличительной речи. Впервые его при­
менил афинский оратор Демосфен, произносивший подобные
речи против македонского царя Филиппа II. С Демосфеном
сравнивал себя римский оратор Цицерон, называя свои обли­
чительные речи против Марка Антония «филиппиками».
Французские юристы XIII—XIV вв. - французские зако­
новеды, осуществлявшие запись «кутюмов» (фр. coutume) правовых обычаев внутри провинций, территорий и городов
в средневековой Франции. Политический смысл этой прак­
тики состоял в поддержке сильной монархической власти
как условия территориально-административного единства
Франции.
Хождение в Каноссу - датированный 1077 г. эпизод из
истории борьбы папы Григория VII с императором Священ­
ной Римской империи Генрихом IV, когда Генрих IV в ру­
бище кающегося грешника отправляется в итальянский за­
мок Каносса - вымаливать прощение у папы Григория VII.
«Хождение в Каноссу» стало со временем нарицательным
выражением для обозначения акта политического покаяния
и покорности.
Эллинизм - период в истории Восточного Средиземномо­
рья, длившийся со времен победы Македонии над Грецией до
завоевания Римом Египта как последнего эллинистического
государства (примерно 30-е гг. IV в. до н. э. - 30-е гг. I в.
до н. э.).
Эсхатология (др.-греч. έσχατον - последний, конечный +
λόγος - учение) - учение о конце света («светопреставлении»),
конечных судьбах человечества («большая эсхатология») и
каждого человека («малая эсхатология»).
349
Словарь терминов
Этатизм (государственничество) (фр. etat - государство) мировоззрение и идеология, абсолютизирующие роль государ­
ства в обществе. Этатизм предполагает максимальное подчи­
нение интересов личностей и групп государственным интере­
сам, а также активное вмешательство государства в экономи­
ческую и прочие сферы общественной жизни.
Учебное издание
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Редактор
Корректор
Компьютерная верстка
Н. В. Бирюкова
Н. В. Бирюкова
О. В. Наскаловой
Заказ № 6297. Формат 60x84 */16.
Усл. п. л. 20,46. Уч.-изд. л. 17,32.
Гарнитура Minion Pro. Бумага офсетная. Тираж 40 экз.
Издательство Южного федерального университета.
Отпечатано в отделе полиграфической, корпоративной и сувенирной продукции
Издательско-полиграфического комплекса КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ
344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1. Тел. (863) 247-80-51.