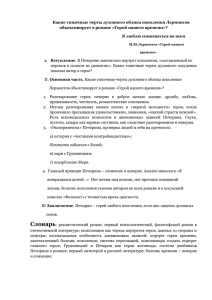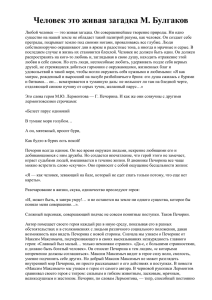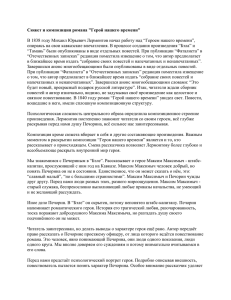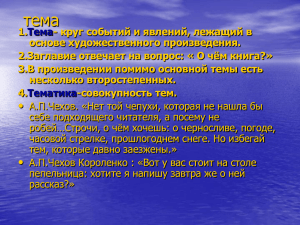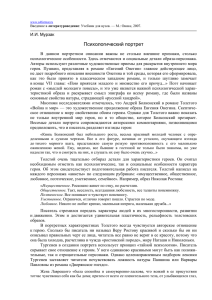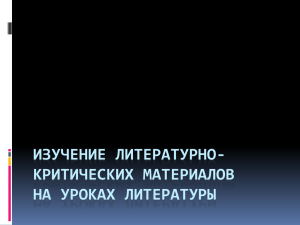ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В.И.ТЮПА
АНАЛИЗ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА
Рекомендовано
Учебно-методическим объединением
по классическому университетскому образованию
в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки «Филология»
3-е издание, стереотипное
ACADEM'A
Москва
Издательский центр «Академия»
2009
УДК 82.09(075.8)
ББК 83я73
Т984
Рецензенты:
доктор филологических наук, профессор
филологического факультета Московского государственного
университета им.М.В.Ломоносова О.А.Клине;
доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
теории литературы Тверского государственного университета И. В. Фоменко;
доктор филологических наук, профессор филологического факультета
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова Т. Д. Бенедиктова
В оформлении обложки использован фрагмент
картины Ван Го га «Звездная ночь»
Т984
Тюпа В.И.
Анализ художественного текста : учеб. пособие для студ.
филол. фак. высш. учеб. заведений / В. И.Тюпа. — 3-е изд.,
стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2009. — 336 с.
ISBN 978-5-7695-5848-1
Учебное пособие посвящено проблемам аналитического рассмотрения отдельных литературных произведений в их внутренней целостности.
В книге раскрываются теоретические вопросы, необходимые для анализа
художественных текстов, а также демонстрируется технология семиоэстетического анализа, ориентированного на полноту научного описания
объекта.
Для студентов филологических факультетов высших учебных заведе•*тй. MUJMM 15|>1ть рекомендовано аспирантам, преподавателям.
УДК 82.09(075.8)
ББК 83я73
Оригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом
без согласия правообладателя запрещается
ISBN 978-5-7695-5848-1
© Тюпа В. И., 2006
© Образовательно-издательский центр «Академия», 2006
© Оформление. Издательский центр «Академия», 2006
ПРЕДИСЛОВИЕ
Анализ художественного текста представляет собой особую литературоведческую дисциплину. Практика аналитического рассмотрения отдельных произведений в их внутренней целостности образует область научного познания, в равной степени близкую как
истории литературы, так и ее теории, но не сводимую ни к первой, ни ко второй. В отечественной традиции впервые на это указал А.П.Скафтымов в начале 1920-х годов, увидев потребность в
«теоретическом рассмотрении» отдельных произведений при изучении истории литературы1. О необходимости подвергать изучаемое произведение «эстетическому анализу» в 1924 г. писал М. М. Бахтин 2 . Значительный вклад в становление аналитического подхода
к литературным текстам внесли ученые, представлявшие так называемую формальную школу отечественного литературоведения
(Ю.Н.Тынянов, Б.М.Эйхенбаум, Б.В.Томашевский, В.М.Жирмунский, В.В.Шкловский и др.). Однако их работы принадлежали по преимуществу к области теории литературы (теоретической
поэтики).
Опыт квалифицированного литературоведческого анализа накапливался в работах Л.Я.Гинзбург, Г.А.Гуковского, Я.О.Зунделовича, А.В.Чичерина и др., но в целом советское литературоведение долгое время пренебрегало собственно анализом произведения в его художественной специфике, отдавая предпочтение
идеологическим интерпретациям и объяснениям, социально-историческому комментированию текстов. Мощный импульс обновления всей сферы духовной жизни в 1960-е годы ознаменовался,
в частности, появлением новаторской для своего времени статьи
3
М. М. Гиршмана , но только в 1970-е годы эта сторона науки о литературе получила в СССР официальное признание. В 1972 г. вы1
См.: С к а ф т ы м о в А.П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы // Ученые записки Саратовского
государственного университета. — Саратов, 1923. — Т. 1. — Вып. 3.
2
См.: Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном
художественном творчестве // Вопросы литературы и эстетики / М.М.Бахтин —
М., 1975.-С. 17.
3
См.: Гиршман М.М. Литературоведческий анализ: Методологические вопросы // Вопросы философии. — 1968. — № 10.
шли в свет пособия Б.О.Кормана 1 и Ю.М.Лотмана2, оказавшие
существенное влияние не только на практику университетского
преподавания филологических дисциплин, но и на академическую науку. В 1976 г. Академия наук (ИРЛИ) опубликовала коллективную монографию «Анализ литературного произведения». Знаменательной вехой явилась проведенная в 1977 г. кафедрой теории
литературы Донецкого университета представительная Всесоюзная конференция «Целостность художественного произведения и
проблемы его анализа в школьном и вузовском изучении литературы». Активное обсуждение методологии литературоведческого
анализа продолжалось и далее3; широко публиковались статьи,
посвященные монографическому анализу конкретных произведений, выходили многочисленные сборники таких статей. Во многих провинциальных университетах (раньше, чем в столичных)
анализ художественного текста стал одной из ключевых дисциплин в профессиональной подготовке филолога. Наконец, в «Литературном энциклопедическом словаре» 1987 г. за анализом художественного текста был закреплен статус самостоятельной области литературоведческого познания.
Однако и до сего времени эта дисциплина преподается отнюдь
не повсеместно, а значительное количество профессиональных
читателей (литературоведов, критиков, учителей литературы) не
владеет методологией литературоведческого анализа в полной мере.
В действительности далеко не все, что именуется «анализом произведения», таковым является. Нередко так называют проблемные рассуждения о произведении с обильным его цитированием
и указанием на отдельные «приемы»; или различного рода комментирование текста; или его лингвистический анализ, при котором художественная реальность произведения остается в принципе скрытой, как и при последовательно социологическом или психоаналитическом подходе.
Но и в случае преследования собственно литературоведческой
цели «рассмотреть художественное целое как единый, динамически развивающийся и вместе с тем внутренне завершенный
мир» всегда имеется, как справедливо отмечает М.М.Гиршман,
опасность подмены подлинного анализа либо «механическим подведением различных элементов под общий смысловой знаменатель (единство без многообразия)», либо «обособленным рас1
Корм а н Б.О. Изучение текста художественного произведения. — М., 1972.
Л о т м а н Ю.М. Анализ поэтического текста. — Л., 1972.
3
См.: Гиршман М.М. Путь к объективности // Вопросы литературы. —
1978. — № 1; Тюпа В. И. Научность литературоведческого анализа как проблема //
Филологические науки. — 1978. — № 6; Ф е д о р о в В. В. Литературоведческий
анализ как форма читательской деятельности // Проблемы истории критики и
поэтики реализма. — Куйбышев, 1980.
2
смотрением различных элементов целого (многообразие без единства)»1.
Настоящее пособие ставит перед собой две главные задачи.
Первая состоит в том, чтобы показать практически, с минимально необходимым теоретическим комментарием основные
пути специфического (эстетически ориентированного и в этом
смысле целостного) научного анализа различных литературных
текстов — анализа, избегающего указанных выше уклонений и
подмен. При этом представляется важным погружение читателя
в аналитическое рассмотрение единичных художественных произведений, поскольку научиться литературоведческому анализу
можно только таким способом — путем полноценного вхождения в проблемное поле того или иного конкретного литературного феномена. Перечисление принципов и приемов аналитической работы, отвлеченное от литературного материала в его
живом читательском восприятии или даже подкрепленное выхваченными из него «иллюстрациями», в данном случае ни к чему
не ведет.
Однако предварительное разъяснение теоретических оснований
аналитической практики литературоведения все же необходимо.
Этому посвящены две первые главы настоящего пособия и вводные разделы двух заключительных глав.
Главы 3 и 4 демонстрируют технологию семиоэстетического
(учитывающего как семиотическую природу литературного текста, так и эстетическую природу художественного произведения)
анализа, ориентированного на полноту научного описания изучаемого объекта. Впрочем, изложение процедуры описания детализации и речевого строя «Фаталиста» М. Ю.Лермонтова несколько
сокращено по причине своего слишком большого объема. Анализ
в этих главах сосредоточен на таких аспектах рассмотрения, которые в той или иной степени необходимы для полноценного изучения любого литературного произведения. В этом смысле можно
говорить о предлагаемом алгоритме литературоведческого анализа.
Значительная часть аналитического исследования подобного
рода, как правило, не выносится в окончательный текст завершенной научной работы, составляя ее «технологический» базис
(если, разумеется, мы имеем дело с подлинно научным результатом). Поэтому последующие главы пособия представляют собой
более свободную демонстрацию аналитики текстов. Это исследовательские прочтения, отдающие предпочтение идентификационному пути анализа (см. ниже) и приближенные к современному формату «нормального» научного сообщения в области литературоведения.
'Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория и практика анализа. —
М., I 9 9 I . - C . 70.
При этом главы 5 — 8 содержат примеры аналитического подхода к различным по степени своей внутренней связности текстовым образованиям, имеющим место в литературе: фрагменту завершенного целого и незавершенному наброску, циклу литературных произведений, сложносоставному художественному целому (псевдоциклу) и своего рода «гиперциклу» (интертекстуальному образованию).
Наконец, главы 9—10 посвящены теоретическим вопросам
и практическим демонстрациям относительно нового для отечественной научной традиции дискурсного (в частности, нарратологического) анализа художественных текстов как высказываний
(коммуникативных событий). Анализ этого рода ставит и решает
уже не столько эстетические, сколько риторические («неориторические») проблемы изучения литературы.
В данном пособии встречается немалое количество непривычной терминологии, часть которой приведена в специальной таблице (см. табл. 3). В то же время в стороне остались некоторые привычные понятия — такие, как «образ», «идея», «прием». Дело в
том, что современное литературоведение переживает глубокое обновление научного языка. Это неизбежный и закономерный процесс, время от времени ввергающий науку в «переходное» состояние. В таких ситуациях в равной степени важно и не утрачивать
накопленного ранее в формах устаревающего языка, и не закрывать глаза на открывающиеся перспективы непрерывно обновляющегося научного мышления.
Вторая задача настоящего пособия как раз и состоит в том,
чтобы ввести читателя в этот двоякоориентированный контекст
совершающихся эпистемологических (от греч. episteme — 'знание')
изменений.
На всем протяжении книги цитаты из анализируемых текстов
оформлены курсивом или даны мелким кеглем, а подчеркивания
в этих цитатах принадлежат автору пособия.
«Анализ художественного текста» входит составной частью в
комплекс учебных пособий по теории литературы, подготовленных и выпущенных издательством «Академия»: Н.Д.Тамарченко,
В. И.Тюпа, С. Н.Бройтман. Теория литературы: В 2 т. М., 2004;
Н.Д.Тамарченко. Теоретическая поэтика: Хрестоматия-практикум.
М., 2004; С.Н.Бройтман. Историческая поэтика: Хрестоматияпрактикум. М., 2004; Магомедова Д.М. Филологический анализ
лирического стихотворения. М., 2004.
ГЛАВА 1
НАУЧНОСТЬ ПЕРЕД ЛИЦОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ
Литературовед, анализирующий текст художественного произведения, неизбежно оказывается в парадоксальной ситуации: наука перед лицом искусства. Одна духовная деятельность со всей
глубиной своей специфики является предметом другой духовной
деятельности, глубоко отличной по своей специфике от первой.
Эпистемологическая проблема научного изучения эстетической
реальности как реальности совершенно особого рода раньше многих других была осознана А. П.Скафтымовым: «В связи с квалификацией материала истории литературы как эстетической реальности проблема опознания фактов изучения встала перед исследователем с иными требованиями. Теперь литературный факт,
даже при наличности его непосредственного восприятия, предстоит как нечто искомое и для научного сознания весьма далекое
и трудное»1.
Обозначенная ситуация изначально внутренне конфликтна. Если
важнейшим критерием научности познавательных актов сознания
является воспроизводимость (верифицируемость) их результатов,
то подлинно творческий акт эстетической деятельности характеризуется именно невоспроизводимостью (уникальностью), что и
представляет собой один из ключевых критериев художественности. Отсюда вновь и вновь возникающие сомнения в правомочности и небесплодности научного подхода к художественному творению.
Впрочем, оправданность и целесообразность ненаучного рассмотрения художественных явлений не менее проблематична. Так,
О.Мандельштам в начале 1920-х годов решительно утверждал:
«Легче провести в СССР электрификацию, чем научить всех грамотных читать Пушкина, как он написан, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности. <...> Читателя нужно поставить на место, а вместе с ним
и вскормленного им критика. Критики, как произвольного истолкования поэзии, не должно существовать, она должна уступить
' С к а ф т ы м о в А.П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы. — С. 56. См. также: С е з е м а н В.Э.
Эстетическая оценка в истории искусства // Мысль. — 1922. — № 1.
объективному научному исследованию — науке о поэзии»1. Суждение гениального поэта отнюдь не беспочвенно: литературная
критика, не опирающаяся на квалифицированный анализ текста,
оказывается в межеумочном положении между творческой его
интерпретацией (в театре, например) и научным знанием. Порывая с научностью, критика отнюдь не приближается к художественности: ее удел в таком случае — злободневная публицистичность или безответственность частного мнения.
Споры о научных возможностях литературоведческого анализа
порой питаются недоразумением. Нередко научность отождествляют с путями познания, выработанными так называемыми естественно-научными дисциплинами, а то и просто с объективностью. Но прислушаемся к суждениям одного из виднейших ученых
XX в.: «Классическая физика основывалась на предположении —
или, можно сказать, на иллюзии, — что можно описать мир или,
по меньшей мере, часть мира, не говоря о нас самих. <...> Ее успех
привел к всеобщему идеалу объективного описания мира». Однако, писал далее Вернер Гейзенберг, «мы должны помнить, что
то, что мы наблюдаем, — это не сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов». Поэтому даже в физике «наше
описание нельзя назвать совершенно объективным»2.
Проверяемость научного знания не сводится к объективности.
Верификация интерсубъективна, а научное познание (как и художественное творчество) есть особый способ духовного общения
людей. Как говорил Нильс Бор, «естествознание состоит в том,
что люди наблюдают явления и сообщают свои результаты другим, чтобы те могли их проверить»3. Иначе говоря, «наука возникает в диалоге». Эта формула принадлежит не филологу, а физику
В. Гейзенбергу, предлагавшему не преувеличивать роль экспериментальное™ в специфике естественно-научного познания: хотя
такие науки, как физика, и опираются на эксперимент, «они
приходят к своим результатам в беседах людей, занимающихся
ими и совещающихся между собой об истолковании экспериментов»4.
Воспроизводимость результата, будучи наиболее общезначимым
критерием научности, реализуется различно — в зависимости от
специфики предмета данной научной дисциплины. Однако имеются и общенаучные особенности верифицируемости — качественно
иные на каждом из возможных уровней (ступеней) научного познания. Всего может быть выявлено пять таких уровней — единых
' М а н д е л ь ш т а м О.Э. Слово и культура: Статьи. — М., 1987. — С. 46, 47.
Г е й з е н б е р г В. Физика и философия: Часть и целое. — М., 1989. — С. 26, 27.
3
Там же. - С . 254.
4
Там же, — С. 135.
2
для науки в целом, но специфически проявляющихся в многообразных областях знания, объединяемых установкой на научность:
5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
4. ОБЪЯСНЕНИЕ
3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
2. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
1. ФИКСАЦИЯ
Разумеется, отдельное научное сочинение не обязательно совмещает в себе все пять перечисленных ступеней познания. Однако любое научное суждение, входящее в состав такого сочинения, принадлежит одному из этих уровней, т.е. обладает одним из
модусов научности.
Научное мышление в отличие от художественного, как известно, имеет дело с фактами, а не с вымыслами (фантазмами). Фиксация, систематизация, идентификация, объяснение, интерпретация суть операции (различного уровня) с научными фактами.
Однако, констатируя это, мы не всегда задумываемся о подлинном статусе научного факта.
Действительность как таковая интегральна, континуальна, едина в себе, нераздельна. Она не распадается на «кусочки» реальности, которые бы являлись независимыми от сознания фактами.
Ни вещь, ни существо, ни процесс, ни событие — никакое явление реальности само по себе научным фактом еще не является.
Для этого нужен наблюдатель, занимающий по отношению к реальности соответствующую позицию — позицию актуализации
реальности в том или ином ее аспекте, ракурсе, контексте. Научный факт — это всегда ответ реальности на вопрос ученого, это
не безразличная к человеку действительность, но ее актуальность
для человека, на чем настаивал В. Гейзенберг.
Поэтому научная констатация фактов (ступень фиксации) никогда не бывает пассивным запечатлением чего-то однозначно
объективного. Фиксация научного факта неотделима от специального
языка, выработанного в данной сфере научного общения людей.
Простейший пример: одна и та же температура будет зафиксирована — по Цельсию и по Фаренгейту — разными цифровыми показателями. Перемена научного языка, представляющего собой систему
категорий актуального членения действительности, неизбежно приводит к некоторого рода изменениям и «фактической» картины мира.
С точки зрения литературоведческого анализа текста в роли
научных фактов выступают не сами по себе знаки и структуры, а
«факторы художественного впечатления»1, из которых, собственно говоря, и складывается литературный текст как материальный
' Б а х т и н М. М. Вопросы литературы и эстетики. — С. 47.
субстрат эстетической реальности художественного произведения.
Принципиальный разрыв между «читательским переживанием» и
«исследовательским анализом», на котором настаивал классический структурализм1, бесперспективен, поскольку — воспользуемся мыслью И.П.Смирнова — «ведет к тому, что из виду упускается эстетически имманентное, "литературность", уникальность
словесного искусства в ряду остальных дискурсов»2. Как писал в
свое время Г. Г. Шпет, «характеристика эстетического объекта не
уйдет далеко, если не будет сообразовываться с анализом феноменологической структуры фантазирующего сознания»3. Иначе
говоря, научная «объективность» литературоведа отнюдь не предполагает его отрешенности от своей эстетической впечатлительности. Она состоит лишь в том, чтобы фиксировать факторы не
только одного собственного художественного впечатления, но и
все те упорядоченности текстуальной данности произведения,
какие могли бы быть восприняты и эстетически пережиты каждым потенциальным читателем.
В качестве более высокой ступени научного познания систематизация означает обнаружение таких связей и отношений между
фактами, которые уже не могут быть зафиксированы непосредственно, однако могут быть верифицированы опосредованно —
путем эксперимента или доказательной реконструкции. На этом
уровне научного мышления отдельный факт утрачивает самоценность, выступая лишь несамостоятельным фрагментом некоторого научно-актуального явления, частью целого. Активность познающего субъекта здесь возрастает, но одновременно возрастает
и зависимость воспроизводимого (не произвольного!) результата
систематизации от объективных свойств данной системы взаимосвязанных и взаимозависимых фактов. Эта парадоксальная тенденция одновременного возрастания значимости и того и другого
полюсов актуализации реальности сохраняется и на всех последующих этапах научного познания.
Идентификация как модус научности предполагает определение типа, класса, разряда познаваемого явления, т.е. введение
эмпирически выявленной единичной, частной системы фактов в
рамки иной системы более высокого (теоретического) порядка.
Это означает возведение данного варианта конфигурации фактов
к некоторому инварианту. Так, систематизация зафиксированных
метеорологических наблюдений позволяет эмпирическое множество взаимосвязанных и взаимозависимых фактов идентифицировать как циклон или антициклон и т.п.
1
См.: Л о т м а н Ю.М. Анализ поэтического текста.
С м и р н о в И. П. На пути к теории литературы. — Амстердам, 1987. — С. 4.
3
Ш п е т Г. Г. Проблемы современной эстетики // Искусство. — 1923. — № 1. —
С. 72.
2
10
Воспроизводимость результата на уровне идентификации — это
согласие с принадлежностью изучаемого единичного явления к тому
или иному типу таких явлений. В литературоведении, занимающемся феноменами эстетическими, т.е. в высшей степени целостными, речь должна идти о типах художественной целостности (завершенности) — жанрах (типах литературности), эстетических модальностях (типах художественности), культурных парадигмах художественного творчества (так называемых «направлениях»)1.
Если на уровне систематизации изучаемое явление, даже самое заурядное, рассматривается в качестве некоторой индивидуальности, то на уровне идентификации даже самое поразительное явление должно быть понято как типологически определенное. Если наблюдатель не в состоянии идентифицировать наблюдаемое в категориях, выработанных данной наукой, то его внимание к объекту можно квалифицировать как любование, негодование, удивление, испуг — но не как научное познание.
Перечисленные ступени постижения некоторой реальности в
совокупности представляют законченный цикл аналитической
процедуры. Это и есть уровни научного анализа. При этом фиксацию и систематизацию обычно объединяют под именем научного
описания. Идентификации же, или, иначе говоря, типологии изучаемого, принадлежит особая, ключевая роль в ходе научного познания. Но в отрыве от научного описания она лишается верифицируемое™, оборачивается всего лишь интуитивной догадкой,
непроверенной гипотезой.
Идентификация, подготовленная научно корректной фиксацией и систематизацией фактов, — это горизонт научного анализа. Располагающиеся за этим горизонтом объяснение и интерпретация представляют собой такие модусы научности, которые опираются на данные анализа. Когда же под ними нет аналитической
базы, то о воспроизводимости этих интеллектуальных действий
говорить не приходится.
Объяснение в литературоведении представляет собой реконструкцию причинно-следственной картины возникновения литературных произведений как звеньев литературного процесса и симптоматических проявлений общекультурных, в частности идеологических, исторических тенденций общественной жизни. Выстраивание объяснительных контекстов такого рода составляет область
истории литературы. Для современной научной ситуации наиболее актуальна компаративная стратегия объяснения2, оттесняющая на периферию литературного знания доминировавшие преж1
См.: Т а м а р ч е н к о Н.Д., Тюпа В.И., Б р о й т м а н С.Н. Теория литературы: В 2 т. — М., 2004.
1
См.: Тюпа В.И. Компаративизм как научная стратегия гуманитарного познания // Филологические науки. — 2004. — № 6.
11
де стратегии биографического психологизма и марксистского социологизма.
Интерпретация представляет собой установление смысла познаваемых явлений: смыслополагание или смыслооткровение
(в зависимости от того, мыслит ли ученый смысл как нечто привносимое от себя или как действительно присутствующее в познаваемом). Научная интерпретация хотя и существенно отличается от интерпретации художественной, религиозной, публицистической, но уже не может быть представлена знанием в строгом значении этого слова. Если первые четыре модуса научности
можно считать формами знания, то последний следует трактовать как понимание.
Эту интеллектуальную операцию нельзя свести к объяснению,
которое, отвечая на вопрос «почему?», всегда обращено из настоящего в прошлое. Интерпретация же, напротив, ориентирована
на будущее, поскольку всегда явно или неявно отвечает на вопрос «зачем?» (какое концептуальное значение данный факт имеет
или может иметь для нас). Очень существенно, как замечал Бахтин, что «при объяснении — только одно сознание, один субъект;
при понимании — два сознания, два субъекта. К объекту не может
быть диалогического отношения, поэтому объяснение лишено
диалогических моментов»1, тогда как интерпретация является диалогизированным отношением к предмету познания. Объяснять
личность человека означает мысленно превращать се в безответный объект собственного интереса. И напротив, к природному
явлению можно относиться как к субъекту особого рода, что и
произошло, на взгляд Бахтина, в квантовой механике.
В науках о природе интерпретация, в сущности, сводится к
прогнозированию, чем и отличается от объяснения. Прогнозирование в науке о литературе также имеет место, но это отнюдь не
пустые гадательные предсказания ожидаемых тенденций литературного развития: в отличие от комет творческие искания художников не имеют исчислимых траекторий. Прогнозирование в области литературы — это истолкование текста, основанное на его
анализе (т.е. на низших, но необходимых стадиях исследования)
и потому прогнозирующее адекватное восприятие текста читателем. «Процесс постижения смысла» художественных творений, по
формулировке В. Е.Хализева, предстает выявлением «диапазона
2
корректных и адекватных прочтений» .
Литературоведческая интерпретация как «рационализация смысла» (М.М.Бахтин), раскрывая семантический потенциал данного
текста, рассказывает не о том, как некто прочел это произведение
(таковы интерпретации художественные или публицистические),
' Б а х т и н М.М. Собрание сочинений: В 7 т. — М., 1996. - Т. 5. - С . 318.
Х а л и з е в В.Е. Теория литературы. — М., 1999. — С. 290.
2
12
но о том, какого рода перспективы восприятия ожидают всякого,
обладающего достаточной для этого текста культурой художественного восприятия. Задача интерпретатора произведения искусства,
говоря словами Ф. Шлейермахера, — постичь смысловую содержательность данной художественности «лучше, чем ее инициатор»1,
т.е. актуализировать сверхиндивидуальную значимость художественного целого в горизонте современного эстетического опыта. Поскольку этот горизонт исторически динамичен, постоянно смещается и трансформируется, в науке об искусстве имеет место принципиальная незавершимость изучения произведений: никакой самый блестящий анализ художественного шедевра не способен стать
основанием для последнего, завершающего слова о нем.
Разумеется, нет и не может быть двух идентичных прочтений
одного художественного текста. Даже у одного и того же читателя
каждое новое прочтение не тождественно предыдущим, поскольку помимо объективных предпосылок, заключенных в тексте, художественное восприятие определяется и множеством субъективных предпосылок. Однако при всем при этом можно «читать Пушкина, как он написан» (О. Мандельштам), а можно читать и превратно, игнорируя или не умея актуализировать объективно наличествующие в тексте факторы художественного впечатления.
Литературоведческий анализ как раз и является тем «подразделением» науки о литературе, которое призвано устанавливать некий сектор адекватности читательского сотворчества, выявлять для
данного произведения границы этого сектора, за которыми начинается область читательского произвола — разрушительного (при
всей микроскопичности каждого единичного прочтения) для сферы художественной культуры в целом.
Научный анализ в области гуманитарных дисциплин — это особая, специфическая интеллектуальная операция. Распространенная аналогия с разложением вещества на химические элементы
здесь не более чем весьма поверхностная метафора. «Анализ, пользующийся методом разложения на элементы, не есть, в сущности,
анализ в собственном смысле слова, приложимый к разрешению
конкретных проблем», — писал Л.С.Выготский. Аналитический
подход к целостному явлению он мыслил «расчленяющим сложное единство <...> на единицы, понимая под последними такие
продукты анализа, которые <...> в отличие от элементов не утрачивают свойств, присущих целому и подлежащих объяснению, но
содержат в себе в самом простом, первоначальном виде те свой2
ства целого, ради которых предпринимается анализ» .
' Ш л е й е р м а х е р Ф.Д. Герменевтика // Общественная мысль. — М., 1993. —
Вып. IV. - С. 233.
2
В ы г о т с к и й Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. - М, J982—1984. - Т. 2. С. 296, 297.
13
Данное рассуждение полемично по отношению к более архаичной «поэлементной» стратегии анализа, новейшие модификации которой в последние десятилетия с легкой руки Жака Дерриды получили наименование деконструкции. Классическое обоснование аналитической операции такого рода принадлежит
Ролану Барту: «Текстовый анализ не ставит себе целью описание
структуры произведения; задача видится не в том, чтобы зарегистрировать некую устойчивую структуру, а скорее в том, чтобы <...> увидеть, как текст взрывается и рассеивается в межтекстовом пространстве (языка. — В. Т.). <...> Мы не ставим перед
собой задачи найти единственный смысл, ни даже один из возможных смыслов текста. <...> Наша цель — помыслить, вообразить, пережить множественность текста, открытость процесса означивания»1.
В противовес подобным установкам на произвольность исследовательских прочтений Ю. М. Лотман справедливо утверждал, что
собственно анализ «в принципе требует полного описания», которое есть «не перечень тех или иных элементов», а «выявление
системы функций»2. Полноценный литературоведческий анализ —
это всегда так называемый целостный анализ: выявление не строительного материала, а конструктивных соотношений целого как
«сложно построенного смысла»3.
Идея целостного анализа отнюдь не предполагает, что анализ
произведения непременно должен быть всеобъемлющим. Анализу
может быть подвергнут определенный фрагмент текста, но он при
этом должен быть рассмотрен не изолированно, а как неотъемлемая часть данного художественного целого. Анализу может быть
подвергнута только одна или несколько граней художественного
единства, но объект научного описания при этом должен быть
равнопротяженным тексту произведения (или фрагмента), т.е.
«не субъективно-выборочным, а исчерпывающим»4. Это означает, что аналитическая операция филолога состоит в специальной
«разметке» текста на сегменты, т.е. в выявлении невычленимых
частей единого целого. Ошибочным является представление о литературоведческом анализе как о «химическом» разложении произведения на абстрактные элементы и приемы их соединения. Еще
менее можно назвать анализом выхватывание отдельных компонентов и рассмотрение их вне функциональной принадлежности
целому. В подобном случае мы имеем дело уже не с анализом,
а только с комментированием.
1
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М., 1989. — С. 425, 426.
Л о т м а н Ю.М. Анализ поэтического текста. — С. 136.
Л о т м а н Ю.М. Лекции по структуральной поэтике // Ю.М.Лотман и тартусско-московская семиотическая школа. — М., 1994. — С. 88.
4
Л о т м а н Ю.М.В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. —
М., 1988.-С. 134.
2
3
14
Основные положения аналитического подхода к «установлению состава произведения (не его генезиса)» были сформулированы А. П. Скафтымовым еще в 1924 г. Исходя из того, что «в произведении искусства нет ничего случайного, нет ничего, что не
вызвано было бы конечной устремленностью ищущего творческого духа», он выдвинул следующие методологические требования к осуществлению аналитических операций при изучении литературы: а) «полнота пересмотра всех слагающих произведение
единиц» (на том или ином равнопротяженном тексту срезе анализа); б) «непозволительность всяких отходов за пределы текстуальной данности», чреватых «опасностью изменить и исказить
качественное и количественное соотношение ингредиентов» целого; в) сосредоточенность анализа на точке «функционального
схождения <...> значимости всех компонентов»1.
Последнее требование основывается на том, что поскольку
произведение искусства «представляет собою телеологически
организованное целое, то оно предполагает во всех своих частях некоторую основную установку творческого сознания, в результате которой каждый компонент по-своему, в каких-то предназначенных ему пунктах, должен нести общую единую устремленность всего целого»2. Назначение этих аналитических процедур в области истории литературы А. П.Скафтымов видел в
том, чтобы «достигнуть наиболее полной возможности проверки пределов оспоримости или непререкаемости отдельных наблюдений и общих выводов комментаторов»3. Приведенные положения, в особенности же ключевой постулат равнопротяженности объекта анализа тексту («если охват анализа не должен
быть меньше произведения, то он не должен быть и больше
его»), не утратили своего методологического значения и в наше
время.
В том же 1924 г. М.М.Бахтин обосновал понятие «эстетического анализа» как научного подхода к художественной реальности, конечная цель которого — «понять внешнее материальное произведение (т.е. текст. — В. Т.) <...> как совокупность фак4
торов художественного впечатления» в его эстетической целостности. Однако, чтобы оставаться в полной мере научным, эстетический анализ текста не должен упускать из виду знаковую
природу своего непосредственно объекта. Таков путь литературоведческого познания, вполне учитывающего специфику своего
предмета (целостность), но не покидающего рамок научности
(системности).
' С к а ф т ы м о в А. П. Тематическая композиция романа «Идиот» // Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. — М., 1972. — С. 23.
2
Там же. - С . 28-30.
3
Там же. — С. 27.
4
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. — С. 17, 18.
15
Целостность и системность не могут быть отождествлены, представляя собой два различных аспекта одного и того же. Эти фундаментальные моменты всеобщей организации действительности взаимодополнимы в их коренном диалектическом противоречии:
- если система дискретна, то целостность континуальна;
- если система представляет собой упорядочивающую дифференциацию множества элементов, то целостность является интегрирующей поляризацией взаимоопределяющих и взаимодополняющих сторон нерасторжимого целого;
- если в основе системности лежат оппозиционные отношения, то в основе целостности — доминантные;
- если система характеризуется управляемостью (связи и отношения между элементами подчиняются определенным системообразующим правилам), то целостность — саморазвитием и соответственно способностью к мутациям различного рода1, которые
системностью не предполагаются;
- если система принципиально воспроизводима — дублируема, логически моделируема, генетически или исторически наследуема, — то целостность самобытна, принципиально единична
как незаместимая проба эволюции.
В отличие от системности, выступающей предметом опосредованного и последовательного, поэтапного, логически расчленяющего рассмотрения, индивидуальная целостность — предмет непосредственного и сиюминутного эстетического рассмотрения.
Научному познанию с его фундаментальной установкой на воспроизводимость результата приходится ограничиваться «подстановкой» на место целостности адекватных ей в своей теоретической разработанности систем — этой «специфической предметности» (М.К. Мамардашвили) научного мышления.
В частности, литературоведу как ученому не остается ничего
иного, как анализировать объективную данность текста в качестве
системы, направляя по этому пути свое познание на интерсубъек2
тивную заданность произведения в качестве целостности, открывающейся ему лишь в субъективной данности его эстетического
переживания.
«Никакими теоретическими средствами, — писал Скафтымов, — живая полнота художественного произведения передана
быть не может, она доступна лишь непосредственному, живому
восприятию созерцателя. <...> Анализ приобретает смысл и значе1
Такова, в частности, жизнь многих художественных шедевров в веках культуры.
2
По мысли Н.Гартмана, в качестве эстетического объекта произведение искусства «всегда наличествует и ждет только момента, когда созреет воспринимающее сознание»; оно «нуждается в понимающем или узнающем сознании, которому оно может явиться» ( Г а р т м а н Н. Эстетика. — М., 1958. — С. 204, 127).
16
ние лишь в том, что он указывает и осознает направленность»
эстетического сопереживания, «конкретно осуществляемого лишь
при возвращении к живому восприятию самого произведения»1.
Сколько бы мы ни стремились к научной объективности, «исследователю художественное произведение доступно только в его
личном эстетическом опыте», где он «опознает те факты духовноэстетического опыта, которые развертывает в нем автор» посредством «значимости факторов художественного произведения»2. Для
научного определения эстетического феномена эта предварительная идентификация должна быть верифицирована: подтверждена, опровергнута или скорректирована.
По мысли С.М.Бонди, «всякое изучение ритмических явлений (в частности, изучение стиха) должно базироваться на непосредственном ритмическом впечатлении <...> а затем уже искать объективные закономерности в течении элементов этого
текста — закономерности, являющиеся причиной, возбудителем нашего ритмического чувства». Поэтому «научное изучение
ритмики стиха требует, чтобы под каждое высказывание субъективного впечатления была подведена объективная база, чтобы
всякий раз найдена была в самом объекте, в самом тексте стихотворения та специфическая закономерность, которая и вызывает данное ритмическое впечатление»3. Это методологическое
положение, несомненно, может и должно быть распространено
также и на все другие аспекты художественного целого: сюжет,
композицию и т.д.
Как уже было сказано, аналитическая работа литературоведа
имеет три ориентира: объективную данность текста, субъективную данность эстетического переживания, а также интерсубъективную заданность переживаемого смысла. Типовые ошибки литературоведческого анализа совершаются в результате утраты одного из этих ориентиров.
Удаляясь от объективной данности текста, профессиональный
читатель начинает анализировать лишь собственное читательское
впечатление (образы, порожденные его рецептивным сознанием).
Такая псевдоаналитическая интерпретация не может привести к
воспроизводимому (научному) результату.
Однако отстраняясь от субъективной данности текста читателю, «вынося за скобки» собственное художественное впечатление, литературовед теряет связь текста со смыслом произведения.
Этот смысл имеет интерсубъективную природу, и прикоснуться к
нему можно только посредством собственной живой субъективности. Говоря совсем просто: чтобы анализировать произведение
' С к а ф т ы м о в А.П. Тематическая композиция романа «Идиот». — С. 31.
Там же. - С . 58, 59.
3
Б о н д и С. М. О ритме // Контекст-Т^Ь^- Д1.,г1й7:ч-г£ iWfc 121
2
17
искусства, его необходимо любить; необходимо приобщиться к
«соборному» единению людей, субъективно переживающих внесубъективное содержание текста1.
Наконец, наиболее распространенная ошибка — подмена интерсубъективной заданное™ смысла его субъективной (авторской)
заданностью: разгадывание авторского «замысла», будто бы зашифрованного в знаках текста.
Напомним знаменитые слова Л. Н.Толстого, направленные против подобных угадываний «главной мысли» автора: «Если же бы я
хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом,
то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, сначала. <...> Во всем, что я написал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет
свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не
мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения»2.
Итак, анализ литературного произведения, обосновывающий
его объяснения и интерпретации, предполагает согласованное
единство: а) фиксации наблюдений над его текстом (освоение
объективной данности); б) систематизации этих наблюдений (освоение интерсубъективной заданности); в) некоторой идентификации данного художественного целого (освоение и корректировка субъективной данности).
Не следует, однако, думать, что любые суждения о произведении, принадлежащие к одному из перечисленных уровней научного познания, могут быть причислены к литературоведческому
анализу в истинном значении этого слова. Многие суждения такого рода представляют собой лишь комментирование текста большей или меньшей глубины проникновения, большей или меньшей широты охвата, большей или меньшей эвристической значимости.
Собственно анализ художественного текста может осуществляться в двух основных стратегиях: дескриптивной (описательной)
или идентификационной (типологизирующей).
В первом случае осуществляется последовательное движение от
фиксации ингредиентов изучаемого явления к его идентифика1
Ср. толстовское определение коммуникативной сущности искусства: «Всякое произведение искусства делает то, что воспринимающий вступает в известного рода общение с производившим или производящим искусство и со всеми
теми, которые одновременно с ним, прежде или после его восприняли или
воспримут то же художественное впечатление» ( Т о л с т о й Л.Н. Что такое искусство? // Толстой Л.Н. О литературе. — М., 1955. — С. 355).
2
Т о л с т о й Л.Н.Олитературе. — С. 155.
18
ции. Этот путь предполагает поиск целостности целого в составе
его частей. Точность и доказательность описательного анализа
выше, чем идентификационного, однако применение его к текстам большого объема технически весьма затруднительно.
Второй вариант аналитического изучения исходит из предполагаемого типа целостности и направлен на выявление слагающих это целое частей. Ведь в самом акте художественного восприятия, испытав соответствующее эстетическое воздействие, мы уже
с той или иной мерой отчетливости опознали специфическую
природу объекта изучения (этот момент интуитивной идентификации целого также является частью описательного исследования). Опираясь на субъективную достоверность эстетического переживания, типологический анализ предполагает обратное движение исследовательской мысли — от идентификации художественного впечатления к корректирующим ее систематизации и
фиксации.
Бахтин в свое время наметил следующий алгоритм идентификационного подхода: «Понять эстетический объект в его чисто художественном своеобразии и структуру его, которую мы в дальнейшем будем называть архитектоникой эстетического объекта, —
первая задача эстетического анализа.
Далее, эстетический анализ должен обратиться к произведению в его первичной <...> данности и понять его строение <...>
как явление языка. <...>
И наконец, третья задача эстетического анализа — понять внешнее материальное произведение как осуществляющее эстетический объект, как технический аппарат эстетического свершения»1.
При всей противоположности названных двух стратегий аналитического подхода к тексту они преследуют одну цель и в случае научной корректности проведенного анализа не должны приводить к принципиально разнящимся результатам.
Рассмотрев ситуацию литературоведческого анализа со стороны ее научности, далее следует перейти к вопросам художественности, т.е. родовой специфики феноменов искусства как объектов познания.
' Б а х т и н М.М. Вопросы литературы и эстетики. — С. 17.
ГЛАВА 2
СЕМИОЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ
Эстетическое представляет собой особый род отношений человека к действительности. В этом качестве оно соотносимо с категориями логического, этического и гедонистического, образующими своего рода внешние границы эстетического в культуре.
Эстетическое отношение не следует понимать слишком узко и
ограничивать любованием красотой предметов, любовным созерцанием явлений жизни. К сфере эстетического принадлежат также смеховые, трагические и некоторые иные переживания, предполагающие особое состояние катарсиса. Греческое слово «катарсис», введенное в теорию литературы Аристотелем, означает очищение, а именно: очищение аффектов (от лат. affectus — 'страсть',
'возбужденное состояние').
Иначе говоря, эстетическое отношение представляет собой
эмоциональную рефлексию. Если рациональная рефлексия является логическим самоанализом сознания, размышлением над собственными мыслями, то рефлексия эмоциональная — это переживание переживаний (впечатлений, воспоминаний, эмоциональных реакций). Такое вторичное переживание уже не сводится к
его первичному психологическому содержанию, которое в акте
эмоциональной рефлексии преобразуется культурным опытом личности.
Эстетическое восприятие мира сквозь одушевляющую призму
эмоциональной рефлексии не следует смешивать с гедонистическим удовольствием от реального или воображаемого обладания
объектом. Так, эротическое отношение к обнаженному человеческому телу или его изображению является аффектом — переживанием первичным, инстинктивным, тогда как художественное впечатление от живописного полотна с обнаженной натурой оказывается вторичным, одухотворенным переживанием (катарсисом) —
эстетическим очищением эротического аффекта.
Принципиальное отличие эстетического (духовного) отношения от гедонистического (физиологического) наслаждения состоит
в том, что в акте эстетического созерцания происходит бессознательная ориентация на духовно-солидарного «своего другого». Самим любованием эстетический субъект невольно оглядывается на
актуальный для него в данный момент «взгляд из-за плеча». Он не
20
присваивает эмоционально рефлектируемое переживание себе, но,
напротив, делится им с некоторого рода адресатом своей духовной активности. Как говорил М. М. Бахтин, «смотря внутрь себя»,
человек смотрит «глазами другого»1, поскольку всякая рефлексия
неустранимо обладает диалогической соотнесенностью с иным
сознанием, находящимся вне его сознания.
Логическое, будучи чисто познавательным, безоценочным отношением, ставит познающего субъекта вне познаваемого объекта. Так, с логической точки зрения рождение или смерть не хороши и не плохи, а только закономерны. Логический объект, логический субъект, а также то или иное логическое отношение между ними могут мыслиться раздельно, тогда как субъект и объект
эстетического отношения являются неслиянными и нераздельными
его полюсами. Если математическая задача, например, не утрачивает своей логичности и тогда, когда ее никто не решает, то предмет созерцания оказывается эстетическим объектом только в присутствии эстетического субъекта. И наоборот, созерцающий становится эстетическим субъектом только перед лицом эстетического объекта.
Нравственное отношение как сугубо ценностное в противоположность логическому делает субъекта непосредственным участником любой ситуации, воспринимаемой этически. Добро и зло
являются абсолютными полюсами системы моральных убеждений.
Неизбежный для этического отношения нравственный выбор ценностной позиции уже тождествен поступку даже в том случае,
если он не будет продемонстрирован внешним поведением, поскольку фиксирует место этического субъекта на своеобразной
шкале моральных ценностей.
Эстетическая сфера человеческих отношений не является областью знаний или убеждений. Это сфера мнений, «кажимостей»,
отношений вкуса, что и сближает эстетическое с гедонистическим. Понятие вкуса, его наличия или отсутствия, степени развитости предполагает культуру восприятия впечатлений, культуру
их эмоциональной рефлексии, а именно: меру как дифференцированное™ восприятия (потребности и способности различать
части, частности, оттенки), так и его интегрированности (потребности и способности концентрировать многообразие впечатлений в единстве целого). Ценностное и познавательное в отношениях вкуса выступают в их нераздельности, синкретической
слитности.
Для возникновения феномена эстетического (вкусового) отношения необходимы предпосылки двоякого рода: объективные
и субъективные. Очевидно, что без реального или квазиреального
(воображаемого, потенциально возможного, виртуального) объек1
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.— С. 312.
21
та, отвечающего строю эмоциональной рефлексии созерцателя,
эстетическое отношение невозможно. Но и в отсутствие субъекта
такой рефлексии ничего эстетического (идиллического, трагического, комического) в жизни природы или в исторической действительности не может быть обнаружено. Для проявления так
называемых эстетических свойств объекта необходима достаточно
интенсивная эмоциональная жизнь человеческого «я».
Объективной предпосылкой эстетического отношения выступает целостность, т.е. полнота и неизбыточность таких состояний
созерцаемого, когда «ни прибавить, ни убавить, ни изменить
ничего нельзя, не сделав хуже»1. Целостность служит нормой вкуса в такой же мере, в какой непротиворечивость служит нормой
логического знания, а жизненная благотворность — нормой этического поступка. При этом нечто логически противоречивое или
нравственно вредоносное вполне может производить весьма целостное, иначе говоря, эстетическое впечатление.
Впечатляющую целостность объекта созерцания обычно именуют словом «красота», но характеризуют им по преимуществу
внешнюю полноту и неизбыточность явлений. Между тем объектом эстетического созерцания может выступать и внутренняя целостность: не только целостность тела (вещи), но и души (личности). Более того, личность как внутреннее единство духовного «я»
есть высшая форма целостности, доступной человеческому восприятию. По замечанию А.Н.Веселовского, эстетическое отношение к какому-либо предмету, превращая его в эстетический
объект, «дает ему известную цельность, как бы личность»2.
В реальной действительности абсолютная целостность в принципе недостижима: ее достижение означало бы завершенность,
остановку самого процесса жизни (ср.: «Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!» в «Фаусте» Гёте). Вступить в эстетическое отношение к объекту созерцания означает занять такую «внежизненно
активную позицию» (Бахтин), с которой объект предстанет столь
целостным, сколь это необходимо для установления в акте эмоциональной рефлексии «резонанса... между встречающимися друг
с другом реальностями — разъединенной частицей, которая трепещет при приближении к Остальному»3, и целостностью мира.
Чтобы такой резонанс установился, необходимо, чтобы и личность со своей стороны обладала некоторой внутренней целостностью, позволяющей достичь то духовное состояние, «как будто
это две чаши весов (я и природа) приходят в равновесие, и стрелки останавливаются»4. Внутренняя целостность «порядка в душе»
' А л ь б е р т и Л. Б. Десять книг о зодчестве: В 2 т. — М., 1935. — Т. 1. — С. 178.
В е с е л о в с к и й А.Н. Историческая поэтика. — Л., 1940. — С. 499.
3
Т е й я р де Ш а р д е н П. Феномен человека. — М., 1965. — С. 261.
4
ПришвинМ.М. Собрание сочинений: В 8 т. — М., 1982—1986. - Т. 7. - С. 323.
2
22
(Пришвин) представляет собой духовную сосредоточенность человеческого «я», или, в терминах гуманистической психологии,
его самоактуализацию1. Такое состояние личности носит творческий характер и составляет субъективную предпосылку эстетического отношения.
Синкретизм (принципиальная неразъединимость) объективного и субъективного в эстетическом говорит о его древности,
изначальности в ходе эволюции человечества. Первоначально
«причастная вненаходимость» (Бахтин) человека как существа
духовного, но присутствующего в материальном бытии окружающей его природы, реализовывалась в формах мифологического
мышления. Но с выделением из этого синкретизма, с одной стороны, чисто ценностного этического (в конечном счете религиозного) мироотношения, а с другой — чисто познавательного
логического (в конечном счете научного) миропонимания эстетическое мировосприятие сделалось основой художественного
мышления и соответствующих форм деятельности.
Все, с чем человек имеет дело в своей жизни, является или
вещами, или существами (живыми вещами), или личностями, или
знаками. Для художника в его собственно художественной, специфической деятельности материалом являются только знаки. Размазывая краску по поверхности, маляр пользуется ею как вещью.
Живописец применяет, быть может, ту же самую краску, но как
изобразительно-выразительное средство, т.е. в знаковой функции.
Семиотической называется любая деятельность не с вещами,
существами или личностями как таковыми, а со знаками. Литература как один из видов искусства также является деятельностью
семиотической, знаковой. В качестве знаков в искусстве могут
выступать как специальные сигналы, выработанные людьми для
общения между собой (например, слова), так и вещи или живые
существа. Скажем, тело актера в ходе спектакля является именно
знаком; если мы по каким-либо причинам видим в нем телесное
живое существо, то собственно художественный эффект зрелища
исчезает. Поэтому цирк, будучи зрелищем мастерского владения
человеческим телом, не является искусством в том узком значении, в каком мы говорим о литературе, музыке, живописи или
театре.
Любая вещь, любое существо может служить знаком чего-либо.
Только личность всегда остается пользователем знаков, никогда
не становясь знаком чего-то другого. Сущность знака заключается
в том, что собой он замещает нечто. В качестве семиотической
деятельности искусство уходит своими корнями в магический
обряд, оперировавший заместителями тех объектов или сущностей, на которые направлялось магическое воздействие.
1
См.: М а с л о у А. Психология бытия. — М., 1997.
23
Однако по своей природе знаки не сводятся к замещающим
материальным явлениям. Вещи, в частности искусственные сигналы (например, буквы) или существа (в том числе люди, но не
в качестве личностей), становятся знаками, если вступают в особого рода отношения — семиотические. У каждого знака имеется
три стороны: означающая сторона, или иначе — имя знака, означаемая — значение знака и актуализируемая — его смысл. Каждая
из этих сторон является одним из тех семиотических отношений,
которые в совокупности и делают знак знаком.
Имя — это отношение знака к определенному языку. Если нет
соответствующего языка, не может быть и знака. Некий признак,
симптом болезни например, не может быть признан знаком в строго семиотическом смысле: известные медицине симптомы были
когда-то подмечены и описаны, но их никто не вырабатывал специально для общения пациента с врачом. Симптомы — естественны, безусловны; тогда как знаки — всегда условны, конвенциональны (от лат. convention — 'договор').
Следует подчеркнуть, что, говоря о языках, мы имеем в виду
не только естественные национальные языки, но и любые искусственные системы знаков, на основе которых можно строить тексты. А говоря о текстах, мы имеем в виду не только вербальные
(словесные), но и любые другие конфигурации знаков, наделенные смыслом.
Значение — это отношение знака к действительности, которая
при этом не обязательно является реальной. Чтобы служить знаком, нечто замещающее должно быть референтным (от лат. referens,
referentis — 'сообщающий', 'относящийся'), т.е. соотносимым
с замещаемой (моделируемой) им действительностью — реальной, виртуальной или мнимой. Значение знака есть модель некоторого явления жизни, а не сама жизнь, на которую знак
указывает.
Смысл — это отношение знака к понимающему сознанию, способному распознавать не только отдельные знаки языка, но и упорядоченные конфигурации знаков. Так, слово в словаре обладает
значением, но лишено смысла. Смысл оно обретает лишь в контексте некоторого высказывания — в сопряжении с другими знаками языка. Иначе говоря, смысл всегда контекстуален. Связный
текст наполнен потенциальными смыслами, которые воспринимающее сознание призвано актуализировать, т.е. выявить и сделать для себя действенными, концептуальными. Концептуальность
смысла предполагает его альтернативность (противоположность,
неотождествимость) иному или иным возможным в данном контексте смыслам. Смысл не является ни объективным, как значение, ни субъективным, как эмоционально-волевое отношение к
значению; он интерсубъективен — своей концептуальностью объединяет вокруг себя тех, кто его принимает.
24
Перечисленные свойства знаковости — конвенциональностъ,
референтность и концептуальность — присущи любой семиотической деятельности, включая все виды художественной деятельности. Последняя обращена к нашим ментальным (интеллектуально-психологическим) возможностям восприятия знаков со стороны: а) внутреннего зрения; б) внутреннего слуха и в) внутренней (недискурсивной, т.е. грамматически неоформленной) речи.
Так называемый родной язык не является врожденным. Человек
овладевает языком как внешним орудием коммуникации на основе внутренней речевой способности, которая, подобно зрению,
слуху, осязанию, обонянию и вкусу, принадлежит к числу врожденных человеческих свойств. Членораздельной внешней речью
ребенку приходится овладевать, прилаживая свою внутреннюю
речь к осваиваемому языку взрослых. Как утверждал Н.И.Жинкин, «применение натурального языка возможно только через фазу
внутренней речи»1. Вскрытые Л.С.Выготским механизмы «мысленного черновика» речевых актов: факультативность вокализации, чистая предикативность синтаксиса, агглютинативность семантики, превалирование смысла над значением — убедительно
свидетельствуют, что «перед нами действительно речь, которая
целиком и полностью отличается от внешней речи»2.
Семиотика внутренней речи глубоко специфична. В отличие от
семиотики языка, базирующейся, как известно, в левом полушарии человеческого мозга, это правополушарная семиотика. В недискурсивных формах этой семиотики и протекает эстетическая
деятельность как эмоциональная рефлексия.
Литература заметно выделяется среди прочих видов искусства
тем, что пользуется уже готовой, вполне сложившейся и наиболее совершенной семиотической системой — естественным человеческим языком. Однако она использует возможности этого первичного языка лишь для того, чтобы создавать тексты, принадлежащие вторичной знаковой системе3. Значения и смыслы речевых
(лингвистических) знаков в художественных текстах сами оказываются именами других — сверхречевых, металингвистических —
знаков, обращенных не к внешним, а к внутренним зрению, слуху и речи читателя. Художественной значимостью здесь обладают
не сами слова и синтаксические конструкции, но их внутритекстовые функции: кто говорит? как говорит? что и о чем? в какой
ситуации? кому адресуется сообщение?
' Ж и н к и н Н.И. Язык — речь — творчество. — М., 1998. — С. 159.
Вы г о т с к и й Л.С. Собрание сочинений. — Т. 2. — С. 352, 353.
3
Ср.: «Художественная литература говорит на особом языке, который надстраивается над естественным языком как вторичная система»; «чтобы некоторую совокупность фраз естественного языка признать художественным текстом,
следует убедиться, что они образуют некую структуру вторичного типа» ( Л о т м а н Ю. М. Структура художественного текста. — М., 1970. — С. 30).
2
25
Ни одно слово художественного текста не следует соотносить
непосредственно с личностью писателя. В литературных произведениях высказываются либо альтернативные автору фигуры (персонажи), либо его заместители — знаки авторского присутствия в
тексте (повествователи, рассказчики, хроникеры, лирические
субъекты). И те и другие в конечном счете обладают статусом литературных героев. Даже в самой интимной автобиографической
лирике автор — не тот, кто говорит, а тот, кто этого говорящего
слышит, понимает, оценивает как «другого».
Фигура действительного автора, согласно глубокой мысли
М. М. Бахтина, «облекается в молчание»1, а сама литература является искусством «непрямого говорения»2. Творец художественного
мира — субъект эстетических («внежизненно активных», по Бахтину), а не квазиреальных (как бы жизненных) переживаний —
обращается к нам не на житейски практическом языке слов, а на
вторичном (художественном) языке, поэтому ему принадлежит
только целое текста, смыслосообразно скомпонованное из речений по большей части вымышленных субъектов речи: «чужих»
ему или «своих других» для него. «От себя» писатель высказывается лишь в текстах, лишенных художественности.
Иногда, впрочем, писателю случается и в художественном тексте заговорить непосредственно от своего «я». Но в таких случаях
художественная ткань текста разрывается публицистической или
иной вставкой, где словам и речевым конструкциям возвращается их первичная знаковая природа.
Литературные тексты обращены к нашему сознанию не прямо, как это происходит в случае нехудожественной речи, а посредством нашего внутреннего зрения, внутреннего слуха и протекающего в формах внутренней речи сопереживания героям литературных произведений. Такого рода воздействие организовано
семиотической деятельностью автора, выстраивающего из тех или
иных первичных высказываний вторичное высказывание. Но чтобы совокупность знаков — факторов рецептивной (воспринимающей) деятельности сознания — предстала текстом, необходимо
наличие трех фундаментальных моментов3:
1) манифестированное™ (от лат. manifestatio — 'проявление'),
т.е. внешней явленное™ в знаковом материале, что отличает тексты от картин воображения;
2) пространственной (рамка, рампа) или временной (начало
и конец) внешней отграниченное™, что отличает тексты в качестве знаковых комплексов от таких безграничных знаковых комплексов, какими выступают языки;
•Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — С. 353.
Т а м ж е . - С . 289.
3
См.: Л о т м а н Ю. М. Структура художественного текста. — С. 67 — 69.
2
26
3) внутренней структурности, чем текст отличается от алфавита или случайного набора знаков.
Всякий знак, включая и такие специфические знаковые образования, какими пользуется искусство, помимо семантичности
(способности соотноситься с замещаемой реальностью) обладает
двумя важнейшими структурообразующими свойствами: синтагматичностью (от греч. syntagma — '[присоединенное') и парадигматичностью (от греч. paradeigma — 'образец'). Первое предполагает способность знака к конструктивному соединению с другими знаками, чем и обеспечивается возникновение текста. Второе предполагает способность знака к избирательному размежеванию с другими знаками, чем обеспечивается возникновение в
тексте смысла.
Если синтагматичность делает знак элементом текста, то парадигматичность — элементом языка. Обычное речевое высказывание
мы понимаем, соотнося его текст (синтагматическую совокупность знаков) с языком (парадигматической совокупностью знаков), известным нам заранее. Однако в случае полноценного художественного произведения дело обстоит иначе. Здесь высказывание в известном смысле предшествует языку, что и составляет
семиотическую специфику искусства как знаковой деятельности
совершенно особого рода.
При восприятии литературного произведения эту специфику
художественных высказываний легко упустить из виду: ведь национальный язык текста обычно нам уже известен. Но не художественный. Так, в повести Н. В. Гоголя «Нос» наиболее существенным знаком содержания выступает, несомненно, само исчезновение носа у майора Ковалева. Мотив пропажи носа — это, разумеется, знак, но чего? Не существует (отдельно от гоголевской
повести) такого языка, в словаре которого данному изменению
облика соответствовало бы определенное значение.
Семиотическое своеобразие искусства приводит к тому, что
художественный текст, взятый во всей его полноте, оказывается
подобен археографической находке — единственному дошедшему
до нас тексту на несохранившемся языке. Чтобы такой текст расшифровать, необходимо реконструировать его утраченный язык.
Перед аналитиком художественного текста встает в значительной
степени аналогичная задача.
Впрочем, всякое читательское понимание литературного произведения есть невольная попытка подобной реконструкции. Незаметно для читателя чтение художественного текста в известной
степени «превращается в урок языка»1, а каждое очередное его
прочтение подобно очередному высказыванию на этом индивидуальном языке. Литературовед в данном отношении оказывается
1
Л о т м а н Ю. М. Внутри мыслящих миров. — М., 1999. — С. 19.
27
в роли «профессионального читателя», который отдает себе отчет
в том, чем является событие чтения.
Разумеется, абсолютно уникальный текст в принципе невозможен, поскольку такое новообразование никем не будет воспринято в качестве текста. Многие моменты художественных языков интертекстуальны: встречаются в более или менее широком
круге иных произведений. Однако и в любом естественном языке
немало межъязыкового, интернационального: заимствованного из
других языков или унаследованного от праязыка.
Если эстетическое является характеристикой известного рода
духовных отношений (отношений вкуса), то художественное —
это характеристика некоторого рода семиотической деятельности.
Художественная деятельность предполагает достижение совершенства своих изделий (т.е. эстетической их целостности) как «рубежа», который, говоря словами Канта, «не может быть отодвинут»1. Иначе говоря, искусство (область такой деятельности), и в
частности искусство слова, являет собой высшую форму эстетических отношений. «Эстетическое созерцание природы, — писал
Бахтин, — эстетические моменты в мифе, в мировоззрении <...>
сумбурны, неустойчивы, гибридны. Эстетическое вполне осуществляет себя только в искусстве»2.
Эмоциональная рефлексия (эстетическое) является духовным
истоком созидания произведений искусства (художественного). Так,
аффект скорби — переживание нравственное и вполне духовное,
но первичное и непосредственное, завладевающее человеком,
который от горя может утратить контроль над собой. Для сообщения о своем горе ему достаточно первичной знаковой системы
(языка). Чувство же, высказываемое в элегии, сочиненной по поводу утраты, — переживание вторичное и опосредованное (в частности, опосредованное жанровой традицией написания элегий).
Это очищение аффекта скорби в катарсисе эмоциональной рефлексии требует от автора творческого самообладания, т.е. одухотворенного овладения своей эмоциональной жизнью и, как следствие, обращения к вторичной знаковой системе — художественному языку элегической поэзии.
Художественная деятельность является деятельностью переоформляющей, придающей чему-либо новую, вторичную форму. Разного рода ремесла привносят эстетический момент в свою практическую деятельность изготовления вещей в той мере, в какой эти
вещи украшают, т.е. придают им вторичную, дополнительную
значимость. Однако в области искусства, не имеющего утилитарной функции, переоформляющая деятельность направлена не на
' К а н т И. Критика способности суждения // Кант И. Сочинения: В 6 т. — М.,
1963-1966.-Т. 5 . - С . 325.
2
Вахт и н М.М. Вопросы литературы и эстетики. — С. 22.
28
материал, из которого «изготовляются» тексты, а на жизненное
содержание первичных переживаний. Порождаемый этой деятельностью эстетический объект М.М.Бахтин определял как «содержание эстетической деятельности (созерцания), направленной на
1
произведение» .
Всякое переживание ценностно, оно состоит в том, что явление кажется таким или иным, т.е. приобретает для субъекта жизни определенную «кажимость». Деятельность художника состоит в
переоформлении этих «кажимостей», или, говоря иначе, в сотворении новых образов жизни, новых форм ее восприятия в воображении. Сотворение духовной реальности воображенного мира выступает необходимым условием искусства. Без этого никакая семиотическая деятельность составления текстов не обретает художественности, точно так же, как никакая игра воображения без
ее семиотического запечатления в текстах еще не принадлежит к
сфере искусства.
Художественный образ — это тоже кажимость, т.е. «несуществующее, которое существует» (Гегель), не существующее в первичной реальности, но существующее в воображении — в замещающей (вторичной) реальности. Однако кажимость образа в искусстве наделена (в отличие от кажимости жизненного переживания) семиотической природой знака: 1) принадлежит какой-то
системе образов, выступающей в роли художественного языка;
2) служит воображенным аналогом какой-то иной действительности; 3) обладает какой-то концептуальностью (смыслом).
В то же время художественную деятельность невозможно свести к семиотической. Внешняя или внутренняя (мысленная) воспроизводимость является необходимой характеристикой знакового поведения. Если упорядочение соотносимых с языком знаков в
тексты не может быть никем воспроизведено, оно утрачивает свою
семиотическую функцию, ибо к области языка принадлежит только
то, что может повторяться.
Эстетическая же по своей природе деятельность художника,
напротив, не предполагает воспроизводимости, поскольку не сводится к простому созиданию, но оказывается сотворением — беспрецедентным созиданием. Невоспроизводимость — важнейшая
характеристика творческого акта в отличие от актов познания или
ремесленного труда, а подлинным произведением искусства может быть признано лишь нечто поистине уникальное. Основатель
философской эстетики Александр Баумгартен называл произведение искусства «гетерокосмосом» — другим (сотворенным)
миром.
Даже запечатление в произведении литературы или живописи
исторического лица является не простым воспроизведением, а со1
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. — С. 17.
29
творением его аналога, наделенного семиотической значимостью
и эстетически концептуальным смыслом. Если мы имеем дело с
художественной деятельностью, а не с ремесленной имитацией
черт облика или фактов биографии, то под именем реального
исторического деятеля (скажем, Наполеона в «Войне и мире»)
обнаруживается вымышленная автором человеческая личность —
ценностная кажимость (образ) его исторического прообраза. Личность героя оказывается субституцией (подстановкой), замещением первичной реальности исторического человека — реальностью вторичной, мысленно сотворенной и эмоционально отрефлектированной.
Эстетическое содержание эмоциональной рефлексии обретает
в искусстве образную форму творческого воображения: не вымысла
относительно окружающей действительности (это было бы ложью), а вымысла принципиально новой реальности. Способность
к такой деятельности И. Кант называл «гениальностью» и характеризовал ее как «способность создать то, чему нельзя научиться»1.
Образотворческая природа искусства, проявляющая себя в «законе оригинальности» (Ф.В.Шеллинг) — принципиальной невоспроизводимости творческого акта, — обусловлена его эстетической природой и притом обусловлена двояко.
Во-первых, вторичное переживание (эмоциональная рефлексия) осуществимо только в условиях вторичной же (воображенной) реальности. Даже самое жизнеподобное искусство сплошь
условно, поскольку призвано возбуждать не прямые эмоциональные аффекты, но их текстуально опосредованные, обусловленные художественной субституцией рефлексии: переживания переживаний. Если на театральной сцене, представляющей трагедию, прольется настоящая кровь, эстетическая ситуация мгновенно исчезнет. В этом смысле можно говорить о «законе условности» как первостепенном законе искусства, определяющем его
семиотичность.
Во-вторых, предпосылкой эстетического отношения, как уже
говорилось выше, служит целостность. Эстетическое переоформление чего бы то ни было является его оцельнением — приданием
оформляемому завершенности (полноты) и сосредоточенности
(неизбыточности). А подлинная завершенность остановленного
мгновения достижима только в воображении (завершение действительной жизни оборачивается смертью).
В качестве текста произведение искусства принадлежит первичной реальности жизни. Поэтому текст в иных случаях может
оставаться и неоконченным (ср. пропуски строф в «Евгении Онегине»). Но чтобы вымышленный «гетерокосмос» воспринимался
1
История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. — М.,
1967. - Т. 3 . - С . 79.
30
«новой реальностью», требуется оцельняющее завершение. Сотворение виртуальной целостности воображенного мира представляет собой неотменимое условие его художественности и позволяет
говорить о «законе целостности», согласно которому «в настоящем художественном произведении... нельзя вынуть один стих,
одну сцену, одну фигуру, один такт из своего места и поставить в
другое, не нарушив значение всего произведения»1.
Завершенность и сосредоточенность художественной реальности вымышленного мира достигается благодаря наличию у него
абсолютного «ценностного центра» (Бахтин), который в реальном течении окружающей нас жизни отсутствует. Таким центром
здесь выступает инстанция героя, к которому автор относится
эстетически — как к полноценному человеческому «я», как к личностной форме целостности бытия.
Художественные тексты способны запечатлевать самые разнообразные сведения о мире и жизни, однако все они для искусства
факультативны и неспецифичны. Собственно же художественное
высказывание, по мысли Б.Л.Пастернака, доверенной романному герою, — это «какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте на отдельные слова не разложимое» и в то же
время «узкое и сосредоточенное»; в конечном счете «искусство,
в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования»2.
Предметом эстетического «утверждения» выступает единичная
целостность личностного бытия: я-в-мире — специфически человеческий способ существования (внутреннее присутствие во внешней реальности).
Всякое «я» уникально и одновременно универсально: любая
личность является таким «я-в-мире». Отсюда сформулированный
Шеллингом парадокс художественности: «чем произведение ори3
гинальнее, тем оно универсальнее» . «Вы говорите, — писал
Л.Н.Толстой Н.Н.Страхову, — что Достоевский описывал себя в
своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! результат
тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но и иностранцы узнают себя, свою душу.
Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее»4. «Чувство себя самого», по рассуждению Пришвина, «это интересно
5
всем, потому что из нас самих состоят "все"» .
Никакому логическому познанию тайна внутреннего «я» (ядра
личности, а не ее оболочек: психологии, характера, социального
поведения) в принципе недоступна. Между тем художественная
' Т о л с т о й Л.Н. О литературе. — С. 421,422.
П а с т е р н а к Б.Л. Доктор Живаго. — М., 1989. — С. 330, 329, 530.
3
Ш е л л и н г Ф.В. Философия искусства. — М., 1966. — С. 149.
4
Т о л с т о й Л.Н. О литературе. — С. 264.
5
Дневники Пришвина. Публикация Л.Рязановой // Вопросы литературы. —
1996. - № 5. - С. 96.
2
31
реальность героя — это еще одна индивидуальность — вымышленная, условная, чьей тайной изначально владеет сотворивший
ее художник. Вследствие этого, по словам Гегеля, «духовная ценность, которой обладают некое событие, индивидуальный характер, поступок <...> в художественном произведении чище и прозрачнее, чем это возможно в обыденной внехудожественной действительности»1. Приобщение к пониманию такого рода обогащает наш духовный опыт внутреннего (личностного) присутствия
во внешнем мире и составляет своего рода стержень художественного восприятия. В этом специфически художественном понимании феномена «я-в-мире» собственно и состоит смысл произведений искусства — смысл, который должен быть «транскрибирован» литературоведческим анализом.
Анализ, подвергающий научному описанию семиотическую
данность текста, чтобы идентифицировать его как манифестацию
смысловой архитектоники эстетического объекта, точнее всего
было бы именовать семиоэстетическим.
С точки зрения такого анализа литературное произведение
мыслится единым высказыванием специфической природы, или
дискурсом. Ю. С. Степанов определяет дискурс как такое «использование языка», которое «создает особый "ментальный мир"» 2 .
Т.А.ван Дейк, четко разграничивая «употребление языка и дискурс», трактует последний как «коммуникативное событие»,
включая в него «говорящего и слушающих», различные «аспекты социальной ситуации» общения 3 . Эстетическая ситуация, традиционно именуемая литературным произведением, также является социальной ситуацией общения, хотя и глубоко своеобразной.
Согласно Р. Ингардену, художественное произведение является «плодом сверхиндивидуального и вневременного творчества»,
той виртуальной «границей, к которой устремляются интенциональные4 намерения творческих актов автора или перцептивных
(от лат. perceptio — 'восприятие'. — А Т.) актов слушателей»; оно
выступает «интенциональным эквивалентом высшего порядка» всех
1
Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В4т. - М, 1968-1973. - Т. 1. - С. 35.
С т е п а н о в Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца XX века. — М., 1995. — С. 38, 39.
3
Т.А. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. — М., 1989. — С. 122.
4
На языке феноменологической философии «интенциональность» (от лат.
intentio — 'стремление') означает конструктивную направленность сознания на
«интенциональный» объект, который не порождается сознанием, но действительно существует как реальность только в отношении к этому сознанию. Интенциональный объект, по Бахтину, «не может быть найден ни в психике, ни в
материальном», однако такие объекты ценностно «осмысливают и упорядочивают... как эмпирический материал, так и нашу психику, позволяя нам преодолеть
ее голую психическую субъективность» (Бахтин М.М. Вопросы литературы
и эстетики. — С. 53).
2
32
этих актов'. Иначе говоря, задача художественного читателя не в
том, чтобы утвердить собственного Онегина, и не в том, чтобы
угадать Онегина пушкинского; она в том, чтобы вместе с Пушкиным узреть «даль свободного романа», обрести «магический кристалл» откровения, уникально реализованного в пушкинском тексте.
Полноценное художественное восприятие предполагает не только
внутреннее эстетическое видение и внутреннее эстетическое слышание, но и молчаливое «исполнение» произведения — в недискурсивных формах внутренней речи (исполнение текста вслух —
факультативный момент его интерпретации). Читая «Я помню чудное мгновенье» как художественный текст (а не чужое частное письмо), мы внутренне произносим его «от себя», не забывая в то же
время, что он пушкинский. В этой двоякой ориентированности и
взаимодополнительности со-творческого сопереживания и состоит
феномен художественного восприятия как специфического коммуникативного события.
Литературовед, прибегающий к анализу и при этом вполне
учитывающий как коммуникативно-семиотическую, так и эстетическую специфику произведения искусства, призван руководствоваться двумя презумпциями: предельной упорядоченности и
предельной смыслосообразности художественного текста.
Аксиома предельной упорядоченности предполагает прочтение
текста на его собственном, семиотически уникальном художественном языке.
Аксиома предельной смыслосообразности предполагает обнаружение в основе эстетической целостности предельно упорядоченного текста некоторой модели присутствия «я» в «мире». Именно
таков собственно художественный смысл литературного письма,
куда все прочие смыслы могут привходить лишь в качестве вкраплений, порой крайне значимых и все же факультативных с главенствующей здесь эстетической точки зрения.
Эти исходные для литературоведения познавательные установки
означают, что в отличие от литературного критика аналитик не
имеет права предполагать, что нечто в данном тексте более удачно, а нечто — менее. Подобная релятивизация (от лат. relativus —
'относительный') исследуемой данности уводила бы литературоведа в область «произвольного истолкования» (Мандельштам),
минуя базовые уровни научного познания, обеспечивающие воспроизводимость конечного результата.
1
2 Тюпа
И н г а р д е н Р. Исследования по эстетике. — М., 1962. — С. 529, 528.
ГЛАВА 3
ТЕХНОЛОГИЯ
СЕМИОЭСТЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
(«Фаталист» М.Ю.Лермонтова)
При всем индивидуальном своеобразии любого подлинно художественного произведения литературы все они обладают обшей системной основой единиц и уровней художественной организации целого. Это позволяет вести речь о едином алгоритме того
или иного «типового» литературоведческого анализа. В нашем случае это будет семиоэстетический анализ, учитывающий в равной
степени как эстетическую специфику художественной целостности, так и семиотическую природу ее текстовой манифестации
(т.е. проявления чего-то внутреннего в чем-то внешнем).
В качестве объекта алгоритмически показательного описательного анализа мы избираем «Фаталиста» Лермонтова (отчасти по
соображениям объема, удобного для иллюстративных целей). Будучи финальной главой романа «Герой нашего времени», данный
текст одновременно «представляет собой законченную остросюжетную новеллу»1. Он обладает такой внутренней сосредоточенностью и внешней завершеностью, что позволяет рассматривать
себя и как самостоятельную составную часть прозаического цикла.
К тому же объектом эстетического анализа, выявляющего художественную целостность произведения, может служить и сколь
угодно малый фрагмент текста, в достаточной мере обладающий
относительной завершенностью: виртуальная целостность той или
иной эстетической модальности присутствует неотъемлемо в любом фрагменте целого, что напоминает хорошо известный современной биологии феномен «генетического кода».
Итак, предметом нашего семиоэстетического анализа будет
равнопротяженная тексту совокупность факторов художественного впечатления, которая при наличии у читателя соответствующей культуры эстетического переживания призвана актуализироваться в художественную реальность определенного типа (модуса
художественности)2. При этом мы будем стремиться осуществить
' М а р к о в и ч В.М. Тургенев и русский реалистический роман XIX века.
Л., 1982.-С. 40.
2
См.: Введение в литературоведение / Под ред. Л. В. Чернец. — М., 2004.
С.52 — 57; Т а м а р ч е н к о Н.Д., Тюпа В.И., Б р о й т м а н С.Н. Указ. соч.
Т. 1.-С. 54-77.
34
выдвинутый А. П.Скафтымовым принцип полноты и неизбыточности пересмотра ингредиентов целого — системных единиц членения, разнородно манифестирующих одно и то же эстетическое
событие на каждом из уровней такого анализа.
Системы разноуровневых единиц членения текста эстетически
эквивалентны (манифестируют один и тот же художественный
смысл), но принципиально разнородны семиотически. За несколько
расплывчатой бахтинской формулой «факторов художественного
впечатления» скрываются неотождествимые факторы: а) ментального (внутреннего) зрения; б) ментального (внутреннего) слуха;
в) ментальной (внутренней) речи, — поскольку художественное
впечатление состоит в достаточно активном, сотворческом «просматривании», «прослушивании» и «проговаривании» той эстетической заданности, которая наделяет смыслом семиотическую
данность знаковых комплексов текста.
Первое необходимое разграничение этих факторов состоит в
различении двоякой организованности всего знакового материала
литературного текста: субъектной (кто говорит и как говорит) и
объектной (о чем говорится и что именно). Это размежевание впервые было последовательно осуществлено и введено в обиход литературоведческого анализа Б. О. Корманом1.
Объектную и субъектную организации художественного целого ни в коем случае не следует смешивать с гносеологическими
понятиями субъективности и объективности. Любое высказывание принадлежит какому-нибудь речевому субъекту (носителю
речи) и привлекает внимание адресата к какому-нибудь объекту
речи. Такова специфика самого материала литературы как искусства слова. Текст литературного произведения «составляет единство двух нервущихся линий. Это, во-первых, цепь словесных обозначений внесловесной реальности и, во-вторых, ряд кому-то
принадлежащих (повествователю, лирическому герою, персонажам) высказываний»2.
Объектная организация литературного произведения обращена непосредственно к внутреннему зрению эстетического адресата. Эта упорядоченность семантики лингвистических единиц текста есть не что иное, как организация ментального созерцания —
читательского восприятия художественного мира, проникнутого
смыслом. Иначе говоря, мы имеем дело с квазиреальностью особого рода пространства, неотъемлемо включающего в себя также
и объектное (изображенное) время жизни героев в качестве своего «четвертого измерения»: по застывшему сюжетному времени
1
См.: К о р м а н Б.О. Изучение текста художественного произведения. — М.,
1972, а также другие работы этого ученого и его последователей (Л.М.Биншток,
Т.Л.Власенко, В.А.Свительского, Д. И.Черашней, В. И.Чулкова и др.).
2
Х а л и з е в В.Е. Указ. соч. — С. 99.
35
эпизодов читатель может перемещаться вперед-назад, как по анфиладе комнат. С легкой руки Бахтина этот аспект художественной реальности получил наименование «хронотоп»1.
Первостепенная проблема субъектной организации художественного текста, словами того же Бахтина, — «проблема взаимоотношений изображающей и изображенной речи»2. Субъектная
организация факторов художественного впечатления состоит Е
нелингвистической упорядоченности лексических, синтаксически*
и фонологических единиц речи, обращенной к тому внутреннему
слуху читателя, каким эстетический адресат текста ментально
внемлет его смыслу. Это организация особого рода времени —
не изображенного (объектного) времени, в котором протекает
жизнь героев, а читательского времени, в котором протекает эстетическая деятельность художественного восприятия.
Оба типа эстетической упорядоченности художественного целого — аудиально-временной и визуально-пространственный — могут быть аналитически рассмотрены на трех уровнях, равнопротяженных тексту: срединном (составляющем основу всей конструкции), более поверхностном и более глубинном. Характеристика
равнопротяженности означает, что в манифестации единого смысла на каждом из уровней принимают участие все без исключения
знаковые единицы текста. Рассмотрение произведения в любой другой плоскости не будет равнопротяженным тексту, т.е. не будет
учитывать весь художественно упорядоченный знаковый материал.
Каждый из выделяемых таким образом шести уровней семиоэстетического анализа может быть рассмотрен в двух проекциях: в проекции эстетической актуализации текста (полюс смысла) и в проекции знаковой манифестации произведения (полюс текста).
Фабула
Структурные моменты художественного целого, которые обычно относят к сюжету, составляют стержневой уровень объектной
организации литературного произведения, порождая эффект квазиреального мира.
С точки зрения воспринимающего читательского сознания (проекция смысла) сюжет есть квазиреальная цепь событий, локализующая квазиреальных персонажей в квазиреальном времени и
пространстве. Часто эту сторону сюжета, характеризующуюся «те3
матическим единством завершаемой действительности» именуют
1
См.: Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М.
Вопросы литературы и эстетики. — М, 1975.
2
Бахтин М.М. Собрание сочинений. — Т. 5. — С. 288.
^ М е д в е д е в П. Н. (Бахтин М. М.). Формальный метод в литературоведении. - М., 1993.-С. 155.
36
фабулой, отличая от нее собственно сюжет — равнопротяженное
тексту авторское изложение фабулы (конструктивное единство
«завершающей действительности произведения»). С точки зрения
текстуальной упорядоченности факторов эстетического восприятия собственно сюжет представляет собой последовательность
эпизодов (проекция текста).
Уяснение сюжетно-фабульного строя художественного целого
нуждается в историческом фоне, каким для сюжета является миф.
В классической работе Ю.М.Лотмана «Происхождение сюжета в
типологическом освещении» было проведено четкое размежевание этих стадиально-разнородных структур мышления. Мифологическое мышление сводило «мир эксцессов и аномалий, который окружал человека, к норме и устройству». Хотя в современной передаче средствами линейного повествования, размыкающего и выпрямляющего круговорот событий, мифологические тексты «приобретают вид сюжетных, сами по себе они таковыми не
являлись. Они трактовали не об однократных и внезакономерных
явлениях, а о событиях вневременных, бесконечно репродуцируемых», не о том, что случилось однажды, но о том, что бывает
всегда. Тогда как «зерно сюжетного повествования» составляет
«фиксация однократных событий»1.
Архитектоническим вектором мифологического мышления служит вертикаль — «мировое древо», игравшее «особую организующую роль по отношению к конкретным мифологическим системам, определяя их внутреннюю структуру и все их основные параметры»2. Соотносимое с умирающей к зиме, но воскресающей
весной растительностью «мировое древо» выступало залогом воспроизводимости нерушимого миропорядка. Символизируя сакральный центр мира и круговорот жизни, оно исключало необратимость свершающихся вокруг него ритуально-мифологических действий.
Вектор сюжетного мышления, — напротив, горизонталь, устремленная от начала к концу цепь необратимых, однократных
событий. При взгляде на сюжет с позиций исторической поэтики
открываются перспективы отыскания первоистока сюжетности,
некой по аналогии с «мировым древом» «мировой фабулы», базовой инфраструктуры не только ранней, традиционной, но и позднейшей, оригинальной сюжетики.
Как было показано В.Я.Проппом, исходная форма сюжетной организации текста — волшебная сказка — в основе своей
обнаруживает переходный обряд инициации в качестве своего
1
Л о т м а н Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении //
Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. — Вып. 2. — Тарту, 1973. — С. 11, 12.
2
Т о п о р о в В. Н. Древо мировое // Мифы народов мира:
Энциклопедия:
В 2 т . - М . , 1 9 9 1 . - Т . 1 . - С . 398.
37
культурно-исторического субстрата. Древние переходные обряды осуществлялись, как известно, по модели мифа об умирающем и воскресающем боге. Однако символическая смерть и
символическое воскресение человека есть уже необратимое превращение юноши в мужчину (охотника, воина, жениха). Говоря
точнее, инициация достигшего половой зрелости человеческого
существа приобретала статус события (мыслилась как необратимая) в той мере, в какой это существо начинало мыслиться
индивидуальностью, а не безликой роевой единицей рода. Искусство — в противовес мифу (как и науке) — всегда говорит об
индивидуальном существовании как присутствии некоторого
лица в мире.
Протосюжетная схема обряда инициации складывается из четырех (а не трех, как иногда представляют) фаз: фаза ухода (расторжение прежних родовых связей индивида) — фаза символической смерти — фаза символического пребывания в стране мертвых (умудрение, приобретение знаний и навыков взрослой жизни, накопленных предками) — фаза возвращения (символическое воскресение в новом качестве). Однако столь архаическая фабула, практически неотличимая от мифа, даже в сказке обнаруживается далеко не всегда.
Действительным «зерном сюжетного повествования» представляется несколько иная четырехфазная модель, исследованная Дж. Фрэзером при рассмотрении «множества преданий о
царских детях, покидающих свою родину, чтобы воцариться в
чужой стране»1. Речь идет об одном из древнейших этапов становления государственности — о «матрилокальном престолонаследовании», предполагавшем переход магической власти
царя-жреца не от отца к сыну, а от тестя к зятю. Фабулой мирового археосюжета, явственно восходящего к протосюжету инициации, предстает рассказ о действительно необратимом историческом событии — о воцарении пришельца, доказавшего свою
силу и искушенность в смертельно опасном испытании (порой
в поединке с прежним царем) и ставшего мужем царской дочери.
Эта широко распространенная в мировом фольклоре фабула
отличается от событийной схемы инициации инверсией третьей
и четвертой фаз. Герой волшебной сказки, как правило, проходит
стадию «умудрения», стадию пробных искушений и испытаний
до вступления в решающую фазу смертельного испытания. При
наложении множества позднейших литературных сюжетов на данную матрицу можно выявить некую общую четырехфазную модель фабульной организации текста. Именно эта модель в свое время
была логизирована теоретической поэтикой в категориях завяз•ФрэзерДж. Дж. Золотая ветвь. — М., 1980. — С. 180.
38
ки, перипетии, кульминации и развязки. Однако с точки зрения
исторической поэтики гораздо эффективнее при анализе сюжета
с оригинальной фабулой (не говоря уже о фабулах традиционных) пользоваться системой исторически сложившихся фаз сюжетного развертывания текста.
Первую из этих фаз точнее всего было бы именовать фазой
обособления. Помимо внешнего, собственно пространственного
ухода (в частности, поиска, побега, погони) или, напротив, затворничества она может быть представлена избранничеством или
самозванством, а в литературе новейшего времени — также уходом «в себя», томлением, разочарованием, ожесточением, мечтательностью, вообще жизненной позицией, предполагающей разрыв или существенное ослабление прежних связей. В конечном
счете фабульную задачу данной фазы способна решить предыстория или хотя бы достаточно подробная характеристика персонажа, выделяющая его из общей картины мира. Без такого выделения и концентрации внимания на носителе некоторого «я» текст
не может претендовать на художественность.
Второй в этом ряду выступает фаза (нового) партнерства: установление новых межсубъектных связей, в частности обретение
героем «помощников» и/или «вредителей». Нередко здесь имеют
место неудачные (недолжные) пробы жизненного поведения (например, возможно ложное партнерство), предваряющие эффективное поведение героя в последующих ситуациях. На этом этапе
фабульного развертывания действующее лицо часто подвергается разного рода искушениям — как в смысле обращения к радостям нерегламентированной жизни и прегрешениям, так и в
смысле приобретения опыта, существенно повышающего уровень его жизненной искушенности. В литературе Нового времени
данная археосюжетная фаза порой гипертрофируется и разворачивается в кумулятивный (накопительный) «сюжет воспитания».
Третью фазу в соответствии с установившейся в этнографии
1
терминологией А.ван Геннепа и В.Тэрнера следует обозначить
как лиминальную (пороговую) фазу испытания смертью. Она может выступать в архаических формах ритуально-символической
смерти героя или посещения им потусторонней «страны мертвых», может заостряться до смертельного риска (в частности, до
поединка), а может редуцироваться до легкого повреждения или
до встречи со смертью в той или иной форме (например, утрата
близкого существа или зрелище чужой смерти). И эта фаза может
гипертрофироваться в кумулятивный сюжет бесконечно репродуцируемых испытаний.
Наконец, четвертая фаза — фаза преображения. Здесь, как и на
заключительной стадии инициации, имеет место перемена стату'См.: Т э р н е р В. Символ и ритуал. — М., 1983. — С. 168 — 201.
39
са героя — статуса внешнего (социального) или, особенно в новейшее время, внутреннего (психологического). Весьма часто такое перерождение, символическое «новое рождение» сопровождается возвращением героя к месту своих прежних, ранее расторгнутых или ослабленных связей, на фоне которых и акцентируется
его новое жизненное качество.
Представленная последовательность фабульных узлов сюжетного текста поразительно и, быть может, не случайно напоминает такой органический процесс, существенно повлиявший на
мифологическое мышление человека, как стадиальное развитие
насекомого: яичко — личинка — куколка — имаго (взрослая особь).
Этой лиминальной моделью следует дополнить список универсальных сюжетных схем, включающий в себя циклический и кумулятивный инварианты сюжетосложения1.
Конечно, далеко не всякая фабула, особенно в литературе последних столетий, бывает организована в полном соответствии с
той или иной из указанных моделей. Но аналитическое рассмотрение сюжетно необычного текста на фоне этих матричных схем
позволяет глубже проникнуть в конструктивное и смысловое своеобразие оригинального сюжета. Нередко своеобразие сюжетного
построения достигается взаимоналожением нескольких инвариантов, или серийным умножением базовой фабульной модели (например, лиминальной — в пушкинской «Капитанской дочке»),
или переплетением нескольких ее модификаций в качестве сюжетных линий. Простейшим примером последнего случая как раз
и служит фабула «Фаталиста».
Сюжетная линия Вулича осуществляет только три фазы из
четырех. В роли фазы обособления выступает развернутая характеристика этого персонажа повествователем как существа особенного. Пари с Печориным соответствует фазе партнерства, что
как бы структурно оберегает Вулича от сюжетно преждевременной смерти: если бы пистолет не дал осечку, новеллистический сюжет просто не сложился бы. Гибельная встреча с казаком — лиминальная фаза, которую Вуличу миновать не удается. Поэтому четвертая фаза отсутствует, что, как правило,
означает художественную дискредитацию жизненной позиции
персонажа (в данном случае этой позицией является фатализм).
Для Печорина (в рамках «Фаталиста») фазой обособления оказывается отлучка из крепости, командировка в прифронтовую
станицу. В фазе партнерства сюжетные линии обоих персонажей
совмещаются. Рискованное предприятие по задержанию убийцы
Вулича оборачивается для Печорина лиминальной фазой. Поскольку герой благополучно минует эту фазу, его ожидает фаза
'См.: Т а м а р ч е н к о Н.Д., Т ю п а В.И., Б р о й т м а н С.Н. Указ. соч.— Т. 1.—
С. 2 0 2 - 2 0 5 .
40
преображения. И с возвращением в крепость, как мы увидим
далее, преображение Печорина действительно происходит —
неявное, но крайне существенное для художественного смысла
романа в целом.
Сюжетосложение
По определению Ю.М.Лотмана, «выделение событий — дискретных единиц сюжета — и наделение их определенным смыслом, с одной стороны, а также определенной временной, причинно-следственной или какой-либо иной упорядоченностью —
с другой, составляет сущность сюжета», отождествляемого с «некоторым языком» культуры1.
Одна и та же фабула может быть пересказана многократно и
многообразно. Сюжетосложение представляет собой авторское,
художественно-целесообразное изложение фабулы данного произведения — текстуальное ее расчленение на фрагменты, «отличающиеся друг от друга местом, временем действия и составом
участников»2, и смыслопорождающее, эстетически завершающее
связывание этих фрагментов.
Иначе говоря, цепь воображаемых событий манифестируется
системой эпизодов, которые слагаются в сплошную цепь участков текста, характеризующихся тройственным единством: а) места, б) времени и в) действия, точнее — состава актантов (действующих лиц или сил). Иначе говоря, граница двух соседних эпизодов знаменуется переносом в пространстве, разрывом во времени или переменой в составе персонажей.
Факультативными сигналами границы эпизодов служат абзацы.
Далеко не всякий сдвиг текста (абзац), знаменующий паузу в авторском изложении, свидетельствует о сюжетном сдвиге, однако
начало нового эпизода, как правило, совпадает с абзацем. Это
правило знает нечастые, но всякий раз художественно значимые
исключения. Столь же значима имеющая порой место размытость
межэпизодовых границ.
Особо подчеркнем еще раз, что речь идет о сюжете как своеобразном языке эпизодов, система которых равнопротяженна тексту. Это означает, что в качестве эпизода порой приходится рассматривать не только сцену, происшествие, но и как будто бессобытийный участок текста. Объем таких сегментов целого также
может чрезвычайно широко варьироваться: от единичной фразы
до полного текста в случае его сюжетной монолитности, нечленимости на эпизоды. Мера «сценичности» или объем эпизодов,
дробность их размежевания и соответственно их количество опре1
2
Л о т м а н Ю.М. Внутри мыслящих миров. — С. 238.
П о с п е л о в Г.Н. Проблемы литературного стиля. — М., 1970. — С. 54.
41
деляются смыслосообразностью сюжетосложения, а не количеством или качеством квазиреальной событийности.
Так, начальный абзац «Фаталиста», несмотря на некоторую
размытость его событийного контура, тоже, вне всякого сомнения, входит в сюжетный ряд факторов художественного впечатления:
Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на
левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг
у друга поочередно, по вечерам играли в карты.
Достаточно определенная локализация действия во времени
и в пространстве позволяет квалифицировать данный отрезок повествования как эпизод. Подобный эпизод можно обозначить как
нулевой, поскольку в нем еще ничего не происходит — только
складывается исходная ситуация для последующих событий. Однако не следует видеть в нулевом эпизоде нечто необязательное,
второстепенное, конструктивно и функционально безразличное.
Содержащиеся в нем сведения легко могли бы быть сообщены и в
пределах первого «полноценного» эпизода, а новелла вполне могла бы начаться с первой фразы второго абзаца: Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора...
Но в таком случае это была бы, как мы постараемся сейчас показать, уже иная сюжетная конструкция.
В целом схема сюжетосложения «Фаталиста» такова (с указанием слогового объема эпизодов):
0. Мне как-то раз случилось... (60 слогов).
1. Однажды, наскучив бостоном... (2409), включая вставной эпизод 1-а от слов Рассказывали у что раз, во время экспедиции.,, до
...прехладнокровно перестреливался с чеченцами (303).
2. Скоро все разойтись по домам... (1071).
3. Едва я успел ее рассмотреть... (136).
4. Они удалились... (76).
5. Она, по обыкновению, дожидалась меня... (96).
6. Я затворил за собою дверь... (82).
7. В четыре часа утра... (179).
8. Вулич шел один... (212).
9. Убийца заперся в пустой хате... (1190).
10. Возвратясь в крепость... (279).
Эпизод 1, занимающий более 40% объема всего текста, полностью посвящен эксперименту Вулича над собой — эксперименту, убеждающему Печорина в реальности предопределения.
Если бы «художественное задание» новеллы состояло именно в
этом, все последующие эпизоды были бы излишни. Однако не
случайно излагающий события Печорин сомневается, готов ли
он поверить в предопределение теперь, т.е. за пределами рассказанной истории.
42
Сама организация системы эпизодов, манифестирующая лингвистическими единицами текста квазиреальную цепь событий, и
является авторским, собственно художественным, непрямым ответом на вопрос о предопределении. В связи с этим обращает на
себя внимание, в частности, художественная целесообразность эпизода, названного «нулевым».
Рассуждение Печорина о фатализме, оканчивающее девятый
эпизод, создавая эффект «рамки», смыкается с нулевым эпизодом, поскольку завершившаяся цепь удивительных событий все
еше принадлежит тем самым двум неделям на левом фланге. Все
девять эпизодов основного действия новеллы объединяются и как
бы поглощаются нулевым. Вне этого сюжетного образования оказывается своего рода дополнительный к истории Вулича-фаталиста эпизод 10, где по возвращении в крепость Печорин получает
от Максима Максимыча комически двусмысленный ответ (и черт
дернул, и на роду написано) на свой трагически серьезный вопрос
о предопределении. Из этого ответа следует, что все дело не в
азиатской философии, исповедующей фатализм, а в качестве азиатского огнестрельного и холодного оружия (пистолет дает осечку, тогда как от шашки Вулич гибнет). Тем самым малоприметный в тени впечатляющих перипетий экспериментирования с чужой и своей жизнью сюжетный «довесок» принимает на себя конструктивную роль «пуанта» новеллы — обязательной для ее канонической жанровой структуры финальной «точки поворота, за
которой прежняя ситуация предстает в новом свете»1.
Спор между персонажами, в сущности, ведется об экзистенциальной границе человеческого «я». Является ли эта граница сверхличной (судьба человека написана на небесах) и вследствие этого
фатальной? Или межличностной? И тогда ей присуща окказиональность жребия, свобода взаимодействия личных воль (зачем
же нам дана воля?). В первом случае внутреннее «я» человека граничит с целым миропорядком, ибо ему отведена определенная
роль в мире: судьба — это ролевая граница личности. Во втором
случае личное «я», осваивая жизненное пространство, граничит,
вступает в «пограничные конфликты» (прифронтовая локализация действия новеллы — неотъемлемый компонент ее смысла)
с инаколичными «я» других людей в непредсказуемом жизнесложении, в межличностном со-бытии: определяющей оказывается
событийная граница «я» с «другими»2.
' Т а м а р ч е н к о Н.Д.О смысле «Фаталиста» // Русская словесность. — 1994. —
№ 2. — С. 27. Автор этой работы сомневается в новелл истинности «Фаталиста», не
усматривая здесь как раз пуанта. Однако, как мы попробуем показать ниже, заключительный участок текста является именно таким «поворотом* в развитии не
только сюжета.
2
О соотношении «ролевых» и «событийных» границ эстетического завершения
см.: Т а м а р ч е н к о Н.Д.,Тюпа В.И., Бройтман С.Н.Указ.соч. —Т. 1. — С.67.
43
Первая позиция характеризует Вулича, согласно точной иден1
тификации Н.Д.Тамарченко, как «героический тип человека» .
Однако именно второе решение вопроса о границах присутствия
«я-в-мире», как показывает анализ, питает сюжетосложение «Фаталиста».
Система эпизодов рассматриваемого текста достаточно проста.
В четных эпизодах Печорин пребывает во внеролевом уединении
(возвращение к месту временного ночлега и сон), более того, в
эпизоде 2 он мысленно отмежевывается от людей премудрых, полагавших, что силы миропорядка принимают участие в их дискуссиях, которые в действительности оказывались ничтожными
спорами, В нечетных же эпизодах Печорин взаимодействует с другими персонажами как случайно причастный к их жизни. Нулевой
эпизод в известном смысле задает этот принцип чередования «эпизодов непричастности» с «эпизодами взаимодействия»: данный
сегмент текста обнаруживает ситуацию непрочной, временной
приобщенности героя к жизни других людей — к устоявшемуся
прифронтовому быту казачьей станицы. Независимым от нулевого заключительным эпизодом J0 утвердившийся стереотип чередования разрушается, усиливая эффект пуанта: ожидаемая уединенность (эпизод 4) так и не наступает. Вместо этого Печорин
вступает в диалог с Максимом Максимычем, добиваясь от него
ответа, инициативно и заинтересованно приобщаясь к жизненной позиции «другого».
Отмеченная структурная закономерность чередования участков
текста осложняется в эпизодах 5 и 8. В подлинно художественном
тексте подобные смягчения жесткой конструкции всегда смыслосообразны: они приобретают характер сюжетного «курсива».
С учетом нулевого всего эпизодов насчитывается 11, а место
центрального (срединного по счету) достается эпизоду 5, пожалуй, самому неожиданному по своей демонстративной избыточности, необязательности (конечно, кажущейся). Не имея ни малейшего отношения к пари и его последствиям, едва ли он был
пересказан Максиму Максимычу, которому Печорин рассказал
все, что случилось с ним и чему был он свидетель.
Вот этот странный участок текста, способный озадачить своей
мнимой необязательностью:
Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в
шубку: луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода.
Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя», —
сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.
Сюжетообразующий принцип чередования сохранен: в нечетном эпизоде герой не остается один, он контактирует с другим
' Т а м а р ч е н к о Н.Д. Указ. соч. — С. 29.
44
персонажем. Однако событийное содержание данного участка текста
составляет «встреча-разлука» (А. Ахматова). Взаимодействие с героиней сводится к словесному жесту уединенного существования,
отталкивающегося от бытия иной личности. Увлеченный метафизическими исканиями ролевой границы с миропорядком, герой
дезактуализирует (обесценивает, «выносит за скобки» ситуации)
для себя другую ЛИЧНОСТЬ — мне было не до нее — как возможную
событийную границу нефатального жизнесложения. В этом отношении финальный эпизод 10 является диаметральной противоположностью центрального эпизода 5. В то же время они существенно схожи своей мнимой избыточностью, своей невключенностью
в перипетии происходящего.
В четном эпизоде 8 тем более следовало ожидать от Печорина
позиции уединения. Однако, подобно вставному (1-а), этот эпизод излагается с чужих слов и целиком отдан Вуличу, тогда как
сам повествователь в обоих этих участках текста в качестве актанта
отсутствует. Это выдвигает фаталиста Вулича на роль «второго я»
Печорина, который в глубине души основательно колеблется между
волюнтаризмом и фатализмом. Такое сюжетное замещение усиливается совпадением ситуаций одинокого ночного возвращения
обоих офицеров и целым рядом других моментов (см. ниже).
При этом структурно подготовленная чередованием эпизодов
уединенность героя разрушается вторжением «другого» (казака),
но затем как бы восстанавливается смертью Вулича, «вытесняемого» убийцей. Это гибельное взаимодействие не нарушает конструктивную закономерность чередования, как это происходит в заключительном сегменте текста, а напротив, только усиливает,
акцентирует ее. И при этом отнюдь не свидетельствует о торжестве идеи предопределения, как могло бы показаться Печорину,
невольно предсказавшему близкую кончину фаталиста.
Необъяснимое поведение Вулича, намеренно привлекающего
к себе внимание пьяного казака неожиданным и, по сути, провоцирующим вопросом (Кого ты, братец, ищешь?), а перед смертью
произносящего: Он прав! — прозрачно разъясняется при обращении к сюжетно аналогичному эпизоду 1 -а, иллюстрирующему неуемную страсть фаталиста к игре. Вдруг остановись, как сказано
о нем, Вулич, несомненно, решил продолжить смертельную игру
с Печориным, в сущности, поставившим на скорую смерть своего
понтера. Он повторно экспериментирует со смертельной опасностью. И опять, как и во вставном эпизоде, после ужасного везения
Вулич пошел ва-банк и проиграл — вновь без свидетелей. Но снова, как и в тот раз, честно сообщил о своем проигрыше понятным одному лишь Печорину предсмертным признанием чужой
правоты (Я один понимал темное значение этих слое).
Такой поворот сюжета доказывает вовсе не силу предопределения. Последнее (жизненное) поражение фаталиста явилось слу45
чайным, игровым результатом столкновения двух свободных воль:
его собственной и Печорина, своими неуместными замечаниями
повторно спровоцировавшего сумасшествие столь занимательного
для них обоих эксперимента. Последняя граница жизни Вулича
оказалась не ролевой, а событийной.
Тем более очевиден аналогичный итог третьего эксперимента.
Хотя Печорин и вздумал испытать судьбу, как он полагает, подобно Вуличу, подобие здесь совершенно внешнее, обманчивое. Вулич нажимал курок случайного пистолета или окликал пьяного
казака с шашкой, как берут карту из колоды, — наудачу, тогда
как Печорин вступает в активную и обдуманную борьбу с казаком, видя в том противника. Здесь все решается в столкновении
личных качеств обоих участников схватки, каждый из которых
оказывается для другого в данный момент ближайшей событийной границей жизни.
Наконец, финальный эпизод, будучи четным, нарушает сложившийся порядок сюжетного членения и не оставляет Печорина
в уединении, а сводит его с отсутствовавшим в «Тамани» и «Княжне Мери» ключевым персонажем первых двух глав романа. Если в
своей квазиреальной жизни Печорин холодно отстраняется от
Максима Максимыча (аналогичное нежелание вступать в общение с поджидающей его Настей отсылает читателя к новелле «Максим Максимыч»), то в собственно художественном романном времени произведение венчается возвращением к собеседнику.
Закономерность чередования эпизодов уединения с эпизодами общения легко могла бы быть сохранена, для чего итоговые
размышления повествователя о фатализме следовало выделить в
самостоятельный эпизод. Такой эффект мог быть достигнут буквально одной фразой, однако в тексте какое-либо объектное отграничение раздумий от предыдущего эпизода отсутствует. Тем
самым создается функционально значимое, смыслоуказующее нарушение.
Максим Максимыч по воле автора является для Печорина «своим другим», что предполагает их неантагонистическую противоположность, взаимодополнительность. И значимость данного участка текста даже не столько в том, что именно говорит Максим
Максимыч по поводу предопределения, сколько в том, что последний эпизод «Фаталиста» и романа в целом отдан не главному
герою (Печорин здесь остается вопрошающим и внимающим),
а его «другому», персонажу, знаменующему истинную — событийную, а не ролевую — границу всякого внутреннего «я». Истинность такого ответа на сюжетообразующий вопрос, конечно, может быть оспорена за пределами лермонтовского романа, но не
изнутри данного художественного целого.
Новеллистика, исторически восходящая к анекдоту, по своей
жанровой стратегии вообще чужда идее сверхличного миропоряд46
ка1. Характерный атрибут новеллистической жанровой структуры —
пуант — концентрирует внимание на фигуре Максима Максимыча, чья «другость» непреодолима для властолюбивого Печорина,
о и не враждебна его свободолюбивой натуре. Открытие самон
бытности «другого» как подлинной реальности жизни составляет
своего рода художественный итог, как будет показано впоследствии, не только сюжетного построения.
Концентрируя в себе этот итоговый для художественного восприятия смысл романа, «Фаталист» не случайно лишен скольконибудь разработанных женских персонажей. Женские характеры
лермонтовского произведения для актуализации достигаемого в
финальном аккорде «гетероцентризма» (ухода от романтического
эгоцентризма) малопригодны. Они либо остаются слишком «чужими» для Печорина (ср. змеиную натуру таманской ундины), либо
слишком легко подчиняются его воле и утрачивают для него свою
«другость», дезактуализируются в своей «пограничной» функции.
Вспомним рассуждение Печорина: Я никогда не делался рабом любимой женщины, напротив, я всегда приобретал над их (глубоко
значима эта обезличивающая множественность. — В. Т.) волей и
сердцем непобедимую власть.
Согласно комментарию В.М. Марковича, «сводящий любовную связь между людьми к отношениям господства и подчинения, Печорин обречен выбирать между двумя полюсами роковой
дилеммы: один всегда раб, другой — господин, а третьего не дано»2.
Да и в любых отношениях Печорина с людьми один всегда победитель, другой — побежденный. И только в финальном общении
с Максимом Максимычем появляется искомое «третье»: открывается равнодостойность «я» и «другого», диалогическая открытость иному сознанию как «достигнутая в итоге развития действия
"Фаталиста" (а тем самым и всего сквозного сюжета журнала)
цельная человечески позиция»3.
Эпизод с Настей (в лице которой Печорин словно прощается
с героинями всех предыдущих своих любовных похождений), как
может показаться, только для того и введен в сюжет, чтобы оборвать нити мощной системы мотивировок печоринского поведения, уже сложившейся в предыдущих главах, и очистить «я» героя
для установления его подлинных экзистенциальных границ. Однако функция данного участка текста сложнее и существеннее. Недаром этот малоприметный эпизод не страдательного одиночества, но активного уединения, отстранения от женского («парного») персонажа, как уже говорилось, занимает центральное (не1
См.: Тюпа В.И. Новелла и аполог// Русская новелла: Проблемы теории и
истории. - СПб., 1993.
2
Маркович В.М. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. — С. 55.
3
Т а м а р ч е н к о Н.Д. Указ. соч. — С. 30.
47
парное) место в цепи сюжетообразующих единств места, времени и действия. Все прочие (попарно соразмерные и соотносительные) эпизоды, симметрично перекликаясь, создают эффект концентрических кругов вокруг «краеугольного» эпизода-ключа.
В наиболее коротких эпизодах текста 4 и 6, обрамляющих центральный, Печорин остается один. В эпизоде 3 он узнает от казаков о будущем убийце Вулича, а в 7-м — от офицеров о самом
убийстве (оба эти эпизода несколько длиннее эпизодов 4 и 6). Во
2-м — Печорин, а в 8-м — Вулич идут по ночной станице (пара
эпизодов средней длины). В наиболее объемных 1-м — Вулич, а
в 9-м — Печорин рискует жизнью, решаясь испытать свою судьбу.
Наконец, нулевой и заключительный эпизоды перекликаются и
одновременно контрастируют, в частности, как пролог и эпилог
основного сюжетного ряда. Что же касается самого «сердцевинного» эпизода с Настей, то он таит в себе основную мотивировку
жизненной драмы Печорина. Это драма уединенного сознания,
внутренне отстраняющегося от любого иного «я» и тем самым
обреченного на одиночество среди «других», не обнаруживающего при этом для себя никакого сверхличного предназначения, никакой ролевой границы своего присутствия в мире.
Композиция
Термин «композиция» в литературоведении настолько многозначен, что пользоваться им крайне неудобно. В наиболее привычном смысле «построения» чего-либо целого из каких-либо
частей — от «композиции фразы» до «композиции характера» —
это вполне пустой термин, безболезненно, но и неэффективно
приложимый к любому уровню организации литературного произведения. Однако литературоведческому понятию композиции
легко можно вернуть определенность, исходя из того, что в литературе «построение» означает прежде всего дискурсивную организацию целого как натурально-языкового высказывания, т.е. предполагает организацию говорения в пределах текста. Композиция в
этом смысле составляет основу субъектной организации литературного произведения.
Ни одно слово текста, за исключением заглавия, автору приписано быть не может. Ему принадлежит только целое текста. Всякое же высказывание в рамках текста является высказыванием
действующего лица, повествователя или лирического героя определенных типов, тогда как автор литературного произведения,
подобно режиссеру спектакля, говорит лишь чужими устами. Он
«облекается в молчание. Но это молчание может принимать раз1
личные формы выражения» . В компоновке разного рода моноло1
48
Б а х т и н М. М. Эстетика словесного творчества. — С. 353.
ров и диалогов и состоит композиция литературного произведения в собственно литературоведческом ее понимании.
В проекции смысла именно композиционный уровень факторов художественного впечатления манифестирует творческую волю
автора, которая в сюжете не ощущается, если его воспринимать
«наивно», т.е. отвлеченно от композиции текста. «Автора мы находим вне произведения как живущего своей биографической жизнью человека, но мы встречаемся с ним как с творцом и в самом
произведении. <...> Мы встречаем его (т.е. его активность) прежде
всего в композиции произведения: он расчленяет произведение
на части»1, как бы не затрагивая хода самих событий.
В проекции текста наиболее ощутимым творческое волеизъявление автора становится на внутренних (главы и более крупные членения, а также строфы, абзацы) и особенно внешних
(начало и конец текста, заглавие) границах литературного произведения. Помимо этих явственных размежеваний композиция
в специальном значении этого литературоведческого термина
представляет собой систему внутритекстовых дискурсов, т.е. участков текста, характеризующихся единством субъекта и способа
высказывания2.
Смена субъекта речи в ходе последовательного наращивания
текста — наиболее очевидная граница между двумя соседними
сегментами субъектной организации (дискурсами). Говоря о способах высказывания, т.е. о композиционных формах литературного письма, мы имеем в виду не только такие специфические внутритекстовые дискурсы цитатного типа, как письмо, дневниковая
запись, документ, но и прежде всего основные модификации повествования, а также диалог и медитацию. Часто упоминаемые в этом
ряду статичные описания (портрет, пейзаж, интерьер) или психологические характеристики персонажей и ситуаций являются
способами объектной организации текста и подлежат рассмотрению на уровне детализации (см. ниже).
Важнейшими модификациями повествования являются:
а) сказовое повествование — относительно субъективное, оценочное изложение событий рассказчиком, наделенным локализованной (в мире произведения) точкой зрения и соответственно
более или менее ограниченным кругозором; при наличии достаточно определенной речевой маски говорящего такое повествование именуется «сказом»;
' Б а х т и н М.М. Вопросы литературы и эстетики. — С. 403.
Часто вслед за Б.А.Успенским утверждается, что первостепенной проблемой композиции является проблема точки зрения (см.: У с п е н с к и й Б.А. Поэтика композиции. — М., 1970), однако в применении к субъектной организации
литературного текста на передний план выдвигается проблема дискурсивных границ говорения, знаменующих смещение точки зрения как фактора объектной
его организации.
2
49
б) хроникерское повествование — относительно объективное,
свидетельское описание событий их непосредственным участником или наблюдателем со своим кругозором; при акцентировании письменной формы фиксации может именоваться «хроникой»;
в) аукториальное повествование, при котором повествователь —
в собственном значении этого слова — наделен авторским всеведением; он не связан определенной позицией во времени и в пространстве, при наличии которой событие открывается рассказчику или хроникеру лишь частично.
К диалоговой форме композиции принадлежат отнюдь не все
участки текста, графически оформленные как фрагменты чужой
прямой речи, композиционной формой которой могут оказаться
и повествовательная (рассказ в рассказе), и даже медитативная
дискурсия. Собственно диалоговый способ организации художественного текста требует непосредственно адресованных от персонажа к персонажу речевых жестов «иллокутивного» характера:
вопросно-ответного, побудительно-повелительного, клятвеннозаклинательного, провокативного и т.п. При диалоговой форме
композиции текстообразующий субъект не рассказывает о некотором коммуникативном событии, а непосредственно «цитирует» его.
Наконец, дискурсивно выделенные рассуждения самого повествователя, рассказчика, хроникера или лирического героя по
поводу хода событий, его участников или складывающейся ситуации составляют медитацию (от лат. meditatio — 'размышление')
в специальном для литературоведения значении этого слова. Медитация в мире персонажей «не слышна» и не образует вследствие этого никакого сюжетного события. Подобно драматургической реплике «в сторону» она обращена только к читателю.
Речь персонажа также может обретать композиционный статус
медитации, если из коммуникативного речевого жеста она превращается в акт автокоммуникации, мысленного разговора с самим собой, хотя бы и в присутствии другого персонажа, выступающего в таком случае в роли свидетеля, а не прямого адресата.
При этом глубина размышлений для медитативной формы композиции отнюдь не является условием или признаком. Конструктивная особенность медитации состоит лишь в отступлении (порой без достаточных оснований именуемом «лирическим») от
повествования, в выходе говорящего (размышляющего) за пределы событийного ряда: это рефлексия, резонерство, оценка,
мотивировка, комментирование событий и т. п. Пример из «Фаталиста»:
Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что
часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов,
есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.
50
Это отступление Печорин делает в одном из наиболее напряженных моментов своего рассказа.
В отличие от повествования и диалога медитация как отступление от сюжета не способна образовывать самостоятельные эпизоды. Это всегда речь, примыкающая к тому или иному участку объектной организации.
Иногда коммуникативная или медитативная деятельность актантов бывает зафиксирована только на сюжетном уровне — посредством повествования, фиксирующего дискурсию как внешнее действие:
Они рассказали мне все, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти.
Дословная передача этих замечаний в диалоговой или медитативной форме заметно повысила бы ранг их смысловой значимости в контексте художественного целого, но автор этого не допускает.
Как правило, объектная и субъектная сегментации текста не
совпадают: эпизод может вмещать в себя несколько дискурсов,
разнящихся субъектами и способами высказывания, и, наоборот,
непрерывно длящийся диалог (в драме) или непрерывно длящееся
повествование могут покрывать собою несколько эпизодов (4, 5 и 6
в «Фаталисте»). Таким образом, конструктивную основу всей текстовой манифестации литературного произведения составляет своеобразная «решетка» взаимоналожения двух несовпадающих рядов
членения: сюжетного и композиционного. Отчетливость их различения и равноценной актуализации в восприятии составляет своего рода фундамент читательской культуры.
Композиция «Фаталиста» относительно проста на фоне усложненной общей композиции романа. Текст не членится на главы
или иного рода крупные фрагменты и представляет собой естественную последовательность фрагментов хроникерского повествования (и в этом Печорин «взаимодополнителен» Максиму
Максимычу — субъекту сказового повествования в открывающей роман «Бэле»), дополняемого диалоговыми репликами и медитациями. Особое внимание в этой композиционной прозрачности текста обращают на себя его внешние границы: зачин и
концовка.
Начинающийся с местоимения первого лица (Мне как-то раз
случилось...), «Фаталист» завершается суждением о Максиме Максимыче: Он вообще не любит метафизических прений. Выше уже
говорилось, сколь значим этот переход от себя к «другому» в качестве актуальной границы личностного «я».
Авторская итоговость такой концовки не только «Фаталиста»,
но и всего романа в целом (Печорин-герой, что нам уже известно
51
из второй главы, как раз пренебрегает дружбой Максима Максимыча) становится еще очевиднее при сопоставлении с концовками предыдущих фрагментов «журнала» Печорина. Заключительная фраза «Тамани» и всей первой части романа начинается словами: Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих...
А завершающая фраза «Княжны Мери» является автохарактеристикой любующегося собой героя: Я, как матрос, рожденный и
выросший на палубе разбойничьего брига... и т.д.
Доминирующая композиционная форма хроникерского повествования предполагает позицию непредвзятого свидетеля, как в
конце текста сам Печорин себя и называет. Это именно та жизненная позиция, на которую он претендует: Я вступил в эту жизнь,
пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому,
кто читает дурное подражание давно ему известной книге. Печорину не хотелось бы оказаться ни автором (волюнтаризм), ни персонажем (фатализм) столь дурно написанной на небесах (предмет
спора) жизни. Однако удержаться на этой нейтральной позиции
стороннего наблюдателя ему никак не удается: личность героя оказывается шире чаемой им для себя непричастности.
Речь идет не столько о сюжетной активности хроникера (экспериментаторство с жизнью и смертью отнюдь не исключает, а
скорее предполагает «свидетельскую» позицию), сколько о его повествовательной активности. Печоринское хроникерство, предполагающее равновесие двух событийных планов нарратива, сильно
смещено в сторону аукториального повествования с позиции всеведения. Сказанное проявляется, в частности, в обилии ремарок,
порой развернутых, сопровождающих почти все диалоговые реплики, которые при этом сами по-печорински предельно лаконичны. Печорин не слишком внимателен к чужим речам в своем
цитировании.
На этом фоне особую значимость получает столь редкий обмен
репликами без ремарок. Таких моментов всего два: краткий «диалог согласия» между Вуличем и Печориным по поводу веры в
предопределение, а также получение Печориным известия о гибели Вулича. В обоих случаях отсутствие ремарок — своеобразный
симптом растерянности героя-хроникера. Это краткие мгновения
ослабленности скрытого авторского импульса мнимо объективного повествования, во всох прочих ситуациях заметно теснящего
диалог, подвергающего его своей цензуре.
Характерно в этом отношении редуцирование диалога до реплики в кавычках, как бы поглощаемой повествованием. Крайний
случай — безответная реплика Прощай, Настя из центрального
эпизода: вступление в диалог оказывается его прекращением, уничтожением диалога. Композиционная форма этого микроэпизода
концентрирует внимание на антидиалогичности печоринского
уединенного сознания.
52
Еще ощутимее тяготение внешней хроникальное™ повествовательного дискурса к его внутренней аукториальности в изложении
х эпизодов игры и смерти Вулича (1-а и 8), свидетелем которых
те
сам Печорин не был. Например, он с явным удовольствием солидарного с героем автора сообщает: Вулич не заботился ни о пулях, ни
о шашках чеченских. Эти фрагменты, где хроникер руководствуется
чужими рассказами, совершенно неотличимы от остального повествования, что вынуждает предполагать немалое участие беспокойного и жадного воображения Печорина и во всех иных случаях.
Явное ослабление диалога в поле монологического печоринского сознания одновременно повышает композиционно-смысловую значимость каждой запечатлеваемой текстом реплики, особенно в случае ее повтора. Не покорюсь! — дважды выкрикивает
уединившийся ото всех казак (во второй раз в ответ на слова есаула: Своей судьбы не минуешь). Кроме этого слова он произносит
еще только одно: Тебя! — в ответ на вопрос Вулича. Эта концентрация внимания на отказе покориться и на будто бы избирательном интересе к Вуличу делает казака как будто уже и не случайным убийцей фаталиста, но не орудием предопределения, а своего рода идейным противником того, чей фатализм предполагает
именно покорность судьбе.
Казак берет своеобразный реванш за поражение Печорина,
поставившего в споре с Вуличем на своеволие. Этот персонаж
оказывается словно еще одной — теперь уже волюнтаристской —
ипостасью самого Печорина. Не случайно хроникер поочередно
вступает в борьбу с обоими, не преодолевая, впрочем, в этой
борьбе своей внутренней раздвоенности.
Драматическая раздвоенность уединенного печоринского сознания питает рефлексию его медитативных дискурсов. Всего в
тексте «Фаталиста» имеется шесть медитаций повествователя. Двум
наиболее объемным сегментам медитации из эпизода 2 не случайно отдан композиционный центр текста. Именно здесь Печорин размышляет о своей склонности ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы. Здесь он раздваивается между волюнтаризмом и его противоположностью: смеется над архаичным фатализмом предков, одновременно восхищаясь их силой воли и попадая невольно в их колею, поскольку сам уже истощил свое постоянство воли. Здесь в сознании Печорина сама жизнь раздваивается
на мысленно пережитый идеальный подлинник и действительно
дурное подражание ему. В сущности, это единая медитация, знаменательно разделенная (опять-таки раздвоенная) всего лишь одной повествовательной фразой, где говорится о нелюбви к отвлеченной мысли, и на которую приходится «геометрический» центр
слоговой протяженности «Фаталиста».
Особо знаменательно раздвоение образа борьбы. С одной стороны, всякая борьба с людьми или с судьбою должна была прино53
сить предкам истинное наслаждение, с другой — напрасная борьба
с самим собой (ночная борьба с привидением) приносит современному человеку лишь усталость и душевное истощение. Это рассуждение актуализирует драматизм трех противостояний: Вулич —
Печорин, казак — Вулич и Печорин — казак, где каждый из трех
одерживает по одной победе и терпит по одному поражению. Вулич борется со своим случайным банкометом, стреляя в себя; казак губит Вулича, борясь с каким-то своим алкогольным привидением; Печорин преодолевает сопротивление казака, борясь с одной из своих крайностей от лица другой крайности, солидарной
с Вуличем.
Не менее справедлива будет и иная версия печоринского поведения: после угрозы есаула пристрелить не покоряющегося казака
Печорин сохраняет жизнь (я его возьму живого) своему «другому
я», подвергая смертельному испытанию «я», так сказать, первое.
Лермонтовский человек всегда шире своей событийной границы
между его «я» и «другими»: в борьбе с собой он наносит удары
другому, в борьбе с другим он наносит удары себе.
Самоуничижение печоринской рефлексии (А мы, их жалкие
потомки...) излишне однозначно для авторской концепции личности. Это можно заключить, в частности, из того, что композиция «Фаталиста» содержит в себе не одну ключевую медитацию,
якобы вполне раскрывающую картину уединенного сознания героя, а целую их систему — весьма симметричную. Центральная
пара медитативных сегментов текста (М4 и М5), подобно тому,
как мы это наблюдали в организации сюжета вокруг эпизода с
Настей, окружена своеобразными концентрическими кольцами
парных медитаций.
Пара наиболее лаконичных медитаций повествователя (МЗ и
Мб) представляет собой первое такое кольцо, поляризуя эгоцентризм и «гетероцентризм» печоринских размышлений о жизни,
составивших медитативный центр композиции. Сегмент МЗ, как
и парный ему, сводится к одной фразе: Как будто он без меня не
мог найти удобного случая (застрелиться). В этом самооправдании
Печорин вполне равнодушен к личности другого и не считает встречу с Вуличем экзистенциально «пограничной». Вглядываясь же в
губы матери преступника, Печорин вдруг задумывается: Молитву
они шептали или проклятие? (Мб). Это неожиданное неравнодушие к совершенно чужой и неведомой ему жизни воспринимается в пределах новеллы своего рода точечным откровением ее
глубинного смысла: открытием «другого» — внутренним жестом,
противоположным отстранению от Насти, от Вулича (в дискурсе
самооправдания), от радостей и бедствий человеческих (в концовке «Тамани»).
Приведенный выше в качестве примера медитативного отступления сегмент М2 — это первая медитация Печорина в тексте
54
новеллы, впервые (если не учитывать предыдущих глав романа)
приоткрывающая нам внутреннюю раздвоенность героя. Ставя в
игре на отсутствие предопределения, на свободу личности от судьбы, Печорин тут же размышляет, что на лице человека, предопределенного к скорой смерти, появляется отпечаток неизбежной
судьбы.
Концентрически парный этому размышлению сегмент М7 вполне закономерно представляет собой последнюю в тексте медитацию Печорина. В этом итоговом своем отступлении хроникер не
принимает ни фатализма, ни противоположного убеждения, поскольку любит сомневаться во всем и полагает, что никто о себе
не знает наверное, убежден ли он в нем или нет. Иначе говоря,
личность человеческая шире своих убеждений — таков запечатленный в новелле личный печоринский опыт встречи с убежденным человеком.
Субъект высказывания в сегменте Ml обозначен неопределенно-личным местоимением кто-то. Поскольку в «Фаталисте» офицерские реплики обычно обезличены, принадлежат многим, а все
остальные медитации вложены в уста вполне определенных персонажей, то данное рассуждение приобретает особый статус. Едва
ли будет ошибкой рассматривать его как «авторизованную» постановку вопроса: И если точно есть предопределение, то зачем же
нам дана воля, рассудок ? почему мы должны давать отчет в наших
поступках?
В развернутой центральной медитации Печорин дает свой ответ на этот вопрос, исходя из собственного душевного опыта. Да,
человеку даны и воля, и рассудок, но рассудочность уединенного, отпавшего от миропорядка сознания истощает волю, в результате чего современный человек утрачивает постоянство воли,
необходимое для действительной жизни. Непостоянством личной
воли и объясняются, надо полагать, колебания самого Печорина
между волюнтаризмом и фатализмом. Однако истинность печоринского ответа сама остается под вопросом.
Заключительное медитативное рассуждение М8 принадлежит
Максиму Максимычу: Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..
Соединение Максимом Максимычем в одном дискурсе двух взаимоисключающих мотивировок (субъективная ошибка и сверхличная неизбежность) звучит композиционно закономерным, но безответным эхом «авторизованной» постановки вопроса о свободе
воли в Ml.
В неразрешимости ключевого вопроса сходятся все, кроме полярных актантов новеллы: Вулича и его убийцы. Не случайно формулировке «презумпции недоказуемости» посвящена самая первая, исходная диалоговая реплика текста: Все это, господа, ничего
не доказывает, принадлежащая старому майору (композиционно
55
удваивающему фигуру другого старого воина — Максима Максимыча).
Сам Печорин, вступая в диалоговое поле текста, свидетельствует о неразрешимости спора, который оказался для него столь
занимателен. Выражая свое временное согласие с Вуличем по поводу провозглашенной им назнаненности роковой минуты, он произносит: Верю\ только не понимаю теперь, отчего мне казалось,
будто вы непременно должны нынче умереть... Если бы вера в предопределение у Печорина была истинной, как у Вулича, подобное
удивление не имело бы оснований возникнуть (не случайно сам
Вулич отнесся к этому замечанию столь серьезно). Но если бы
истинным было отрицание предопределения до выстрела, у Печорина не должна была бы зародиться сама мысль об обреченности Вулича.
Из того же неразрешимого противоречия исходит и резонерство есаула: Уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей
судьбы не минуешь! Аргументация старого казака внутренне столь
же несообразна, как и сомнения Печорина: утверждая фатальную
зависимость от судьбы, он в то же время возлагает на преступника всю полноту его личной ответственности за совершенный грех.
Эта алогичность не сомневающегося в правоте своих слов есаула,
в сущности, пародийна по отношению к интеллектуальным ухищрениям хроникера.
Завершает эту перекличку диалоговых реплик спровоцированное Печориным высказывание Максима Максимыча, в котором
содержится весьма своеобразный простодушно-хитрый ответ. Уклоняясь от метафизических проблем воли, рассудка и ответственности, Максим Максимыч пускается в рассуждение о качестве здешнего оружия: огнестрельное оставляет желать лучшего, а вот шашки — действительно хороши. Вулич не погиб от пули, хоть и стрелялся, зато от шашки погиб. Выходит, человек и в самом деле не
может вполне своевольно располагать своею жизнию, да только дело
тут не в предопределении.
В столь демонстративной неразрешенности «авторского» вопроса, составляющей, можно сказать, точку согласия всех (кроме
фаталиста и волюнтариста), и таится путь к ответу, содержащемуся непосредственно в художественной организации текста. Это
путь выхода из антиномии уединенного сознания (волюнтаризм
или фатализм) к соприкосновению с действительной жизнью «других», к диалогическому сопряжению с иными сознаниями. Такое
сопряжение вопреки подавлению диалога монологическим повествованием возникает между всеми медитативными дискурсами
текста и ключевыми диалоговыми репликами, неявно демонстрируя творческую волю автора, тогда как Вулич и казак, олицетворяющие крайности двоящейся печоринской жизненной позиции,
лишены медитаций и выключены из этого глубинного «диалога
56
согласия». Это еще раз подчеркивает их художественную несамостоятельность относительно центральной фигуры Печорина как
хроникера, рефлектера и актанта в одном лице.
Знаменательна в этом отношении роль такого сегмента композиции, как заглавие — авторское имя текста. Слово «фаталист»
демонстративно не покрывает развернутого в новелле соотношения и взаимодействия жизненных позиций. Рано погибающий
фаталист так и не становится главным героем повествования о
нем. Вулич — это только вариант «своего другого» для Печорина,
который и сам является отчасти фаталистом, но лишь отчасти.
Обратим внимание на то, что все заглавия составных частей
романа называют таких «других», по отношению к которым «герой нашего времени» обнаруживает себя в качестве некоторого
внутреннего «я»: Бэлу, Максима Максимыча, Мери. «Тамань»
также оказывается не столько наименованием места действия,
сколько метонимическим обозначением «своих других» (контрабандистов) — уклада «другой жизни», столь же чужой для Печорина, сколь и внутренне созвучной ему своим безоглядным волюнтаризмом.
Фокализация
Цепь сюжетных эпизодов представляет собой своего рода скелет
объектной организации литературного произведения. Длина каждого такого участка текста зависит от степени детализированное™
присутствия и действия (взаимодействия) персонажей во времени
и пространстве. Событийную канву нескольких лет жизни без развернутой объектной детализации можно уложить в одну-две фразы, и напротив, краткосрочный эпизод при подробнейшей детализации может разрастись в объеме до нескольких страниц.
Исчерпывающее научное описание детализирующего слоя художественной реальности выглядело бы крайне объемным и громоздким. Поэтому, соблюдая и в этом случае принцип равнопротяженности тексту, мы вынуждены будем тем не менее в изложении полученных результатов сосредоточиться лишь на ключевых
моментах детализации «Фаталиста» и некоторых показательных
примерах.
Статусом фактора художественного впечатления на уровне детализации обладают не только предметные подробности внешне
представимой жизни, но и подробности интеллектуально-психологического, невещественного характера. Например, Печорин
рассказывает, как отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги <...> и что же? Передо мною лежала свинья. Для ментального зрения, чем и является художественное восприятие объектной организации текста, метафизика и свинья — художественно
равнодостойные детали, которые могут быть поставлены, как в
57
этом случае, в смыслообразующую оппозицию: фаталистическая
метафизика предков с их астрологией соотносит бытие человека
с небом, тогда как свинья возвращает его к земле, по которой он
в действительности и скитается, по выражению Печорина, беспечным странником.
Учитывая то, что детализирующий слой художественной реальности фокусирует читательское внимание не только на предметных частностях (привычно именуемых «деталями»), но и на
иного рода семантических «квантах» литературного письма, рассматриваемый уровень объектной организации гораздо точнее
можно обозначить термином «фокализация» из научного словаря
современной нарратологии. Это особый уровень коммуникации
между автором и читателем, где в роли знаков выступают не сами
слова, а их денотаты.
Следует оговориться, что термин «фокализация», введенный
Ж.Женеттом для типологии повествования, мы используем в несколько ином значении. Нам представляется, что о «фокусе наррации» (К.Брукс и Р.П.Уоррен) следует говорить в применении
к каждой конкретной фразе, ибо на протяжении повествования
фокусировка внутреннего зрения постоянно меняется от предложения к предложению. В этом смысле классическое аукториальное
повествование никак не может быть признано «нефокализованным повествованием, или повествованием с нулевой фокализацией»1. Более того, некоторого рода организацией зрительных впечатлений является любая фраза текста, а не только повествовательная.
Прочно срастаясь с сюжетом, слой фокализации тем не менее
являет собой относительно самостоятельную систему художественных значений. На это в свое время обратил внимание И. А. Гончаров. В статье «Лучше поздно, чем никогда» он, в частности, писал, что «детали, представляющиеся в дальней перспективе общего плана отрывочно и отдельно, в лицах, сценах, по-видимому, не вяжущихся друг с другом», в конечном счете «сливаются в
общем строе жизни» так, «как будто действуют тут еще не уловленные наблюдением тонкие невидимые нити или, пожалуй, магнетические токи». Эстетическое откровение писателю этой стороны художественной реальности в творческом процессе может
предшествовать и сюжетосложению. Общеизвестен классический
пример, когда автор (Гоголь) ощущал свою практически полную
готовность к сочинению комедии («Ревизор»), не имея для нее
сюжета (подсказанного Пушкиным).
На уровне фокализации художественная реальность, как и на
любом другом, предстает в двух проекциях. В проекции текста —
как система кадров внутреннего зрения, или, выражаясь точнее,
Г е н е т т Ж. Фигуры: В 2т. - М, 1998. -1.2. - С. 205.
58
как система «кадронесущих» микрофрагментов текста; в проекции смысла — как система мотивов.
Всякая фраза текста, даже самая тривиальная в общеязыковом
отношении, художественному восприятию представлена как более или менее насыщенный деталями кадр внутреннего зрения.
«Герои, — писал В.Ф.Асмус, — последовательно вводятся автором в кадры повествования, а читателем — в ходе чтения — в
кадры читательского восприятия. В каждый малый отрезок времени в поле зрения читателя находится или движется один отдельный кадр повествования»1. В смыслосообразный состав такого кадра входит лишь поименованное в тексте, а не все, что может или
пожелает представить себе читатель. Расположение деталей в пределах кадрового единства фразы задает читателю ракурс видения.
В частности, специфика кадропорождающих возможностей речи
такова, что «крупный план» внутреннего зрения создается местоположением семантических единиц текста в начале и особенно в
конце фразы.
В рассказе Чехова «Душечка» читаем: Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень
здоровая. Порядок фокусирующих восприятие определений таков,
что душевная характеристика «душечки», постепенно углубляемая вплоть до описания взгляда, этого «зеркала души», вдруг заслоняется характеристикой физиологической («очень здоровая»),
которой, казалось бы, место в самом начале этой цепочки. При
таком гипотетическом порядке «недуховность» этой характеристики была бы постепенно снята. А так она, подхваченная и усиленная следующим кадром фокализации {Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой... и т.д.), иронически дискредитирует «духовность» всех предшествующих характеристик.
Не хаотическая россыпь ярких или узнаваемо достоверных подробностей, а последовательность кадронесущих фраз трансформируется воображением читателя в объемную и цельную картину
жизни квазиреального мира, представляющего собой в проекции
смысла некоторую сложную конфигурацию мотивов. Мотивы литературного произведения суть единицы художественной семантики, глубоко укорененные в национальной и общечеловеческой
культуре и быте. В тексте они возникают благодаря семантическим повторам, параллелям, антитезам, а также актуализируются повторами интертекстуального характера (реминисценции, ал2
люзии) . Лексический повтор определенного слова — только частный случай мотивообразования. Так называемая мотивная струк' А с м у с В. Ф. Чтение как труд и творчество // Асмус В. Ф. Вопросы теории и
истории эстетики. — М, 1968. - С. 59.
2
См.: С и л а н т ь е в И.В. Поэтика мотива. — М., 2004.
59
тура текста' делает художественно значимым любой повтор семантически родственных или окказионально синонимичных подробностей внешней и внутренней жизни, включая и такие, какие
могут производить впечатление совершенно случайных или, напротив, неизбежных.
Так, выстрелы Вулича и казака на уровне фокализации предстают комплексами мотивов, семантически «рифмующимися»
многообразно: и лексическим повтором слов выстрел раздался;
и двукратным упоминанием таких очевидных деталей, как дым,
наполнивший комнату, и щелчок взводимого курка; и тем, что пуля
первого выстрела пробивает офицерскую фуражку, а второго —
срывает офицерский эполет; и даже тем, что оба выстрела произведены в сторону окна. Детальная однородность столь различных
моментов в жизни Печорина художественно значима, смыслоуказующа: это еще одна параллель между Вуличем и казаком, выявляющая антитезу двух сюжетных ипостасей печоринского драматически раздвоенного сознания.
При этом, однако, организация кадров внутреннего зрения в
двух наиболее насыщенных действием и наиболее детализированных эпизодах «Фаталиста» (1 и 9) заметно разнится.
Рассмотрим кульминационный кадр из эпизода 1:
Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху:
дыхание у всех остановилось; все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!
Дистанция во времени, акцентированная ее мнимым устранением (как теперь помню), позволяет хроникеру по существу оставаться «за кадром»: он видит всю сцену целиком, знает состояние
всех присутствующих, видит не только пистолет и туз, как другие, но и все глаза, сосредоточенные на этих предметах, сопровождает описание происходящего экспрессивными характеристиками (роковой, трепеща), увлеченно нагнетает напряжение. Ракурс фразы таков, что вынуждает созерцать эту сцену не с позиции
участника и даже не с позиции стороннего свидетеля (со стороны
невозможно увидеть все глаза), а как бы с режиссерского пульта:
фактическое событие превращается в театра!изованную картину
уединенного сознания. Печорин — эстетический субъект (автор)
этой сцены. Рискуя лишь двадцатью червонцами, он экспериментирует с чужой жизнью и жадно созерцает ход эксперимента. Другая жизнь для Печорина в этой ситуации — лишь материал для
актуализации своего собственного присутствия в мире, театрализованного романтической рефлексией.
'См.: Г а с п а р о в Б. М. Литературные лейтмотивы. — М., 1994.
60
Из эпизода 9:
...вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа.
Офицеры и казаки толкуют горячо между собою; женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное
лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние. Она сидела на толстом
бревне, облокотись на свои колени и поддерживая голову руками: то
была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?
При описании этой сцены хроникер не только не акцентирует,
но и, напротив, употреблением настоящего времени как бы устраняет временную дистанцию. Никакое «режиссерское» вмешательство со стороны наблюдателя неощутимо: почти нет экспрессивной детализации, нет властного завершающего оцельнения сцены, которая на этот раз не умещается в один искусно выстроенный кадр, как это было в первом эпизоде, а рассыпается на несколько фрагментарных кадров. Напротив, вниманием самого
Печорина завладевает всего лишь одна деталь общей картины —
значительное лицо и поза старухи, никоим образом не принадлежащей к его эгоцентрическому миру и составляющей для него некоторого рода загадку: настоящая встреча с настоящим «другим».
Эта случайная, но предельно значимая встреча глазами делает
и жизнь самого Печорина сопричастной жизни окружающих его
людей до такой степени, что побуждает рисковать собой в ситуации, вполне позволявшей оставаться сторонним наблюдателем
событий, тогда как игровое столкновение с Вуличем отнюдь не
размыкало замкнутого круга уединенного сознания: Вулич, как
уже было сказано, — всего лишь «второе я» Печорина. На уровне
фокализации это явлено с парадоксальной очевидностью.
Парадоксальность этого «двойничества» — в разноликости героев, демонстративной до карикатурности. Вулич имеет высокий
рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные пронзительные
глаза, большой, но правильный нос, тогда как Печорин, чей подробный портрет дается в главе «Максим Максимыч», невысок (отмечается также его маленькая аристократическая рука), от природы бледен (Вулич побледнеет только перед выстрелом), имеет белокурые волосы и небольшой вздернутый (неправильной формы)
нос. Однако Вулич, чья внешность смотрится печоринским «негативом», согласно замечанию хроникера, производит вполне печоринское впечатление субъекта уединенного сознания: существа
особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми,
которых судьба дала ему в товарищи. Эти слова легко можно принять и за невольную автохарактеристику хроникера, чей облик
также выдавал скрытность характера. Такой же автохарактеристикой звучит и объектная детализация речевой манеры Вулича,
который совершенно по-печорински говорил мало, но резко.
61
Сербская внешность персонажа, подобно карнавальной маске,
скрывает под собой личность, в известном смысле аналогичную
личности «героя нашего времени». Не случайно при всей их «разномастности» оба персонажа схожи глазами и улыбками — этими
не скрытыми маской телесными проявлениями душевной жизни.
Не случайным в рассуждении Печорина о замкнутости Вулича
является, по-видимому, и упоминание о судьбе: идея фатализма,
по крайней мере, внятна его смятенному сознанию.
Что касается казака, то детализация его портрета ограничена
упоминанием все той же бледности лица и выразительных глаз.
Последнее совпадает с портретной характеристикой Вулича, а
проницательные глаза — общая деталь портретов Вулича и Печорина. Казака мы видим, как и ранее Вулича, с пистолетом в правой руке; сближает их и трижды повторенный в новелле жест —
взведение курка, и то, что обоих хватают за руки. Однако при
этом беспокойный взгляд волюнтариста, чьи глаза страшно вращались, составляет прямую противоположность спокойному и неподвижному взору фаталиста. То и другое открывается испытующему
взгляду самого Печорина, вглядывающегося в этих антиподов,
словно они оба суть его зеркальные отражения.
Ко всему этому мы узнаем о Вуличе, что тот вина почти вовсе
не пил (отголосок мусульманских убеждений Вулича, нарочито
противопоставляющих его пьяному казаку) и за молодыми казачками в противоположность Печорину никогда не волочился', тогда
как пристрастие к прелести казачек косвенно сближает повествователя с казаком. Сближение это усугубляется параллелизмом кадров внутреннего зрения: Я затворил за собою дверь моей комнаты... и Убийца заперся в пустой хате... Значимое совпадение жестов уединения ретроспективно отсылает нас и к скрытности Вулича, который никому не поверял своих душевных и семейных тайн.
Можно отметить еще ряд фокализационных параллелей этого
рода. Например, стук в два кулака в окно к Печорину и изо всей
силы — в запертую казаком дверь; смутное воспоминание, исполненное сожалений (Печорин), перекликается со вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее (казак).
Впрочем, еще княжна Мери предлагала Печорину взять нож и
зарезать ее (— Разве я похож на убийиу? — Вы хуже...).
Короче говоря, имеется целая система факторов художественного впечатления, связывающая всех трех персонажей в противоречивое единство ипостасей некоего субъекта уединенного сознания. Знаменательна, например, их пространственная соотнесенность: Вулич, сидевший в углу комнаты, выходя к столу, перемещается в центр (он знаком пригласил нас сесть кругом); казак, напротив, встретив Вулича в центре станицы на улице (до этого в
тексте упоминались лишь переулки), смещается на периферию (заперся в пустой хате на коние станицы). Печорин же постоянно
62
остается в центре событий, за единственным исключением кровавой очной встречи фаталиста с волюнтаристом (крайности жизненной позиции самого хроникера).
В том пучке мотивов, в том уникальном узоре их сплетения,
каким является лермонтовская новелла, ключевая роль принадлежит лейтмотивам игры и смерти. Узелок этих «нервных волокон»
художественной семантики неявным образом завязывается уже в
нулевом эпизоде. Ракурс начальных кадров внутреннего зрения
таков, что прожить в прифронтовой станице (т.е. на границе со
смертью) для Печорина означает играть в карты. Прекращение
игры становится началом разговора о смерти (предопределение
как список, на котором означен час нашей смерти).
Продолжение разговора приводит к соединению лейтмотивов:
к игре Вулича и Печорина со смертью (подбрасывание карты усиливает мотив игры). Выше уже говорилось о том, что страстный
игрок Вулич, окликая казака, решил продолжить эту игру, которая ему показалась лучше банка и штосса. Переплетение названных
мотивов составляет ткань вставного эпизода 1-а.
В ночных размышлениях возвращающегося после игры Печорина тон задает мотив смерти, словно тенью, сопровождаемый
мотивом игры. Страсти и надежды предков (субмотив страсти
через Вулича связан с игрой) давно угасли вместе с ними (смерть).
Далее Печорин размышляет о неизбежном конце (смерть) и наслаждении борьбы с людьми или судьбою (игра); о своей собственной безжизненности (я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно) после истощающей ночной борьбы с привидением (загадочные слова, которые, в частности, могут быть прочитаны как окказиональный эвфемизм карточной игры с судьбою — занятия по
преимуществу ночного). Размышления прерываются тем, что герой спотыкается обо что-то неживое (туша зарубленной свиньи —
сниженное, приземленное сгущение мотива смерти).
Заданный мотив смерти подспудно развивается затем с помощью деталей: посиневших губ безмолвной Насти (освещаемых, как
и свиная туша, мертвенным лунным светом), а также сна Печорина со свечой (прозрачная символика смерти), — чтобы, наконец, персонифицироваться в образе трех (число античных богинь
судьбы Парок) вестников смерти Вулича, которые и сами были
бледны как смерть. В контексте последующего приключения, таящего для Печорина смертельную опасность, вестники смерти,
пришедшие за мною, — звучит весьма многозначительно.
Далее мотив смерти доминирует как на лексической поверхности текста (неоднократные убит, смерть, убийца), так и на большей семантической глубине. Например, за словами Вулич убит
следует редуцированный образ омертвения: я остолбенел. А фигура
окруженной воющими и причитающими женщинами старухи,
поддерживающей свою, точно отрубленную голову руками, явля63
ющейся к тому же матерью убийцы, легко прочитывается как
персонифицированный образ смерти. Ее шевелящиеся губы отсылают ментальное зрение читателя вспять — к улыбке Насти помертвевшими губами, а еще далее — к улыбке смерти на лице
Вулича: ...бледные губы его улыбнулись: но <...> я читал печать смерти на бледном лице его.
Однако вместо назревающего апогея смерти (много наших перебьет) возрождается мотив игры: подобно Вуличу, одержимому страстью к игре, и Печорин вздумал испытать судьбу.
Ключевым субмотивом, сопрягающим игру и смерть, оказывается мотив сердца, изображением которого является подброшенный Печориным и трепещущий при падении червонный туз. В рефлексии хроникера о невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, субмотив сердца окончательно связывается с мотивом смерти. Не случайно Вулич умирает почти сразу же
после удара, который разрубил его от плеча почти до сердиа.
Во второй кульминации новеллы возникает прозрачная аллюзия рокового изображения сердца. В эпизоде 1 все глаза <...> бегали
от пистолета к роковому тузу: в эпизоде 9 повествователь приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось (между тем как глазами он следит за движениями казака, вооруженного пистолетом).
Наконец, Печорин бросился в окно головой вниз. Эта карточная
перевернутость человеческой фигуры в прямоугольнике окна (который ассоциируется с роковым прямоугольником игральной карты) уподобляет «бросок» Печорина удачному игровому ходу: фигура не убита. Одновременно этот жест — бросок вниз — перекликается с прекращением бостона, положившим начало новеллистическому сюжету (наскучив бостоном и бросив карты под стол),
и контрастирует с броском туза кверху, когда сам Печорин не
рисковал жизнью.
Наконец, мотивом случайной смерти (хуже смерти ничего не
случится), которой, однако, не минуешь, завершается последняя
печоринская медитация, несущая в себе специфически игровой
образ жизни: обман, промах, решительность азартного игрока
(я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает).
Рассмотренное соотношение лейтмотивов игры и смерти имеет тот художественный смысл, что азартная игра попадает в позицию универсальной антитезы смерти, т.е. в позицию жизни. Вы
счастливы в игре, — говорит Печорин Вуличу по поводу того, что
его собеседник продолжает жить. Подобный строй видения жизни
подрывает самую идею предопределения: жизнь случайна (каждый рассказывал разные необыкновенные случаи); многократно упоминаемая в тексте судьба есть отнюдь не рок (ни роковой туз,
ни роковое окно, ни роковая минута так и не оказались роковыми), а всего лишь жребий — счастливый или несчастливый, как
это случается в игре. Но такое воззрение не оставляет места и для
64
волюнтаризма: своевольно располагать своей жизнью не позволяет
наличие партнера — смеясною «другого» — как сущностной преграды (границы) всякого личного существования и сознания.
Впрочем, Максим Максимыч — «свой другой», представляющий для печоринского самоопределения не преграду, но, скорее,
опору. Самоактуализация личности оказывается возможной не
только в ситуации преодоления «другого», но и в ситуации солидарности с ним. Мнимая неудача Печорина (Больше я от него ничего не мог добиться) выгладит в тексте новеллы на фоне предыдущих пародийной попыткой разрешить вопрос: может ли человек своевольно располагать своею жизнию? В частности, несколько
неожиданные слова Максима Максимыча: ...того и гляди, нос обожжет, — достаточно очевидным образом перекликаются с печоринскими: Выстрел раздался у меня над самым УХОМ И ...приставив
дуло пистолета ко лбу. В этой параллельности телесных подробностей безопасное для жизни повреждение носа собственным выстрелом выступает как пародийное снижение роковых выстрелов,
мишенью которых служили Вулич и сам Печорин.
Обращает на себя внимание, что на уровне фокализации полупародийный эпизод-эпилог (и одновременно пуант новеллы),
казалось бы, не вносит ничего нового. Практически все детали
этого участка текста (или их аналоги) уже встречались ранее. Однако эпизод 10 крайне интересен также и на мотивном уровне.
Его «пуантность» состоит, в частности, в полном исчезновении
из его детализации мотивов игры и смерти. Словно в калейдоскопе, почти нечувствительный поворот приводит к тому, что те же
самые детали складываются в совершенно новый, неузнаваемый
узор: антиномии и уподобления, присущие романтической культуре уединенного сознания, сменяются простотой того ясного здравого смысла, каким издатель «Журнала Печорина» был поражен в
Максиме Максимыче еще в «Бэле». Жизнь предстает уже не игрой, а эмпирической практикой повседневного существования.
Глоссализация
Подобно тому, как сюжетный ряд эпизодов становится собственно литературным произведением, лишь подвергаясь объектной детализации (в воображении читателя, направляемом фокализацией семантических квантов текста), так же точно и композиция нуждается в своего рода субъектной детализации: в насыщении текста речевыми характеристиками — глоссами, как именовал Аристотель необычные, характерные речевые формы (архаизмы, варваризмы, неологизмы и т.п. «словечки»). Глоссализаиия текста делает его речевой строй рецептивно-ощутимым. Конечно, и слово литературной нормы с точки зрения семиоэстетического анализа является также глоссой, немаркированной,
3 Ткни
65
нейтральной в стилистическом отношении. Ибо и в пределах тех
или иных языковых нормативов, актуальных для данного дискурса, всегда имеется некоторая возможность выбора лингвистических средств, осуществление которого определенным образом характеризует говорящего.
Иначе говоря, помимо композиции в субъектной организации
художественного произведения обнаруживается еще один равнопротяженный тексту слой факторов художественного впечатления. Он состоит в соотносительности слов, избранных для обозначения объектных деталей, а также употребленных при этом
синтаксических конструкций, с субъектом речи. Последний получает вследствие этой соотносительности стилистико-речевую определенность — собственный «голос».
Так, для реплики Печорина, побуждающего Вулича к завершению их пари, могли быть использованы весьма различные глаголы. Однако Печорин, характеризующийся бесцеремонностью
(мне надоела эта длинная церемония) и прямотой человека, безразличного к чужому мнению, говорит: ...или застрелитесь, или
повесьте пистолет. Альтернативная синтаксическая конструкция
в устах Печорина, отличающегося решительностью характера,
столь же не случайна, как и прямолинейный выбор слова без эвфемистических ухищрений.
Рассматриваемый пласт художественной реальности — уровень
собственно слова, или, точнее, речевого строя произведения, —
в проекции текста представлен непосредственно лингвистической
знаковостью: лексико-синтаксической стилистикой и даже в немалой степени фоникой (особенно в поэзии, где выбор слова часто диктуется аллитерацией, ассонансом, анаграмматической или
паронимической аттракцией). Однако, как подчеркивал М.М.Бахтин, «дело не в самом наличии определенных языковых стилей,
социальных диалектов», а в том, «под каким диалогическим углом они сопоставлены или противопоставлены в произведении»1,
образуя в проекции смысла некую систему голосов. Нормативная
литературная речь, выступая под определенным «диалогическим
углом» по отношению к иного рода стилистике, здесь также может приобретать статус самостоятельного «голоса».
Глоссализация — это еще одна субсистема художественных значимостей. Связывая композицию с объектной организацией текста (любая деталь сообщается читателю словом, выбор которого
никогда не безразличен), она обладает несомненной структурной
автономностью. В частности, число «голосов», представленных в
тексте, может оказываться и меньше, и больше, нежели число
сюжетных актантов, с одной стороны, или число композиционных дискурсантов (субъектов высказываний) — с другой.
1
66
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1963. — С. 242.
Художественное целое, взятое в аспекте глоссализации, имеет
своем составе столько «голосов», сколько диалогически соотнесенных типов сознания (менталитетов, жизненных позиций) может быть актуализировано на основе весьма простых текстовых
показателей: а) выбор слова; б) выбор синтаксической конструкции (построение фразы). Этими факторами художественного впечатления в сознании эстетического адресата формируется, как
писал Г. А. Гуковский, «образ носителя сочувствия или неприязни,
носителя внимания к изображаемому, носителя речи, ее характера, ее культурно-общественной, интеллектуальной и эмоциональной типичности и выразительности. Это — воплощение того сознания, той точки зрения, которая определяет <...> отбор явлений действительности, попадающих в поле зрения читателя»1.
В «Фаталисте» ни Вулич, ни прочие офицеры не наделены голосами, которые лексически или синтаксически сколько-нибудь
существенно отличались бы от голоса самого хроникера. Пожалуй, лишь книжные pro или contra в речи последнего несколько
выходят за рамки литературной нормы, в которой выдержана вся
первая половина текста. Это латинское вкрапление, лаконично
резюмирующее содержание спора, — своего рода ключ к внутренне противоречивому, антиномичному сознанию Печорина. Не
случайно синтаксис фрагментов повествования и особенно печоринских медитаций изобилует противительными и соединительными союзами: первые постоянно рвут течение мысли противоречиями, вторые легко связывают эти обрывки в замкнутом круге
уединенного сознания.
Отсутствие иных голосов в начальных дискурсах новеллы красноречиво свидетельствует о том, что сознание хроникера монологически завладевает ситуацией и репликами ее участников. Скажем, глагол шутить сначала дважды встречается в речи повествователя, прежде чем появиться в офицерской реплике. Диалог как
бы разыгрывается в «режиссерском» сознании его свидетеля и
оказывается вполне одноголосым при многочисленности говорящих (сказали многие; воскликнули многие; мы слышали).
Однажды Печорин прямо говорит о власти олного сознания
над другими: Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над
нами какую-то таинственную власть. Однако заявленная на уровне объектной организации (повиновались), эта власть Вулича над
самим Печориным так и не подтверждается субъектно: Вулич ни
здесь, ни в ином месте текста так и не обретает своего собственного, стилистически самостоятельного голоса.
Не наделен таким голосом и казак, выкрикивающий в пределах текста всего лишь два стилистически неокрашенных слова. Зато
Речь самого Печорина явственно двуголоса.
в
' Г у к о в с к и й ГА. Реализм Гоголя. — М.; Л., 1959. — С. 200.
67
Лексика печоринских медитаций имеет заметно более книжный характер, чем повествование и диалоговые реплики, но особенно очевидны различия в синтаксисе. Обилие причастных и деепричастных оборотов, фигур, восклицаний, отмеченных многоточиями пауз в конце периодов, — все это делает рефлективную
внутреннюю речь Печорина риторически демонстративной, тогда
как его обращенная к другим внешняя речь предельно скупа и
сдержанна, безразлична к производимому эффекту. При этом она
вполне ассимилирует речи безымянных офицеров и «полудвойников» Печорина (Вулича и казака). Очевидно, что такой строй
глоссализации мотивирован природой печоринского уединенного сознания.
Впервые иной голос, ощутимо выделяющийся и лексически, и
синтаксически, и даже фонетически, врывается в текст новеллы
с репликой одного из казаков, начинающейся словами: Экой разбойник! Аналогичен ему строй речи, звучащей впоследствии из
уст есаула. Это голос авторитарного сознания, черпающего свои
аргументы из иерархически-ролевого устройства миропорядка:
Побойся бога!<...> Ведь это только бога гневить. Да посмотри, вот
и господа уже два часа дожидаются. Смеховое мироотношение враждебно авторитарному сознанию, поэтому есаул кричит противящемуся и нисколько не намеренному шутить казаку: ...что ты,
над нами смеешься, что ли?
Ролевой взгляд на человека, присущий авторитарному сознанию и не оставляющий места для самоценной индивидуальности,
проявляется в характеристиках, которые получает казак, противопоставивший себя всем остальным. Если Печорин способного
на оригинальную выходку Вулича называет существом особенным,
то «особенного» казака свои называют разбойником. Это слово в
прифронтовой станице означало едва ли не в первую очередь чеченца или черкеса, мусульманина, чужого (в «Бэле» Максим
Максимыч говорит о черкесах почти то же самое, что и казаки о
напивающемся чихиря собрате: ...как напьются бузы <...> так и
пошла рубка).
Трижды обращающийся к убийце есаул сначала именует его
брат Ефимыч. Интерпретированное буквально, это обращение означает родственную близость или даже родовую общность, иначе
говоря, является обращением к «своему». Повторное обращение
ставит увещеваемого казака на вселенскую границу вероисповеданий, актуализированную в офицерском споре о предопределении и совпадающую в данном случае с линией фронта: Ведь ты не
чеченец окаянный, а честный христианин. В третий раз есаул называет непокорного уже просто окаянным, т.е., иначе говоря, всетаки чеченцем, разбойником, «чужим».
Авторитарное сознание делит участников миропорядка на «своих» и «чужих» и не знает категории «другого», не знает внероле68
ой индивидуальности. Уединенное сознание превыше всего целит индивидуальность, отъединенность, особенность, «другость»,
о свою собственную (ср. лермонтовское: Нет, я не Байрон, я друн
гой.-)- Изнутри этого романтического менталитета всякий «другой» («ты») — в конечном счете «чужой»; «своими» для него могут быть только двойники.
Система голосов «Фаталиста» выявляет эту особенность печоринского сознания: речь казаков стилизована как «чужая» повествователю, тогда как речь Вулича, несмотря на его нерусское
происхождение, лишена стилизации и звучит как собственная речь
самого Печорина. Непокорный казак не лишен слова, однако лаконизм его восклицаний не позволяет идентифицировать его речь
со стилизованной речью казаков и противопоставить голосу повествователя. Наконец, женские персонажи в соответствии с печоринским отношением к женщине вовсе бессловесны. Вздох
Насти, вой женщин, молчание старухи создают эффект «нулевого» голоса бессознательной стихии дорефлективного «роевого»
сознания.
Третий голос, звучащий в тексте новеллы, принадлежит Максиму Максимычу. С первых слов его реплики этот голос ознаменован словоерсами {Да-с! Конечно-с!), стилистически чуждыми
как аристократической речи Печорина, так и просторечью казаков. То же самое следует сказать и о стилистике восхищенного
восклицания просто мое почтение! В речевом строе этого персонажа предопределение (он сначала не понимал этого слова) переименовывается в мудреную штуку, а неудобство черкесских винтовок преувеличивается простодушной шуткой: нос обожжет. Характерно и профессиональное рассуждение об этих азиатских
курках (ни Печорин — мусульман, ни казаки — окаянных разбойников не называют азиатами, как это свойственно Максиму
Максимычу).
Голос Максима Максимыча явственно отличается от печоринского, воспроизводится хроникером с установкой на его индивидуальную характерность. Скажем, в краткой речи этого резонера
дважды встречается уступительное слово впрочем, совершенно не
употребляемое Печориным. Не позволил бы себе Печорин и такой речевой корявости: ...не довольно крепко прижмешь пальцем.
Это именно другой голос, но не чужой повествователю. Знаменательно совпадение эмоциональных реакций на смерть Вулича, имеющих, однако, различную стилистическую окрашенность: Я предсказал невольно бедному его судьбу (Печорин) и Да,
Жаль беднягу (Максим Максимыч). Можно сказать, что в конце
«Фаталиста» новеллистический монолог сменяется фрагментом
Романного диалога с постоянным, экзистенциально значимым
собеседником (ср. реплику Печорина из «Бэлы»: Ведь у нас давно
вс
е пополам), чем объясняется строй приводимого хроникером
в
69
высказывания — демонстративно обрывочного и легко переходящего на смежные темы.
До известной степени глоссализация речи Максима Максимыча перекликается с неиндивидуализированным голосом авторитарного сознания, чем акцентируется «нерастворимость» этой речи
в голосе Печорина. Знаменательны, в частности, слова о черкесских винтовках, которые как-то нашему брату неприличны. Здесь и
слово брат, как и в устах есаула, вне своего прямого значения; и
авторитарный аргумент неприличности нетабельного оружия; и
демонстративное отмежевание «нашего» от «чужого». Совершенно
очевидна эквивалентность идиоматических оборотов в следующих
высказываниях есаула и Максима Максимыча: грех тебя попутал
и черт же его дернул; своей судьбы не минуешь и уж так у него на
роду было написано.
Однако эти стилистически однородные выражения в сознании
Максима Максимыча лишены сверхличного значения, о чем сигнализирует, в частности, финальная фраза хроникера, противопоставляющая мышление своего собеседника метафизическому
(в центральной медитации Печорина метафизика окказионально
синонимична фатализму авторитарного сознания). О том же свидетельствует и выражение индивидуально-личностного отношения к
происшествию (жаль беднягу) в противовес экспериментальнофилософскому интересу к судьбе Вулича со стороны других офицеров и самого Печорина. Наконец, последняя фраза Максима Максимыча (и предпоследняя всего текста) в контексте целого романа
обретает примечательный индивидуализирующий смысл.
Еще в самом начале своего рассказа о Печорине («Бэла») штабскапитан характеризует главного героя романа такими словами: Ведь
есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними
должны случаться разные необыкновенные вещи! Иначе говоря, столь
ординарное по форме (уж так у него на роду было написано) отсылает нас не к списку, на котором означен час нашей смерти; оно
уподобляет Вулича самому Печорину и по смыслу совпадает с
печоринским суждением о сербе как о существе особенном.
Другое скрытое, но крайне существенное совпадение, впервые отмеченное Б.М.Эйхенбаумом, обнаруживается в словах Печорина. Текст новеллы (и романа в целом) завершается повествовательской характеристикой Максима Максимыча, который вообще не любит метафизических прений. Но ведь и сам Печорин,
ранее отбросивший метафизику, не любит прений, да к тому же
не любит, по его собственному признанию, останавливаться на
какой-нибудь отвлеченной мысли.
Так что неудача повествователя в диалоге с Максимом Максимычем, от которого он ничего не мог добиться, как уже говорилось, — мнимая. Для автора и читателя здесь совершается главное
художественное событие произведения: диалогическая встреча
70
сознаний при всей кардинальной разности этих сознаний. Между
двумя персонажами, взаимодействующими на протяжении романа (все остальные не упоминаются за пределами отдельных глав,
де они фигурируют), с новеллистически закономерной неожиг
данностью пуанта случается достижение точки согласия1 со «своим
другим».
Мифотектоника
Два последующих уровня семиоэстетического анализа (уровни
мифопоэтики и ритма) хотя и принадлежат один к объектной
организации произведения, а другой — к субъектной, но затрагивают по преимуществу такие факторы художественного впечатления, которые следует понимать как факторы внутренней речи, т.е.
факторы внерационального понимания произведения как единого высказывания в том или ином «эмоционально-волевом тоне»,
который необходимо внутренне воспроизвести, заняв соответствующую «эмоционально-волевую позицию участника события»2.
Мифологическая и ритмическая упорядоченность текста обращены уже не к лингвистической компетентности читателя, необходимой для адекватного восприятия рассмотренных выше уровней,
но к додискурсивным, глубинным пластам его личностного опыта присутствия в мире в качестве некоторого «я».
В частности, полнота художественного впечатления (эстетического осмысливания текста) предполагает не только стилистически «озвученную» глоссами детализацию сюжета, но и его генерализацию. На уровне сюжета читатель узнает о жизни конкретных, по преимуществу вымышленных персонажей. А между тем
искусство говорит о личности вообще и тем самым о личности
каждого из своих читателей (если, конечно, мы имеем дело не с
публицистикой или беллетристикой, только имитирующими художественность). Сюжетно-композиционных скреплений и фокализирующих конкретизации, чем ограничивается развлекательная
или дидактическая беллетристика, здесь совершенно недостаточно.
По мысли В. М. Марковича, «сила художественной интеграции»,
создающая эффект высокого искусства, недостижима «без внутренней опоры, возникающей как бы независимо от авторской
воли, от очевидной авторской активности»3. Маркович именует
1
Ср.: «Согласие никогда не бывает механическим или логическим тождеством, это и не эхо; за ним всегда преодолеваемая даль и сближение (но не
Сияние). <...> Ибо диалогическое согласие по природе своей свободно, т.е. не
предопределено, не неизбежно» (Бахтин М.М. Собрание сочинений. — Т. 5. —
С 364).
2
Б а х т и н М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и
Те
хники. - М., 1986. - С. 103, 129 и др.
Маркович В.М. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. — С. 61.
71
эту «опору» «мифологическим подтекстом», или «сверхсюжетом»,
образующим в тексте «связи совершенно особого рода». Со всей
убедительностью исследователь показал ключевую роль такого рода
сверхсюжетных подтекстов «Евгения Онегина», «Мертвых душ»,
«Героя нашего времени» в становлении русского реалистического
романа. Однако откровение, обнаруживающее «в глубине индивидуального, социально-типового, эпохального — общенациональное, всечеловеческое, извечное», составляет неотъемлемое качество всякого подлинного искусства, которое во все времена, а не
только в рамках классического реализма, «осваивая фактическую
реальность общественной и частной жизни людей <...> устремляется и за пределы этой реальности — к "последним" сущностям
общества, человека, мира»1.
Речь идет о таком слое объектной организации факторов художественного впечатления, на фундаменте которого только и возможны сюжет и фокализация в их собственно художественной
функциональности. Именно к этому уровню художественного целого в наибольшей степени приложимы слова Бахтина о «ценностном уплотнении мира» вокруг «я» героя как «ценностного центра» этого мира.
Сколько бы персонажей ни принимало участия в сюжете, на
предельной, поистине «тектонической» глубине литературного
произведения мы имеем дело только с одним таким центром. Генерализацию этого рода нередко именуют «человек Толстого» или
«человек Достоевского», «чеховская концепция личности» и т.п.
Имеется в виду присущий самому творению художественный концепт «я-в-мире», который не следует отождествлять ни с личностью самого автора, ни с той или иной рациональной концепцией, усвоенной или выработанной его мышлением. Что касается
сюжетных персонажей, то все они оказываются либо актантноречевыми обликами, вариациями этого единого концепта, либо
элементами фона — художественного мира, эстетически уплотненного.
В проекции текстуальной данности произведения глубинная
тектоника литературного произведения предстает системой хро2
нотопов — пространственно-временных кругозоров мировидения.
Важнейшими факторами художественного впечатления здесь выступают фундаментальные для общей картины мира соотнесенности внешнего / внутреннего, центра / периферии, верха / низа,
J
М а р к о в и ч В. М. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. —
С. 62, 59.
2
Ср.: «Всякое вступление в сферу (художественных. — В. Т.) смыслов совершается только через ворота хронотопов» ( Б а х т и н М.М. Вопросы литературы и
эстетики. — С. 406). Нам остается лишь напомнить, что путь читателя к этим
«воротам» пролегает через сюжет и систему мотивов, развернутую в цепь кадров
внутреннего зрения.
72
евого / правого, далекого / близкого, замкнутого / разомкнутого, живого / мертвого, дневного / ночного, мгновенного / вечного' света / тьмы и т.п. Крайними пределами этой субсистемы художественных значений являются наиболее генерализованные
кругозоры героя (внутренний хронотоп) и мира (внешний хронотоп, обрамляющий, полагающий различного рода границы своем у личностному центру).
Следует оговориться, что оригинальный бахтинский термин
пострадал от многочисленных некорректных его употреблений.
Обращение к понятию хронотопа целесообразно лишь в тех случаях, когда «имеет место слияние пространственных и временных
примет в осмысленном и конкретном целом»1 архитектонического2 способа присутствия человеческого «я» в мире. Так, «дорога»
может выступать в произведении всего лишь одной из предметных
деталей, или мотивом, или приемом сюжетосложения. Во всех этих
случаях говорить о «хронотопе дороги» не приходится. Однако архитектонический образ дороги как странствия, как пространственно-временной формы проживания жизни способен служить художественной генерализацией некоторого способа существования
личности. В таком случае он, по выражению Бахтина, «существенно хронотопичен».
В проекции субъективной данности текста художественному
восприятию (полюс смысла) генерализация литературного произведения являет собой систему архетипов коллективного бессознательного и аналогична в этом отношении мифу, который всегда говорит не о том, что случилось однажды с кем-то, но о том,
что случается вообще и имеет отношение так или иначе ко всем
без исключения. Художественная архитектоника внешнего хронотопа мира (сверхличного миропорядка или межличностного жизнесложения) мифогенна, восходит к образам мирового яйца,
мирового древа, мировой реки, мирового противостояния космических сил и т. п.
На мифотектоническом уровне сотворческого сопереживания
актуализация смысла произведения в сознании читателя протекает по законам мифологической самоактуализации человека в мире,
при которой человек руководствуется в значительной степени
мифо-логикой пра-мышления. По этой причине данная сторона
художественного восприятия, как правило, не попадает в поле
Рефлексии читателя, не осознается им. Эстетическая рецепция
мифотектоники родственна ощущению ритма и оставляет у читателя впечатление глубины, невыразимости, тайны художественл
н а х т и н М. М. Вопросы литературы и эстетики. — С. 235.
Архитектоническое Бахтин определял как «воззрительно необходимое, несл
Учайное расположение и связь... частей и моментов в завершенное целое» ( Б а х Т и
н М. М. К философии поступка. — С. 139).
2
73
ного целого. При встрече с подлинным искусством чуткому адресату открывается, что помимо сюжета, деталей, композиции,
речевого строя в литературном произведении имеется еще «чтото» неучтенное, залегающее на большей глубине и обеспечивающее подлинную эстетическую ценность этих поверхностных художественных построений. Это глубина мифа. Но мифа, неведомого
первобытному человеку, экзистенциального мифа о пребывании
индивидуального внутреннего «я» во внешнем мире. Художественный концепт личности есть недоступная архаичному сознанию
мифологизация экзистенции (личностного существования): это
универсальное «я-в-мире» в авторском его усмотрении.
Мифотектоника «Фаталиста» характеризуется наличием двух
внешних хронотопов: основного (двухнедельное пребывание в пограничной станице) и дополнительного (возвращение в крепость) —
и одного внутреннего.
Если расширить контекст до пределов целого романа, то можно отметить следующую характеристику крепости: она скучна Печорину, как и вся его жизнь (о доминирующем жизнеощущении
героя, которому жить скучно и гадко, мы узнаем из центральной
медитации «Фаталиста»). Случающийся же за пределами крепости
разговор о предопределении (и случай, явившийся следствием
этого разговора), против обыкновения, был занимателен. Однако в
пределах текста новеллы крепость не имеет никаких характеристик, кроме одной — косвенной: это хронотоп встречи печоринского осознания событий с внеположным всему случившемуся
сознанием «другого». Иначе говоря, это лишь контурно намеченный хронотоп другого сознания, органичного крепости и ограниченного ею.
Основной же хронотоп новеллы мифологизирован весьма основательно. Прежде всего явственной его локализованностью в
ночном времени: нам не дано знать ни о чем таком, что происходило бы в прифронтовой станице в дневное время. И даже вставной эпизод 1-а тоже ночной, хотя он и содержит в себе боевые
действия, совершавшиеся по преимуществу при свете дня.
Мифологический ключ к этой хронотопической диспропорции
скрыт в начальных словах текста: Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге. В любом из
рассмотренных выше аспектов организации литературного произведения выделенное слово представляется совершенно случайным; от замены «левого» на «правое» даже в ритме текста ровным
счетом ничего не изменилось бы. Но мифотектоника «Фаталиста»
от такой замены, можно сказать, разрушилась бы.
В мифологическом сознании «левое» противопоставляется «правому» как негативный полюс миропорядка позитивному, как «инфернальное» — «сакральному». При соотнесении с начальной фразой текста идиоматическая реплика Максима Максимыча — Черт
74
же его дернул ночью с пьяным разговаривать — также приобретает
мифотектоническое значение: мифологическое пространство случающегося в «Фаталисте» — сфера деятельности «черта», изнаночная, «ночная» сторона бытия, инфернальный хронотоп потустороннего мира. (Не следует упускать из виду, что в последних главах романа мы имеем дело с записками покойника.)
В этой плоскости актуализации художественного смысла многие частные моменты объектной и субъектной организации новеллы прочитываются «мистериально». Так, после осечки следует
восклицание: Слава богу! Не заряжен. — Посмотрим, однако ж, —
отвечает Вулич, намеревающийся выстрелить вторично. Опровергая версию о незаряженности, выстрел Вулича заодно как бы отвергает и причастность Бога (а не его антагониста) к выигрышу
пари.
Зрительно инфернальный хронотоп проявляется в лаконичной
пейзажной зарисовке: ...месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта — весьма
прозрачная аллюзия пасти хтонического чудовища, проглатывающего и выплевывающего светила. В сочетании с ночным холодом
(от которого у Насти при свете все того же месяца мертвенно
синеют губы) этот зрительный образ легко ассоциируется, например, с вмерзшим в лед огнедышащим Люцифером Дантова
ада. Напомним, кстати, что один из трех ликов Люцифера красен
(как увиденный Печориным месяц), второй — бледен (как лицо
казака-убийцы), третий — черен (ср. смуглый цвет лица, черные
волосы, черные пронзительные глаза Вулича).
Весьма существенно, что этот не вполне обычный месяц не
вознесен, а приземлен. Перекликаясь с огоньком, зажженным на
краю леса беспечным странником, он по оси «низ — верх» противопоставлен звездам, которые к моменту восхода месяца уже спокойно сияли на темно-голубом своде. По рассуждению Печорина,
сфера божественных лампад, как он именует звезды, слишком
высока и далека от пограничных ничтожных споров за клочок земли, тогда как месяц, даже поднимаясь над горизонтом, сохраняет
свою приземленность, поскольку светит прямо на дорогу, освещая для Печорина (и читателя) свинью и Настю.
Легко прослеживается мифологическая связь этих квазиперсонажей с колдовским, неверным лунным светом и инфернальным
хронотопом. Свинья — одно из традиционных «бесовских» животных, а то, что она казаком разрублена пополам, читается как намек на выход бесовской силы из телесной оболочки свиньи и вселение ее в казака (ср. евангельскую легенду об изгнании легиона
бесов из одного одержимого и вселение их в стадо свиней). В этом
контексте и облик Насти (закутанной в мех с мертвенной улыбкой
на посиневших губах) приобретает отчетливый ведьминский колорит, после чего множество женщин, которые воют, устремив75
шись к инфернальной избушке (пустая хата на конце станицы,
которой двери и ставни заперты изнутри), прозрачно ассоциируется с шабашем ведьм.
В центре этой фантасмагорически увиденной картины — мать
одержимого бесом: старуха, которая сидела на толстом бревне (семантическое эхо толстой свиньи), поддерживая голову руками (семантическое эхо рассеченности). Словно хранительница какогонибудь магического знания, она молча посмотрела на него пристально и покачала головой.
К демоническому колориту инфернального хронотопа следует
отнести также мотивы безлюдности (пустые переулки', пустая хата;
шел один по темной улице), окаменения и остолбенения, таинственной власти потенциального самоубийцы, а затем и его убийцы
над окружающими людьми и особенно мотив дыма, дважды наполняющего помещение и традиционно соотносимого с присутствием дьявола. Существенное значение здесь приобретает также
мотив смеха — в его демонической ипостаси насмешки или холодной улыбки бледными губами. Этим лейтмотивом связаны четыре
персонажа: Печорин, Вулич, казак и Настя.
Не последнюю роль в организации данного пласта художественной реальности «Фаталиста» играет число 4, хотя явным образом
оно названо лишь однажды: В четыре часа утра (единственное
точное обозначение времени в тексте) Печорину сообщают о гибели Вулича и уводят на встречу с убийцей.
Архаичная символика числа 4 связана с представлениями об
устойчивости и завершенности миропорядка. Однако в контексте
христианской мифологии (проблема фатализма в новелле задана
спором христианства с мусульманством), если число 4 мыслится
суммой чисел 3 и 1, то способно приобретать инфернальные коннотации профанного и деструктивного относительно сакрального
числа 3. «Счастливый первенец творенья», как назван Демон в
лермонтовской поэме, завистливо посягающий на мировое господство, — это четвертая, избыточная ипостась сверхличного бытия после Святой Троицы.
В инфернальной модификации 3 + 1 интересующее нас число
встречается неоднократно. Дважды в тексте упоминаются три минуты в сочетании с минутой, и оба раза такая минута оказывается
решающей в игре человека со смертью. Первый случай: ...в ту
минуту, как он (туз. — В. Т.) коснулся стола, Вулич спустил курок;
после выстрела со второй попытки минуты три никто не мог слова
вымолвить. Второй случай: В эту минуту <...> я вздумал испытать
судьбу, после выстрела казака не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем.
Поскольку за Печориным приходят три офицера, то он в этой
компании оказывается четвертым. Четвертым он оказывается и
тогда, когда предлагает Вуличу застрелиться (этой реплике пред76
шествуют ровно три: закричал кто-то; подхватил другой; закричал
третий). Не удивительно, что реплика самого Вулича, предлагающего испробовать на себе силу предопределения, также оказывается четвертой в печоринском изложении спора. Что касается казака, то персонально в тексте новеллы фигурируют именно четверо казаков: два, встреченные Печориным, есаул и, наконец,
убийца, оказывающийся для хроникера как раз четвертым в этом
ряду.
Составляя основу мифотектоники «Фаталиста», инфернальный
хронотоп самой своей актуализацией художественно опровергает
идею божественного предопределения. Хотя, как кажется Печорину, доказательство было разительно, оно предстает демонстрацией силы не сакрального начала, но антагонистического ему,
сатанинского.
Древнееврейское слово «сатана» обозначает, как известно, противника (в суде, ссоре, сражении). Он не только противник Бога,
сатана вносит разлад в межчеловеческие отношения. В частности,
именно он уединяет человека, внося разлад в отношения между
«я» и «другими».
В связи с этим особую значимость приобретает «тектонический
разлом» всего художественного мира «Фаталиста»: пограничное
размежевание всех на две противоборствующие стороны (pro et
contra). Уже начальная фраза текста акцентирует прифронтовую
локализацию действия, вторая кульминация которого разыгрывается в хате на конце станицы, т.е. у самой линии фронта. Размежевание углубляется противопоставлением христианства и мусульманства в споре о предопределении (эхом этого противопоставления звучит реплика есаула, взывающего к конфессиональной принадлежности казака), а также сопоставлением в рассуждении Печорина предков с их языческой астрологией и растерявших свои
убеждения потомков. Отсветом сатанинского разлада мерцает даже
национальность Вулича, причисленного к тому южнославянскому народу, который в своей истории драматически размежевался
по конфессиональному признаку. Слова Максима Максимыча уж
так у него на роду было написано отсылают, между прочим, и к
фразе повествователя: Он был родом серб, будто мотивируя инородством подверженность воздействию нечистой силы.
Инфернальная мифотектоника предполагает центральную фигуру «князя тьмы». Инородец Вулич, в облике которого доминирует черный цвет, и окаянный казак («окаяшка» и «черный» —
имена черта в низовой народной мифологии) в этом контексте
легко могут быть интерпретированы как одержимые дьяволом (безмерная страсть к игре одного, пьяная невменяемость другого), но
не отождествимы с ним самим. Центральным же демоническим
персонажем, как это ни парадоксально, оказывается не хозяин,
а гость потустороннего ночного мира — сам хроникер.
77
Ведь это Печорин, шутя («шут», «лукавый» — простонародные
эвфемизмы черта), предлагает пари, провоцируя греховную попытку самоубийства (своевольно располагать своею жизнию). И он
же своими неуместными замечаниями провоцирует Вулича на повторное испытание своего счастья в игре, которая, по словам того
же Печорина, лишь немножко опаснее банка и штосса. В частности,
Печорин утверждает: Вы счастливы в игре, — отлично зная, что
обыкновенно это не так (подстрекатель — одно из главных значений древнееврейского слова «сатана»).
Печорин же является косвенным виновником преступления
казака в том смысле, что, вынудив своей подстрекательской репликой Вулича уйти раньше других, можно сказать, подставляет
его казаку. Так что убийцу не только его собственный грех попутал, но и тот же самый черт, который дернул Вулича обратиться
к пьяному. Произносящий эти слова Максим Максимыч не ведает, кто истинный протагонист случившегося, тогда как Печорин
ясно говорит: Я один понимал темное значение слов и поведения
Вулича.
В проекции мифа новеллистический сюжет «Фаталиста» вообще легко прочитывается как история покупки души дьяволом. Пари
Печорина с потенциальным самоубийцей, бесспорно, напоминает такую сделку (по народному присловью, самоубийца — «черту
баран»). Окаянный казак, словно по дьявольскому наущению, находит Вулича и разрубает его до сердца, представая как бы воплотившимся «ангелом смерти, "вынимающим" душу человека»1 —
душу, за которую владелец в греховном пари уже получил свои
двадцать червонцев. Затем Печорин хитроумно овладевает простодушным исполнителем дьявольского замысла: возьму живого. Вдумаемся в несообразность печоринского повествования: нужно обладать поистине дьявольским зрением, чтобы в четыре часа ночи
во мраке хаты с запертыми ставнями через узкую щель ясно различать все подробности и даже выражение глаз казака. Почти
сверхъестественно торжествуя над убийцей Вулича (Офицеры меня
поздравляли — и точно, было с чем!), повествователь словно перенимает у того свою законную добычу — душу убитого.
Таково «ценностное уплотнение» инфернального мира вокруг
Печорина, и если бы он был показан только извне, то вырос бы
в демоническую фигуру управляющего роковыми событиями. Собственно говоря, по догадке самого героя, он и выглядит их инициатором в глазах остальных офицеров. Однако мифотектонический слой «Фаталиста» представляет собой систему из трех хронотопов: помимо двух внешних имеется третий — внутренний, интроспективный хронотоп печоринской рефлексии.
З в е р и н ц е в С.С. Сатана // Мифы народов мира: Энциклопедия. — М.,
1988.-Т. 2.-С.413.
78
Этот хронотоп воображаемой, мысленно пережитой жизни есть
романтический хронотоп мечты (В первой молодости я был мечтателем и т.д.). В печоринском варианте внутренний хронотоп характеризуется опустошенностью, но отнюдь не демоничностью.
Уединение Печорина в пределах инфернального хронотопа соотносит его не с мраком, а со светом: Я затворил за собою дверь моей
комнаты, засветил свечу (нетривиальное действие для человека,
собирающегося уснуть), — но в сон он погрузился не ранее чем
при бледном намеке на приближающуюся зарю.
Однако опустошенный взгляд мечтателя выходит далеко за пределы как темного, ночного хронотопа смерти, так и антиномичного ему хронотопа жизни, непосредственно смыкаясь с вечностью:
...звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно... Печорину «внутреннему» смешно при взгляде на жизнь и смерть
человеческую с высоты вечного неба, хотя и себя самого («внешнего») он причисляет к жалким потомкам, скитающимся по земле.
Как и везде в романе, Печорин в «Фаталисте» предстает носителем такого «я», которое шире своих событийных границ. Нельзя
сказать, что герой-хроникер принадлежит инфернальному хронотопу, гостем которого он выступает. Скорее этот хронотоп принадлежит беспокойному и жадному воображению его уединенного
сознания, которое шире инфернальное™. Как принадлежат ему
оформленные новеллистическим повествованием фигуры разноликих печоринских двойников: фаталист и волюнтарист. Мифологема двойничества, восходящая к близнечным мифам, в контексте христианской культуры связывается с идеей дьявольского подражания благодатной силе творца, а сюжетное взаимодействие
Печорина с этими персонажами является вариантами все той же
ночной битвы с привидением, с порождением собственной рефлексии. Не случайно и Вулич, и казак, будучи субъектами действий
(актантами), не только не обладают «голосами», но и не выступают в качестве субъектов внутреннего хронотопа, оставаясь силуэтами инфернального фона.
Иное дело — фигура Максима Максимыча, в пределах «Фаталиста» вовсе не наделенного какой-либо актантной функцией. В его
скупых словах возникают контуры некоего дневного, трезвого
мировидения (ср. недопустимость ночью с пьяным разговаривать)
со своим низом (черт дернул) и своим верхом (на роду написано,
что синонимично зафиксированности судьбы на небесах). Это своего рода повседневно-батальный хронотоп крепости со своей военно-профессиональной системой ценностей и даже со своими
пропорциями, где у черкесской винтовки настолько приклад маленький — того и гляди, нос обожжет. И Печорину этот кругозор
одного из тех старых воинов, к мнению которых он всерьез прислушивается, отнюдь не чужой, хотя собственный его внутренний хронотоп несовместим с таким кругозором.
79
Архитектоника мировидения, каким наделен Максим Максимыч, в пределах новеллы не развернута в самостоятельный внутренний хронотоп, однако обнаруживает себя ровно настолько,
чтобы обозначить границу печоринского сознания — положить
предел его уединенности. Выход из инфернального хронотопа,
который «лермонтовский человек» носит в себе, — такова смыслосообразная тектоническая основа рассмотренных ранее поверхностных слоев художественного целого.
Если говорить о «Фаталисте» как об экзистенциальном художественном мифе, то его можно было бы определить как миф о
возвращении личности из чужого мира собственных двойников
в исконный для нее свой мир других. Возвращение здесь предстает событием, многократно повторяющимся, цикличным, подобным всем мифологическим событиям. Такова «универсальная
мифологическая истина» (В.М.Маркович), присущая лермонтовскому произведению, вероятнее всего, помимо воли его сочинителя. О степени ее осознанности автором можно лишь гадать, но искусство и не требует этой осознанности.
Ритмотектоника
Субъектная организация литературного произведения зеркально изоморфна объектной. Жесткая конструктивная основа (сюжетная — с одной стороны, композиционная — с другой) и там
и здесь подвергается как детализации, так и генерализации особого рода. Если глоссализация внутритекстовых дискурсов «детализирует» их, создает эффект распределенности текста между несколькими голосами, то ритм представляет собой речевую генерализацию текста, поскольку подводит некий общий знаменатель
эстетического единства под все прочие его конструктивные членения и размежевания.
Строго говоря, движение ритмических рядов художественного звучания, обращенного к внутреннему слуху, есть лишь читательское впечатление. Соответствующий уровень художественной
реальности в силу своей завершенности, фаустовской остановленное™ вечно длящегося мгновения являет собой запечатленную лингвистической материей произведения глубинную ритмотектонику художественного высказывания, нуждающегося для
реализации своей коммуникативной событийности в «исполнительских» импульсах читательского движения по тексту. В исходном своем значении греческое слово «ритмос» как раз и «обозначает ту форму, в которую облекается в данный момент нечто
движущееся, изменчивое, текучее»1, а не динамику этого процесса.
1
80
Б е н в е н и с т Э. Общая лингвистика. — М., 1974. — С. 383.
Будучи «принципом упорядоченного движения» (по Э. Бенвенисту), ритм является фундаментом всей субъектной организации —
организации художественного времени высказывания и соответственно его читательского внутреннего исполнения. Как «упорядоченная последовательность медленных и быстрых движений»
(Бенвенист) ритм манифестирован в тексте длиной ритмических
рядов, измеряемой числом слогов между двумя паузами; как «чередование напряжений и спадов» ритм манифестирован ударениями: чем выше плотность акцентуации (количество ударных слогов относительно длины ритмического ряда), тем выше напряжение речевых движений текста. Наиболее значимы при этом (особенно если говорить о прозе) ближайшие к паузам ударения —
начальные и заключительные в ритмическом ряду: образующие
ритмические зачины (анакрусы) и ритмические концовки (клаузулы) и формирующие тем самым интонационные оттенки ритма.
Являясь в аспекте текста системой соразмерных отрезков звучания, ритмика интонирует всю субъектную организацию литературного произведения в ее взаимоналожениях и взаимодействиях
с объектной организацией. С точки зрения художественного впечатления, т.е. в аспекте смысла, ритмотектоника целого есть не
что иное, как система различимых ментальным слухом и воспроизводимых внутренней речью интонаций. Вследствие этого ритм,
согласно классическому определению Шеллинга, «есть превращение последовательности, которая сама по себе ничего не означает, в значащую»1, в моделирующую смысл целого средствами,
не обремененными семантическими коннотациями общепонятного языка, и в этом смысле «фильтрующую» художественную
смыслосообразность текста.
Интонация представляет собой экспрессивную, эмоционально-волевую сторону речи, знаменующую двоякую ценностную
позицию говорящего: по отношению к предмету речи и к ее адресату. Отличая экспрессивную интонацию от грамматической (интонация «законченности, пояснительная, разделительная, перечислительная и т.п.»), Бахтин определял первую как «конститутивный признак высказывания. В системе языка, т.е. вне высказывания, ее нет»2.
Интонация событийна: именно она связывает субъект, объект
и адресат речи в конкретное единство коммуникативного события (дискурса). Она возникает во внутренней (недискурсивной)
речи как проявление «аффективно-волевой тенденции» (Выгот3
ский) личности и является эктопией (вынесенностью вовне) интенций текстопорождаюшего мышления. Такое мышление «есть
' Ш е л л и н г Ф. Указ. соч. — С. 198.
Б а х т и н М. М. Собрание сочинений. — Т. 5. — С. 194, 189.
3
В ы г о т с к и й Л.С. Собрание сочинений. — Т. 6. — С. 357.
2
81
эмоционально-волевое мышление, интонирующее мышление»,
1
обладающее «эмоционально-волевой заинтересованностью» . Будучи своего рода голосовой «жестикуляцией», интонация путем
эмфатического воздействия на материал внешней (знаковой) речи
устремлена непосредственно к внутреннему слуху адресата и представляет собой непереводимый в знаки избыток внутренней речи,
предлагающий восприятию смысл высказывания, минуя языковые значения текста. «Именно в интонации соприкасается говорящий со слушателями»2. Интонация насыщена смыслом, но не зависима от логики высказывания, которую способна усиливать,
эмоционально аранжировать или ослаблять и даже дискредитировать: слова проклятия могут быть произнесены с любовной интонацией, как и наоборот, в результате чего интонация «как бы
выводит слово за его словесные пределы»3.
Интонация неотделима от живого голоса говорящего, ее фиксация в тексте весьма затруднена. Однако интонационный репертуар коммуникативных отношений в рамках определенной культурной общности людей не безграничен: основные эмоционально-волевые тональности (интонемы) высказываний узнаваемы,
«наиболее существенные и устойчивые интонации образуют интонационный фонд определенной социальной группы»4.
Интонационный фонд (в ядре своем — общечеловеческий) внеконвенционален, он складывается и функционирует в социуме
не как система знаков, а как традиция, питаемая почвой общечеловеческого спектра эмоционально-волевых реакций. Так, например, во многих языках низкий ярус тона (на 2 — 3 тона ниже среднего) «служит для сообщения о чем-то таинственно-загадочном
или даже устрашающем», тогда как высокий (на 2 — 3 тона выше
среднего) используется для передачи «радостного, светлого, даже
5
восторженного» отношения к предмету речи .
Интонационная специфика художественных текстов состоит в
том, что основным интонационно-образующим фактором здесь
выступает ритм, который служит характеристикой не отдельных
фрагментов, а смыслосообразной организации текста в целом.
Художественное высказывание автора есть сложное ритмико-интонационное (мелодическое) единство той или иной эстетической
природы (модальности). При этом ритмическое ударение эмфатически (от греч. emphasis — 'выразительность') может не соответствовать синтаксическому, особенно в поэзии, где ритмический
Б а х т и н М.М. К философии поступка. — С. 107, 126.
В о л о ш и н о в В.Н. Слово в жизни и слово в поэзии // Валентин Волошинов. Философия и социология гуманитарных наук. — СПб., 1995. — С. 69.
3
В о л о ш и н о в В.Н. Указ. соч. — С. 69.
4
Б а х т и н М.М. Эстетика словесного творчества. — С. 369.
5
Ч е р е м и с и н а - Е н и к о п о л о в а Н.В. Законы и правила русской интонации. - М., 1999.-С. 16.
2
82
ряд является стиховым (равен строке) и не совпадает с рядом
синтаксическим. Отличие прозаического ритма от поэтического
состоит именно в совпадении ритмического членения прозы с ее
естественным, синтаксическим членением.
Идя в понимании ритма художественной целостности вслед за
М.М.Гиршманом1, мы внесем, однако, некоторые коррективы в
разработанную этим ученым методику описания ритмического
строя прозы. За основную единицу ритмического членения мы
принимаем не речевой такт (колон), но ряд слогов между двумя
паузами, отмеченными в тексте знаками препинания, что соответствует «фразовому компоненту» у Гиршмана. Исключение составляют немногочисленные случаи обособления запятыми безударной части речи (например, союза перед деепричастным оборотом); при чтении пауза здесь, как правило, не возникает, а
если она желательна, писатели пользуются в таких случаях более
сильными знаками препинания (многоточие, тире).
Проблема заключается в том, что разделение речевого потока
на колоны, как пишет М. Л. Гаспаров, «до некоторой степени произвольно (одни и те же слова часто с равным правом могут быть
объединены в два коротких колона или в один длинный)»2. Иначе
говоря, речевой такт является единицей не объективно-ритмического, но субъективно-интонационного, интерпретирующего
членения. Не будучи зафиксирован в тексте явным образом, колон не может трактоваться в качестве фактора художественного
впечатления, тогда как отмеченная знаком препинания пауза таким фактором, бесспорно, является. Эти паузы для членения императивны в отличие от факультативных пауз между колонами.
Последние, несомненно, имеют место, особенно при актерском
исполнении, однако для литературоведческого анализа представляются слишком «тонкой материей» и таят опасность исследовательского произвола, подгонки под желаемый результат. А главное, эти более слабые интонационные членения на речевые такты в рамках завершенного эстетического целого все равно управляются теми же общими ритмическими закономерностями, что и
более сильные синтаксические членения речевого потока на фразовые компоненты.
При описании ритмотектоники «Фаталиста» нами учитывались
следующие факторы: а) количество слогов между двумя паузами
(длина ритмического ряда); б) число ударных слогов (в отношении к их общему количеству характеризующее плотность акцентуации, напряженность ритмического ряда); в) местоположение
первого в ритмическом ряду ударения (мужские, женские, дактилические и гипердактилические анакрусы); г) местоположение
'См.: Г и р ш м а н М.М. Ритм художественной прозы. — М., 1982.
Г а с п а р о в М.Л. Современный русский стих. — М., 1974. — С. 11.
2
83
последнего ударного слога (мужские, женские, дактилические и
1
гипердактилические клаузулы) .
Базовые показатели ритмотектоники «Фаталиста» таковы. Текст
складывается из 654 фразовых компонентов (ритмических рядов);
средняя длина ритмического ряда — 9 слогов; средняя плотность
акцентуации — 0,35 (показатель, означающий, что примерно каждый третий слог текста — ударный, что вообще характерно для
русской речи). Анакрусы распределяются следующим образом:
210 мужских (ударение на первом слоге), 224 женских (ударение
на втором слоге) и 220 дактилических (включая и гипердактилические, не приобретающие, по крайней мере в данном тексте,
самостоятельного значения).
Иначе говоря, общетекстовая доминанта в этом аспекте ритма
отсутствует, что, впрочем, еще ничего не говорит о его художественной значимости. Соотношение клаузул: 232 мужских (ударение на последнем слоге), 294 женских (ударение на предпоследнем слоге) и 128 дактилических (вместе с гипердактилическими).
Общетекстовую доминанту составляют, стало быть, женские клаузулы, тогда как сгущение наименее употребительных дактилических и гипердактилических способно привести к эффекту ритмического курсива.
Все эти суммарные показатели сами по себе мало существенны.
Наибольший интерес представляет внутритекстовый «устойчивый
репертуар ритмов и их значимостей» (интонаций), который, как
пишет Ежи Фарино, «останавливает текст, налагает на него статику своими повторами, заставляет увидеть не последовательность,
а парадигму эквивалентных единиц» 2 . На этой парадигматике ритмико-интонационных компонентов художественного целого и
будет сосредоточен наш анализ.
Вполне закономерно, что ритмико-интонационным центром
новеллы о фаталисте оказывается фрагмент, рассказывающий о
таинственной власти верующего в предопределение Вулича над
окружающими его и сомневающимися в предопределении рядовыми смертными:
Всё замолчали и отошли.
Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; всё последовали за
ним: он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему:
в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза...
1
Ср.: «Мы обозначаем основные типы зачинов и окончаний по аналогии со
стиховедческой номенклатурой клаузул: ударные зачины и окончания называем
мужскими, односложные (безударные. — В. Т.) — женскими, двусложные — дактилическими, более чем двусложные — гипердактилическими» ( Г и р ш м а н М.М.
Ритм художественной прозы. — С. 28, 29).
2
F a r y n o J e r z y . Введение в литературоведение. — Warszawa, 1991. — С. 444.
84
На протяжении семи ритмических рядов подряд все анакрусы
и все клаузулы — мужские. Подобная ритмическая кульминация
1
не может остаться за порогом художественного восприятия . Обращает на себя внимание и высокая плотность акцентуации (0,4
вместо фонового 0,35) при довольно значительной средней длине ритмического ряда (12 вместо 9), чем создается повышенное
интонационное напряжение повествования. Аналогичной плотности ударность повествовательного текста достигает лишь в эпизоде гибели Вулича, но при средней длине ритмического ряда 7,6.
Стало быть, напряжение в этом случае несколько ниже, что легко объяснимо: происшествие излагается с чужих слов.
Мужские анакрусы, особенно в сочетании с мужскими клаузулами и повышенной плотностью акцентуации, в тексте «Фаталиста» представляют интонацию Вулича. Достаточно привести одну
из его реплик: Может быть, да, может быть, нет... — которая
состоит почти из одних анакрус и клаузул (мужских), в односложных ритмических рядах совмещающихся. Плотность акцентуации здесь превышает 0,7, что даже для диалоговой реплики довольно много. Своего рода интонационной моделью ритмической
темы Вулича служит его предсмертная реплика: Он прав (плотность = 1).
Впрочем, самостоятельная интонационно-образующая роль
здесь принадлежит только анакрусам, поскольку мужские клаузулы в данном тексте могут принадлежать и иной ритмической теме
(см. ниже). В частности, именно мужскими анакрусами интонировано само предложение Вулича, кладущее начало основному действию новеллы: Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею
жизнию. Теми же анакрусами (при участии указанных выше вспомогательных ритмических характеристик) интонировано повествование Печорина о Вуличе еще и до срответствующей ритмической кульминации (Он был родом серб; Он был храбр; Вулич докинул
талью\ карта была дана; Вулич молча вышел в спальню майора; мы
за ним последовали. Он подошел к стене и т.п.) и после нее (Он
взвел опять курок; Выстрел раздался — дым наполнил комнату;
Этот же человек; Он взял шапку и ушел).
Аналогичную интонационно-ритмическую окрашенность получают и речи других персонажей, если они относятся к Вуличу.
Майор, обращаясь к нему: Только не понимаю, право, в чём дело и
как вы решите спор (первая реплика майора была интонирована
иначе). Максим Максимыч о Вуличе: Да, жаль беднягу... Чёрт же
1
Для рецептивной (эстетической, а не логической) актуализации ритма в
восприятии мы полагаем минимально достаточным двойной повтор (когда одна
ритмическая характеристика встречается подряд трижды), а в случае соответствующего ритмического ожидания — даже одинарный повтор.
85
его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно... Ритмической теме Вулича, очевидно ; подчинен и диалог, в котором
Печорин узнает о его гибели: Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь,
что случилось?» <...>
— Что?
— Вулич убит.
Я остолбенел.
— Да, убит!
Словно уступая интонации победившего партнера, сам Печорин говорит Вуличу: Вы счастливы в игре. Однако интонация Вулича в речевом движении печоринского повествования — отнюдь
не следствие личного влияния. Это ритмическая тема фатализма,
предопределения, судьбы. К интонационной кульминации этой
темы непосредственно примыкают фаталистические рассуждения
Печорина с аналогичной ритмической доминантой (обрамление
ряда мужскими анакрусами и клаузулами): ...я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал <...> есть какой-то странный
отпечаток неизбежной судьбы. И далее (вслед за репликой Вулича
Он прав): Я один понимал темное значение этих слов: <...> я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня:
я точно прочел.
Противоположная жизненная позиция интонирована дважды
повторенным: Не покорюсь! (гипердактилическая анакруса, совпадающая с мужской клаузулой, и резко пониженная плотность
акцентуации (0,25) задают соответствующую ритмико-интонационную модель). Впервые эта модель обнаруживает себя в печоринском: Предлагаю пари (плотность акцентуации ниже нормы — 0,3).
Таков же ритм первого сообщения о своевольстве буйного казака:
Как напьется чихиря, так и пошёл крошить всё, что ни попало.
Интонационно-образующей, собственно говоря, является дактилическая анакруса в противоположность мужской (тема фаталиста), гипердактилизм только усиливает этот ритмический эффект,
как и пониженная плотность акцентуации.
Что касается мужской клаузулы, то она составляет интонационный признак речи всех казаков. За приведенными словами следует: Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то... (обрывом
фразы ритмическая значимость мужской клаузулы делается еще
более ощутимой). Аналогичным образом явственно интонирована
и речь есаула, например: А если дверь разломать, то много наших
перебьёт. Не прикажете ли лучше его пристрелить?
Если повторы мужских клаузул в качестве вспомогательной
ритмической характеристики полифункциональны (ниже их смыслосообразность уточняется), то дактилические и гипердактилические зачины ритмических рядов, особенно в сочетании с пониженной плотностью акцентуации, прочно ассоциированы с противостоянием фатализму. Эта ритмическая тема и появляется в
86
тексте с первым (весьма отчужденным) упоминанием о предопределении: Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто
судьба человека написана на небесах (показатель плотности ударений всего лишь 0,26). Продолжение она получает в первой же воспроизводимой хроникером реплике, согласуясь с ее скептицизмом: Все это, господа, ничего не доказывает, — сказал старый
майор, — ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев,
которыми вы подтверждаете свои мнения ?
Обе ведущие ритмические темы сталкиваются в пределах тяготеющего к авторской позиции высказывания, где интонированная мужскими анакрусами и повышенной плотностью акцентуации идея фатализма подается иронически (в композиционной
форме диалоговой реплики) и сменяется при переходе к медитативному дискурсу противоположным воззрением, интонированным гипердактилическими и дактилическими анакрусами: Все это
вздор! — сказал кто-то, — где эти верные люди, видевшие список
(плотность акцентуации 0,5), на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана
воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках? Во второй половине высказывания плотность акцентуации
падает до 0,365, что хотя и несколько выше среднего показателя
для всего текста, но на фоне начальных ритмических рядов реплики воспринимается как резкое снижение.
Не удивительно, что суматоха (хаотизация давшего сбой миропорядка), вызванная безрассудным поведением волюнтариста,
интонирована дактилическими анакрусами и заметным спадом
акцентуации (т.е. ослаблением упорядоченности чередования ударных и безударных слогов): по временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас.
Суматоха была страшная (показатель акцентуарной плотности —
всего лишь 0,31).
В связи с образом Вулича ритмическая тема свободной воли
возникает лишь однажды: когда говорится о его равнодушии к
казачкам. Интересно, что появление в повествовании обеих женщин-казачек (и Насти, и старухи) интонировано дактилическими анакрусами и резким спадом ритмического напряжения (плотность акцентуации в обоих случаях 0,26). Сами женские персонажи в новелле предельно пассивны, и их очевидная соотнесенность с данной ритмической темой, вероятно, характеризует позицию повествователя: для Печорина (особенно в контексте целого романа) женщина — объект его произвола, проявления его
свободной воли, отрицаемой Вуличем.
Аналогичным образом интонировано отношение хроникера к
самому волюнтаристу как объекту насилия, волевого преодоления сопротивления, когда Печорин говорит майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому
87
что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.
Интонационное противостояние ночному, фатальному миру
сна (в сновидениях человеку воля, рассудок как раз не даны) угадывается в дактилических анакрусах сегмента повествования, развивающего мотив света: засветил свечу и бросился на постель; только
сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж вос-
ток начиная бледнеть... Еще очевиднее соотнесенность данной ритмической темы с полюсом своеволия в реплике, которой Печорин провоцирует Вулича как человек, отрицающий предопределение: или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее мес-
то, и пойдёмте спать (плотность — 0,28).
Полярность выделенных модификаций ритмико-интонационного единства текста усиливается смыслосоотнесенностью промежуточной тенденции: повторами женских анакрус интонируется анонимная позиция многих, не принадлежащих к существам
особенным. Таков ритм первой же обезличенной реплики: Конечно,
никто, — сказали многие, — но мы слышали от верных людей... Ана-
логично интонировано и деперсонифицирующее повествование
об этих многих, но когда он взвел курок и насыпал на полку пороха,
то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки; сказали мне в
один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны как
смерть.
Передавая анонимный рассказ о Вуличе, повествователь плавно переходит от интонации многих (женские анакрусы) к рассмотренной выше интонации самого фаталиста: Рассказывали, что
раз, во время экспедиции, // ночью, он на подушке метал банк <...>.
Знаменательны моменты, когда интонация анонимности появляется в речи конкретных персонажей, отступающих от своего
истинного мнения. Есаул, полагающий за лучшее пристрелить
непокорного казака, уговаривает его как бы не своими, а «анонимными» словами; в этом случае речь его оказывается ритмизованной женскими анакрусами: Побойся Бога! Ведь ты не чеченец
окаянный, а честный христианин. Невозмутимый фаталист вдруг
вспыхнул и смутился, отреагировав на повторное замечание Печорина как один из многих: Однако ж, довольно! — сказал он, вста-
вая, — пари наше кончилось. Аналогичная интонированность появляется и в словах самого Печорина, подпадающего под обаяние
услужливой астрологии фатализма, а затем, подобно многим, отмахивающегося от метафизики судьбы и свободы воли: ...попал
невольно в их колею; но я остановил себя вовремя на этом опасном
пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не
вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть
под ноги. Такая предосторожность была очень кстати <...>.
Речь повествователя — своего рода среда, в которой взаимодействуют разнонаправленные ритмические тенденции. Однако
Печорин обладает и собственными интонационными характеристиками. Они могут быть выявлены прежде всего в ритме наиболее
протяженной медитации главного героя из эпизода 2. Здесь средняя длина ритмического ряда (11,4) заметно превышает общетекстовый показатель, а плотность акцентуации (0,31) уступает ему.
Соотношение анакрус 51-го ритмического ряда таково: 10 мужских, 21 женская, 20 дактилических; соотношение клаузул: 13 мужских, 19 женских, 19 дактилических. И эти показатели явственно
отличаются от общетекстовых. Зато очень близки к ним ритмические характеристики менее развернутой медитации Печорина из
эпизода 9.
Относительная немногочисленность мужских анакрус (менее
1/5) ясно говорит на художественном языке интонационных значимостей о чуждости фатализма повествователю, несмотря на то,
что на словах Печорин однажды признает правоту Вулича.
Знаменательна также несвойственность печоринским медитациям мужских клаузул (в заключительной — всего 3 на 15 ритмических рядов). Мы уже отмечали, что мужские клаузулы в равной
мере принадлежат ритмическим темам и Вулича, и его антагониста-казака. Они выступают, как было сказано, интонационной характеристикой казачьей речи вообще, а также деперсонифицированной речи офицеров. Например: — Не мне, не мне, — раздалось
со всех сторон, — вот чудак!Таким образом, мужскими клаузулами в тексте новеллы интонирована речь «других», что существенно для общей художественной концепции лермонтовского произведения, тогда как повторы женских и дактилических клаузул представляют собой модификации печоринской ритмической темы.
Приведем один короткий, но показательный пример:
Составились новые пари (9 слогов).
Мне надоела эта длинная церемония (15 слогов).
Мужская клаузула в сочетании с женской анакрусой и среднетекстовой длиной ритмического ряда характерна для интонационной темы «других» (многих). Повествователь отмежевывается от
них не только семантически, но и ритмически. Мужская анакруса
при этом достаточно мотивирована ситуацией приобретения Вуличем таинственной власти над окружающими, испытанной на
себе и самим Печориным.
Дактилическая клаузула — ритмический курсив текста — в сочетании с повышенной длиной ритмического ряда и пониженной
плотностью акцентуации составляют ритмико-интонационную
модель печоринской рефлективности: ...мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению (средняя длина — 22,
плотность — 0,3); В первой молодости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, кото89
рые рисовало мне беспокойное и жадное воображение (плотность —
0,3)- И в этом втором примере средняя длина ритмического ряда
(15) намного превышает общетекстовый показатель.
Однако, как говорит сам Печорин, его расположение ума не
мешает решительности характера. Отсюда вторая интонационная
модификация темы главного героя, составляющая общую ритмическую доминанту текста, решительно направляемого волей хроникера. Показать, как формируется эта доминанта в ходе повествования, можно на следующем небольшом фрагменте:
— Я схватил его за руки, (2) казаки ворвались, (3) и не прошло трех
минут, (4) как преступник был уже связан и отведен под конвоем. (5)
Народ разошёлся. (6) Офицеры меня поздравляли — (7) и точно, (8)
было с чём!
Появление обрамляющей ритмической темы Вулича в самом
начале фрагмента (мужская анакруса) и в самом его конце (весь
восьмой ритмический ряд) легко объяснимо: произошедшее было
для Печорина испытанием судьбы с оглядкой на Вулича (подобно
Вулину). Мужские клаузулы и краткость второго и третьего ритмических рядов тоже могут быть мотивированы семантически: в действие вступают «другие». Остальные ритмические ряды (5 из 8)
имеют женские клаузулы, среднюю длину 9 слогов и плотность
акцентуации 0,36, что практически совпадает с общетекстовыми
показателями.
Разумеется, констатация доминантной роли женских клаузул в
повествовании еще не гарантирует их интонационной соотнесенности с фигурой Печорина как актанта и хроникера. Однако такая
соотнесенность становится очевидной при рассмотрении ритма
целого ряда соответствующих сегментов речевого движения текста, где Печорин поистине задает тон. Приведем примеры: Скоро
все разошлись по домам (отголосок ритмической темы Вулича, только что ушедшего первым) <...> вероятно, в один голос называя
меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться, — Погодите, — сказал я майору, — я его
возьму живого; ...я всегда смелее иду вперед (вновь интонировано
«под Вулича»), когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь! и т. п.
Особо значимый момент ритмотектоники целого состоит в том,
что начальные 5 ритмических рядов текста (и даже 6 из 7) имеют
женские клаузулы, чем, несомненно, внутреннему слуху задается
ритмическое ожидание, интонационно нарушаемое темой многих
или, напротив, темой уединенно рефлектирующего сознания. Заданное интонационно-ритмическое ожидание подкрепляется обрамлением: повторы женских клаузул завершают как основной
сюжет новеллы (эпизод 9), так и текст в целом. Все это приводит
к эффекту ощутимости аукториального вмешательства хроникера
90
в местах сгущения женских клаузул. Таков, например, сегмент
повествования, выделенный в особый абзац рассказа об отношении Вулича к игре: Когда он явился в цепь, там была уже сильная
перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских:
он отыскивал своего счастливого понтёра.
Повтор женских клаузул в сочетании с интонацией Вулича
(мужские анакрусы) исподволь указывает на внутреннюю близость такого поведения повествователю: Печорин легко ставит себя
на место героя ситуации, свидетелем которой сам не был.
Сочетанием женских клаузул с дактилическими анакрусами
(ритмическая тема волюнтаризма) интонирована анонимная медитативная реплика о свободе воли и ответственности. Этим подтверждается на ритмическом уровне (семь женских клаузул подряд, перебиваемые лишь одной дактилической — тоже «печоринской») исходная созвучность «авторизованной», как она была
названа выше, реплики самому Печорину. Указанное сочетание,
сопровождающееся понижением акцентуарной плотности ритмических рядов, характеризует также строй фраз, посвященных Насте и старухе (ср. высказанное предположение о женских персонажах как стимулах печоринского своеволия).
Подобные примеры выявляют посредническую, связующую
роль актантной (решительной) интонации повествователя, сопрягающей рассмотренные выше полярные темы в ритмико-интонационное единство целого. Ритмической моделью построения текста с этой точки зрения может служить микрофрагмент повествования, завершающий эпизод 1 сюжета: 6н взял шапку и ушёл. Это
мне показалось странным — и недаром!..
Данный отрезок повествования знаменателен как семантически (новелла совершает в этом месте крутой сюжетный поворот,
спровоцировавший уход Вулича и последующие события; Печорин больше не увидит фаталиста), так и ритмически (плотность
акцентуации 0,45 — максимальная для повествования на всем протяжении текста). Первый и второй ритмические ряды принадлежат интонационной теме Вулича, второй и третий — теме самого
повествователя, третий — теме казака. Интонация Печорина, отталкиваясь от интонации первого (ритмическая чужеродность мужской клаузулы), затем совмещается с интонацией последнего (женская клаузула и дактилическая анакруса третьего ритмического
ряда образованы одним и тем же ударным слогом). Не так ли и
сюжетообразующая роль при активном посредническом вмешательстве Печорина переходит от фаталиста к волюнтаристу?
Анализ ритмической структуры прозаического текста весьма
трудоемок, громоздок и не всегда обязателен для решения конкретных задач того или иного научного исследования. Однако именно
этим «прощупыванием пульса» художественного высказывания в
конечном счете и проверяется предельная мера смыслосообраз91
ной эстетической целостности, позволяющая говорить о подлинном произведении искусства.
В нашем случае на примере взаимосвязи сюжета и ритма можно продемонстрировать органическое единство всех уровней художественной реальности лермонтовского произведения.
Нулевой эпизод является опорным не только для мифотектонического, но и для ритмотектонического слоя художественной
реальности «Фаталиста». Он содержит 4 ритмических ряда, состав
которых (2 мужские и 2 дактилические анакрусы при 4 женских
клаузулах) уже заключает в себе зародыш интонационного противостояния Вулича и казака, но в качестве граней единой жизненной позиции самого Печорина. Замедленность ритма таит в
себе скрытое напряжение: несмотря на довольно значительную
длину ритмических рядов (в среднем 15 слогов — наивысший показатель среди всех эпизодов), плотность акцентуации здесь (0,37)
превышает общетекстовую норму. Этот бессобытийный микроэпизод оказывается ритмически наиболее напряженным участком
текста: в эпизодах с более высокой плотностью ударений (6, 7
и 8) средняя длина ритмического ряда значительно ниже (от 9,1
до 6,4). Значимость ритмической напряженности очевидна: ситуация нулевого эпизода — ситуация обманчивого, ложного покоя.
Эпизод 1 в сюжетном отношении является эпизодом торжества
Вулича. Однако его ритмическая тема здесь далеко не доминирует.
Ключевая роль в интонационном строе эпизода принадлежит оппозиции мужских и женских клаузул (119 и 120 при 60 дактилических). Иначе говоря, ритмическая тема Печорина интонационно
уравновешена ритмической темой «других», а не одного Вулича
(мужские анакрусы численно уступают женским, интонирующим
анонимность многих). Примечательно, что вопреки событийной
напряженности происходящего ритмическое напряжение после
нулевого эпизода заметно спадает (показатель плотности — 0,33,
а средняя длина — всего лишь 8 слогов). Ритмический строй эпизода ясно говорит о ложной кульминационности и тем самым противится событийному торжеству идеи фатализма.
Предельное снижение плотности акцентуации (0,315 — минимальный показатель среди эпизодов) закономерно наблюдается
на участке текста, посвященном одиноким раздумьям возвращающегося Печорина. Не удивительно, что мужские клаузулы (26) в
эпизоде 2 уступают не только «печоринским» женским (38), но и —
единственный в тексте случай — интонирующим рефлексию повествователя дактилическим (29).
В эпизоде 3 первое упоминание о буйном казаке сопровождается появлением его ритмической темы: 9 дактилических анакрус и
11 мужских клаузул на 18 ритмических рядов. Столкновение Печорина с действительностью «других» вновь резко повышает напряженность ритма (плотность акцентуации — 0,375).
92
Самый короткий (за исключением еще более краткого нулевого) эпизод 4 намечает некую закономерность сюжетно-ритмических соотнесенностей текста: эпизоды печоринекого уединения
протяженностью своих ритмических рядов превосходят среднетекстовый показатель, а плотностью акцентуации — уступают,
т.е. характеризуются ослаблением ритмико-интонационной напряженности. Характерно и то, что с уходом из рамок эпизода казаков мужские анакрусы практически исчезают (всего одна), тогда
как в сцене встречи с ними доминировали.
Появление Насти в эпизоде 5 приводит к резкому сокращению
длины ритмических рядов (вдвое) и к интонационному всплеску
ритмической темы «других» (9 женских анакрус и 6 мужских клаузул на 15 рядов).
Вопреки семантике эпизода 6, где Печорин остается один и
засыпает, напряжение ритма достигает здесь пика, уступающего
лишь нулевому эпизоду: при средней длине ряда 9,1 плотность
акцентуации вырастает до 0,39. Это отступление от сформулированной выше закономерности еще раз возвращает нас к мотиву
ночной битвы с привидением.
Может показаться удивительным, но в следующем, эпизоде 7,
где Печорин узнает об убийстве Вулича, ритмическое напряжение несколько спадает (плотность 0,38 при длине 6,4). Нам остается констатировать, что уровень ритма чутко реагирует на упрощение общей ситуации вследствие исчезновения одной из фигур
тройственного противостояния. Как и в эпизоде 1, понижение
ритмической напряженности сопровождается обострением интонационного противостояния мужских и женских клаузул (13 и 12
из 26). Семантика этой оппозиции достаточно прозрачна: «я» повествователя перед лицом «других» (разговор с тремя офицерами).
Эпизод 8 — эпизод гибели Вулича — явственно интонирован
его ритмической темой: 13 мужских анакрус и 15 мужских клаузул
на 28 ритмических рядов при максимальной плотности их акцентуации (0,4). Подобно тому, как выигрыш пари не был ритмизован в
качестве торжества Вулича, предсказанная Печориным смерть
фаталиста ритмически не оформляется как торжество его «банкомета» (повествователя).
В эпизоде 9 превалируют дактилические анакрусы (тема казака) и женские клаузулы (тема Печорина). Для ситуации их единоборства это естественно. Обращает на себя внимание, однако, заметное снижение напряженности ритма (плотность 0,355 при длине
9,15, что очень близко к среднетекстовым показателям). Как и в
«параллельном» эпизоде 1, этот эффект вступает в противоречие
с напряжением событийным, ослабляя художественную значимость и второй фабульной кульминации.
Параллелизм наиболее деятельных эпизодов с тенденцией к
пониженному напряжению ритма и одновременно его высокие
93
показатели в наименее деятельных эпизодах могут быть художественно мотивированы личностью повествователя: под корой внешней решительности характера скрывается внутренний антагонизм
вечного сомнения, сопряжения противоположностей.
Наконец, особое место в тексте новеллы как сюжетно, так и
ритмически принадлежит завершающему эпизоду 10, где повествователь отдает речевую инициативу Максиму Максимычу. В реплике этого внеситуативного собеседника повтор трех кряду мужских анакрус сменяется таким же повтором дактилических анакрус, а далее — трех подряд мужских клаузул. Иначе говоря, обе
полярные ритмические темы «уравновешены» и приводятся к своему «общему знаменателю». Тем самым ни одна из них не получает предпочтения.
Правда, вторая реплика того же Максима Максимыча интонирована почти исключительно мужскими анакрусами (5 подряд),
но это вызвано прежде всего предметом высказывания: речь идет
уже не о предопределении, а о самом Вуличе, которого жаль. В то
же время мужские анакрусы складываются в ритмическую доминанту речи самого Максима Максимыча (11 на 20 рядов). Переходя к собеседнику хроникера, интонация Вулича (к тому же уравновешенная с интонацией казака) становится ритмической темой «своего другого». Именно с ней сопряжена в эпилоговом эпизоде-пуанте интонационная доминанта самого повествователя: на
32 ритмических ряда 16 мужских анакрус (тональность «другого»)
и 16 женских клаузул (печоринская тональность).
Таков финальный «аккорд» ритмико-интонационных модификаций целого. Борьба и взаимодействие интонаций в ритмотектоническом движении текста завершается сопряжением двух неслиянных и нераздельных смыслообразующих полюсов художественной реальности «Фаталиста» (и «Героя нашего времени» в целом):
«я» и «другой».
Структура текста и архитектоника
эстетического объекта
В ходе семиоэстетического анализа «Фаталиста» мы руководствовались некоторой общей моделью строения всякого литературного произведения как эстетического объекта, манифестируемого структурой текста. Эта модель насчитывает в своем составе шесть уровней. В принципе число возможных уровней научного описания в литературоведении едва ли не бесконечно. Но
только выделенные уровни в полной мере отвечают фундаментальным требованиям равнопротяженности тексту и в случае эстетической состоятельности произведения смысловой эквивалентности семиотически разнородных пластов художественной реальности.
94
1
Большинство уровневых моделей произведения искусства ,
наиболее известные из которых принадлежат разработчикам феноменологической эстетики Н.Гартману и Р. Ингардену, носит
теоретически отвлеченный характер и слабо ориентированы на
практику искусствоведческого (в частности, литературоведческого) анализа. С другой стороны, специально ориентированная на
такую практику модель Б.И.Ярхо, которой пользуется М.Л. Гас паров, выглядит весьма неполной и упрощенной.
Верхний «идейно-эмоциональный» уровень этой модели, воспринимаемый «умом и воображением», составляют слова и словосочетания, обозначающие «идеи и эмоции», «образы и мотивы». Этот уровень «топики», якобы составляющий «художественный мир произведения», в разборах Гаспарова не оказывается
равнопротяженным тексту, поскольку сводится к группировке
существительных, прилагательных и глаголов, выявляющей прозаически сформулированную «основную тему стихотворения» (например: «изображение напряженности перед опасностью»)2.
Средний «стилистический» уровень, воспринимаемый «чувством языка» и включающий в себя художественно значимые лексику и синтаксис, в основном соответствует уровню глоссализации в нашем понимании (но без фактора звукописи).
Нижний «фонический» уровень воспринимается «слухом» и
помимо факторов ритма распространяется на рифму, звукопись и
строфическую композицию.
Неполнота этой модели представляется очевидной. К тому же
в качестве факторов художественного впечатления Гаспаров признает не всю объективную данность текста, но лишь моменты,
отклоняющиеся «от нейтрального фона повседневной речи, который мы ощущаем интуитивно»3. Иначе говоря, под объективистски научным описанием текста обнаруживается шаткий фундамент читательской субъективности. Не удивительно, что при
таком воззрении на природу художественной реальности, если
«общее понимание текста "на уровне здравого смысла" не получается», то приходится вносить «в анализ элемент интерпретации»4.
Многоуровневая структура объектно-субъектной организации
литературного текста, обладающего художественной реальностью
эстетического объекта, — как это удостоверяется анализом — такова (табл. 1):
1
Обзор таких моделей см. в работе: К о р м и л о в С И . Металингвистическая
классификация типов прозаического слова М.М.Бахтина и состав литературнохудожественного произведения // Бахтинология. — СПб., 1995.
2
Г а с п а р о в М.Л. «Снова тучи надо мною...» Методика анализа // Гаспаров М.Л. Избранные труды: В 2 т. - М., 1997. - Т. 2. - С. 11, 13, 16.
3
Там же. — С. 12.
4
Там же. — С. 20.
95
Таблица 1
субъектной объектной
организации организации
Уровни
Аспекты анализа
Субсистемы
внешний
фокализация
кадров внутреннего зрения
несущий
сюжет
эпизодов
внутренний
мифотектоника
кругозоров (хронотопов)
внутренний
ритмотектоника
ритмических рядов
несущий
композиция
внутритекстовых дискурсов
внешний
глоссализация
голосов
Разумеется, в каждом отдельном случае, а тем более в том или
ином типе художественного высказывания своего рода «спектральный» эстетический анализ может выявить неодинаковую степень
развитости (насыщенности факторами художественного впечатления) того или иного из этих пластов художественной реальности. Одни из них могут быть в значительной степени редуцированы, а иные, напротив, интенсифицированы (ср. бедность сюжета
и богатство звучания — ритма и фоники — в лирическом стихотворении). Однако органическая необходимость всех шести равнопротяженных тексту упорядоченностей его знакового материала в
общем строении целого представляется неоспоримой, а предлагаемая модель в целом — достаточно полной и неизбыточной.
Каждый выделенный уровень, обладая собственным историческим происхождением, собственным эстетическим и коммуникативным статусом, неотъемлемо входит в одну из трех субъектно-объектных пар — онтологических слоев художественной реальности: эластичная «мышечная» ткань внешнего слоя (фокализация и глоссализация); жесткая «костная» ткань среднего (сюжет
и композиция) и тончайшая «мозговая» — внутреннего (мифотектоника и ритмотектоника).
Адекватно прочитанное литературное произведение, будучи по
способу своего бытия художественным дискурсом, осуществляет
организацию коммуникативного события (со-бытия) между эстетическим субъектом, эстетическим объектом и эстетическим адресатом. Коммуникативное своеобразие художественности состоит в неслиянности (искусство не есть миф) и нераздельности (художественное не есть логическое) субъекта, объекта и адресата.
Всякому слою художественных значимостей, образуемому диалогическим напряжением между семиотическими реальностями
объектной и субъектной организаций текста, здесь принадлежит
своя особенная роль.
96
Сосредоточившись на внешних уровнях художественной реальности — фокализации и глоссализации, — читатель легко
отграничивает себя от автора и героев. Для читателя текст состоит из чужих для него слов, которые разделяются на речь изображающую (воспринимаемую как «авторская») и изображенную
речь персонажей. Фокусирующая ментальное зрение детализация их облика и окружения также принадлежит, с одной стороны, миру героев, с другой — автору: читателю дано видеть только то, что автор счел нужным ему показать. Детализация (как
объектная, так и субъектная) внешних уровней — это авторская
«указка»: указание на детали картины мира, в чьи бы уста оно
ни вкладывалось, очевидным образом адресовано от автора —
читателю.
Однако при переходе к среднему слою художественной реальности автор из субъекта семиотического (все это написавшего
«скриптора») преображается в субъекта эстетического (все это
напряженно созерцающего и оцельняющего «сверхсвидетеля»).
Такой автор, согласно парадоксально точной характеристике Бахтина, «облечен в молчание». Этими же словами следует определить и активное соприсутствие читателя в семиоэстетическом коммуникативном событии произведения. Лермонтов в этом смысле
подобен своему читателю, а не своему герою: явленный в сюжетно-композиционных структурах он не тот, кто говорит изпод маски Печорина, а тот, кто видит, слышит и понимает Печорина — осмысливает его говорение.
Перед лицом квазиреальности сюжета и композиционной его
упорядоченности средствами текста грань между эстетическим
субъектом и эстетическим адресатом становится конструктивно
напряженной. Если читатель в акте восприятия, во-первых, не
придет к сопереживанию, не примет условной объективности
якобы имевших место событий как независимых от свидетельствующего о них автора и если, во-вторых, одновременно не
придет к сотворчеству, не разделит с автором эстетическую активность композиционного, расчленяюще-оцельняющего упорядочения этой событийной данности, то текст предстанет перед
читателем как авторская «лживая выдумка», а эстетический феномен «художественного впечатления» не возникнет. С другой
стороны, и сама эстетическая деятельность автора неосуществима без сотворческого сопереживания с виртуальным адресатом.
В противном случае она вырождается в псевдохудожественную
Дидактичность или в подобное бреду спонтанное текстопорожДение.
Итак, средний слой художественной реальности предполагает
конвергенцию (от лат. convergentio — 'схождение') эстетического
субъекта и эстетического адресата в единстве эмоциональной рефлексии: нерасчленимость (но не тождество) «сиамских близне4 Тю.,а
97
цов». Слиянию этих двух позиций эстетического отношения в одну
препятствует внешний слой литературного произведения, где читатель легко ощущает свою вненаходимость как воображенному
миру героев, так и биографическому миру автора, вообразившего
мир художественный, тогда как в тектоническом ядре художественного целого, напротив, снимается уже и грань между субъектом и объектом, так что все три эстетические инстанции пребывают здесь в состоянии мифологического синкретизма.
Ритм речевого движения текста интегрирует автора, героя и
читателя в неоднородное, но неразрывное единство. Ритмико-интонационный строй речи Печорина (героя) есть одновременно
речевой ритм автора, сочинившего этого персонажа и все его речи;
и он же является ритмом читательского внутреннего «исполнения» текста, организацией художественного времени как читательского, рецептивного. Ибо вне эстетической актуализации воспринимающим сознанием литературное произведение мертво, как
непроросшее зерно, ждущее своего воскрешения. Но если адекватная актуализация имеет место, ритм, как говорит Е.Фарино,
«интернируется в нас», и «произведение совершается (протекает)
не вне нас, а в нас самих. Смысл произведения в таких условиях
воспринимается уже не интеллектуально (с сохранением некоторой дистанции), а постигается непосредственно (дистанция между нами и произведением снимается)»1.
Эстетическая актуализация художественного целого в последней глубине своей есть ритмизованная мифологизация сюжета.
На этом уровне художественной реальности всякая причастная
ей личность (персонажа, автора, читателя) идентифицируется
с универсальной индивидуальностью «я-в-мире» (экзистенцией),
с той или иной архитектонической формой внутреннего присутствия во внешней жизни. Здесь логическое различение субъекта,
объекта и адресата не имеет места. Оно зарождается и нарастает
лишь в среднем слое, вполне проявляясь и закрепляясь на текстуально оформленной «поверхности» литературного произведения.
Сосредоточившись на мифоритмическом ядре, рецептивное
(от лат. reception — 'принятие') сознание читателя утрачивает свою
противоположность креативному (от лат. creation — 'сотворение')
сознанию писателя. «На этом уровне воспринимающий попадает
в позицию субъекта текста», что ведет к «автоперестройке воспринимающей личности»2. Природа этого феномена в том, что
упорядоченности мифотектонического и ритмико-интонационного
пластов формируются преимущественно сверхсознательными импульсами творчества, которые и сам автор получает от эстетиче' F a r y n o J. Указ. соч. — С. 469.
Там же.
2
98
1
ской «личности» реализуемого им произведения . Разумеется, этими
импульсами пронизана вся художественная реальность, но тектоническое ядро художественного дискурса — их очевидное средоточие.
Глубинность того, что здесь именуется тектоническими уровнями литературного произведения, подтверждается и исторически: миф и ритм — древнейшие аспекты культуры, далеко предшествующие искусству слова. Их сопряжение — ритмизация мифа,
мифологизация ритма — явилось исторической предпосылкой всякой эстетической деятельности.
Для возникновения искусства слова как художественной практики понадобились еще: а) овладение сюжетностью как событийно-исторической формой мышления; б) выработка композиционных форм художественного текстосложения (монолог, диалог,
их модификации, расчленение и связывание, обрамление текста).
Исторически наиболее поздними образованиями являются внешние уровни объектной и субъектной организации художественного произведения.
Фокализации и особенно глоссализации в литературной практике долгое время отводилась служебная роль риторического «украшения». Вполне самостоятельное художественное значение в
качестве системы кадров внутреннего зрения и системы голосов
они обретают лишь в литературе Нового времени. Наиболее продуктивной для наращивания этого слоя оказалась эпоха классического реализма.
Внешний слой художественной реальности исторически наиболее молод и потому наиболее пластичен. Именно в нем «отпечатываются» и запечатлеваются национальное своеобразие культуры, историческое своеобразие эпохи, биографическая индивидуальность писателя. Сюжетно-композиционный слой характеризуется значительно большей косностью, относительной схематичностью своих построений, порой многократно воспроизводимых
в целом ряде произведений. Наименее подвержены историческим
изменениям, естественно, внутренние уровни, принадлежащие
тектоническому ядру целого и сводящиеся в конечном счете к
упорядоченности ограниченного числа универсальных элементов:
мифологем и ритмических характеристик, набор которых в принципе исчислим.
Наконец, между этими «створками» и покоится личностная
сердцевина литературного произведения (смысл его текстуальности), скрытая от рационализирующего научного мышления. А если
1
Ср.: «Творящий ответствен», поскольку «работа поэта сводится к исполнению, физическому исполнению духовного (не собственного) задания», «к физическому воплощению духовно уже сущего (вечного)» ( Ц в е т а е в а М.И. Об
искусстве. - М., 1991. - С. 72, 87).
99
бы это было не так и до смысла художественного текста можно
было бы добраться, как до съедобного ядра под ореховой скорлупой, то однажды «правильно» прочитанное литературное произведение («съеденное» литературоведом) умирало бы для всех остальных его читателей. Однако в действительности чем глубже семиоэстетический анализ проникает в текст, тем богаче и определеннее в своей эстетической модальности становится «художественное впечатление» единого для всех, но уникально переживаемого
каждым уникального смысла.
Последний есть то самое внутреннее единство самоопределения
(чем и является по существу всякая личность), которое, говоря
словами Гегеля, «исходит из самого себя, чтобы прийти к действительному обособлению своих различных сторон и частей»,
«раскрывается и изображается в них», дабы «возвестить о себе как
о всеохватывающем единстве, связующем целостность всего особенного и вбирающем его в себя»1.
Сформулировать такой смысл означало бы дать научное переопределение художественности данного произведения. Но в результате такой операции эстетический факт замещается научным
фактом, переопределение художественности оборачивается замещающей ее научностью. Чтобы избежать подобного замещения,
аналитику следует прийти к типологической идентификации смысла как архитектонического ядра художественной целостности определенного типа.
Возвращаясь к анализу «Фаталиста», можно предложить следующую итоговую формулу: субъект художественного дискурса (автор), освобождаясь от своего «двойника» (героя), обретает в «другом» (читателе) преграду своей уединенности и одновременно причастность действительному бытию «других». При этом глубоко закономерным оказывается функциональное совмещение фигуры
Максима Максимыча с фигурой читателя: он ведь и предстает
адресатом той печоринской истории, которая является лермонтовской новеллой.
Сформулированное коммуникативное событие мы обнаруживали на всех шести уровнях анализа в качестве «вертикального»
повтора. Как справедливо замечает Фарино, «мы привыкли понимать под повтором соположенность повторяемого и повторяющего, т.е. видеть повтор только на оси последовательностей.
Тем временем точно так же повтор может реализоваться и на
вертикальной оси»2. Суть такого (парадигмального) повтора состоит в том, что единый эстетический смысл закодирован шестикратно в разных семиотических системах художественных значений.
1
2
100
Ге ге л ь Г. В.Ф. Указ. соч. - Т. 3. - М., 1971. - С. 364, 366.
F a r y n o J. Указ. соч. — С. 454.
Как мы могли уже шестикратно убедиться, на всех равнопротяженньгх тексту уровнях художественной реальности «Фаталиста»
обнаруживается манифестация одних и тех же ядерных концептов, что позволяет говорить о смысловом эстетическом изоморфизме столь различных по своей семиотической природе слоев
архитектонического целого.
Во-первых, это «открытие другого», что позволяет идентифицировать данное произведение Лермонтова как постромантическое.
Во-вторых, концептуальное «я» лермонтовского творения всегда оказывается шире любой событийной границы с действительностью «других», что позволяет идентифицировать эстетическую
модальность (модус художественности)1 «Фаталиста» и романа в
целом как драматизм2.
Подобное определение, естественно, не в состоянии заменить
художественное впечатление, но оно обозначает границы такого
впечатления, адекватного тексту, ограждая его от всегда вероятных проявлений читательского произвола.
При всей принципиальной невыразимости художественного
смысла средствами научного дискурса литературоведу остается на
его долю не так уж мало: на основе фиксации и систематизации
факторов художественного впечатления идентифицировать тип
текста (жанр — в данном случае новеллистический), идентифицировать тип смысла (эстетическую модальность — в данном случае драматическую), идентифицировать тип предполагаемой произведением читательской компетентности3 (парадигму художественности — в данном случае постромантическую4).
Если, наконец, говорить о научной полноте литературоведческого исследования, то эти идентификации могут и должны быть
обоснованы исторически (уровень объяснения), а также охарактеризованы со стороны своего значения для последующего развития литературы и ее бытования в рецептивном читательском сознании (прогностический уровень научной интерпретации).
'См.: Т а м а р ч е н к о Н.Д., Т ю п а В.И., Б р о й т м а н С.Н. Указ. соч.— Т. 1.—
С 54-76.
2
Тамже. — С. 71 —74.
3
Там же. - С . 9 2 - 1 0 6 .
4
Тамже. - С . 9 9 - 1 0 0 .
ГЛАВА 4
АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
(«Соловьиный сад» А. А. Блока)
Аналитическое рассмотрение стихотворного лирического текста характеризуется методическим своеобразием1, что объясняется спецификой объекта: в системе «факторов художественного
впечатления» поэтического произведения ведущая роль принадлежит факторам внутреннего слуха, тогда как при восприятии
художественной прозы — факторам внутреннего зрения. Однако
шестиуровневый алгоритм полного семиоэстетического описания
в области поэзии не менее эффективен, нежели при анализе творений прозаического художественного письма2.
Лирическая поэма Блока «Соловьиный сад» принадлежит к
числу поэтических шедевров мировой литературы. Обладая немалым объемом (но и не чрезмерным для относительно полного
аналитического описания), этот текст открывает перед нами значительные возможности демонстрации технологии семиоэстетического подхода к явлениям стихотворной лирики.
В лирическом произведении конструктивная роль доминирующего фактора художественных впечатлений принадлежит не объектной организации феноменов ментального зрения, как это имеет
место в эпических жанрах, а субъектной организации феноменов
ментального слуха. В частности, при лапидарной простоте лирического сюжета композиционная форма лирики, как правило,
приобретает активизированный характер: демонстративная «отформатированность» текста, скомпонованного из строф, а также
повышенная маркированность внешних границ начала и конца
стихотворного высказывания, резко отличающегося от «нормальной» (прозаической) речи.
По этой причине порядок рассмотрения уровней художественной организации блоковской поэмы будет отличаться от порядка,
примененного к тексту «Фаталиста». Анализ композиции здесь будет
предшествовать анализу сюжета, а стиховедческое описание ритмико-фонологической структуры текста — анализу его фокализации и мифотектоники.
1
Подробнее см.: М а г о м е д о в а Д.М. Филологический анализ лирического
стихотворения. — М., 2004.
2
См. анализ стихотворения «Муза» А.А.Ахматовой в кн.: Т а м а р ч е н к о Н.Д.,
Тюпа В. И., Б р о й т м а н С.Н. Теория литературы. — Т. 1. — С. 36 — 43.
102
Композиция
Заглавие поэмы, являющееся прямым авторским словом в композиционной структуре целого, выдвигает в центр читательского
внимания некую символическую реальность. Соловьиный сад здесь
не столько место действия, сколько образ жизни, способ существования — альтернативный ослиному прозябанию в труде и проклятьях повседневности: Не доносятся жизни проклятья / В этот
сад, обнесенный стеной.
В композиции лирических текстов конструктивная роль принадлежит медитации, а не повествованию (как в текстах эпического характера) или диалогу (как в драме). Это придает структуре
лирического высказывания значительное своеобразие. Редукция
внешней событийности, нуждающейся в повествовательном развертывании, сводит лирику к медитации «как основной "внутренней форме" всего литературного рода»1. Однако эта «внутренняя форма» может быть облечена в иную, внешнюю — может
выступать в маске повествования или диалога.
В нашем случае композиционная форма текста как раз двоится:
медитация, составляющая истинную природу этого высказывания, внешне принимает облик повествования. Вполне очевидно,
что лирический герой здесь не является полноценным действующим лицом (актантом). Излагаемое им в медитативно-повествовательной форме — это странствие человеческого духа, а не новеллистический рассказ о любовной авантюре. Именно в силу внешней повествовательности текста жанр «Соловьиного сада» следует
идентифицировать с лирической поэмой, а не с элегией. Однако
фрагменты композиции здесь характеризуются в первую очередь
своими медитативными темами.
Поэма Блока выполнена катренами (четверостишиями) с перекрестной рифмовкой, скомпонованными в семь небольших глав
различной длины: от 4 до 7 строф в составе одной главы. Количество главок, как и заглавие, тоже может носить символический
характер, отсылая к библейским семи дням творенья (труда) и
божественного отдыха, тем более что именно заключительная седьмая глава содержит в своем составе 7 строф, акцентируя это число.
При такой компоновке текста центральное место принадлежит
четвертой главе (состоящей из 4 строф). Закономерно, что именно
эта глава, единственная из семи, целиком посвящена соловьиному
саду, обретение которого тождественно обретению счастья (Чуждый край незнакомого счастья / Мне открыли объятия те), но оплачено утратой души (Взяли душу мою соловьи).
Соседние главы — третья и пятая — зеркально (т.е. инверсивно) симметричны. Зеркало, как известно, повторяет отраженный
' П о с п е л о в Г.Н. Лирика. — М., 1976. — С. 159.
103
объект, но с существенной инверсией (перестановкой левого и
правого). Медитативная тема обеих глав — смятенное состояние
души лирического героя. Однако в третьей главе оно переживается как томление, а в пятой — как тревога. Первое переживание
эгоцентрично, оно порождено желанием (Как бы в дверь соловьиного сада I Постучаться, и можно ль войти?). Второе — гетероцентрично, оно порождено чувством ответственности перед товарищем бедным.
Вторая и шестая главы тоже инверсивно симметричны: в обеих
актуализируется наличие другой жизни — альтернативной той, к
которой принадлежит лирический герой в данный момент. Но
сначала (во второй главе) образ другой жизни приходит как сон
(все неотступнее снится жизнь другая). В шестой же — как пробуждение.
Такая композиция располагает к ожиданию в заключительной,
седьмой главе репризы — возобновления медитативной ситуации
начальной главы, тем более что лирический герой возвращается
на берег пустынный, / Где остался мой дом и осел. Однако в финале
поэмы композиционная симметрия разрушается. Вместо предполагаемой репризы мы находим асимметричную коду (заключительная часть, не принадлежащая к основной теме) о спрутах,
крабах и другом рабочем, замещающем лирического героя и вытесняющем его из жизни. На смену первоначальной причастности
к миропорядку труда и ответственности приходит медитативная
тема непричастности к окружающему бытию.
Следует отметить также наличие в составе текста диалоговых
вопросительных реплик, принадлежащих двум вспомогательным
персонажам поэмы. Это реплика осла «Что, хозяин, раздумался
ты?» и реплика хозяйки соловьиного сада «Что с тобою, возлюбленный мой?». Как и две пары глав, они зеркально симметричны:
при всем их конструктивном сходстве статус лирического героя в
них (хозяин — возлюбленный) диаметрально противоположен.
Сюжет
Лирику нередко называют бессюжетной, поскольку вместо
квазиреальной цепи событий здесь — единичная квазиреальная
ситуация (реже — некоторая последовательность таких ситуаций).
Однако игнорировать сюжетный аспект лирических ситуаций, даже
если он предельно редуцирован, при анализе поэтических текстов непродуктивно.
Часто лирический сюжет сводится к одному-единственному
пространственно-временному и актантному (деятельностному)
контексту (эпизоду). В нашем случае это не так, но подчиненная
роль объектной организации в художественном строе лирической
поэзии и здесь проявляется, например, в совпадении эпизодов
104
сюжета с главами композиционного членения. Однако нельзя сказать, что сюжет поглощается композицией: система эпизодов «Соловьиного сада» несколько иная, чем система глав, хотя их текстовые границы и совмещены.
Первые два эпизода суть эпизоды пребывания лирического героя во внешнем относительно соловьиного сада пространстве; третий — эпизод ухода из него; четвертый и пятый — вновь эпизоды
пребывания (но уже в соловьином саду); шестой — еще один эпизод ухода; седьмой — эпизод возвращения, но не пребывания (поэму оканчивает незавершенное возвращение).
Опять мы имеем дело с разрушаемой в заключительном отрезке текста симметрией, но конструктивные принципы этих двух
упорядоченностей значимо различны. Композиционная симметрия организована вокруг кульминации, тогда как сюжетная симметрия циклична, внекульминационна.
Сюжетность медитативного текста образуется в данном случае
двумя аналогичными событиями переходов лирического субъекта
из одного пространства в другое. «Событием в тексте, — писал
Ю. М.Лотман, — является перемещение персонажа через границу
семантического поля»1. Этими сюжетными перемещениями, собственно, и формируются два семантических поля (замкнутое —
сада и разомкнутое — моря, железной дороги и связующего их кремнистого пути), противостояние которых составляет лирическую
коллизию поэмы.
Ритмотектоника
Автокоммуникативный характер медитативного текста предполагает не столько сообщение читателю некоторых значений и смыслов, сколько вовлечение читателя в резонанс с эмоциональноволевым тоном лирического «я». Поскольку доминирующая композиционная форма лирических высказываний — медитация, то
особую значимость в поэтической лирике приобретают факторы
ритма и фоники.
Ритмико-фонологическая схема анализируемого текста отражена в табл. 2.
В схеме ритмической субструктуры текста ударные слоги обозначены соответствующими гласными, а безударные отмечены
значком «—».
Оговоримся, что звуки И/Ы мы рассматриваем как варианты
одной общей фонемы, зависимые от соседства с другими звуками
в
речевом потоке. Оговоримся также, что в отличие от многих
стиховедов мы трактуем местоимения (особенно личные) в качестве полноударных слов, способных нести на себе сверхсхемные
Л о т м а н Ю. М. Структура художественного текста. — С. 282.
105
Таблица 2
Глава
и строфа
1.1
1.2
1.3
1.4
Ритмико-ассонансная
структура стиха
А-А
А-И
А
И
О
0-У
А-У
0
И
0
А
И
И
И
О
А
Э
0
А
А
АЭ
АЭ
0 А
0 А
ИО-АЭ
А
0
АИ
А
А
0
И-ОА-А
А
Э
Э
И
ИИ
ИИ
Коэффициент
ритмического
диссонанса
1
0
1
0
0,5
0
0,75
0
0,66
0,35
1
0,5
0
0
0,375
0
1
0,5
0
0,375
Ассонансная
формула строфы
Мелодическая
тенденция
строфы
Анаграмматический
комплекс GJI
лслссл
сллс
Анаграмматический
комплекс РЖ
—
ССП СП
7а-4и-2э-о
6о-5а-2у-э
5а-4и-3о-э
6и-4а-2о-2э
т
1
т
т
ее
17
ел
ел
еле
ел
9
л
ел
сслсс
8
ел
лесец
спел
лс
13
ЖЗР
ЖЧР
ЧРЧ
9
РЧРР
шз
рр
р
9
Р
ШР
3
ШШЧРЧ
8
/
1.5
И —А
А-А
-УО-И
0
А
1.6
А-У
Э
А
О
О
0
Э
А
И
И
О—
0О0
0А
0А
Итого в гл. 1:
2.1
0-Э
У-0
О-А
2.2
0
А
А
О-О
И-А
2.3
А-А
0,9
СЛЦ
1
0,75
0,66
ее
сец
—
8
РРЗ
ЖРР
—
—
5
с
ел
елс
сцел
10
РЗ
—
3
65
34
СЛ
1
слссс
еллц
лс
13
ЗР
РЧЗ
—
ШЗРЗ
9
1
лц
леле
лесец
—
11
РЗЗ
ЗР
—
ЖЗР
8
с
л
с
елс
6
чж
зж
0
0
0,75
0,5
0
0,31
6а-2о-2э-2н-у
0,43
30а-23о-18и-6э-4у
А
0
А
У
ЭИ
ЭИ
0,66
0
0,66
0,5
0,455
0
У
У
А
ИА
ИА
0,5
0
0,66
0
0,29
ЭУ
ЭУ
0,92
0,5
0,8
0
0,555
ОЭ-И
О
А
Э
И
А
9о-3а -2и-у
5о-3а-3э-2и-2у
6а-3о-3и-2у
4а-4э-2о-2у-2и
и/з
т
T4:2i
t 1/5
ж
РЗ
зш
8
Продолжение табл. 2
о
00
Глава
и строфа
Ритмико-ассонансная
структура стиха
2.4
0
И
0
О
Э
А
Э-А
И-У
2.5
А-Э
2.6
А
У
Э
А-АО
Э
Э
И
А-И
И
У
Э
0
А
А
А -
О
А0
А0
А0
ЭУ
ЭУ
Итого в гл. 2:
А
3.1
0-0
А
0
0
Э
А
0
00
О0
Коэффициент
ритмического
диссонанса
0
0,75
0
0,66
0,35
0,5
0,5
1
0,75
0,69
Ассонансная
формула строфы
5о-4а-2э-2и-у
Мелодическая
тенденция
строфы
т
Анаграмматический
комплекс РЖ
сцл
ссс
сслл
л
ЖР
11
л
6а-4э-3о-у
т
0
0,8
0,5
0
0,325
За-3э-3и-у-о
т
0,44
26а-19о-16э-12и-11у
T4:2i
0
0,75
0,5
0
0,31
Анаграмматический
комплекс СП
9о -За-э
il/3
1
лл
лл
сслл
Р
РШРЗ
7
ЖЧРЗ
РЖР
РЖЗ
10
РЗРЖ
3
ч
8
р
7
50
49
слл
лссл
ллл
л
РШ
11
зж
зчзз
8
О
О
О
И
ИУ
А
А
И
ИУ
Э
У
У
И
0
А
0
А
0И
0И
0
0
0
0
0
А
А
Э
А
О
У
И
О
АИ
АИ
0
0
0
0
0
О
Э
А
У
О
И
АУ
АУ
0
0
0,92
0
3.2
0-0
3.3
3.4
3.5
Э-А
у_А
Итого в гл. 3:
4.1
А-Э
О
А
А
АА-А
У
Э
ИА
ИА
СС
0
0
0,8
0,5
0,32
5о-4и-2а-2
4о-3н-2а-2у-э
5а-3и-2о-э-у
5а-4у-2о-2э-и
0,17
22о-17а-11и-9у-5э
0
0,75
0,97
0,5
0,555
Т
сс
с
с6
Т
лес
сс
лс
слес
11
ЗЖР
—
р
1
лл
еллс
елс
сцл
12
лце
ШРШЖР
ррр
РЗШЖ
Ц
0,23
8а-2н-2э-о-у
3
—
1
T2:3i
Т
сцел
елс
11
рр
ш
4
3
зчч
ЧРЗ
р
8
чж
6
12
51
38
сцл
лс
ел ел
с
10
ррр
РРШ
ЧР
рр
10
Продолжение табл. 2
Глава
истрофа
4.2
4.3
4.4
Ритмико-ассонансная
структура стиха
А
У
А-Э
А-У
У-А
Э-И
Э
0
О
И
А-И
А
О
Э
А
У
О
А
А
ЭИ
О
О
И
Э
И И
ИИ
АЭ
АЭ
WО
ИО
Итого в гл. 4:
5.1
У-И
У
И
И
О
О
А
Э
О~
А
0 А
Коэффициент
ритмического
диссонанса
0
0
0,83
0
0,2
0
0
0,8
1
0,45
Ассонансная
формула строфы
4а-4и-3у-2э-о
Мелодическая
тенденция
строфы
i 1/5
Анаграмматический
комплекс РЖ
ЛЛЛЛ
Л
РРЖ
ЗЧЗРЧ
13
11
слслл
лея
с
л
лес
5а-5э-2и-2о-у
tl/4
0,5
0
0,8
0,5
0,45
5и-5о-2а-э
i
0,41
19а-13и-10э-9о-5у
T2:2i
0,5
0,5
0
0
0,25
Анаграмматический
комплекс СЛ
4о-3а-3и-2у-э
41/5
5
лс
лл
лс
с
ш
зш
ЧЖРЗШ
р
33
РЧЧШЧ
13
7
3
3
3
РШ
5
35
39
СЛЛ
С
Л
рр
ШРЗ
ЗШРР
спел
9
9
5.2
И
О —О
У-Э
А
Э
А
А
0
ОА
0А
0,365
5.3
Э
А
А
О-О
А
А
О
0
5.4
О
А
А
У
У
Э
У
И
О0
О0
ИА
ИА
Итого в гл. 5:
6.1
6.2
А-У
Э
И-А
Э-Э
А-У
И-А
А-А
0
с
лсл
0
0,8
0
0,66
0
0
0
0,8
0,2
5а-5о-2э-и-у
7о-4а-у-э
1
il/2
0,5
0
0
0
0,125
4а-3и-2о-2у-э
1
0,235
18о-16а-7и-5э-6у
4-0:4 Т
И
О
А
О
ЭА
ЭА
0,8
0,5
0,5
0
0,45
У
А
Э
О
АИ
АИ
0
0
0,8
0,5
0,325
5а-5э-20-2и-у
7а-3и-2о-2у-э
Т
т
слссл
ШР
Р
РШР
9
6
лл
с
с
сил
3
РЧР
р
спел
цлес
лл
ел
РР
ШЖШ
ШР
жжшш
37
33
СЛСЛСС
С
РР
ЗР
13
РРЗР
8
7
12
еле
лес
с
лесс
л
лл
8
шз
7
11
РРЧР
РЗРЧРР
РР
ЗШР
15
Продолжение табл. 2
Глава
и строфа
6.3
Ритмико-ассонансная
структура стиха
А-0
У
У
0
А
6.4
6.5
А
А
И-АИ-А
А-УУ
О
И
0
А
А-У
И-И
И
А
О
У
А
0И
О И
00
0-АО0
АО
А0
Итого в гл. 6:
7.1
У-О
Э
И-
э-у — и — о
А-А
А-00
Э
И0
Коэффициент
ритмического
диссонанса
0
1
0,75
0
0,44
0,99
0,99
1
0,75
0,93
Ассонансная формула
строфы
4а-4о-2и-2у
Мелодическая
тенденция
строфы
А
7о-4а-3и-2у
il/3
Р
43
ЗРЧР
РЗШЖР
12
СЛЛЛ
ЛС
РРЖ
РШ
ЗР
ШРЧР
И
ЛС
10
ссс
лц
ее
6а-3о-3и-2у
т
0,51
26а-18о-11и-9у-6э
ТЗ:2А
5о-3а-3и-3э-2у
Т
Анаграмматический
комплекс РЖ
СЛЛ
ЛС
Л
Л
7
лл
0
0,88
0
0,66
0,385
0,5
0
0
0,9
0,35
Анаграмматический
комплекс СП
Ш1СЛ
11
р
РШЗ
ШЧР
3
8
49
54
Л
ЗРЖ
РРЖ
Р
10
7
ел
се
слесл
Шг-Ы'
РО ГО
го
3-
!5Ь«
4
i
1/)
оо
оо4 ^э4
о" о —•о ©
1
1
< О 1О
1 1 1 1
1 1 1 I
S >> 1
CD
1 1 •1 1
1 1 1i 1
<О
1 1о 1
1 1 CD О
1
in
in
«818
4
in
^
in **}
о о" о" о " ©
о о о" с Г ©
1
|
О О Оо
| 1 1 1
О
1 1 1
О ОО
1 1 1 1
1 I 1
>»
О <
1 1 1 1
CD 1 < 1
^
5о
1
1
О CD
1 1 1 1
1 I 1
CD
<
1 1 1 1
1 1 1 1
О
S
1 1 1 1
1 1< 1
г-'
о о о о©
оо4 *п
о
°
1 1 1 1
I 1 1 I
CD >> <
1 1 1 1
1 1 1 1
> >» < CD
1 1 1 1
1 1 1 1
1
1
<5 <S
1 1 1 1
1 1 1 1
о< <
1 1 1 1
1 ( 1 1
S О <S
( 1 1 1
< 1 1 1
in
чо
I
г-'
1
S >> S
го
<*>
ло о ©
113
Окончание табл. 2
Глава
истрофа
Ртмико-ассонансная
структура стиха
7.7
И
А-И
А-А
А
О
Э
О
О
О А
ОА
Коэффициент
ритмического
диссонанса
Ассонансная
формула строфы
Мелодическая
тенденция
строфы
0
0,8
0
0,66
Анаграмматический
комплекс СП
Анаграмматический
комплекс РЖ
С
Л
РР
ЖРЖ
РЧР
слссц
ел
чж
0,365
6а-5о-2и-э
i
9
Итого в гл. 7:
0,45
30а-28о-14и-13э-12у
T4:3i
72
69
Всего:
0,40
164а-137о-86и-61э-56у
Т 19:18 1
359
316
10
П р и м е ч а н и е . Показатели в строке, выделенной полужирным шрифтом, являются суммарными для каждой конкретной
строфы в соответствии с параметрами таблицы.
ударения. Личные местоимения не только не могут быть понижены в своем лингвистическом статусе до служебных частей речи
(предлогов, союзов и частиц, не несущих на себе ударения), но
и, напротив, в тексте лирического высказывания, как правило,
являются базовыми словами.
Поэма Блока написана 3-стопным анапестом. На схеме ясно
видно, что ритмический фон текста составляет «модельный» (трехударный) анапест, а также его вариация со сверхсхемным ударением на первом слоге (такое ударение встречается в 54 стихах
из 148).
К ритмическому курсиву (так называют единичные или очень
редкие для данного текста вариации базового размера) могут быть
причислены одиннадцать стихов поэмы.
Три такие ритмически однородные строки — сверхсхемное
ударение на четвертом слоге (вторая стопа) — связываются в своего рода «конспект» первой половины сюжета — конспект ухода:
А в саду кто-то тихо смеется (1.5.3)1 — И чего в этой хижине тесной (2.3Л) — Не стучал я — сама отворила (4.1.3). Своеобразным
асимметричным продолжением этого «конспекта», относящимся
уже к полусюжету возвращения, звучат стихи: И тихонько задернул
я полог (6.4.3) — Нет, я помню камней очертанье (7.2.3). Это единичные ритмические вариации со сверхсхемньши ударениями на
третьей (восьмой слог) и первой (первый и второй слоги) стопах.
Два стиха со сверхсхемными ударениями на первом и четвертом слогах и еще два с дополнительным ударением на пятом
слоге образуют две инверсивно-симметричные пары. В этих строках говорится о проникновении одного семантического поля в
пределы другого: Лишних роз к нам свисают цветы (1.4.2), И она
меня, легкая, манит (2.5,3) — с одной стороны; Крик осла был
протяжен и долог (6.4.1), Проникал в мою душу, как стон (6.4.2) —
с другой.
Особое место среди ритмически курсивных строк поэмы принадлежит стиху, знаменующему семантическую кульминацию текста: Громче, чем в моей нищей мечте (4.3.4). Это аномальный стих,
разрушающий строй 3-стопного анапеста: два сверхсхемных ударения (на первом и пятом слогах) при отсутствии ударения на
третьем слоге — метрически сильном слоге первой стопы.
И почудилось, будто возник (6.3.2) — еще один ритмически
аномальный стих, но не утяжеленный, а напротив, облегченный
(отсутствие не только сверхсхемных ударений, но и ударения на
сильном слоге второй стопы). Он асимметрично связан с кульминационной строкой, поскольку неявно оспаривает такого рода
кульминацию: оказывается, субъективность лирического героя
1
Здесь и далее цифры в скобках означают последовательно: номер главы —
номер строфы — номер строки.
115
не поглощена миром соловьиного сада до конца. Но проявляется
эта субъективность {почудилось) уже не в романтическом качестве
мечты, а в реалистическом качестве тревоги и ответственности за
покинутого товарища.
Ритмотектоника поэтического текста образуется, в частности,
несовпадением ритмических и синтаксических рядов: анжанбеманами (перебросами продолжения фразы в следующую строку),
а также синтаксическими цезурами (внутристиховыми паузами),
возникающими при завершении фразы раньше конца строки1. Однако в данной поэме эти возможности ритмической «прозаизации» стиха используются довольно слабо: стиховые паузы в основном совпадают с синтаксическими, резкие анжанбеманы отсутствуют.
Деструктивными синтаксическими цезурами отмечено всего
четыре стиха поэмы (по два из первой и последней глав): Сложим
в кучу, — и к морю опять; И кричит и трубит он, — отрадно', Где
же дом? — И скользящей ногою', Я подвинулся, — он приподнялся.
Как видим, все они относятся к семантическому полю прозаической жизни за пределами соловьиного сада.
В пяти строках из первых четырех глав встречаются и внесинтаксические интонационные паузы, отмечаемые знаком тире:
А у самой дороги — прохладный', И потом — отойдет и поет', Жизнь
другая — моя, не моя...', Но сегодня — таинственный путь; Не стучал я — сама отворила. Все эти примеры — одной семантики: устремленности лирического героя к миру соловьиного сада.
Только один стих с аналогичной паузой встречается во второй
половине поэмы (в пятой главе): Вдруг — виденье, большая дорога.
Как и в предыдущих примерах, семантика строки состоит в интенциональности (направленности) сознания на другую жизнь.
Только теперь это уже прежняя, прозаическая жизнь лирического
героя (инверсивная симметрия). Отсутствие стихов с интонационными паузами в двух заключительных главах усиливает эффект
асимметричной концовки.
Обращаясь к анжанбеманам анализируемого текста, можно
отметить, что в сильном (семантически маркированном) положении перед межстиховым «перебросом» в первых четырех главах
поэмы доминируют слова из семантического поля соловьиного сада',
прохладный; [белое] платье; пенье; сада; желанным; лилий;
счастья.
В этом положении здесь встречается только одно слово из альтернативного семантического поля: тесной [хижине]. Еще два ней1
Весьма существенное значение для анализа стиховой ткани текста имеют
конструктивные цезуры — ритмические (в отличие от деструктивных синтаксических) членения строки на полустишия. Однако 3-стопный анапест анализируемого произведения принадлежит к таким поэтическим размерам, которые не
создают предпосылок для этого фактора художественного впечатления.
116
тральных слова в положении перед анжанбеманом — опять и сегодня — предстают здесь окказиональными антонимами: сегодня
происходит нечто беспрецедентное, прерывающее изнуряющую
череду опять (повторений одного и того же пути).
В трех заключительных главах, напротив, в аналогичной позиции обнаруживается всего лишь одно слово из соловьиного семантического поля: нарым [сумраком]. Здесь в маркированном положении оказываются слова из семантического поля окружающей
сад реальной жизни: тревога', прилива; ударам; возник; прибоя; недлинный [путь]; ногою; скалою; ломом; спруты.
При исследовании ритмических структур поэтических текстов
нечасто обращаются к методике, разработанной в свое время А. Белым. Между тем для анализа достаточно протяженных текстов она
весьма эффективна1.
Согласно этой методике, руководствуясь простейшей формулой ^——, где п — порядковый номер стиха после аналогичного
п
ритмического варианта, можно вычислить коэффициент ритмического диссонанса (далее — КРД) каждой строки, а также средние его показатели для строфы, главы и произведения в целом
(см. табл. 2). Начальная строка стихотворного текста и каждая впервые встречающаяся в нем модификация размера (ритмический
курсив) будут иметь при этом коэффициент, равный 1. При соседстве двух идентичных ритмических вариаций метрической формулы второй стих не контрастирует с первым, поэтому его КРД = 0.
Вариация, повторяющаяся через один стих, имеет КРД = 0,5; через
два — 0,66; через три — 0,75; через четыре — 0,8 и т.д.
Чем ниже КРД текста, тем монотоннее, однообразнее его поэтический строй. Если же КРД текста в целом достигает 1, следовательно, перед нами верлибр (а то и проза, записанная стихоподобными строчками).
Суммарный средний показатель блоковской поэмы — 0,4 —
приближается к точке «золотого сечения», что говорит о гармонизированное™ его стиховой организации. На этом фоне бросается в глаза не только композиционная, но и ритмическая симметрия третьей и пятой глав с их резко пониженным КРД. Еще
знаменательнее ритмическая асимметрия симметричных в сюжетном отношении глав «ухода»: третьей (КРД = 0,17) и шестой
(КРД = 0,51). Это говорит, надо полагать, об ожидаемости, несомненности, ненапряженности, как бы даже «пошлости» первого ухода (из мира утомительной трудовой жизни в мир манящей и пьянящей мечты). С другой стороны, это говорит об ином
1
См. соответствующий ритмологический анализ онегинской строфы у Пушкина, Лермонтова и других поэтов в книге: Шатин Ю.В. Художественная целостность и жанрообразовательные процессы. — Новосибирск, 1991.
117
качестве второго ухода, о его повышенной напряженности и
проблемности.
Сосредоточив внимание на КРД отдельных строф, мы замечаем падение ритмического диссонанса до нулевой отметки в строфах 3.3, 3.4 и 7.5. Эта монотонность совпадает с отсутствием в них
также и семантического диссонанса. Однако семантика этих строф
диаметрально противоположна. Если медитативные строфы 3.3 и
3.4 охвачены субъективным романтическим томлением, то из чистого повествования о спрутах и крабах (7.5) субъективность изгнана: впервые в тексте поэмы герой безучастно созерцает картину совершенно чужой и не значимой для него жизни.
С другой стороны, очевидно резкое повышение ритмического
диссонанса (0,65 и более) в строфах 1.5, 2.5, 6.4 и 7.2. Здесь мы
обнаруживаем одновременно и существенный семантический диссонанс. В трех первых случаях это эффект непосредственного соседства двух миров. Дважды после завершающего первое двустишие у садовых ворот или мимо этих ворот во втором двустишии
появляется она: А в саду кто-то тихо смеется (1.5) или И она
меня, легкая, манит (2.5).
Максимального показателя (0,93) КРД достигает в ключевой
для понимания поэмы строфе 6.4, начинающейся теми же словами, что и строфа 1.5 (но лирический герой внимает теперь крику
осла, находясь по другую сторону семантической границы):
Крик осла был протяжен и долог,
Проникал в мою душу, как стон,
И тихонько задернул я полог,
Чтоб продлить очарованный сон.
Данная строфа, тоже актуализирующая момент границы двух
миров, принципиально двусмысленна: то ли герой поэмы продлевает сон покидаемой обитательницы сада, то ли он продлевает
свой собственный сон, и в таком случае совершаемый им в следующей строфе побег ему только снится. Однозначного ответа быть
не может, поскольку об этом же вопрошает и сам лирический
герой: Или все еще это во сне?
Наконец, в строфе 7.2 скачок КРД асимметрично сопровождает не актуализацию семантической границы, а напротив, ее
утрату: Или я заблудился в тумане? / Или кто-нибудь шутит со
мной?
Все неоднократно отмечавшиеся нами асимметричные характеристики двух заключительных главок имеют, по-видимому, существенное значение для идентификации типа эстетического завершения, реализованного в поэме.
К ритмотектонике текста следует отнести также и его речевую мелодику, возникающую вследствие несколько различной
тональности слогообразующих (гласных) звуков. Если слово не
118
подчинено музыкальной мелодии, как это происходит при пении, то в отношении к нейтральным слогам с гласным А слоги с
гласными О и У выступают «бемольными» (звучат на полтона
ниже), а слоги, образуемые И или Э, — «диезными» (на полтона выше). Эти характеристики касаются как ударных, так и безударных слогов.
В целом речевая тональность блоковской поэмы — нейтральная, но образуется эта нейтральность колебаниями повышенной
и пониженной тональности строф (см. табл. 2). Составляющие текст
37 строф по своей тональности распределяются практически поровну: 19 «диезных» и 18 «бемольных». При этом именно композиционно центральная и кульминационная четвертая глава
характеризуется равновесием «диезности» и «бемольности» (2:2).
Речевая мелодика остальных глав организована симметрично:
в первых двух и в двух заключительных — несколько повышенная;
в третьей и пятой — пониженная. Впрочем, эти повышения и понижения тональности по главам весьма незначительны, за исключением пятой, полностью бемольной главы.
Заметным понижением тона (на 1/3) отмечены строфы 1.5 и
6.4, на которые мы уже обращали внимание в связи с их повышенным ритмическим и семантическим диссонансом. Этим же
признаком связаны строфы 3.1 и 5.3. Только в них говорится о
влюбленности: сначала герой называет себя влюбленным хозяином
(осла), а затем хозяйка соловьиного сада называет его возлюбленным. Эта неявная диссонансность темы любви представляется не
случайной и знаменательной.
Наибольшим повышением тона (на 1/5 и 1/4) связаны строфы
2.3 (И него в этой хижине тесной / Я, бедняк обездоленный, жду...)
и 4.3 (Чуждый край незнакомого счастья / Мне открыли объятия
те...). В первой из них впервые формулируется душевный порыв
ухода из повседневного прозябания; во второй этот порыв достигает своей цели, которая предстает отнюдь не духовной. Опьянение
лирического героя здесь вовсе не любовь, это бедняцкое счастье
обладания.
Эти наблюдения, как и весь лирический сюжет поэмы, ведут к
мысли, что любовь в системе ценностей данного художественного
мира не принадлежит к ее позитивному полюсу.
Единственный случай доминирования «бемольной» мелодики
(пятая глава — второй эпизод пребывания в соловьином саду)
семантически задается мотивом вступившей в пенье тревоги лирического героя и беспокойства его возлюбленной. Столь резкое снижение тональности (в строфе 5.3 до 1/2 тона) порождает известную асимметричность в целом симметричного мелодического строя
поэмы. Как мы уже не раз отмечали, асимметричная симметрия
представляется своего рода конструктивным принципом данного
художественного целого.
119
Глоссализация
Диалогическая соотнесенность нескольких голосов в рамках
одного текста — прерогатива прозы. В лирике это явление встречается нечасто. В частности, реплики осла и хозяйки соловьиного
сада в блоковской поэме не обладают речевым своеобразием, порождающим эффект «голоса». В то же время одноголосый текст
«Соловьиного сада» стилистически неоднороден. Он поляризован.
На одном полюсе — куча, куски, лом, кирка, клешни, всполохнутый, ползет, закарабкался, разевая, подрались и т.п. — слова низменно прозаической жизни. На другом — лексика поэтико-романтической традиции: томленье, блаженство, забытье, песнь,
лик, нарый, благовонный, возлюбленный, дольнее, пригрезился и проч.
Эта стилистическая поляризация конструктивно поддерживает
поляризацию сюжетную и ритмико-мелодическую.
Однако при анализе поэтической глоссализации на передний
план обычно выходит фоника стихотворного текста. Выбор поэтического слова в соответствии с его смыслосообразным звучанием —
это столь же существенная сторона глоссализации речевой ткани,
как и ее стилистическая проработка.
Повтор в словах текста тех или иных фонем — гласных (ассонанс) или согласных (аллитерация), или их комбинаций (рифма,
а также анаграмматическая или паронимическая аттракция1) —
является, особенно для лирической поэзии, весьма существенным фактором художественного впечатления. Глоссализирующий
(т.е. делающий ткань текста ощутимой) повтор звуков нередко
оказывается своего рода фонематической синекдохой — отсылкой к тому или иному содержащему эти звуки ключевому слову
(словосочетанию) путем сгущения соответствующих фонем в строках и строфах стихотворения. Между такого рода анаграмматическими субститутами устанавливаются порой сложные внутритекстовые отношения, исполненные смысловой значимости.
Ассонансная субструктура стихотворения в русской поэзии образуется ударными гласными. Ритмико-фонологическая схема текста показывает, что отмечавшаяся уже неоднократно симметрия
(асимметрично нарушаемая к концу поэмы) проявляется и в распределении ударных гласных по тексту, где превалируют ударные
А и О, вступающие в сложные конструктивные взаимоотношения.
Фонема А первенствует в двух начальных и двух конечных главах, тогда как в обрамляющих композиционный центр главах томления и тревоги (третьей и пятой) преобладает, хотя и с неболь1
Анаграмматическая (от греч. anagrammatismos — 'перестановка букв') и паронимическая (от греч. paronymia — 'сходство звучания') аттракция (от лат. attractio — 'притяжение') — установление новых семантических связей между словами, исходя из их фонетического состава.
120
шим перевесом, ударная О. Центральная, четвертая глава отмечена падением О, впервые уступающей по частотности всем иным
гласным фонемам. Здесь также доминирует А, что представляется
на первый взгляд несколько парадоксальным: причастность и к
труду, и к наслаждению озвучена одинаково. Впрочем, как финальную асимметричность можно расценить тот факт, что в заключительной главе между поляризовавшимися повторами А и О
наступает практическое равновесие (30:28).
Теперь следует выявить те ключевые слова данного текста, анаграмматическими синекдохами которых выступают наиболее частотные повторы.
Поэма открывается смежным повтором А: Я ломаю. Аналогичны по своей поэтической семантике последующие соседства ударной А: я бедняк', меня манит; хозяин блуждает; я узнал; я вступаю;
я ударил заржавленным. В русской поэзии вообще ассонанс А часто
знаменует полюс лирического «я» в контексте целого.
Характерен в этом отношении тройной повтор А в строке: Жизнь
другая — моя, не моя... Несмотря на временную неуверенность лирического героя, «другая жизнь» оказывается не жизнью другого, а
иным способом существования того же самого «я», что подтверждается соотнесенностью фонического мотива А с семантическим
мотивом ограды: ограда была не страшна / Не стучал я — сама отворила (переход к «другой жизни»); спускаясь по камням ограды (возвращение из «другой жизни»). Ограда соловьиного сада в поэме
есть некоторая внутренняя граница личного существования, по обе
стороны которой протекает жизнь одного и того же «я».
Становится очевидным, что ослабление А в третьей и пятой
главе принципиально значимо, смыслосообразно: в ситуациях
томления и тревоги самоидентичность «я» ослабляется. И напротив, опьянение счастьем и плененность души озвучены в кульминационной главе как торжество субъективного «я».
Повторы О в поэме связаны, напротив, с «не-я», с посторонними началами жизни. С одной стороны, это осёл утомлённый;
дольнее горе; рокот волн; а с другой — кто-то, обитающий в саду
(кто-то тихо смеётся, / И потом — отойдёт и поёт) и воздействующий на лирического героя (опьянённый вином; опалённый огнём). Но важнейшими ключевыми словами к роли О в ассонансной субструктуре анализируемого текста оказываются ночь и сон
как символы запредельной стороны бытия (смерти): Сумрак ночи
ползёт; За ночною, за знойною мглой; во мгле благовонной и знойной;
тихонько задёрнул я полог; очарованный сон; цветов забытьё.
Эти наблюдения позволяют выявить две содержательно значимые инверсии. Погружение в сон соловьиного сада (кульминационная глава) озвучено как торжество «я» (соотношение А и О —
19:9). Напротив, разрыв с миром сна и возвращение к труду (заключительная глава) озвучено так, что не дает оснований говорить
121
о торжестве «я» (соотношение А и О — 30:28). Семантическая
двусмысленность финала — нельзя сказать с уверенностью, наяву
ли возвращается герой на берег пустынный или во сне — на фонетическом уровне не только не проясняется, но и заметно усиливается.
Аллитерационная субструктура поэтического текста в соответствии со сформулированным [О.Н.Тыняновым законом тесноты
стихового ряда1 создается повторами согласных звуков в пределах
строки. Однако полноценной рецептивной значимостью для воспринимающего сознания, разумеется, обладают не все повторы.
Значимы прежде всего подтвержденные (умноженные) повторы,
а также повторы в маркированном положении. После того как в
восприятии сложился звуковой образ ключевого слова или словосочетания, всякое появление или исчезновение фонем соответствующего анаграмматического комплекса приобретает смысловую соотнесенность.
Звуковой образ сладкой песни соловьиного сада формируется с
самой первой строфы блоковской поэмы:
Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне,
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине.
«Соловьиный» анаграмматический комплекс СЛ представлен
в данном четверостишии 17 звуками, тогда как их фонетические
антиподы (Р для Л и звонкий шипящий Ж для глухого свистящего С) отсутствуют вовсе. Эти не представленные в первых четырех
стихах фонемы появляются в следующем, пятом стихе: Донесем до
железной дороги. Пронизывающим строку повтором дон — дож —
дор демонстративно вводится в действие альтернативный звуко2
вой комплекс РЖ .
Сонорный звук Р (в русской поэзии нередко составляющий
семантическую оппозицию другому сонорному — Л) вместе с
шипящими Ж, Ш, Ч входит в состав словосочетаний, обозначающих шум, противостоящий благозвучию соловьиной песни. Это:
жизни проклятья {Не доносятся жизни проклятья / В этот сад,
обнесенный стеной)', рокотание моря (Заглушить рокотание моря /
Соловьиная песнь не вольна!); шум прилива; рычанье прибоя; жалобный крик.
1
См.: Т ы н я н о в Ю.Н. Проблема стихотворного языка. — Л., 1924 (и последующие издания).
2
Речь, разумеется, не идет о предумышленности со стороны поэта как шифровальщика (в случае такой предумышленности мохнатой, например, легко было
бы заменить на лохматой). Нас занимает виртуальная интенция самого текста,
проницательно уловленного поэтом как легкий, доселе не слышанный звон (из
блоковского стихотворения «Художник»).
122
К этому же звуковому комплексу следует причислить также
звонкий свистящий 3, не только противостоящий С фонетически, но и вместе с Ж составляющий звукообраз слова жизнь. Повторы этих звуков семантизируются окказиональным (значимым
для данного текста) противопоставлением жизни — сну, связанному с соловьиным садом (Только все неотступнее снится). С другой стороны, в состав комплекса СЛ входит отмеченный в конце
последней цитаты звук Ц, близкий по звучанию к С, но фонетически оппозиционный Ч.
Таким образом, к числу факторов художественного впечатления, содержащихся в анализируемом тексте и даже задающих тон
его восприятия с первых строк, следует причислить конструктивное соотношение двух анаграмматических комплексов: СЛЦ и
РЗЖШЧ (далее сокращенно СЛ и РЖ). Причем картина распределения этих повторов выглядит достаточно парадоксально (см.
табл. 2).
В первой главе, где герой еще и не помышляет о переходе в мир
сада, комплекс СЛ доминирует, количественно превышая антиномичный ему звукообраз РЖ чуть ли не вдвое (65:34). Во второй
главе, по мере приближения лирического героя к границе перехода, повторы СЛ ослабевают, тогда как мотив РЖ, напротив, усиливается, что приводит к их равновесию (50:49). В эпизоде ухода из
реальной жизни (третья глава), казалось бы, закономерно устанавливается перевес СЛ над РЖ, однако вслушаемся, как озвучен
совершаемый героем выбор:
А уж прошлое кажется странным,
И руке не вернуться к труду.
Поскольку в заключительной части заржавленный лом вновь
окажется в этой руке, резкое усиление РЖ в момент выбора прочитывается как голос авторской иронии по отношению к самоопределению героя.
Ироническое расхождение между семантикой (тем, что говорит лирический герой) и фоникой (тем, как это слышится автору и читателю), отмеченное в начальных главах, характеризует и
следующую, кульминационную главу. Хотя здесь говорится о торжестве одних звуков (Однозвучно запели ручьи, / Сладкой песнью
меня оглушили [соловьи]), в самом тексте перевешивают другие
(на 35 СЛ — 39 РЖ). Впрочем, в заключительной строке главы
семантика и фоника совмещаются: ...шума прилива / Уж не может не слышать душа.
Неустойчивое динамическое равновесие этого рода между РЖ
и СЛ продолжается и в последующих главах (37:33 в пятой, 49:54
в шестой). При этом ведущим принципом их соотношения остается инверсия фоники и семантики. Так, строка пробуждения, приближающего уход из сада, озвучена повторами СЛ: Я проснулся на
123
мглистом рассвете. И напротив, в строках восхищения и страсти, развивающих тему сада, преобладают звуки комплекса РЖ:
Как под утренним сумраком чарым / Лик, прозрачный от страсти
красив.
В финальной главе аллитерации СЛ и РЖ встречаются почти
одинаково часто (72:69). Причем и те и другие повторы заметно
превосходят средние свои показатели для данного текста, что говорит о существенной значимости обоих анаграмматических комплексов. Перевес в 3 единицы при таком обилии повторов неощутим, поэтому можно говорить о завершающем конструктивном
равновесии, еще более заметном, чем между ассонансами А и О.
Но если герой уже возвратился к состоянию, описанному в первой главе, пора превалировать мотиву СЛ; если же возвращение
ему только снится и он по-прежнему пребывает в саду, следует
ожидать активизации мотива РЖ. Вместо этого устанавливается
(особенно в четырех заключительных строфах) практически полная уравновешенность семантически значимых аллитерационных
групп. Знаменательна (в том числе и семантически) строка, где
обильно представлены фонемы обоих комплексов: Но сейча[з] же
[з\ другим повстречался.
Это напряженное равновесие противоборствующих звукообразов усиливает не раз уже отмеченную ранее асимметричность заключительной части и обостряет ее двусмысленность: Или я заблудился в тумане? ...Или вес еще это во сне?
Фокализация
Финальная глава асимметрична остальному тексту также и в
аспекте системы кадров внутреннего зрения.
В первых шести отрезках медитативного повествования кадры
сада чередуются (и часто соседствуют в пределах одной строфы)
с кадрами скалистого берега или знакомого пути. Даже четвертая
глава, вся составленная из кадров чуждого края, завершается словами: Я забыл о пути каменистом, / О товарище бедном своем. Тем
самым исчезнувшее из кругозора героя восстанавливается в кругозоре читателя.
И только в составе седьмой главы нет ни единого кадра объектной организации текста, который бы имел отношение к саду.
Но, с другой стороны, мы не можем знать, происходит ли все
представляемое нам наяву или только снится, а стало быть, остается субъективным виденьем в пределах замкнутого пространства
сада.
Система деталей, из которых складывается картина мира анализируемого произведения, по преимуществу зеркально симметрична. Если в саду белое (платье), то на берегу черная (скала); если
из сада свисают лишние розы, то на берегу виднеется тощий куст\
124
если берег знойный, то сад прохладный, тенистый; если на берегу
звучат крик, стон, шум, рокот, понуканье, удары, то в саду —
напев, звон, шепот, зов, смех; если на берегу упоминаются рука и
нога (самого героя), а также ноги (осла), то в саду — рука и лик
(героини). Ряд таких оппозиций можно продолжить. Например,
вода представлена в саду ручьями, а за его пределами — морем;
в саду камни упорядочены в высокую ограду, за оградой же попираются ногами и сваливаются в куну и т.д.
Но имеются и значимо асимметричные детали. Золотое (вино,
огонь) присуще только саду, не находя себе объектной оппозиции в детализации окружающего сад мира. Напротив, лазурное,
синее, голубое встречается одновременно и в одном и в другом
мирах поэмы.
Знойная мгла также поначалу опускается на скалистый берег,
но затем окружает героя и в мире сада. Зной здесь — всепроникающая характеристика. Мотив мглы, мути, тени (ограды тенистой)
асимметричен, поскольку в тексте ни разу не упоминается о свете.
Даже рассвет (как время суток) именуется мглистым.
К особенностям объектной организации данного произведения можно причислить и парадоксальный разрыв между домом и
садом. Дом здесь окружен пустынным пространством, а в пространстве сада дома мы не видим. Из атрибутов домашней жизни
упоминаются только окно и полог — детали, как и стена или дверь
(ворота) в этой стене, обладающие семантикой границы, но не
самого внутреннего пространства. Это последнее наблюдение ведет нас непосредственно к рассмотрению наиболее глубинного
слоя художественной организации целого.
Мифотектоника
Лирический сюжет поэмы предельно прозрачен: сквозь его нехитрые перипетии легко различима мифологическая субструктура
текста.
Герой пребывает поочередно в двух хронотопах — сада и пути
(войти в сад для него означает: уклонюсь от пути). Они являют
собой два рода пространства: замкнутое и разомкнутое. Разграничивающая эти пространства ограда — несущая ось инверсивной
симметрии как конструктивного принципа данного художественного целого. Существенно, что мы имеем в нашем случае ось горизонтальную, вертикальная ось здесь отсутствует. При ярко выраженной зеркальной симметричности двух хронотопов по горизонтали вертикально эта вселенная асимметрична: у нее есть низ
(морская глубина, где серые спруты), но у нее нет выси.
Мифотектонична циклическая организация художественного
в
ремени поэмы. Пространству пути (ослиного труда на пустынном скалистом берегу) герой принадлежит только днем. Простран-
125
ству сада (сладкого забытья) он принадлежит только ночью. Переходы совершаются в сумраке, соответственно вечернем и утреннем. Ход поэмы, стало быть, отвечает суточному солярному
циклу.
Парадокс при этом заключается в том, что не только солнце,
но и свет не представлен в разворачиваемой картине мира. Только
опускающаяся синяя мгла позволяет думать, что ей предшествовала освещенность. Однако при анализе художественного текста используемые обозначения не только воображаемого, но и умолчания принципиально важны. На тектонической глубине художественный универсум «Соловьиного сада», знающий дольнее, но
лишенный горнего, в обеих своих ипостасях предстает инфернально
знойным и темным.
Терминологически строго вести речь о хронотопе можно лишь
в тех случаях, когда некий пространственно-временной сегмент
художественной целостности являет собой некий образ человеческого существования. В хронотопе пути герой выступает хозяином и рабочим; в хронотопе сада — гостем и возлюбленным. Перед
нами два модуса бытия в мире.
Первый способ человеческого присутствия в формах деятельной жизни, целесообразности и долга можно назвать этическим.
Второй — в формах гедонистического наслаждения, свободного
от соотнесения с понятиями цели и ответственности, может быть
назван эстетическим. «Соловьиный сад» в основе своей открывается как авторский миф о соотношении этического и эстетического в жизни человеческого «я».
На первый взгляд блоковский человек обладает могучим внутренним хронотопом, позволяющим ему эффективно противостоять окружающему внешнему бытованию. Отсюда инверсивная поэтика текста, обнаруженная нами на всех уровнях его художественной организации.
Будучи внешне причастным этическому хронотопу трудного
пути, внутреннее «я» предается эстетическому существованию,
уходит в мечту о другой жизни — недоступной проклятиям повседневного прозябания. Герой самоопределяется как «человек из
сада», почему-то исторгнутый из этого манящего наслаждениями
огражденного счастья: И в призывном круженьи и пеньи / Я забытое что-то ловлю.
Лирическому герою Блока достаточно совершить внутренний
выбор, чтобы внешняя ситуация пребывания в мире изменилась:
Не стучал я — сама отворила. При этом он временно утрачивает
свою субъективную свободу (Взяли душу мою соловьи, вследствие
чего Я забыл о пути каменистом, / О товарище бедном своем, как
ранее, по-видимому, забыл о пребывании в соловьином саду). Но
обладание внутренним хронотопом позволяет герою, оставаясь в
пространстве сада, субъективно противостоять ему путем возвра126
та к этическому воззрению на жизнь: Вдруг — виденье: большая
дорога / И усталая поступь осла. Несмотря на огражденность сада
от дольнего горя, в пробудившуюся и вновь автономную душу крик
осла проникает, как стон, и взывает к восстановленному чувству
ответственности.
Поэт предлагает нам не рассказ о единичном событии, а мифоподобное изложение того, что бывает всегда. Постоянные переходы от «дневного» (этического) к «ночному» (эстетическому)
бытию и обратно совершаются благодаря радикальному размежеванию внешнего и внутреннего способов существования «я». Перед нами иронический строй художественной целостности1, требующий для своей реализации инверсивности и асимметрических
сдвигов ощутимой, но никогда не окончательной симметрии.
Принципиальная асимметричность заключительной главы порождается ее отмечавшейся уже нами двусмысленностью: невозможно однозначно ответить на вопрос, несет ли она в себе картину яви или сна. Это означает, что герой помещен автором в «пограничную ситуацию» (как это позднее будут называть в философии экзистенциализма).
Выбор, совершенный в третьей главе, был как будто свободным, но в сущности ожидаемым и даже неизбежным, о чем свидетельствует, в частности, проанализированная выше рассогласованность между семантикой и фоникой стиха. Теперь герою следует совершить поистине свободный выбор, ибо он утратил свою
внешнюю ориентацию, которую судорожно пытается восстановить. Ведь если во внешнем пространстве переход к этической
ситуации бытия уже осуществился, герою остается внутренне возвращаться к эстетическому томлению. Если же он видит сон, попрежнему пребывая в эстетическом мире сада, значит, пора пробуждаться к этическому бытию.
Ранее внутренняя жизнь лирического «я» была отрицанием,
ироническим отстранением от его внешней жизни. Но ни один из
двух способов существования не являлся его собственным. Этим
он и отличается, с одной стороны, от героини, неотделимой от
сада (наслаждения), с другой — от осла, неотделимого от дороги
(труда). Герой всегда противостоял одному посредством другого.
Теперь автор вынуждает его явить собственное свое содержание.
Но таковое не обнаруживается, о чем свидетельствует аналитически выявленное конструктивное равновесие противоборствующих начал без каких-либо структурных новообразований.
Ироническое сознание пусто, лишено каких-либо позитивных
Ценностей. «Мы надорвались, выкричали душу, — признается и
обличает ироник Александр Блок. — ...из опустошенной души
^ м . : Т а м а р ч е н к о Н.Д., Т ю п а В.И., Б р о й т м а н С. Н. Указ соч. - Т. 1.—
С 74-77.
127
вырывается уже не созидающая хула и хвала, но разрушающий,
опустошительный смех»1. Собственное человеческое содержание
ироника — дух отрицания, Ничто. Поэтому внутреннее пространство художественного мира поэмы — пространство сада — оказывается одновременно пространством вечного сна, эстетизированной смерти.
Эстетическая модальность такого художественного высказывания — не романтическая ирония самоутверждения, но трагическая ирония самоотрицания. Она порождается авторской позицией, которую удачно охарактеризовала П. П. Гайденко: трагический
ироник «не принимает ни самодовольного способа ухода от действительности, ни примирения с нею. Он остается на позиции
отрицания, которая, однако, рассматривается им самим как неистинная»2. Однако мы пришли к этому результату, отправляясь
не от блоковского мировоззрения, но от поэтической организации самого художественного текста.
1
Блок А.А. Ирония // Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. — М.; Л., 1962. — Т. 5. С. 347.
2
Г а й д е н к о П.П. Трагедия эстетизма. — М., 1970. — С. 235.
ГЛАВА 5
АНАЛИЗ ФРАГМЕНТА
В предыдущих главах был развернут алгоритм описательного
литературоведческого анализа, охватывающего целиком весь текст
на всех его конструктивных уровнях. Результаты подобного рассмотрения наиболее основательны.
Однако с произведениями значительного объема аналитическая работа в этой стратегии весьма трудоемка и длительна. В подобных ситуациях корректный научный результат может быть получен другим путем — путем идентификационного анализа фрагмента исследуемой художественной целостности.
Данный тип анализа не следует понимать упрощенно, как это
нередко случается в школьной практике. Не следует отождествлять его с фрагментарным (выборочным) рассмотрением изучаемого произведения.
Аналитическое исследование фрагмента отличается от монографического анализа текста в полном объеме не только количественно, но и качественно.
Анализ фрагмента — это особый подход к тексту1, обоснованный эстетической природой художественного целого. Он предполагает идентификацию части как неотъемлемого «органа» данной
живой и уникальной целостности определенного типа. Подобно
генетической идентификации в биологии аналитика фрагмента в
литературоведении представляет собой «изучение клеточки, со2
храняющей все свойства целого» .
В ходе семиоэстетического анализа фрагмента глобальный архитектонический принцип художественного целого должен быть
обнаружен на относительно самостоятельном, обоснованно выделенном участке текста. Это позволяет существенно сократить
объем аналитического описания и тем не менее вести речь об эстетической природе всего произведения.
Обязательным условием подобного исследовательского пути
является осмысление глубинной закономерности именно такого
Местоположения анализируемого фрагмента на пересечении многочисленных внутритекстовых связей.
1
2
См.: А у э р б а х Э. Мимесис. — М., 1976.
Вы г о т с к и й Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. — М., 1984.— Т. 4. — С. 353.
,п„
129
«Мертвые души» Н. В. Гоголя
(глава третья)
Эстетическую модальность «Мертвых душ» следует идентифицировать как сатирическую1. Подчеркнем, что истинно сатирический смех не сводим к публицистической насмешке должного
над недолжным. Не порывая с почвой карнавального комизма2,
питавшего юмор раннего гоголевского творчества, сатирически
оцельняющий смех Гоголя концептуально всеобъемлющ. Так, городничий в «Ревизоре», ругая окружающих, обзывая самого себя,
подвергает хуле и автора комедии (щелкопера, бумагомараку), и к
зрителям обращает свое знаменитое: Чему смеетесь?— Над собою
смеетесь/
Глубоко знаменательна для постижения сущности сатиры венчающая «Ревизор» немая сцена, которая многими своими деталями прозрачно имитирует картину распятия3. Не случайно примерно за полторы минуты до появления жандарма (не потому ли и
немая сцена должна окаменеть на срок в почти полторы минуты?) городничий восклицает: ...смотрите, весь мир, все христианство, как одурачен городничий. Превращение подлеца в дурака
(дурака ему, дурака, старому подлецу, — говорит герой о себе),
т.е. преображение публицистически-обличительной интенции в
смеховую, составляет самую суть художественно-сатирического
дискурса. В итоге сквозь шелуху суетных амбиций в самой фигуре
одураченного (который среди прочих гостей, остающихся просто
столбами, предстает нам в виде столба, с распростертыми руками
и закинутою назад головою) проступает высшая справедливость
незыблемого сакрального миропорядка. В этой недосягаемой высоте, куда устремлен взор окаменевшего героя, угадывается фигу4
ра высочайшего Ревизора над ревизорами , к авторитету которого
городничий неосторожно взывает по ходу пьесы (Нет человека,
который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так
'См.: Т а м а р ч е н к о Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Указ. соч. — Т. 1. —
С. 58-61.
2
См.: Бахтин М.М. Рабле и Гоголь: Искусство слова и народная смеховая
культура // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975.
3
Ср.: «Фигура с запрокинутой головой и распростертыми руками напоминает не что иное, как распятие, а две женские фигуры, горестно устремленные к
нему, соответствуют изображаемым у распятия фигурам Святой Девы и Марии
Магдалины» ( В и р о л а й н е н М.Н. Гоголевская мифология городов // Пушкин
и другие. — Новгород, 1997. — С. 232). Нам уже приходилось обращать внимание
на столь значительную гоголевскую аллюзию (см.: Тюпа В.И. Художественность литературного произведения. — Красноярск, 1987. — С. 214).
4
В сходной роли Преобразователя над преобразователями выступает фигуРа
Христа в финале «Двенадцати» Блока — этого глубоко сатирического, а не героического дискурса на революционную тему (см.: Л я х о в а Е.И. Куда идут двенадцать (сатира и революция) // Дискурс. — М., 2000. — № 8/9).
130
самим Богом устроено). Настоящий сатирический персонаж, «я»
которого всегда меньше его ролевой претензии, явственно поляризован: в каждом «кванте» сатирической художественной реальности низменная ее данность совмещена с озаряющей ее высокой
заданностью.
Обратимся к тексту «Мертвых душ» как органическому художественному целому и проанализируем в качестве внутренне цельного и завершенного фрагмента третью главу, повествующую о случайном, внеплановом посещении Чичиковым имения Коробочки.
Мы избираем эту главу, руководствуясь тем соображением, что
именно случающееся здесь уклонение от намеченного пути и губит чичиковскую «негоцию». Напомним, что крушение столь удачно
складывавшегося предприятия происходит в равной степени как
по причине неучтивого по отношению к дамам поведения Чичикова, пораженного во время бала лицезрением губернаторской
дочери, так и по причине простодушия глупой помещицы. Собственно говоря, в сделке с Коробочкой и коренится неудача всей
романной авантюры.
Прежде всего отметим симметричность третьей и девятой глав,
посвященных женщинам и требующих самого внимательного отношения к женской стороне бытия в гоголевском произведении.
Уже о Коробочке говорится обобщающе: одна из тех матушек... А в девятой главе даже образовались вдруг две противоположные партии: мужская и женская. Напомним, что в центральной для всей романной композиции шестой главе фигурирует
Плюшкин, которого Чичиков долго не мог распознать <...> баба
или мужик.
Имение Коробочки — образ женского уклада жизни. Ни об
одном проживающем здесь мужчине не упоминается. Зато третья
глава разворачивает целую лестницу женских фигур: от черноногой крепостной девчонки и непроворной Фетиньи (таков, по
Далю, смысл этого простонародного имени) до самой хозяйки
и упоминаемой при этом столичной аристократки. О глупой, но
гостеприимной старухе повествователем сказано: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования ? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома, способной блеснуть умом и высказать вытверженные мысли <...> не о том, что делается в ее доме и в ее
поместьях, запутанных и расстроенных благодаря незнанью хозяйственного дела, а о том, какой политический переворот готовится во Франции.
На недосягаемую вершину этой (женской) лестницы человеческого совершенствования укажет впоследствии облик губернаторской дочери, наделенной лицом, какое художник взял бы в образец
д мадонны.
131
Женское начало, сыгравшее роль непреодолимой преграды
для чичиковского приобретательства, в «Мертвых душах» совмещается с птичьим. В имении Коробочки индейкам и курам не было
числа; сороки и воробьи здесь носились целыми косвенными тучами.
В третьей главе упоминаются еще и петух, орел, куропатка, ворона. Птицы же изображены и на картинах, которыми увешано жилище Коробочки. Впрочем, поутру Чичиков разглядел, что на картинах не всё были птицы: между ними висел портрет Кутузова.
Однако эта уступительная конструкция (вводящая патриотический
мотив и предваряющая неожиданное отождествление чиновниками Чичикова с Наполеоном) только усиливает эффект своеобразного птичьего царства, где служанка, взбивая перину, напустила
целый потоп перьев по всей комнате. Не случайно хозяйка имения
была столь заинтересована в продаже Чичикову не душ, а перьев,
что ему пришлось пообещать впоследствии скупить и ее перья.
В девятой главе, где организуется против Чичикова заговор губернских дам, оскорбленных его невниманием на балу и явным
предпочтением юной дочери губернатора, в свою очередь упоминаются попугай, птичьи голоса, слова, как ястребы. Здесь мы читаем, как дама вспорхнула, как она, сняв верхнюю одежду, оказалась в длинных хвостах, как хозяйка запихнула ей за спину подушку
(естественно, набитую теми же перьями) и т.д. В разговоре дам
также то и дело звучат птичьи мотивы: ...фон голубой (небо? —
В. Т.) и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки
и лапки; вообразите, лифчики пошли еще длиннее, впереди мыском,
а передняя косточка совсем выходит из границ (передняя косточка,
образующая мысок, легко воспринимается как киль — характерная принадлежность птичьего скелета).
Наконец, принадлежащий губернаторской дочери очаровательно
круглившийся овал лица знаменательно сравнивается со свеженьким
яичком, когда оно держится против света в смуглых руках испытующей его ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца.
По рассуждению Чичикова, из этого «яичка» может быть чудо,
а может выйти и дрянь.
Такого рода рассуждение весьма знаменательно, ибо женское
начало оказывается в прозаической поэме Гоголя обостренно поляризованным. Оно одновременно и консервативно (дело, по
мысли Коробочки, как будто выгодно, да только уж слишком новое и небывалое), и поглощено погоней за новизной (губернские
дамы одержимы жаждой наблюсти моду в самых последних мелочах). Оно и губительное (в частности, для чичиковского хитроумного замысла), и производящее (что акцентировано в сцене угощения Чичикова Коробочкой). Оно выступает, с одной стороны,
по-куриному глупым и приземленным, целиком переселившимся в
хозяйственную жизнь (Коробочка), увязающим в почве (черноногая от налипшей грязи крепостная девчонка). С другой стороны,
132
женское начало предстает и по-птичьи окрыленным, воздушным,
устремленным к небу (слушательница романтической любовной
истории вся обратилась в слух <...> и, несмотря на то что была
отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновенья).
Две встречи с такого рода ценностно поляризованным началом (в обликах Коробочки и юной блондинки) и возносят Чичикова, и низводят его, и губят, и возрождают.
Вглядимся в противостояние Чичикова и Коробочки (мужского и женского), составляющее содержание третьей главы. Это столкновение приобретателя мертвых — с кормящим, животворящим
началом. Рассуждая о предлагаемом помещицей мёде, Чичиков говорит: Вы собирали его <...> с заботами, со старанием, хлопотами <...>
кормили их (пчел. — В. Т.) в погребе целую зиму, а мертвые души дело
не от мира сего. Коробочка же при всей ее несообразительности
{нетто хочешь ты их откапывать из земли?) принадлежит «сему»
миру живых: никогда еще не случалось продавать мне покойников.
Живых-то я уступала. Да ведь меня одно только и останавливает,
что ведь они уже мертвые. Имея в виду конечную неудачу, к какой
приведет Чичикова эта торговля, можно констатировать, что она
являет собой поражение смертоносного начала от простой, почти
животной, но созидательной жизни.
В гоголевском мире и в гоголевском человеке происходит извечная борьба доброго и злого начал, питающая сатирическую
поляризованность гоголевского смеха. Бог и черт здесь — координаты ориентации личности в этом биполярном строе жизни. Становясь приобретателем душ, что входит в компетенцию дьявола,
Чичиков оказывается едва ли не самим чертом или его посланником. Именно в таком свете интерпретируется его приезд к Коробочке романтически настроенными дамами:
...Вдруг в глухую полночь, когда все уже спало в доме, раздается в
ворота стук, ужаснейший, какой только можно себе представить; кричат: «Отворите, отворите, не то будут выломаны ворота!» <...> Появляется вооруженный с ног до головы <...> и требует: «Продайте, говорит, все
души, которые умерли» <...> «Нет, говорит, они не мертвые, это мое,
говорит, дело знать, мертвые ли они, или нет...»
Сама Коробочка мыслит в том же направлении, ориентируясь
на позитивный полюс миропорядка, но сомневаясь в принадлежности к нему незваного гостя:
В какое это время вас Бог принес? <...> Какое-то время послал Бог:
Фом такой — у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой,
Да у тебя-то, как у борова (нечистое, бесовское животное. — В. Т.), вся
с
пина и бок в грязи! <...> Приехал же бог знает откуда, да еще и в ночное
в
Ремя.
133
Селифан тоже полагает, что время их приезда к Коробочке —
нехорошее время. Однако Чичиков на это отвечает: Молчи, дурак, —что может содержать в себе намек на особую, инфернальную миссию приобретателя мертвых душ. Недаром Чичиков говорит Коробочке: Ну, да не о живых дело; бог с ними. Я спрашиваю мертвых.
Наконец, именно с помощью черта Чичиков и добивается от
Коробочки согласия на сделку. Он хватил в сердцах стулом об пол
и посулил ей чёрта.
Чёрта помещица испугалась необыкновенно.
— Ох, не припоминай его, Бог с ним! — вскрикнула она, вся побледнев. — Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала
было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказаньето Бог и наслал его.
Насланным в наказанье в этой ситуации оказывается некто иной,
как сам Чичиков. Эта бесовская аллюзия усиливается характерным для инфернальной темы словечком проделки: Пирог сам по
себе был вкусен, а после <...> проделок со старухой показался еще
вкуснее.
Однако не будем забывать, что Чичиков оказался у Коробочки
все же не по своей воле (с дороги сбились). Виновником данного
происшествия является чубарый конь, который был сильно лукав
(лукавый — широко распространенный в просторечии того времени эвфемизм черта). Впрочем, даже этот служебный персонаж
в сатирическом контексте целого полярно двоится (лукавый конь
запряжен с правой стороны, а не с бесовской левой), не позволяя
однозначно квалифицировать себя как «вредителя» или «помощника». Ведь разрушение корыстного проекта главного героя является первым шагом на пути его духовного преображения (сюжетная неудача первого тома — залог торжества героя в предполагаемом повествователем томе третьем).
Селифан не случайно обзывает чубарого коня Бонапартом, тем
самым связывая его с Чичиковым, абсурдно принимаемым перепуганными чиновниками за переодетого Наполеона. Когда в последней главе Селифан в очередной раз пожалуется на подлеца,
который только помеха (...самый лукавый конь', такого коня нигде...), Чичиков оборвет его фразой: Дурак! Когда захочу продать,
так продам, — словно выдавая свою скрытую заинтересованность
именно в самом лукавом коне. Поэтому угрожающая проповедь
Селифана, обращенная к чубарому в начале третьей главы, до
известной степени адресована (автором, а не героем) и Чичикову: Хитри, хитри/ Вот я тебя перехитрю! <...> Ты думаешь, что
скроешь свое поведение. Нет, ты живи по правде, коли хочешь, чтобы тебе оказывали почтение. Однако Чичиков, погруженный телом и душою в свои сметы, не вслушивается в эти весьма дельные
замечания.
134
Фигура Чичикова, как и положено сатирическому персонажу,
принципиально биполярна: она столь же причастна дьявольскому
началу, сколь и противопоставлена ему, свидетельствуя о мудрости
небес. Неудача чичиковского плутовства — это не его личное поражение, это поражение смертоносного начала в нем самом, чья
душа кажется поначалу поистине мертвой. Аллегорией такой души
выглядит шкатулка (т.е. коробочка!) Чичикова, рассматриваемая
в третьей главе. Ее внутреннее расположение — с мыльницей в самой
средине, с закоулками, с визитными, похоронными, театральными
и другими билетами — содержит в глубине своей маленький потаенный ящик для денег и более ничего.
Истинная причина сюжетной неудачи героя — как раз пробуждение неразличимого поначалу духовного состава его души
при встрече с живым олицетворением образа мадонны:
Нельзя сказать наверное, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви, — даже сомнительно, чтобы господа такого рода <...> способны были к любви; но при всем том здесь было что-то такое странное,
что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить: ему показалось,
как сам он потом сознавался, что весь бал, со всем своим говором и
шумом, стал на несколько минут как будто где-то вдали <...> она только
одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы.
Происшедшее с Чичиковым у Коробочки даст о себе знать тем,
что ее приезд в губернский город и разглашение тайны загадочной сделки довершит падение героя в глазах дам — падение, которое глазам читателя представлено нежданным духовным взлетом его вдруг оживающей души. Вглядимся же, следуя призыву
повествователя устремить глубокий взор, в самую сердцевину незначительного, как могло показаться, и забавного происшествия
у Коробочки.
Сюжетная организация третьей главы насчитывает 13 эпизодов.
Центральный (седьмой) эпизод представляет собой картину отхода Чичикова ко сну. Приведем его целиком:
Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель,
которая была почти до потолка. Фетинья, как видно, была мастерица
взбивать перины. Когда, подставивши стул, вскарабкался он на постель,
она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им
и
з пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в
ту же минуту.
Гиперболическая пышность перьевой постели (своего рода квинтэссенция птичьего царства Коробочки) очевидным образом со3
Дает минимизированную модель общего сюжета «Мертвых душ»:
с
Имволизирует вознесение и падение центрального персонажа
135
в глазах окружающих. Знаменательность этого биполярного символического образа предуготавливается своеобразной увертюрой
к третьей главе, где повествователь рассуждает о голосах лающих
псов, сравниваемых с хористами: все, что ни есть, порывается
кверху, закидывая голову, а он один <...> присев и опустившись почти до земли...
Не менее знаменательно для соотнесения данного фрагмента с
полным художественным целым пробуждение Чичикова в следующем (восьмом) эпизоде главы:
Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза, и мухи, которые
вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему:
одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на
самый глаз, ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к
носовой ноздре, он потянул впросонках в самый нос, что заставило его
крепко чихнуть, — обстоятельство, бывшее причиною его пробуждения.
Разлетевшиеся во тьме перья словно обернулись при свете солнца слетевшимися мухами. Первые как своей невесомостью, так и
птичьим сознанием Коробочки прочно увязываются с душами:
по словам помещицы, мертвых купил-де за пятнадцать рублей, и
птичьи перья тоже покупает. Вторые — акцентировано телесны:
мухи и питаются телом человеческим, и сами служат пищей для
птиц (на что намекает неуместное попадание одного из насекомых в носовую ноздрю гостя птичьего царства). Эта игра с окказиональными микрообразами душ и бездушных тел исполнена художественного смысла, поскольку разыгрывается вокруг тела самого Чичикова.
Мухи слетаются к этому телу так, как если бы оно было уже
мертвым. С другой стороны, поза, в которой Чичиков засыпает в
глубине перьевой постели, — кренделем — является утробной позой младенца накануне рождения. На мифотектоническом уровне
текста ночной визит к Коробочке предстает прозрачной аллюзией
инициации — символической смерти и символического воскресения в новом качестве.
Явленные в сюжетном эпицентре главы поляризованные единства верха и низа, вознесения и падения, рождения и смерти,
мертво парящих, невесомых, как души, перьев и низменно телесных живых мух представляют собой вариации конструктивного
принципа художественной целостности всего произведения. А возможность радикального преображения концептуально значима для
«Мертвых душ» и прямо постулируется повествователем в другом
месте текста:
...На свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное,
если только долго застоишься перед ним <...> среди недумающих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя:
136
еше смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди
тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо...
Кентавр женского и птичьего в «Мертвых душах» разворачивает перед нами образ повседневной земной жизни {Позволено ли
нам, бедным жителям земли, — говорят о себе дамы) — и смехотворно суетной (— Да, поздравляю вас. оборок более не носят. —
Как не носят?), и никчемной (чепец самой хозяйки, одетый на
огородное чучело, делает их отчасти эквивалентными), но в то же
время озаренной горним смыслом бытия. Женское начало не только
наделено ликом мадонны, препятствующим Чичикову довести
свою аферу до победного конца. Оно оборачивается в конечном
счете финальным образом самой Руси — материнской (рождающей, кормящей и хоронящей) земли и одновременно птицы-тройки, у которой только небо над головою', тройки, которая не железным схвачена винтом (мертвое), а слажена расторопным русским
мужиком наскоро живьем с одним топором да долотом', Руси, которая, сказав черт побери все, тем не менее мчится вся вдохновленная Богом.
Как видим, в «коробочке» текста третьей главы гоголевской
поэмы покоится своего рода ключ к сатирической биполярности
ее эстетического объекта.
«Обломов» И. А. Гончарова
(глава первая)
В романе И.А.Гончарова мы также имеем дело с конструктивным принципом двойственности, однако двойственности не сатирической. Эстетический объект художественного восприятия в
данном случае двоится не на высокую заданность и низкую данность в поле единой ценностной позиции — в нем совмещены
взаимоисключающие ценностные интенции.
По этой причине нескончаемый спор о том, «плох» или «хорош» герой романа — этот сонный ленивец с голубиной душой, в каких бы категориях и с каких бы позиций он ни велся, не разрешим
в принципе, ибо весь романный мир, как и его герой, не совпадает
с самим собой, предстает в двойном ракурсе видения. Такова эстетическая «оптика» данного художественного целого.
Дело в том, что последняя фраза текста (И он рассказал ему,
что здесь написано) содержит некоторое принципиально важное
откровение. Оказывается, мы познакомились не с жизнью, характером и личностью Обломова в их авторской сотворенности и
поэтому неоспоримости для нас, читателей (как это обстоит с
кроями Толстого, например), а только с одной из возможных
в
нутрироманных версий этой жизни — с версией Штольца. Однако внимательный читатель заметит тот факт, что далеко не все,
137
известное теперь ему, могло быть известно Штольцу. Из какого же
источника оно пришло в текст? Надо полагать, эта информация
была привнесена литератором, записавшим рассказ Штольца.
Об этом неожиданно возникшем в заключительной главе персонаже мы знаем крайне мало. В нашем распоряжении имеется
лишь его портрет: полный, с апатическим лицом, задумчивыми, как
будто сонными глазами, интересуется человеческими судьбами, но
говорит, лениво зевая. Да ведь это портрет самого Обломова или,
по крайней мере, человека обломовского типа, противоположного Штольцу. Значит, роман Гончарова являет собой версию жизни главного персонажа, принадлежащую деятельному человеку,
не приемлющему «обломовщины», но пересказанную и дополненную другим лицом — по-обломовски созерцательным. Этим
взаимоналожением двух версий и создается «оптический эффект»
своего рода эстетической «близорукости», вынуждающей интерпретаторов вновь и вновь пристально вглядываться в расплывающийся облик.
В первой главе романа о двойственности точки зрения, организующей процесс его чтения, читателю еще ничего не известно.
Однако начальные страницы текста уже содержат ряд глубоких
оппозиций, на пересечении которых оказывается Обломов, и предстают своего рода увертюрой к сложному и органично противоречивому художественному целому. Выявляющиеся с самого начала
оппозиции конструируют неоднозначную, амбивалентную систему ценностей занимающего нас романного мира.
Прежде всего отметим двоящийся хронотоп дома.
Из самой первой фразы текста мы узнаем, что Илья Ильич
проживает в одном из больших домов, народонаселения которого стало
бы на целый уездный город. Однако в этом чужом доме непатриархального уклада он лишь квартирант, да и снимаемая им квартира
лишена живых следов человеческого присутствия. В репликах Волкова из второй главы появляются такие новомодные веселые дома,
где полгорода бывает (уже столичного), что неприятно поражает
Обломова.
Тема собственного (патриархального, фамильного) дома 06ломовых также возникает в первой главе. Это объект исторических преданий об этом старинном доме, единственной хроники,
веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из
рода в род <...> дорожа ею, как святынею. Но Илья Ильич более
не обитает в своем доме, покинув навсегда средоточие отжившего величия.
По присущему ему образу жизни Обломов — очень домашний
человек. Домашний человек без дома — такова изначальная парадоксальность двоящегося образа главного героя.
Своеобразную оппозицию начальной главы, как и последующего текста, составляет несовпадение идеи и мысли, оказываю138
щихся вдруг окказиональными антонимами. Лицо Ильи Ильича
характеризуется отсутствием всякой определенной идеи. Зато мысль
гуляла вольной птицей по этому лицу. Впрочем, идея в качестве
плана разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением составляет существенный мотив первой главы. Впоследствии
сам герой станет объектом подобной идеи: ведь основное действие романа сводится к неудачной реализации плана Штольца и
Ольги — плана переделки Обломова.
На пересечении внутренней борьбы между тревогой, которая
изредка застывала в форме определенной идеи, и свободной мыслью — пока ум еще не являлся на помощь — обнаруживается душа
героя, которая открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. Это, пожалуй, единственное, что не
двоится, что составляет основу идентичности Обломова. В конце
романа персонажей связывает одна общая симпатия, одна память
о чистой, как хрусталь, душе покойника.
Наиболее очевидной с первых страниц произведения предстает оппозиция покоя и житейской суеты.
Покой изначально явлен нам лежанием героя, которое не было
ни необходимостью <...> ни случайностью <...> ни наслаждением <...>
это было его нормальным состоянием. За этим лежанием кроется
образ широкого и покойного быта в глуши деревни. Суета же первоначально предстает фантомом громадной возни в доме (уборки),
мысль о которой приводила барина в ужас. С последующим приливом житейских забот образ суеты вырастает в образ самой жизни:
Ах, Боже мой! Трогает жизнь, везде достает.
Уже в следующей главе устанавливается исходная для Ильи
Ильича и ключевая для романа в целом диспозиция суеты и покоя:
В десять мест в один день — несчастный! — думал Обломов. — И это
жизнь! <...> Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается?
<...> несчастный! — заключил он, перевертываясь на спину и радуясь,
что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается,
а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой.
В контексте данного рассуждения, где понятие человеческой
жизни начинает двоиться, покой оказывается альтернативным
суете образом жизни, а не уклонением от нее. Еще в первой главе
Захар утверждал: Стараюсь, жизни не жалею!(т.е. не жалеет собственного покоя).
Все последующее действие романа заключается в том, что герой этот принципиальный для него покой утрачивает, а затем
°бретает его вновь.
Впрочем, на протяжении романа жизненная ценность покоя
т
акже двоится: она позитивна в противостоянии суете, но как
п
Ротивоположность делу оказывается ценностью внежизненной
139
и в этом смысле негативной. На фоне деловой активности Штольца
(Ах, если б прожить лет двести-триста! сколько бы можно было
дела переделать!) обломовский покой выступает синонимом смерти: Трогает жизнь, нет покоя!Лег бы и заснул... навсегда...
Одной из наиболее существенных оппозиций романного универсума, «ценностно уплотненного» (Бахтин) вокруг героя, следует, конечно, признать оппозицию Востока и Европы.
Знаменитый халат Ильи Ильича — настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, сшитый по неизменной азиатской моде, сохраняющий яркость восточной краски и прочность
ткани, покоряющийся своему хозяину как послушный раб. В то же
время комната Обломова казалась прекрасно убранною в европейском вкусе, выдавая желание кое-как соблюсти decorum неизбежных
приличий. А когда в следующей главе Волков предлагает привезти
на пробу пару новых перчаток (Это только что из Парижа), Обломов не колеблясь соглашается. Однако герой внутренне настолько
отстранен от соблюденного им «декорума», что как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» Впоследствии он будет думать о людях иного, чем он сам, склада: Они не
в своей шапке ходят, забивая себе голову деятельной Европой.
Противостояние Европы и Азии, исподволь заданное с самого
начала, говорит нам о том, что судьба и глубинные характеристики главного героя, по-видимому, имеют самое непосредственное
отношение к евразийскому феномену самой России.
Если фигура Обломова действительно может быть интерпретирована как некое олицетворение российской ментальное™, то в
системе персонажей, актуализирующих различные стороны этой
фигуры, весьма значимой представляется оппозиция «русскости»
(восточности) Захара и Пшеницыной (характерна ее похвала: так
шьют... что никакой француженке не сделать), с одной стороны,
и «немецкости» (западности) Штольца и Ольги — с другой.
В первой главе Штольц еще не появился, но его мелодия в
увертюре уже звучит — в словах обличителя немецкой скаредности Захара:
А где немцы сору возьмут? <...> У них нет этого вот, как у нас, чтобы
в шкафах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму.
Русскость самого Захара двоится, лишена восточной или западной определенности. Он в своей полуформенной одежде никак
не восточный послушный раб (пререкается, демонстрирует барину
свое неблаговоление), однако наделен голосом цепной собаки и является врагом европейских усовершенствований: Сапоги сами снимают с себя: какую-то машинку выдумали! <...> Срам, стыд, пропадает барство! В отличие от русского мужика Захар бороду бреет, но бакенбарды его таковы, что одной стало бы на три бороды.
140
Слуга, несомненно, воплощает одну из сторон двоящегося
образа барина, что раскрывается в их молчаливом обмене предполагаемыми репликами. Однако он несет в себе не только лень и
восточный фатализм (о спинке дивана: не век же ей быть: надо
когда-нибудь изломаться), но и непоколебимую религиозность: ритуальные уборки к Святой неделе и перед Рождеством\ нежелание
изменять данного ему Богом образа. Последнее явственно противостоит плану разных перемен и улучшений, вынашиваемому Ильей
Ильичем. Но Обломову всякое реформирование в отличие от
Штольца совершенно чуждо.
Пожалуй, наиболее глубока в произведении Гончарова оппозиция Природы и Культуры, питающая все другие антиномии
романного текста.
В первой главе она лишь едва намечена. С одной стороны, комната Обломова украшена ширмами с вышитыми небывалыми в
природе птицами и плодами. С другой — Захар является обладателем такой необъятной бакенбарды, из которой так и ждешь, что
вылетят две-три птицы (уже, надо полагать, настоящие); он выступает своего рода покровителем моли, клопов, блох, мышей
(У меня всего много). Природное (паутина, пыль) и культурное
(картины, фестоны), соединяясь, создают некий кентаврический
образ обломовского существования: По стенам, около картин,
лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью.
Уже в болтовне суетного Волкова в следующей главе культура
предстает синонимом суеты {...только и слышишь: венецианская школа, Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи...), тогда как апологеты
покоя — Обломов и Захар — с первой главы маркированы природным началом. У первого во всем лице теплился ровный свет беспечности, а улыбка второго описана как некое подобие восходу
солнца: Захар улыбнулся во все лицо, так что усмешка охватила
даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно (от
усмехающихся губ до самого лба — очевидное восходящее движение, проникающее даже в лесоподобные заросли бакенбард). В заключительной главе портрет этого персонажа в свою очередь ассоциирован с закатом: Все лицо его как будто прожжено было багровой печатью от лба до подбородка (направление движения — сверху
вниз).
Мотив солнца вообще играет в романе ключевую роль. Действие, начинающееся 1 мая, завершается в апреле (судя по отсутствию снега, по одеянию Захара и по тому, что Штольц еще не
увез Андрюшу в деревню) и тем самым совершает круг, аналогичный солнцевороту. Как сказано в одном месте романа, четыре
времени года повторили свои отправления. Перипетии жизни главного героя при этом соответствуют смене времен года. Особо значим в этом отношении конец третьей части, где начало зимы (пер141
вый обильный снегопад) совпадает со свинцовым, безотрадным
сном расставшегося с Ольгой, обрядившегося в прежний халат и
тяжело заболевающего Обломова.
Центральный персонаж романа, которому чужд романтический
лунатизм любви, который в предпоследней главе прямо назван
солнцем Агафьи Матвеевны, явственно соотнесен со своим любимым светилом:
Но, смотришь, промелькнет утро, день уже клонится к вечеру, а с ним
клонятся к покою и утомленные силы Обломова.
Устремив печальный взгляд в окно, к небу, (герой. — В. Т.) с грустью
провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то четырехэтажный дом.
И сколько, сколько раз он провожал так солнечный закат!
Наутро опять жизнь, опять волнения, мечты!
Но солнечность (природность) Обломова постоянно наталкивается на препятствия культурно-урбанистического происхождения: тот же четырехэтажный дом, загораживавший картину заката на прежней квартире, или длинное, каменное, казенное здание,
мешавшее солнечным лучам весело бить в стекла мирного приюта
лени и спокойствия на Выборгской стороне.
Штольц, правда, отождествляет солнечный свет с культурными преобразованиями: Обломовка не в глуши больше <...> на нее
пали лучи солнца/ <...> Года через четыре (внесакральное число 4
отсылает к четырехэтажному дому — урбанистической помехе
природному солнечному свету) она будет станцией дороги <...>
А там... школы, грамота, а дальше... Но в идиллическом сне главного героя Обломовка уже изначально была залита и пронизана
настоящим, природным солнцем.
Очевидно значимым является возраст героя в начале романа:
Это был человек лет тридцати двух-трех от роду. Иначе говоря,
Обломова мы застаем на пороге возраста Христа — лиминального
(порогового, пограничного) возраста символической смерти и
преображения (воскресения в новом статусе). Эта лиминальная
символика, через посредство волшебной сказки уходящая корнями в ритуально-мифологический комплекс инициации и обнаруживаемая в основе множества сюжетов мировой литературы, весьма
часто манифестируется свадебным комплексом мотивов. Данный
вариант мы имеем и в романе Гончарова, где с самого начала
Захар характеризует результат своих мнимых трудов так: Прибрано, словно к свадьбе. Чуть позже Илья Ильич восклицает: Ведь есть
же такие ослы, что женятся!
Однако обещаемого Штольцем (через неделю ты не узнаешь себя)
и предполагаемого самим Обломовым (Ах, боже мой, как все может переменить вид в одну минуту!) преображения так и не происходит. После разрыва с Ольгой, объявляющей обломовскую
142
смерть (все бесполезно — ты умер!), и пробуждения в полдень (еще
одно проявление солнечного цикла) от свинцового, безотрадного
сна наступает воскресение Ильи Ильича (— Сегодня воскресенье, —
говорил ласково голос...), но не в новом, а в прежнем качестве (все
в том же неизменном халате, который только вымыли и починили).
И Пшеницына становится женой Обломова без переходности свадебного обряда.
В финале третьей части Обломов возвращается к своему исходному состоянию первой главы, что в известном смысле оказывается основным итогом его романной судьбы. Ибо часть четвертая
(начатая словами, знаменующими очередной солнцеворот: Год
прошел со времени болезни Ильи Ильича) представляет собой лишь
своего рода развернутый эпилог. Итог этот, как и все в романе,
амбивалентен.
На первый взгляд несостоявшаяся перемена статуса свидетельствует о духовной гибели персонажа. Так это и расценивается
Штольцем, уже второй раз (после Ольги) провозглашающим обломовскую смерть: — Погиб!.. Что ж я скажу Ольге?
Однако текст повествователя даже после сообщения о физической смерти героя именно духовную его смерть как раз и отрицает. Вслушаемся: Что же стало с Обломовым? Где он? Где? — На
ближайшем кладбище под скромной урной покоится тело... Местонахождение тела, разумеется, — далеко еще не полный ответ на
столь эмфатический вопрос.
С другой стороны, каково качество того преображения, что
должно было случиться с Ильей Ильичем, вдруг предположившим: И я уеду отсюда женихом? Ольга с ее говорящими бровями
(в противовес безбровости Агафьи) мысленно сделала его своим
секретарем, библиотекарем. В последнем разговоре она строго спрашивает Обломова: Будешь ли ты для меня тем, что мне нужно?
Трудно признать такую перемену статуса однозначно позитивной
для того, кто по ее же характеристике добр, умен, нежен, благороден. Авторская ирония окрашивает и следующие слова рокового
объяснения: Камень ожил бы от того, что я сделала, — говорит
Ольга, которую повествователь только что саму сравнил с каменной статуей.
Если культура (в лице Штольца и Ольги) жаждет обновления
и преобразований, переделок, усовершенствований объективно
данного в направлении субъективной заданное™, то природа несет в себе импульс сохранения и возобновления своих отправлений. Природный человек Обломов адресует возлюбленной, оживлявшей и переделывавшей его для себя, крайне значимые слова:
Возьми меня, как я есть, люби во мне, что есть хорошего.
Так и непреобразившийся на рубеже жизни и смерти Обломов
гибнет для Ольги и Штольца, однако становится средоточием и
смыслом жизни для Агафьи Матвеевны. После того как она за143
стала его так же кротко покоящимся на одре смерти, как на ложе
сна, ей открывается правда о нем и о себе:
Она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что Бог вложил в ее
жизнь душу и вынул опять; что засветилось в ней солнце и померкло
навсегда... Навсегда, правда; но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее:
теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не напрасно.
Но, как это обычно бывает у Гончарова, такая правда обломовского существования — лишь одна из правд, на которые дробится не укладывающаяся в одно сознание истина бытия. Миропонимание Штольца также обладает своей резонной правдой, что
и позволяет этому герою часто достигать своих целей (но не в
случае с Обломовым). Несовместимость же этих правд порождает
художественное целое непатетического — иронического типа1.
Романтизм открыл широкие возможности использования иронии не только как риторической фигуры текста, но и в качестве
архитектоники эстетического объекта. Однако ирония Гончарова
противоположна романтической иронии субъекта над объектом;
ирония романа «Обломов» — показательный пример объективистской иронии над превратной односторонностью и ограниченностью любой человеческой субъективности.
«Анна Каренина» Л.Н.Толстого
(ч. 1, гл.ХХ1Х-ХХХ)
Роман Толстого представляет собой сложнейшую упорядоченность художественных «сцеплений» с эстетической доминантой,
2
которую следует идентифицировать как трагическую .
Трагический финал сюжетной линии Анны очевиден. Однако
если перед нами текст, обладающий эстетической целостностью,
то всякий его фрагмент окажется пронизанным «магнитными токами» трагизма. Рассмотрим в этом отношении один из наименее
неблагоприятных отрезков в жизни героини — ночь возвращения
из Москвы в Петербург после удачного осуществления ею миротворческой миссии. Изберем идентификационный путь аналитического «медленного чтения».
Трагизм в качестве дисгармонического принципа художественной целостности предполагает широту, избыточность всякого «я»
относительно своей роли в миропорядке. Отсюда проистекают
нестабильное состояние самого миропорядка и экстатическое
выплескивание «я» за те или иные ролевые границы.
'См.: Т а м а р ч с н к о Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Указ. соч. —Т. 1.
С. 74-77.
2
Там же. - С . 62-64.
144
Анализируемый фрагмент открывается фразой:
«Ну, все кончено, и слава богу!» — была первая мысль, пришедшая
Анне Аркадьевне, когда она простилась в последний раз с братом, который до третьего звонка загораживал собою дорогу в вагоне.
Обратим внимание не только на контрастную резкость соседства определений первая и последний, но и на то, что первая мысль
звучит как самая последняя: всё кончено! Вместе с упоминанием
Бога эта мысль Анны отсылает нас к ее действительно последней, предсмертной мысли в романном тексте: «Господи, прости
мне всё!» (ч. 7, гл. XXXI). Этой поездкой, в ходе которой произойдет любовное объяснение с Вронским, начинается движение героини к ее гибельному финалу. Она остро ощущает ролевые преграды самого различного свойства на пути своего свободного «я»,
вследствие чего даже присутствие брата воспринимается как загораживание.
С первых слов, описывающих возвращение Анны к мужу и
сыну, проявляется (поначалу едва ощутимо) столь характерное
для трагизма раздвоение ее существования на ролевое и внеролевое.
Первое представлено духом озабоченности, в котором она находилась весь этот день и, руководствуясь которым, с удовольствием
и отчетливостью устроилась в дорогу, надеясь, что с возвращением пойдет моя жизнь, хорошая и привычная, по-прежнему.
Второе проявляется в ослаблении этой самой отчетливости,
в невозможности для Анны сосредоточиться на своем дорожном
занятии (чтении): ей неприятно было читать, то есть следить за
отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить
Это состояние противоречит рациональному стремлению героини восстановить привычный ход существования. В основе всех трагических конфликтов обнаруживается подобного рода избыточность экзистенциальное™ трагического «я».
Извне сосредоточенности Анны препятствует катастрофическое
состояние миропорядка, утратившего свою стабильность и симметричность:
...Снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закутанного, мимо прошедшего кондуктора, занесенного снегом с одной
стороны, и разговоры о том, какая теперь страшная метель на дворе,
развлекали ее внимание.
Глава XXX начинается словами страшная буря, а далее мы читаем, что вагоны, столбы, люди, всё, что было видно, — было занесено с одной стороны снегом. Дисгармония, пришедшая с левой стороны, мифотектонически отсылает к инфернальному полюсу миропорядка и оказывается созвучной тому новому состоянию души,
от которого Анна предполагает отрешиться, зажив дома по-преж145
нему. Свое новое душевное состояние, обретенное в Москве, она
переживает как своего рода «трагическую вину»:
Чего же мне стыдно? — спросила она себя с оскорбленным удивлением. <...> Стыдного ничего не было. Она перебрала все свои московские
воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал, вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо, вспомнила все свои
отношения с ним: ничего не было стыдного. А вместе с тем на этом
самом месте воспоминаний чувство стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она вспоминала о Вронском, говорил ей: «Тепло, очень тепло, горячо».
Трагическая вина, столь характерная для этого строя художественности, часто состоит не в самих поступках, которые как раз
могут быть оправданы, а во внеролевой внутренней свободе раздваивающегося «я» — свободе субъективности, открытой любым
поступкам.
Не менее характерно для трагизма и наличие у Анны внутреннего голоса, свидетельствующего о глубинной раздвоенности трагической личности. Об этом же свидетельствует и ее импульсивное поведение в минуты переживания нежданного стыда: Она презрительно усмехнулась, но спустя мгновение засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею.
Лексика внутреннего голоса (горячо) связана толстовскими
«сцеплениями» и с переживаемой ситуацией внешней дисгармонии {тот же снег в окно, те же быстрые переходы от парового
жара к холоду и опять к жару), и с развернутыми далее инфернальными аллюзиями сна Анны:
...Потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали
кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось
стеной. Анна почувствовала, что она провалилась.
По поводу забытья, охватывающего героиню, повествователь
отмечает трагическую игру произвола личности с некой роковой
силой:
Ей страшно было отдаваться этому забытью. Но что-то втягивало в
него (в момент самоубийства что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в
голову и потащило. — В. Т.), и она по произволу могла отдаваться ему и
воздерживаться.
Рост личностного «я», охваченного избыточной (для норм миропорядка) жаждой жизни, передается странными ощущениями
героини, впадающей в полузабытье:
Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что
пальцы на руках и ногах нервно движутся, что в груди что-то давит дыханье и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайною яркостью поражают ее.
146
Этот разлив субъективного, выход из берегов «нормального»
присутствия в мире ведет к неопределенности и ситуации, и самой личности: На нее беспрестанно находили минуты сомнения,
вперед ли едет вагон, или назад, или вовсе стоит и т. п. — вплоть до
ключевого трагического вопроса: И что сама я тут ? Я сама или
другая?
Знаменательное вопрошание о себе (именно с вопросом «кто
я?» обратился к оракулу первый поистине трагический герой европейской литературы — Эдип) не случайно уподобляет Анну и Гамлету, и Раскольникову, и многим другим персонажам аналогичного
типа. Оно проистекает из самоценности трагического «я» — существования, не сводимого к ролевому функционированию, однако
и неразрывного с миропорядком.
Перед нами обнажается архитектоническая основа трагического художественного целого: самоценное трагическое «я» неопределимо, поскольку оно «шире» самого себя — своей внешней,
ролевой ипостаси. Эта «широта» становится залогом гибельной
трагической свободы, которая тотчас же реализуется выходом Анны
на платформу, где ее поджидает Вронский.
Появление Вронского в следующей, XXX главе отчасти напоминает продолжение сонных видений Анны (знаменательны слова повествователя о ней: обдумывая в своем воображении). Фигура
влюбленного в этом фрагменте воспринимается почти как порождение ее свободной субъективности. После того как он заслонил ей
колеблющийся свет (впрочем, это могло произойти и по произволу
ее собственного желания), она, несмотря на тень, в которой он
стоял, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и
глаз. Далее мы читаем:
Ей не нужно было спрашивать, зачем он тут. Она знала это так же
верно, как если б он сказал ей, что он тут для тогог чтобы быть там, где
— Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете? — сказала она. <...>
— Зачем я еду? — повторил он, глядя ей прямо в глаза. — Вы знаете,
я еду для того, чтобы быть тамг где вы. — сказал он, — я не могу иначе.
И в то же время, как бы одолев препятствия, ветер посыпал снег с
крыши вагона, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего
желала ее душа, но чего она боялась рассудком.
Типичный для трагизма разлад души и рассудка приводит к тому,
что ужас сокрушающегося миропорядка (символичен трепет железного, но оторванного листа) субъективно воспринимается героиней как прекрасный, хотя объективно (в восприятии повествователя) происходящее плачевно и мрачно. Трагический миропорядок прочен и сокрушается он не для всех, но только для субъек-
147
тивно свободного «я». Ведь сама буря оказывается продолжением
внутреннего состояния самой героини: желанные слова Вронского снимают последние препятствия на пути метельного ветра, с
начала поездки поджидавшего ее при выходе из вагона: Метель и
ветер рванулись ей навстречу. <...> И это ей показалось весело. (Как
ранее инфернальное забытье в ее ощущении было не страшно,
а весело.}
Не осознавая рассудком, а принимая происшедшее экзистенциально {чувством поняла, что этот минутный разговор страшно
сблизил их), Анна, по сути дела, совершает внутренний выбор.
После этого она внешне занимает в вагоне свое место (где устраивалась с мыслью о возвращении к ролевому функционированию
семейной жизни), однако внутренне углубляется в то исступление за ролевые границы своего существования, которое первоначально проявилось в невозможности сосредоточиться на чтении:
То волшебное напряженное состояние, которое ее МУЧИЛО сначала,
не только возобновилось, но усилилось и дошло до того, что она боялась, что всякую минуту порвется в ней что-то слишком натянутое.
Состояние героини поистине катастрофично, поскольку оно
антиномично (страшно — весело; волшебно — мучительно; она была
испугана и счастлива и т.п.), что вообще присуще трагической художественности. Отсюда антиномичность ее поведения, в описании которого полюс ролевого миропорядка представлен повтором символических деталей: путевых столбов (ведущих поезд из
Москвы назад в Петербург) и в особенности столбиков (поручней
вагона, предназначенного для возвращения Анны в лоно ее прежней хорошей, т.е. правильной, жизни).
Ощущая внутреннюю несвободу (в груди что-то давит дыхание), со словами мне подышать хочется, Анна отворила дверь и
вышла. Ветер как будто только ждал ее, радостно засвистал и хотел подхватить и унести ее, но она сильной рукой взялась за холодный столбик. (Холод этого столбика антиномичен жару переживаемых со стыдом мыслей о Вронском.) Подышав с наслаждением,
полной грудью, она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и уже
вынула руку из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон,
как еще человек в военном пальто подле нее самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря. Далее Анна с неудержимой радостью и оживлением обращается к Вронскому, опустив руку, которою взялась
было за столбик. Затем, тщетно стараясь придать строгое выражение своему лицу <...> взявшись рукой за холодный столбик, она поднялась на ступеньки и быстро вошла в сени вагона. Но в этих маленьких сенях она остановилась...
Наконец, на смену трагическому избытку субъективности (радостному, жгучему и возбуждающему напряжению тех грез, которые наполняли ее воображение), приходит покой внешней и внут148
ренней упорядоченности бытия: ...Уже было бело, светло и поезд
подходил к Петербургу. Тотчас же мысли о доме, о муже, о сыне и
заботы предстоящего дня и следующих обступили ее. Однако она
тотчас внутренне преступает эти ролевые границы, увидев мужа,
глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы.
В этих хрящах легко опознается аллюзия на те столбики и столбы,
которые, в свою очередь, символически напоминали о неизгонимо присутствующих в сознании героини представительных «столпах» миропорядка, подобных Каренину.
Неожиданное внутреннее отстранение от лица мужа (столь закономерное в своей непоследовательности) вновь восстанавливает в ее душе вытесненное было ощущение «трагической вины».
В данном случае эта вина выступает в облике поразившего ее чувства недовольства собой <...> похожего на состояние притворства,
которое она испытывала в отношениях к мужу; но прежде она не
замечала этого чувства, теперь она ясно и больно сознала его.
Сосредоточившись на данном фрагменте художественного целого, мы наблюдали самый момент зарождения типично трагической коллизии «страсти и долга». Но, как видно из процитированных только что слов, Анна Каренина изначально была героиней трагической, экзистенциально не умещающейся в границах
любой отводимой ей роли — как она телесной красотой выступала из своего платья на балу в Москве.
Концовка седьмой части, где сюжетная линия Анны оканчивается самоубийством (не обязательный, но характерный трагический мотив «исступления» личности за последнюю границу собственной жизни), посредством толстовских «сцеплений» недвусмысленно отсылает к рассмотренному только что фрагменту как
началу гибельного пути трагической свободы «я»:
И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя
и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и
навсегда потухла.
Эта свеча прозрачно соотносится с фонариком, при свете которого Анна усиливалась читать книгу английского романа, тогда
ей слишком самой хотелось жить — энергично листать книгу собственной жизни. Еще одно «сцепление»: в момент самоубийства
ей почему-то мешает ее дамский красный мешочек, тот самый, из
которого она достала тогда английский роман. Наконец, мотивика антиномии света и мрака также уходит корнями в две проанализированные главы.
Не следует думать при этом, что благополучная концовка сюжетной линии Левина и романа в целом чужда трагизму в качестве эстетической доминанты произведения. И там доминирует
149
все та же антиномическая мотивика (свет — мрак): очередное, но
явно неокончательное умиротворение на лице своего мужа Кити
читает при вспышках грозовых молний, прорывающих окружающую тьму.
Реконструктивный анализ незавершенного наброска
(«В 179* году возвращался я...» А. С. Пушкина)
Реконструктивный анализ может быть использован при исследовании незавершенных набросков или частично утраченных текстов, представляющих порой самостоятельный интерес для изучения творчества большого писателя. Реконструкция в этом случае
является гипотетическим восстановлением контуров того не вполне актуализированного художественного целого, манифестацией
которого выступает дошедший до нас отрывочный текст1.
Данный род аналитической работы можно трактовать как разновидность анализа фрагмента. Набросок или сохранившийся отрывок рассматривается как органичная часть недоступной восприятию эстетической целостности. Анализируется при этом в
первую очередь его мотивная структура, поскольку ни сюжет, ни
композиция при отсутствии полного текста не могут быть подвергнуты полноценному анализу.
Реконструктивный анализ возможен постольку, поскольку он
опирается на интертекстуальную систему мотивов, актуальную для
данного автора в данную литературную эпоху, ибо всякий художественный текст в качестве мотивной ткани являет собой сплав
традиционного и инновационного.
На одном полюсе здесь своего рода словарь интертекстуальных
мотивов2, составляющих в своих синхронных и диахронных переплетениях, взаимоналожениях, контаминациях и антитезах живую «грибницу» литературной традиции. Ключевыми узлами этой
межтекстовой связи, обеспечивающими ее историческую прочность, выступают гипермотивы — сгустки более частных мотивов, связанных в единый мотивный комплекс тем или иным традиционным сюжетом. Таковы, например, гипермотивы гордого
царя3, договора с дьяволом4, блудного сына5 и т. п.
1
См.: Л о т м а н Ю. М. Опыт реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе //
Временник Пушкинской комиссии. 1979. — Л., 1982.
2
См.: Тюпа В.И., Р о м о д а н о в с к а я Е.К. Словарь мотивов как научная
проблема // От сюжета к мотиву. — Новосибирск, 1996.
3
См.: Р о м о д а н о в с к а я Е.К. Повести о гордом царе в рукописной традиции XVII-XIX вв. - Новосибирск, 1985.
4
См.: Журавель О.Д. Сюжет о договоре человека с дьяволом в древнерусской литературе. — Новосибирск, 1996.
5
См.: «Вечные» сюжеты русской литературы («Блудный сын» и другие). —
Новосибирск, 1996.
150
На другом полюсе — авторские инновации: такие семантические единицы художественного языка, возведение которых к какому-либо традиционному комплексу мотивов представляется неосуществимым. Мотивная инновация подобна неологизму в речевой жизни естественного языка: это внесловарное слово возникает в результате трансформации в соответствии с грамматическими нормами общеизвестных лексических единиц и может со временем в результате повторов обрести статус словарной языковой
единицы. Такие проводники литературной традиции, как упомянутые притча о блудном сыне, или история гордого царя Аггея,
или средневековый сюжет о договоре с дьяволом в своей исторической первооснове являются ничем иным, как инновационными трансформациями древнейшего ритуально-мифологического
комплекса мотивов инициации.
Обращение к тому или иному мотиву (гипермотиву) может
быть чисто цитатным: мотив или комплекс мотивов вводится в
текст в качестве традиционной параллели к ситуациям и событиям инновационного сюжета. Примерами семантической цитации
гипермотива могут служить знаменитое описание четырех лубочных «картинок» к истории блудного сына из «Станционного смотрителя» или строки из неоконченных пушкинских «Воспоминаний в Царском Селе» 1829 г.:
Так отрок Библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.
Между полюсами чистой цитации и чистой инновации в качестве механизмов текстопорождения располагаются два других,
наиболее продуктивных способа создания новых художественных
текстов на почве традиции. Это ассимиляция гипермотива и его
диссеминация1.
В первом случае, тяготеющем к полюсу цитации, какая-то часть
микромотивов (периферийных традиционных атрибутов гипермотива) замещается инновационными мотивами, в результате чего
данный мотивный комплекс вводится в текст неявно, но достаточно определенно.
Диссеминация, предполагающая «рассеивание» семантического комплекса (сгустка мотивов), тяготеет к полюсу инновации.
Гипермотив утрачивает свои ядерные атрибуты, однако сохраняет возможность быть реконструированным по рассеянным в тексте периферийным микромотивам или осколкам семантического
ядра.
1
Термин Жака Дерриды, означающий «рассемантизацию» знакового комплекса. (См.: D e r r i d a J. La dissemination. — P., 1972.)
151
Эти свойства художественного языка как языка мотивов и открывают перед мотивным анализом доступного участка текста
некоторые реконструктивные возможности.
Для демонстрации высказанных положений на конкретном
примере обратимся к пушкинскому наброску 1835 г., представляющему собой увертюру к неосуществленному (по-видимому, романному) художественному целому и таящему в себе значительный творческий потенциал:
В 179* году возвращался я в Лифляндию с веселою мыслию обнять
мою старушку мать после четырехлетней разлуки. Чем более приближался я к нашей мызе, тем сильнее волновало меня нетерпение. Я погонял
почтаря, хладнокровного моего единоземца, и душевно жалел о русских
ямщиках и об удалой русской езде. К умножению досады бричка моя
сломалась. Я принужден был остановиться. К счастию, станция была недалеко.
Я пошел пешком в деревню, чтобы выслать людей к бедной моей
бричке. Это было в конце лета. Солнце садилось. С одной стороны дороги
простирались распаханные поля, с другой — луга, поросшие мелким
кустарником. Издали слышалась печальная песня молодой эстонки. Вдруг
в общей тишине раздался явственно пушечный выстрел... и замер без
отзыва. Я удивился. В соседстве не находилось ни одной крепости; каким
же образом пушечный выстрел мог быть услышан в этой мирной стороне? Я решил, что, вероятно, где-нибудь поблизости находился лагерь, и
воображение перенесло меня на минуту к занятиям военной жизни, мною
только что покинутой.
Подходя к деревне, увидел я в стороне господский домик. На балконе
сидели две дамы. Проходя мимо их, я поклонился — и отправился на
почтовый двор.
Едва успел я справиться с ленивыми кузнецами, как явился ко мне
старичок, отставной русский солдат, и от имени барыни позвал меня
откушать чаю. Я согласился охотно и отправился на господский двор.
Дорогой узнал я от солдата, что старую барыню зовут Каролиной
Ивановной, что она вдова, что дочь ее Екатерина Ивановна уже в невестах, что обе такие добрые, и проч....
В 179* году мне было ровно 23 года, и мысль о молодой барыне была
достаточна, чтоб возбудить во мне живое любопытство.
Старушка приняла меня ласково и радушно. Узнав мою фамилию, Каролина Ивановна сочлась со мною свойством; и я узнал в ней вдову фон В.,
дальнего нам родственника, храброго генерала, убитого в 1772 году.
Между тем как я по-видимому со вниманием вслушивался в генеалогические исследования доброй Каролины Ивановны, я украдкою посматривал на ее милую дочь, которая разливала чай и мазала свежее
янтарное масло на ломтики домашнего хлеба. 18-ть лет, круглое румяное
лицо, темные, узенькие брови, свежий ротик и голубые глаза вполне
оправдывали мои ожидания. Мы скоро познакомились, и на третьей чашке
чаю уже обходился я с нею как с кузиною. Между тем бричку мою привезли; Иван пришел мне доложить, что она не прежде готова будет, как
152
на другой день утром. Это известие меня вовсе не огорчило, и по приглашению Каролины Ивановны я остался ночевать.
Приведенный набросок очевидным образом являет собой прежде всего ассимиляцию гипермотива блудного сына. Возможная
цитация (возвращение сына в родительский дом) разрушается
заменой старика отца — на старушку мать, слез раскаяния — на
веселую мысль о предстоящей встрече, введением такой инновации, как иноязычное слово мыза (хутор) для обозначения родного дома и т.д. С другой стороны, четырехлетняя разлука звучит
аллюзией четырех лубочных картинок о блудном сыне, а нетерпение соответствует пушкинской характеристике этого персонажа в
«Станционном смотрителе» (беспокойный юноша, который поспешно
принимает благословение и мешок с деньгами).
Наиболее существенным ассимилирующим ходом текстопорождения в данном случае является инверсия. Во-первых, речь идет о
возвращении русскоязычного рассказчика из России в родной, но
инокультурный край, что, вероятно, имело немаловажное значение для замысла в целом. Во-вторых, сюжетное движение наброска повторяет все те же четыре картинки, перенесенные Пушкиным в «Повести Белкина» из своей ранней рукописи о молодом
офицере, направляющемся к месту службы, — только в обратном
порядке: ситуация возвращения —- ситуация одиночества и воспоминания о покинутом — ситуация редуцированного до чаепития
блудного пира (напускное внимание к генеалогическим исследованиям, составляя антитезу сыновней блудности, скрывает подлинный интерес героя к молодой сотрапезнице) — ситуация редуцированного ухода (радость по поводу задержки, препятствующей
возвращению домой). Инверсивным является также введение в
ситуацию уклонения от пути домой мотивных атрибутов возвращения: чаепитие с домашним хлебом, родственный прием со стороны хозяйки (старушка приняла меня ласково и радушно), словно
замещающей старушку мать, слова рассказчика о его вполне оправдавшихся ожиданиях.
Легко констатировать также ассимиляцию пушкинским наброском гипермотива увоза невесты: известие о том, что молодая барыня Екатерина Ивановна уже в невестах, дополняется не только
прозрачной в этом отношении концовкой наброска, но и восходящим к свадебному обряду мотивом печальной песни молодой (эстонки).
Речь, разумеется, не может идти в данном случае о прямом
намерении героя украсть невесту. Однако ассимилирование любого гипермотива существенно обогащает семантический потенциал текста (имя героини, например, актуализирует один из традиционных сюжетов христианского искусства — мистическое обручение «христовых невест» Екатерины Александрийской или
153
Екатерины Сиенской) и открывает некие дополнительные возможности дальнейшего сюжетного движения. Среди офицеров
предполагаемого рассказчиком где-нибудь поблизости лагеря мог
бы оказаться официальный или, напротив, тайный жених Екатерины Ивановны, что могло бы послужить новеллистической
завязкой последующего хода событий. Впрочем, вполне мирное
и успешное сватовство героя к своей кузине также обернулось
бы увозом невесты, хотя и в смягченном, неавантюрном варианте.
Отметим, что семантическая связь двух ассимилированных пушкинским наброском гипермотивов очевидна: обряд инициации,
составляющий ритуально-мифологический подтекст притчи о блудном сыне, вел инициируемого к обретению статуса жениха.
Анализируемый набросок содержит в себе и весьма показательный образец диссеминации — в данном случае мифогенного гипермотива мировой катастрофы как сокрушения солнечной колесницы. Поломка брички совмещается с заходом солнца, да еще и в конце лета, а починена она может быть не прежде... как на другой день утром. В этом ракурсе число 4 (четырехлетняя разлука) может быть прочитано и как косвенная аллюзия квадриги Аполлона-Гелиоса; неудачное вмешательство героя в управление почтовой колесницей — как аллюзия катастрофической скачки Фаэтона (этого «блудного сына» солнечного бога); посещение героем кузницы — как аллюзия визита Гелиоса к Вулкану.
Причиной этого визита, как известно из римской мифологии,
явилось противозаконное соединение Марса и Венеры, т.е. войны
и мира. Следами этой традиционной для европейского искусства
фабулы, претерпевшей диссеминацию, прочитываются и пушечный выстрел в мирной стороне, и воинственное обращение рассказчика с мирными кузнецами (едва справился), и мирное появление в этот боевой момент отставного русского солдата, приглашающего откушать чаю. К этому же семантическому гнезду мотивов следует отнести не только соединение в вечерней тишине
песни с выстрелом, но и пейзаж, рассекаемый дорогой (путь героя) на две половины: освоенную мирным трудом (распаханные
поля) и неокультуренную, зато пригодную для боевых действий
(луга, поросшие мелким кустарником).
Наиболее приметной инновацией в тексте наброска является
начало фразы: В 179* году мне было ровно 23 года... Всякая локализация повествуемых событий в исторически конкретном времени
инновационна уже в том смысле, что ослабляет интертекстуальные связи сюжета с трансисторическим бытием традиции. В данном же случае демонстративный повтор полускрытой исторической даты (рядом с точным указанием года смерти неизвестного
читателю фон В.) производит впечатление нарочитой загадки,
154
призванной как раз привлечь внимание «любопытных изыскателей» (пользуясь выражением издателя повестей Белкина). Это впечатление усиливается тем обстоятельством, что число 23 ни в каком отношении не может считаться «круглым», а ровно 23 года
человеку может быть в какой-то определенный день, но не целый
год. Такая фраза была бы вполне осмысленной, пожалуй, лишь в
одном случае: если бы возраст говорящего точно совпадал с возрастом кого-то еще подразумеваемого. Попробуем разгадать эту
пушкинскую загадку.
Интересующая нас дата может быть только 1790, 1791 или
1792 годом, что уже знаменательно совпадением начала последующих (неведомых нам) сюжетных событий со временем Великой французской революции. Нетрудно подсчитать, что если бы
Екатерина Ивановна родилась в год гибели своего отца, то 18 ей
исполнилось бы в 1790 г., но в таком случае и в следующем,
1791 г. ей какое-то время все еще было бы 18 лет. Однако в принципе Екатерина Ивановна могла появиться на свет и спустя несколько месяцев после гибели храброго генерала, что отодвигает
крайний возможный срок знакомства с нею рассказчика на
1792 год. К тому же цифра 18 появляется в рамках портретной
зарисовки. Это уменьшает точность обозначения возраста героини (выглядела восемнадцатилетней) и одновременно увеличивает вероятность датирования начальных событий рассказа
1792 годом.
Последний интересен тем, что в августе (конец лета) именно
этого года исполнилось 23 года Наполеону. Такое совпадение решительно меняет ракурс чтения, и «сквозь магический кристалл»
сплава ассимилированных и диссеминированных мотивов начинают «неясно различаться» контуры романа о ровеснике Бонапарта, вспоминающем обстоятельства своей женитьбы.
Странная пушкинская инновация загадочного наброска оказывается мостиком к очередному гипермотиву исключительной
семантической емкости — на этот раз клиогенному (не условнолитературного, а конкретно-исторического происхождения) —
мотиву Наполеона, столь значимому как для самого Пушкина,
так и для всей русской литературы классического периода.
Сочетание уже выявленных в рассматриваемом тексте гипермотивов ассимилированной «домашней» и диссеминированной
«мировой» семантики позволяет предположить за этой увертюрой неосуществленный романный сюжет, где бы параллельно
развивающиеся линии жизни мирного Домостроителя (частного
человека) и возмутителя исторических коллизий Мироустроителя (возможно, «гордого царя» древнерусской книжной традиции) пересеклись бы в ситуации войны 1812 г. Подобно тому,
как пересеклись жизненные пути Петруши Гринева и лже-Петра
Пугачева.
155
Причем нельзя утверждать, что этот виртуальный сюжет вовсе
не осуществился в русской литературе: отголосок его явственно
слышится в романной судьбе Пьера Безухова (увлекающегося
фигурой Наполеона, затем ищущего возможности его убить и,
наконец, становящегося домостроителем), как, впрочем, и в общей коллизии «Войны и мира».
Но об эстетической модальности нереализованного произведения судить по его наброску невозможно: для выявления типа
художественной завершенности принципиально необходим полный авторский текст. Только в этом случае убедительный результат может быть получен путем квалифицированного анализа фрагмента как органической части целого.
ГЛАВА 6
АНАЛИЗ ЦИКЛА
Границы сверхтекстового литературного единства, именуемого циклом, весьма расплывчаты даже в области лирической циклизации, изученной наиболее полно 1 . Книга стихов Катулла (или
другого, более позднего поэта) — это цикл или еще нет? «Два
голоса» Тютчева — это цикл или уже нет? В этой области литературоведческого знания постоянно актуализируется вопрос о границах понятия художественного цикла.
Явления лирической, эпической или драматургической цикличности (в строгом значении этого слова) с точки зрения их
изучения нецелесообразно отрывать от смежных «циклоидных» литературных образований. Однако сколь бы широко мы ни взглянули на феномен циклизации, пределы его все же необходимо очертить: указать то, что не является циклами ни в каком значении
этого термина. Это, во-первых, единичное литературное произведение, а во-вторых, предельно широкая их совокупность, составляющая жанровую или иную литературную традицию, авторское или национальное (в пределе — мировое) литературное наследие.
Иначе говоря, интересующие нас явления, которые могут быть
обозначены более широким, чем «цикл», понятием «ансамбля»
текстов, располагаются между двумя пределами: неупорядоченными совокупностями текстов той или иной литературной общности, с одной стороны, и единичными текстами — с другой.
Важнейшей характеристикой ансамблевого объединения — будь
то антология, средневековый рукописный «изборник», авторская
книга стихов Нового времени или очередной номер журнала и т. д. —
является избранность включенных в него высказываний, т.е. их
принципиальная или окказиональная противопоставленность всем
остальным текстам данной культуры. Прообразом таких текстовых
ансамблей выступает канонизированное собрание текстов, признаваемых сакральными, — альтернативных текстам профанным
'См.: Д а р в и н М.Н. Русский лирический цикл. — Красноярск, 1988; Ф о М е н к о И. В. Лирический цикл: становление жанра, поэтика. — Тверь, 1992;
Ляп и на Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века. — СПб., 1999; Д а р в
и н М.Н. Художественная циклизация лирики // Теория литературы: В 4 т. —
М., 2003. — Т. 3. Роды и жанры.
157
или апокрифическим. В христианской культурной традиции парадигмой всякой ансамблевости выступает «сверхкнига» Библия и
составляющие ее отдельные книги. Так, образцом всякого лирического цикла вслед за Гёте следует признать Песнь песней Соломона, как, впрочем, и Книгу хвалений Давида (Псалтырь).
С семиотической точки зрения всякий текст является совокупностью знаков, принадлежащих некоторому языку, т.е. встречающихся также и в других текстах. Отсюда вытекают два важнейших структурообразующих свойства семиотических комплексов:
их синтагматичность и парадигматичность. Первое предполагает
способность текста к конструктивному сопряжению знаков в
идентичное себе, самодостаточное целое. Второе — способность
текста к интертекстуальному размыканию и сопряжению с другими феноменами данной культурной сферы. Факторы идентичности (синтагматика) и факторы интертекстуальности (парадигматика) диаметрально противоположны, но они присутствуют
в одном и том же тексте на началах взаимодополнительности,
причем преимущественная актуализация тех или иных факторов
зависит от позиции воспринимающего (идентифицирующего)
сознания.
Создание текстовых ансамблей (организованных контекстов
восприятия) является крайне существенным процессом для бытия культуры. Ансамблевость культурных феноменов — это лимитированная интертекстуальность. Ансамбли отграничивают некоторую группу текстов от всех остальных, обособляют их в культурном пространстве духовной жизни. Тем самым часть интертекстуальных факторов оказывается дезактуализированной. Но одновременно, сплачивая эти тексты в единый контекст, группировка
ослабляет в них и факторы идентичности, вследствие чего взаимодополнительность этих альтернативных свойств выступает более уравновешенной, что налагает на интерпретацию текстов некоторые контекстуальные ограничения, устанавливая более определенные рамки адекватности их прочтений.
В связи с изложенными соображениями открывается возможность градации текстовых ансамблей по степени ослабления идентичности их компонентов (равно как и способности к интертекстуальным взаимотяготениям и взаимоотталкиваниям) и соответственно по степени возрастания их контекстуальной связности.
К полюсу сохранения контекстуальной суверенности самодостаточных текстов ближе всего стоят разного рода литературные
инсталляции — ансамбли произведений, разнородных в жанровом
(литературный альманах), хронологическом (антология жанра) или
еще каком-либо отношении. Такого рода инсталляцией является,
например, том избранных сочинений автора в отличие от полного собрания его сочинений. Последнее по типу своей линейно158
1сумулятивной организации наращивания аналогично корпусу текстов культуры в целом.
В рамках текстовых ансамблей этой ступени (каждый выпуск
литературного журнала, например, является инсталляцией составляющих его произведений) возникают, конечно, контекстуальные сцепления, однако они носят, как правило, окказиональный
характер. Это, впрочем, не мешает составителю данного ансамбля
придать обнаружившимся перекличкам и взаимозависимостям
некоторую целесообразность, что обычно проявляется в его композиции, в частности рубрикации.
Следующей ступенью градации от интертекстуальности культуры к единичной текстуальности произведения являются, по-видимому, серии однородных в жаровом отношении текстов. К ансамблям такого типа принадлежат собрания сонетов Петрарки, Дю
Белле или Шекспира, как и жанрово-тематические разделы в поэтических книгах XVIII и более ранних веков. Между отдельными
текстами в рамках серии обычно устанавливаются более или менее прочные контекстуальные связи и зависимости. Однако серии
текстов лишены архитектонического единства. Они объединяются
элементарным композиционным принципом нанизывания. Устранение отдельного текста для серии в целом может оказаться
порой весьма ощутимым, и все же не является принципиальным:
такая элиминация не носит разрушительного, деструктивного характера.
Этот признак известного рода факультативности каждого частного компонента позволяет нам инсталляционные и серийные
ансамбли текстов именовать суммативными. Однако некоторые
серии лирических текстов бывают наделены «пунктирным» сюжетом, способствующим организации более прочного контекста.
Таковы, например, серии сонетов Петрарки, послужившие парадигмой лирической циклизации для различных европейских
литератур последующих веков. За цепью лирических стихотворений угадывается история, которая могла бы быть рассказана эпически.
Подобная нарративизация (см. гл. 10) серии поэтических текстов, не преодолевая пока еще их ансамблевой суммативности,
Уже позволяет, по-видимому, говорить о такой серии, как о цикле — суммативном цикле. Пользуясь словами А. В. Михайлова о «Западно-восточном диване» Гёте, суммативный цикл можно определить как «открытое множество» текстов, сплачиваемых «общей
идеей»1.
Дальнейшее редуцирование факторов самоидентичности и однов
Ременно факторов интертекстуальности отдельных стихотворе1
М и х а й л о в А.В. «Западно-восточный диван» Гёте: смысл и форма // Гё* И. В. Западно-восточный диван. — М., 1988. — С. 639.
159
ний укрепляет контекстуальные связи между ними и приводит к
возникновению в литературе (первоначально в лирике) интегра
тивных текстовых ансамблей — собственно циклов в теоретически
строгом значении термина. В этом значении наименование «цикла» по праву приложимо лишь к такому художественному феномену, который может быть назван не суммой, но «произведением
произведений» (М.Н.Дарвин).
Специфика конструктивно более жестких циклических образований в том, что устранение каждого текста здесь деструктивно:
оно если и не разрушает цикл, то радикальным образом меняет
его как художественную целостность. Интегративный цикл обладает собственной архитектоникой и строго определенной композицией, что делает порядок следования его частей непреложным,
как это имеет место в любом законченном художественном творении: никакие перестановки или изъятия не остаются нейтральными относительно смысла многосоставного целого. Впрочем,
количество текстов здесь не бывает слишком велико, ибо превышение некой «критической точки» их числа размывает архитектоничность цикла и преобразует интегративный ансамбль текстов в
суммативную серию.
Наконец, между циклами в строгом значении термина и единичными произведениями можно различить жестко архитектоничные микроансамбли текстов (по преимуществу диптихи или триптихи, реже — четырехчастные «сонатные» построения), которые
целесообразно отличать от прочих циклических образований. Эти
микроциклы могли бы именоваться монтажными композициями.
В рамках такой ансамблевой формы лирическое высказывание,
не сводясь к строфе единого текста, тем не менее утрачивает свою
художественную самодостаточность. Вне строго заданного контекста
оно воспринимается неполноценно или превратно — как незаконченное произведение, однако законченность свою обретает не
в себе самом, а лишь в смежном, композиционно сопряженном с
ним тексте.
Так, тютчевские «Два голоса» явственно отличаются от обычных стихотворений поэта, в которых часто звучали разные голоса, но лишь по одному на стихотворение. Это «сиамское» лирическое единство находится где-то между единичным текстом и
полноценным циклом. Классическими примерами лирических
монтажных композиций можно назвать «складни» и «трилистники» из «Кипарисового ларца» И.Анненского1.
До сих пор мы говорили о градации циклоидных образований
преимущественно с позиций семиотики, поскольку аналогичные
1
Подробнее см.: Тюпа В.И., М е ш к о в а Г.А., К у р б а т о в а Н.В. Архитектоника циклизации (о «трилистниках» И.Анненского) // Исторические пути
и формы художественной циклизации в поэзии и прозе. — Кемерово, 1992.
160
контекстные отношения могут устанавливаться в ансамблях любых иных, а не только художественных текстов. Однако на проблему лирического цикла необходимо взглянуть также и с позиций эстетики.
С последовательно эстетической точки зрения ни одно слово
художественного текста не следует соотносить с личностью писателя непосредственно. «От себя» писатель высказывается лишь в
текстах, лишенных художественности. В лирике разграничение автора (субъекта художественного смысла) и героя (субъекта лирического говорения) наиболее затруднительно. Здесь циклизация
является едва ли не самой эффективной формой проявления авторской активности: лирический герой высказывается в отдельном тексте — автор организовывает контекст осмысления этого
высказывания.
Сказанное позволяет провести достаточно четкую границу между лирическими циклами и лирическими сериями. Последние предстают ансамблями текстов, которые при всей их связанности единой фигурой автора все-таки не сопрягаются в эстетическое единство художественного мира. Ценностное уплотнение мира вокруг
«я» героя здесь совершается в каждом тексте отдельно, тогда как в
цикле мы имеем эстетическую целостность с общим «ценностным центром» сотворенного автором «я-в-мире». Ключом к серии
служит креативный образ автора (преимущественно жанровый);
ключом к циклу — рецептивный образ лирического героя.
И все же стихотворение цикла, обретающее возможную для
него полноту смысла только в «гравитационном поле» внутрициклового тяготения, своим эстетическим статусом существенно
отличается от строфы. Оно эстетически самодостаточно: по своей
целостности (как художественной модели присутствия «я» в мире)
оно эквивалентно всему циклу. В каждом таком стихотворении
лирический герой цикла может быть идентифицирован вполне
определенно, чего обычно нельзя сказать ни о какой строфе (не
самодостаточной части целого).
«Заблудился я в небе — что делать?..»
О. Э. Мандельштама
Иллюстрации к перечисленным ступеням градации обнаруживаются, например, в творчестве Мандельштама. Обращение за примерами к наследию одного автора целесообразно постольку, поскольку при сопоставлении подборок различных поэтов всегда имейся опасность смешения индивидуальных и типологических различий.
Стихотворение «Стансы» (1935) внешне напоминает цикл: строФы различной длины (4, 5 и 6 строк) пронумерованы римскими
Цифрами, как составные части «Армении» (1930); начало V стро6
*».«,
161
фы нарушает правило альтернанса, как если бы она была самостоятельным стихотворением, и т.д. Стансами в обыкновенном
значении этого термина «Стансы» не являются. Однако перед нами
все же единое целое, наименование которого отсылает читателя к
прецеденту лирического приятия неблагоприятных политических
обстоятельств — к общеизвестным «Стансам» Пушкина («В надежде славы и добра...»). В ходе развития этой поэтической мысли
ни одна из строф не обретает автономии, достаточной для ее
идентификации в качестве отдельного стихотворения.
«Отрывки уничтоженных стихов» (1931), исходя из названия,
считаются циклом. Однако отрывочность (намеренная) составных
частей этого произведения столь велика, что не позволяет воспринимать их как законченные тексты. «Зияния» между ними равноценны содержательно значимым паузам внутри единого стихотворения, тогда как компоненты микроциклов монтажного типа
при всей тесноте их взаимосвязанности представляют собой уже
конструктивно законченные тексты.
Классическим циклом интегративного типа в творческом наследии Мандельштама можно признать цикл «Армения». Эти 12
стихотворений самостоятельны по форме (ритмически однородны только два начальных текста) и самодостаточны по смыслу.
В то же время, пронизанные множеством общих мотивов, они
спаяны в разноголосое единство схождения, взаимотяготения, где
один текст поясняется, восполняется, поддерживается другим.
Так, осъмигранные соты из четвертого стихотворения (пчелиные соты, как известно, бывают только шестигранными) понятны лишь благодаря первому стихотворению, где говорится об осьмигранных мужицких церквах. А близорукость армянского неба из
одиннадцатого стихотворения расшифровывается в двенадцатом:
при виде этой яркой лазури скорей глаза сощурь, / Как близорукий
шах над перстнем бирюзовым. Якорные пни из седьмого стихотворения знаменательно перекликаются с удаленностью горной страны от моря (Вдали якорей и трезубцев) из второго текста и т.д.
Словосочетание бычачьих церквей из начальной строфы первого
стихотворения обретает смысл только благодаря автоэпиграфу к
циклу в целом:
Как бык шестикрылый и грозный,
Здесь людям является труд,
И, кровью набухнув венозной,
Предзимние розы цветут.
Это четверостишие, как свидетельствует И.М.Семенко, выделилось в ходе работы над «зародышевым» произведением цикла1.
'См.: С е м е н к о И.М. Поэтика позднего Мандельштама: От черновых редакций — к окончательному тексту. — М., 1997.
162
Оказавшись последней строфой первоначального текста, оно заключило в себе настолько емкий авторский образ Армении, что
было вынесено на привилегированное место в цикле. В итоге весь
поэтический ансамбль предстал как последовательное развертывание этого первообраза и проецирование его на собственную
жизнь лирического субъекта.
Первые два стихотворения «Армении», написанные трехстопным амфибрахием, легко можно объединить в одно. Отмежевание
второго текста от первого, мотивированное мысленным перенесением за гору, задает интенцию множественности, тогда как непосредственное продолжение первого вторым задает интенцию
единства. Для интегративного цикла уравновешенность этих интенций обязательна.
Она явственно обнаруживается в третьем тексте. При совершенно новом тематическом повороте к собственной бестолковой
жизни лирического «я», при новом и неожиданном ритмическом
рисунке, при новой строфике, имитирующей восточные бейты,
это стихотворение воспроизводит целый ряд мотивов, завязавшихся в двух предыдущих. Таковы, в частности, мотивы дистанцированное™ от Армении из первого стихотворения и потрясенной встречи с нею из второго; хриплая охра из первого и лев с
цветным пеналом из второго; мотив не пролитой крови (развитие не
волнуемой крови из второго); соединение зверушек-детей и картинки (из первого) в детский рисунок льва, а также окказиональная оппозиция замороженного винограда — москательному пожару.
Ярко явленное в третьем стихотворении элегическое сопряжение личного и преходящего с природно-народным и вечным становится ключом ко всему циклу, составленному столь плотно,
что еще полудюжине поэтических текстов армянской тематики,
написанных тогда же в Тифлисе, так и не находится в нем места.
Все эти стихи тоже можно было бы рассмотреть вместе с разделами «Армении» в качестве цикла, но уже только суммативного.
Следует указать два основных пути возникновения лирического цикла. Для одного из них творческая история «Армении» весьма показательна. По наблюдению И.М.Семенко, «главные темы
цикла уже содержатся в перестроенном затем стихотворении, предшествовавшем его созданию и ставшем для него основой ("Ломается мел и крошится...")». В окончательном варианте этот сильно
видоизмененный текст «содержит пять строф. Остальные строфы
и их варианты послужили для самостоятельных стихотворений все
Увеличивающегося цикла»1.
Здесь отдельные компоненты ансамбля не утрачивали свою
идентичность в рамках организованного автором контекста понимания, а напротив, строфы возникающего, становящегося цело1
С е м е н к о И.М. Указ. соч. — С. 31, 42.
163
го приобретали самостоятельную идентичность. В рамках цикла
сохранились, однако, лишь такие тексты, самодостаточность которых не взрывала это целое изнутри. Некоторые стихотворения в
процессе нарастания их самоидентичности ушли слишком далеко
и оказались за пределами цикла.
Иной путь возникновения циклического ансамбля явлен Мандельштамом в «Переводах из Франческо Петрарки». Хотя здесь
автору удалось в отличие от большинства профессиональных переводчиков с итальянского создать виртуозные образцы русского
силлабического стиха, соответствующего ритмическому строю
оригинала, эти переложения являются не столько переводами,
сколько вариациями на задаваемую эпиграфом поэтическую тему.
При этом стихотворения, выхваченные из двух различных серий
сонетов (первое, второе и четвертое — из книги стихов «На смерть
мадонны Лауры», а третье — из книги «На жизнь мадонны Лауры»), Мандельштам располагает в строго выверенном порядке,
напоминающем музыкальную композицию: анданте — аллегро —
скерцо — кода. Здесь избранные для творческого «пересказа» сонеты благодаря сквозным повторам, а также вследствие композиционной их интегрированное™ в значительной степени утрачивают ту самоидентичность, какой они обладали бы в сериях.
Примером суммативного цикла у Мандельштама следует признать «Восьмистишия». Простая серийность повторяющейся строфической формы здесь осложнена нехронологической последовательностью текстов. В их расположении обнаруживается пунктирная нарративизация дуговой растяжки поэтической мысли: преодолев затверженность природы, — я выхожу из пространства, —
дабы прочесть учебник бесконечности.
Серийным (но не жанрово-тематическим, а упорядоченно хронологическим) ансамблем текстов явилась первая книга стихов
Мандельштама «Камень». Придавая весьма существенное значение ее составу, поэт неоднократно менял его при переизданиях,
что равным образом свидетельствует как о неслучайности организуемого автором контекста, так и о высокой мере самостоятельности составляющих его стихотворений.
Наконец, книгу «Стихотворения» 1928 г., раздел которой составил и «Камень», можно рассматривать в качестве авторской
инсталляции поэтом своего творчества.
Особое место в поэтическом наследии Мандельштама занимают лирические монтажные композиции «Соломинка» (1916),
«Я не знаю, с каких пор...» и «Я по лесенке приставной...» (1922),
«Ариост» (1933— 1935), «Заблудился я в небе — что делать?..» (1937).
Эти, по слову их автора, «двойчатки» представляют собой своеобразные палимпсесты 1 : во вторых текстах сохраняется целый
164
ряд стихов, полустиший, отдельных слов, уже употребленных в
первом тексте (второе стихотворение «Соломинки» состоит более чем на половину из такого рода повторов).
В палимпсестных микроциклах такого рода эффект проступания первоначального текста сквозь обновленный напоминает соотношение черновика с чистовиком (ср.: Я скажу это начерно,
шепотом, / Потому что еще не пора) и создает концептуально
значимое семантическое напряжение между двумя стихотворениями. Сведение их в один текст или разведение в два самостоятельных текста привело бы к утрате такого напряжения. Сам поэт называл непрямой путь к поэтической цели «законом парусного
лавирования», которым, на его взгляд, искусно владел Данте:
«Черновики никогда не уничтожаются. <...> Сохранность черновика — закон сохранения энергетики произведения. Для того чтобы
прийти к цели, нужно принять и учесть ветер, дующий в несколько иную сторону»2.
Монтажное объединение «черновика» с «чистовиком» приходится анализировать как единое произведение, не упуская при
этом из виду, что мы имеем дело не с одной, а с двумя завершенностями: предварительной и окончательной.
Рассмотрим «высокое парусное искусство» непрямых художественных высказываний, о котором Мандельштам размышлял в
«Разговоре о Данте», на следующем примере из его собственной
лирики:
Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко, — ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.
Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.
Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски...
И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Пусть раздастся и шире и выше —
Отклик неба — во всю мою грудь.
т
1
Палимпсест — рукописный текст, нанесенный поверх предыдущего (смыого, соскобленного, стертого) текста.
2
М а н д е л ь ш т а м О. Слово и культура. — С. 127.
165
Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко, — ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть,
Задыхаться, чернеть, голубеть.
Если я не вчерашний, не зряшний, —
Ты, который стоишь надо мной,
Если ты виночерпий и чашник —
Дай мне силу без пены пустой
Выпить здравье кружащейся башни —
Рукопашной лазури шальной.
Голубятни, черноты, скворешни,
Самых синих теней образцы, —
Лед весенний, лед вышний, лед вешний —Облака, обаянья борцы, —
Тише: тучу ведут под уздцы!
Общее начало обоих текстов создает лирическую ситуацию
раздорожья, путевой развилки между смиренным нисхождением и гордым восхождением. На первом пути лирический субъект
отказывается от венчаемого остроласковым лавром воспарения
к поэтическим высотам, отказывается от дантовской линии творческого поведения — ради идиллической причастности к земной жизни. Здесь ему достаточно небесного отклика на его земное бытие.
В строфике второго стихотворении не случайно появляются
терцины: лирический субъект примеряется к героическому пути
Данте. Это означает в его понимании обращение к поэтической
мужественности, к скачке по ступенями Дантовых небес, к рыцарственному служению словом высшим силам бытия.
Если первое стихотворение знаменует отказ от позиции поэтического борения ради дружеского единения со всеми живущими,
то второе заключает в себе пересмотр этого решения: жажду испытания на незряшность, прошение о высокой роли в миропорядке, готовность к горней рукопашной, готовность оседлать боевого Пегаса (в символическом облике облака-борца).
Эти два самоопределения лирического героя иерархически соотнесены (как менее достойное и более достойное) авторской
интенцией, проявляющейся не только в последовательности субтекстов микроцикла, но и в особенностях организации различных
уровней двусоставного художественного целого. Остановимся на
моментах его субъектной организации.
Оба стихотворения содержат по 16 строк, однако их строфическая композиция заметно разнится: срединные катрены пре166
образуются в дантовы терцеты, а начальный и конечный утяжеляются до пятистиший. Складывается композиция одновременно и более симметричная в противовес простому ряду четверостиший и более напряженная, взрывная. Она выделяет девятый
стих, приходящийся на разлом между терцетами и отсылающий
к Дантову числу девять. Именно в девятом стихе первого субтекста содержался отказ от притязаний на героическую долю поэта
(Не кладите...), тогда как в этом месте второго стиха как раз и
звучит возвращенное притязание: Дай мне силу...
Эти ключевые начальные слова девятого стиха второго стихотворения отмечены и ритмическим курсивом: два сверхсхемных
ударения в первой стопе. Ритмический курсив противоположного
свойства — трибрахий (отсутствие ударений) в начальной стопе —
выделяет тринадцатый стих первого субтекста: И когда я умру,
отслуживши... Семантическая контрастность (векторы восхождения к силе и нисхождения к смерти) этих ритмически оппозиционных строк очевидна.
Наиболее существенным для рассматриваемого микроцикла
следует признать еще один ритмический курсив — перемещение
ударения в первой стопе трехстопного анапеста на начальный слог.
Этим необычным ритмическим рисунком отмечен седьмой стих
второго субтекста: Ты, который стоишь надо мной...
По своей семантике данная строка контрастна пятому стиху
первого субтекста: Не разнять меня с жизнью: ей снится... (горизонтальной корреляции со спящей жизнью противополагается
вертикальная — с Богом). Характерно, что в ритмотектонике
микроцикла строка о жизни тоже выделена: ее ритмический
рисунок совпадает только лишь с начальной вопросительной
строкой обоих стихотворений. Таким образом, нераздельность
с жизнью не является выходом, не может служить ответом на
вопрос что делать! Достойный ответ подыскивается во втором
субтексте.
При рассмотрении в аспекте поэтической глоссализации части
микроцикла также оказываются несколько разнящимися своими
фонологическими структурами.
В ударных положениях первого субтекста доминирует фонема И. Она встречается 20 раз (при 14 ударных А). Во втором стихотворении конструктивные роли этих фонем уравниваются: повторяемость И ослабляется до 16, тогда как повторы ударной А
возрастают до 17 и формально выводят ее на лидирующую позицию.
Титульным словом анаграмматического повтора И в первом
стихотворении является, несомненно, жизнь. Подкрепленный еще
16 гласными верхнего подъема (фонема У семантизирована, в частности, словом живущих) этот повтор явственно доминирует над
Фонемой А, которая здесь, как и в большинстве стихотворений
167
на русском языке, анаграмматически представляет лирическое Я.
Отдача себя жизни и неизбежной в ее конце смерти (умру) прозрачно мотивирует такое соотношение ключевых гласных «черновика».
В «чистовике» анализируемой «двойчатки» фонема И семантизирована иначе — обращением к Богу (горнему Ты), который в
контексте микроцикла выступает окказиональным антонимом
дольней жизни. При этом анаграмма лирического Я активизирована и уравновешена с ассонансной анаграммой Ты. Отмеченные
смещения фонологической структуры текста не являются резкими, альтернативными, но тем не менее достаточно явственно
манифестируют перемену позиции лирического субъекта.
В консонантной подсистеме рассматриваемой структуры привлекают внимание следующие тенденции перехода от «черновика» к «чистовику»: сокращение количества свистящих фонем (с 34
до 26), рост числа шипящих (с 15 до 21), а также Н (с 21 до 27).
И эти тенденции анаграмматически семантизированы.
Повтор 3/С, наиболее сгущенный во второй строфе первого
субтекста (12), соотносится с ностальгическим мотивом флорентийской тоски, переполняющей глаза и глазницы. Очевидно, что
данный повтор во втором стихотворении в соответствии с его
смыслом должен был быть ослаблен.
Понятно и нагнетание шипящих во втором субтексте (пик этого повтора также приходится на вторую строфу). Титульными словами анафамматизации шипящих здесь выступают неожиданные
поэтические предикации Бога: виночерпий и чашник, тогда как ключевое слово «черновика» — жизнь — объединяло в себе шипящую
и свистящую согласные.
Наконец, нарастание повторов фонемы Н ведет к еще одному
ритмическому курсиву текста — строке о тверди небесной: лед
весенний, лед вышний, лед вешний, — тверди, знаменующей горнюю направленность поэтического порыва, собственно, и составляющего содержание переиначивания первоначального текста.
Главенствующая роль второй части «двойчатки» очевидна. Достаточно поменять стихотворения местами, и мы получим диаметрально противоположный итоговый смысл. Но, сохранив в качестве чистовика только второй текст и отбросив первый как черновой вариант, мы радикально ослабим энергию волевого выбора
лирического «я». Ностальгическая тоска личности по земной дружественности всем живущим не отменяется вторым текстом: она
приносится в жертву сверхличному порыву как самое дорогое.
Своеобразная архитектоника «строительной жертвы» такого рода
составляет двуединую архитектонику художественной целостности этого циклоидного палимпсеста. Данный пример наглядно иллюстрирует начальную ступень перехода от единичного художественного целого — к циклическому.
168
«Опыт драматических изучений» А. С. Пушкина
Отношение к «маленьким трагедиям» Пушкина как к авторскому циклу является общим местом пушкиноведения1. Но при этом
они рассматриваются даже столь авторитетным пушкинистом,
каким был С.М.Бонди 2 , или столь тонким интерпретатором, как
Ст. Рассадин 3 , скорее как суммативное образование, чем как единое интегративное целое. К такому пониманию подталкивают и
прижившееся «неправильное» (Ю.Н.Тынянов) наименование
цикла, и разрозненная прижизненная публикация составных его
частей. Однако эти случайные обстоятельства не должны заслонить от нас подлинную архитектонику одного из поразительных
феноменов пушкинского творчества, смысл которого существенно деформируется при раздельном прочтении текстов.
Попытки выявить межтекстовые связи, организующие целое
цикла, уже предпринимались. Так, например, A.M.Гаркави усмотрел в расположении пушкинских пьес градацию страстей4, а остроумные наблюдения Е.М.Таборисской привели ее к выводу,
что пушкинский драматургический цикл «оказывается построенным подобно катрену, где равно важны и гармонично уравновешены связи между всеми четырьмя стихами»5.
Систему органичных сцеплений цикла наметил Ю. М.Лотман,
полагавший, что «смысловой центр» всех четырех текстов «образуется мотивом, который можно было бы определить как "гибельный пир". <...> В "Скупом рыцаре" пир Барона состоялся, но
другой пир, на котором Альбер должен был бы отравить отца,
лишь упомянут. Это произойдет в "Моцарте и Сальери". <...> Пир
Моцарта в "Золотом Льве", его последний пир, совершается не в
обществе друга-музыканта, как думает Моцарт, а каменного гостя»6, чье появление уже предсказано в новом музыкальном опусе
1
См., например: Г у к о в с к и й Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. — М, 1957.— С. 2 8 0 - 3 2 8 ; У с т ю ж а н и н Д. «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина. — М., 1974; П о д д у б н а я Р.Н. От цикла трагедий к роману-трагедии
(о некоторых особенностях поэтики «маленьких трагедий» А.С. Пушкина) // Филологические науки. — 1982. — № 3; О д и н о к о е В.Г. Художественно-исторический опыт в поэтике русских писателей. — Новосибирск, 1990. — С. 138— 145.
2
См.: Б о н д и С М . Драматургия Пушкина. «Моцарт и Сальери» // БонДИС.М. О Пушкине. - М., 1978.
3
См.: Р а с с а д и н Ст. Драматург Пушкин: Поэтика, идеи, эволюция. — М.,
1977.
4
См.: Г а р к а в и A.M. «Маленькие трагедии» Пушкина как драматургический цикл (композиция в связи с жанром и художественным методом) // Сю* е т и композиция литературных и фольклорных произведений. — Воронеж, 1981.
Т а б о р и с с к а я Е.М. «Маленькие трагедии» Пушкина как цикл // Пушк
Инский сборник. — Л., 1977. - С. 140.
6
Л о т м а н Ю . М . В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. —
С
- 131, 132, 136, 139.
169
гения {Я весел... Вдруг: виденье гробовое, / Незапный мрак иль чтонибудь такое). «Инфернальный пир в присутствии смерти проходит в "Каменном госте" дважды: он как бы репетируется у Лауры,
где Дон Альвар замещен его угрюмым братом»; наконец, «цикл
маленьких трагедий завершается пьесой, в которой образ пира
становится смыслоорганизующим центром»1.
Рисуя титульный лист будущей, как мыслилось автору, единой
книги, Пушкин записывает на нем серию возможных названий:
первоначальное «Драматические сцены» — в центре листа; пришедшее позднее «Драматические очерки» — справа у края; ниже
с правой стороны — «Драматические изучения» (последнее слово
подчеркнуто как счастливо найденное); наконец, еще ниже —
«Опыт драматических изучений» с завершающим росчерком под
ним. Если первые три наименования были суммативны и могли
не предполагать принципиального внутреннего единства цикла,
то последняя проба заглавия как раз выявляет такое изначально
предполагавшееся единство.
Позднее, перечисляя в письме П. А. Плетневу от 9 декабря 1830 г.
созданное в болдинскую осень, Пушкин напишет: «Несколько
драматических сцен, или маленьких трагедий...» В данном контексте слова «маленькие трагедии» служат всего лишь разъяснением
эстетической тональности неожиданных для адресата текстов. Окончательным авторским заглавием цикла они служить не могут. Всего лишь за две недели до этого письма Пушкин в набросках статьи
«О народной драме и о "Марфе Посаднице" М. П. Погодина» проводит достаточно четкую в его понимании грань между трагедией
и драмой. «Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и
народ — Судьба человеческая, судьба народная», тогда как исторически более молодая драма «стала заведовать страстями и душою человеческою». Совершенно очевидно, что первая формулировка столь же мало применима к «Моцарту и Сальери», сколь
она точна по отношению к выходящей в эти самые дни из печати
трагедии «Борис Годунов». Зато характеризующие драму пушкинские слова: «истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» — как нельзя лучше приложимы к
его «сценам», сочиненным в Болдине. Позднее, при публикации
«Скупого рыцаря» в «Современнике», Пушкин назовет его отрывком из «трагикомедии», что в контексте литературного сознания романтической эпохи практически соответствовало характеристике драмы.
Итак, заглавием, наиболее отвечающим авторской интенции
художественного единства сюжетно разнообразных драматургических текстов, следует признать «Опыт драматических изучений»6
Л о т м ан Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь.
С. 142.
170
о чем Валерий Брюсов заговорил еще в год постановки этого произведения на сцене МХТ1. Но к его голосу не прислушались.
Последнее слово авторского заглавия явственно предполагает
вопрос о едином предмете таковых «изучений»: что «изучается»
посредством обнаружения драматических конфликтов в диалоговой композиционной форме? «Страсти человеческие» или же, как
полагал Брюсов, «самая драма, драматическая форма». Но это было
бы ответом слишком общим, характеризующим пушкинский
«Опыт» как архаичный феномен суммативной циклизации без
единого метасюжета (сюжета сюжетов). Между тем, как мы попытаемся показать ниже, этот пушкинский цикл является художественным образованием принципиально иной природы: произведением произведений.
Общим конструктивным моментом всех четырех «сомножителей» транстекстуального художественного целого выступает драматическое столкновение сознаний. Это тем более заметно и существенно, что в цикле практически отсутствует столь естественная для драмы любовная интрига; даже в «Каменном госте» не
она является определяющей, но интеллектуальная интрига жизненных позиций. Дуэль сознаний — своего рода сублимация не
состоявшегося в первой пьесе поединка отца и сына — пронизывает все частные сюжеты цикла.
По рассуждению Л.Е.Ляпиной, «напряжение между "заданием" цикловой структуры <...> и родовой спецификой драмы <...>
разрешается в усилении, акцентировании идеологического стержня цикла», в «установке на философизм проблематики», что
после Пушкина становится определяющей чертой драматургического цикла даже «и у авторов второго ряда»2. В этом рассуждении
заключено верное указание на специфику анализа драматургических текстов вообще.
Данный род литературного письма состоит в сталкивании различных манер мышления, воззрений на мир, ценностных позиций. Он обращен не столько к внутреннему слуху (это остается
отличительной чертой лирики) или внутреннему зрению читателя
(что характеризует эпику), сколько к его внутренней речи, смыслосообразно воспроизводящей ментальное поведение героев, обменивающихся речевыми жестами.
В малоизвестной статье 1920-х годов М.Столяров обратил внимание на коллизию сознаний как фундаментальную особенность
болдинской драматургии Пушкина: «Сальери — сознание, замкнутое во внутрь; Моцарт — сознание, раскрытое во вне. Один —
в вечном монологе, сосредоточенном и мрачном, другой — в не1
См.: Б р ю с о в В.Я. Маленькие драмы Пушкина // Русский вестник. —
1 9 1 5 . - № 6 7 . - 2 2 марта.
2
Л я п и н а Л. Е. Указ. соч. — С. 211.
171
прерывном диалоге»1. Причем центральным «героем» цикла, подлинным предметом «изучений» оказывается здесь именно уединенное сознание. Циклизация «драматических изучений» вокруг
проблемы уединенного сознания делает неслучайной западноевропейскую локализацию всех сюжетов «Опыта». Для западной культуры актуальность данной проблемы наступила гораздо раньше;
в русской культуре до Пушкина еще никто не ставил ее столь
остро и значимо.
Согласно убедительному рассуждению B.C.Непомнящего,
в драматургии Пушкина «трагическим сознанием обладают только герои, но не автор. Причем трагическое сознание Барона, Сальери и других героев (ставящих свое " я " в центр вселенной и с
позиции своих интересов оценивающих и попирающих весь миропорядок) только <...> в "низшем" смысле является субъектом
действия; в "высшем" же смысле такое сознание является объектом изучения»2.
Таков прежде всего Барон из «Скупого рыцаря» — доведенная
до аллегорической обобщенности фигура субъекта уединенного
сознания (напомним, что Герцог в пьесе рассуждает о губительности «уединенья»). Как справедливо пишет А. И. Иваницкий, «отмыкая сундуки, Барон снова и снова инсценирует в воображении
конец мира во главе с собою», поскольку «в золоте герой получает власть над пространствами и временами и сводит их в единый
континуум с собою в центре»3.
На примере этого персонажа выделим некоторые важнейшие
в понимании Пушкина особенности данного способа духовной
ориентации человека в мире.
Уединенное сознание не связано моральными запретами и установлениями; оно демонично в своей свободе преступать любые
границы, совмещая, как это делает Барон в своем монологе, вольный гений с окровавленным злодейством (Моцарт, как известно,
назовет их несовместными). Вознес мой холм, — говорит Барон о
себе, и — как некий демон / Отселе править миром я могу. «Демонический» мотив связывает все четыре части цикла. В частности,
Дон Карлос называет Лауру милым демоном, та, в свою очередь,
Дон Гуана (которому, словами Лепорелло, помог лукавый) называет дьяволом, а Дона Анна Дон Гуана — сущим демоном; Луиза
видит ужасного демона в негре, управляющем телегой с мертвыми телами; Сальери и Моцарт прямо демона не упоминают, но
первый слышит шепот искушенья, а второму видится преследующий его черный человек.
' С т о л я р о в М. Могила Пушкина // Россия. — 1924. — № 2. — С. 159.
Н е п о м н я щ и й В. Поэзия и судьба. - М., 1987. — С. 307.
И в а н и ц к и й А. И. Исторические смыслы потустороннего у Пушкина:
К проблеме онтологии петербургской цивилизации. — М., 1998. — С. 23, 24.
2
3
172
Поскольку никакого иного сознания, никакой другой личности уединенное «я» всерьез не принимает, поскольку оно принципиально безответственно, постольку и не ведает потребности
доказывать другим собственное могущество. Оно нередко удовлетворяется своей потенциальной мощью, не стремясь к ее внешней
реализации:
Мне все послушно, я же — ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья...
Важнейшая нравственная характеристика предмета пушкинских
«драматических изучений» состоит в том, что в поле уединенного
сознания, формирующего свой собственный, обособленный, суверенный мир, все иные личности предстают не как субъекты
равноправных сознаний, но как обезличенные объекты мысли
одинокого «я». Так золото, этот традиционный объект присвоения, легко становится в глазах Барона эквивалентом человеческих
забот, I Обманов, слез, молений и проклятий.
Альбер противостоит отцу как носитель сознания, ориентированного не на себя, а на окружающих его «других». Не случайно
Барон характеризует его не только как безумца (т.е. субъекта иной
ментальное™ — безумцем он и сам выглядит в глазах сына и герцога), но и как собеседника (развратниковразгульных). Причем «другие» для Альбера не только рыцари, дамы и герцог, но и, например, больной кузнец, которому была дарована последняя бутылка вина. Ориентируясь на моральное сознание анонимного «другого», Альбер отказывается от столь необходимых ему денег, которые будут пахнуть ядом.
Для художественной концепции пушкинской драмы весьма
существенно, что сознание не старшего (Барон и Соломон), а
именно младшего поколения (Альбер и Герцог) вполне еще приобщено к патриархальной системе моральных ценностей. Этой
патриархальностью сознания объясняется недогадливость молодого рыцаря, с трудом постигающего смысл намеков Соломона,
тогда как Барон с его индивидуалистическим миропониманием
давно уже предполагает в сыне замысел отцеубийства.
Показательно, что в момент потрясения, вызванного демоническим искушением Соломона, Альбер мыслит о себе, подобно
малому ребенку, в третьем лице: Как! отравить отиа! и смел ты
сщу... Лишь после этого, опомнившись, он возвращается к первому лицу: И смел ты мне!.. Зеркально инверсированным отражением этого восклицания воспринимается реплика потрясенного
Барона, начинающаяся, напротив, с первого лица и только впоследствии перефразируемая в третьем лице с ориентацией на ролевые отношения авторитарного миропорядка:
173
Ты здесь! ты, ты мне смел!..
Ты мог отцу такое слово молвить!..
Мне, мне... иль уж не рыцарь я?
Сознание сына, руководимое стыдом перед дамами и герцогом,
в основе своей доличностное, авторитарно-ролевое. Оно отнюдь
не созвучнее авторскому менталитету, нежели индивидуалистически-личностное сознание отца. Не Альбера, а Барона наделяет
Пушкин глубиной мысли и чувства: демоническая красота поэтичности пронизывает монолог скупца-затворника, который
выступает носителем исторически более зрелого сознания.
Мера добродетельной невинности молодого рыцаря оказывается одновременно мерой неразвитости его личности. Патриархальные устои юного сознания на поверку оказываются непрочными: они легко разрушаются ложью отца, что и позволяет Альберу поспешно принять отцовский вызов. Это уже жест уединяющейся в своем самосознании личности. Не случайно здесь впервые появляется реплика «в сторону», необычность которой для
Альбера1 (а также «западность» самой культуры уединенного сознания) подчеркнута французским написанием: a parte.
Пьеса завершается в тот самый момент, когда конфликт менталитетов исчерпывает себя и переходит в простое противостояние индивидуальностей. Организующее драматический «эксперимент» сознание автора не просто возвышается над сознаниями
персонажей. Оно в равной степени приемлет оба способа духовного самоопределения, участвующие в художественном эксперименте:
один — патриархальный — за его моральную чистоту, второй —
индивидуалистический — за его личностность. Но в равной же
степени автору очевидны ущербная неполнота обеих правд, ограниченность обеих жизненных позиций.
Ментальное новаторство авторского сознания в данном случае
не может быть сведено к так называемому протеизму Пушкина.
Здесь имеет место не монологическое перевоплощение то в одного актанта с его частной правдой, то в другого, а нечто гораздо
более значительное в плане становления национальной и общечеловеческой ментальное™: диалогическое сопряжение двух взаимоотталкивающихся типов сознания в поле третьего сознания
(небывалого в допушкинской литературе духовного строя). Это
позволило Е. А. Маймину усмотреть в «драматических сценах» Пушкина истоки полифонического романа Достоевского2.
1
Невозможно согласиться со Ст. Рассадиным, полагающим, будто Альбер
«каким был в начале трагедии, таким и остается в финале» ( Р а с с а д и н Ст. Указ.
соч. - С. 79).
2
См.: М а й м и н Е.А. Полифонический роман Достоевского и пушкинская
традиция // Культурное наследие Древней Руси. — М., 1976.
174
В общем метасюжете цикла — сюжете взаимоотношений разнородных ментальностей — особая концептуальная роль принадлежит своего рода сократическому диалогу «Моцарт и Сальери»,
где «обнажаются предельные грани человеческого духа»1. «Сальери» (именно так Пушкин сокращенно обозначил это свое творение в перечне состава будущей книги) — это единственное из
«драматических изучений», где ролевое и уединенное сознания
не соотнесены с разными персонажами, а сведены в одном. Из
монолога Сальери мы узнаем о его эволюции от авторитарного
мироотношения жреца, служителя музыки к позиции внутренне
уединенного завистника, разуверившегося в верховной правде.
Причем новое состояние его духа отнюдь не отвергает прежнего,
а вбирает его в себя, надстраивается над авторитарностью жреческого служения в тишине и тайне, жреческой нелюбви к несносной жизни. Поэтому убийство Моцарта, являющееся типичным актом уединенного сознания (больно и приятно. <...> Как будто нож целебный мне отсек / Страдавший член), Сальери осмысливает в категориях сознания авторитарного: Как будто тяжкий
совершил я долг.
Ментальная динамика жизненной позиции Сальери — прямое
продолжение аналогичной динамики, явленной в фигуре Альбера.
С последним мы расстаемся на пороге его нового (уединенного)
способа присутствия в мире, открывающего путь к преступлению
(преодолению морального запрета). С Сальери же мы встречаемся
уже как с носителем уединенного сознания, делающего этого хранителя музыкальных сокровищ художественно эквивалентным
скупому рыцарю и одновременно освобождающего его от моральных запретов. Начальным рубежом текста оказывается дезактуализация высшей (авторитарной) правды, оборачивающаяся эгоцентрической установкой «любой ценой утвердить свою непогрешимость»2; о предыдущей стадии интеллектуальной жизни героя мы
узнаем только из его монолога.
Однако и в этой пьесе антитеза сознаний взаимодействующих
лиц несомненна. Сознание гуляки праздного, каковым Сальери,
но не сам автор, видит Моцарта, не праздно, а празднично3. Праздничность же не совместима ни с уединенностью, ни с усильным,
напряженным постоянством ролевого служения; она — поистине
«соборна», предполагает диалогическую конвергенцию (схождение) многих.
Источник томления Сальери — непостижимость для него божественного величия Моцарта, который обладает могучим само1
Булгаков С.Н. Моцарт и Сальери // Пушкин в русской философской
критике. - М, 1990. - С. 294.
2
Ч у м а к о в Ю.Н. Стихотворная поэтика Пушкина. — СПб., 1999. — С. 299.
3
Там же. — С. 300.
175
стояньем (в противовес самоотверженью Сальери), хотя вовсе не
озабочен при этом утверждением себя. Моцарт неуловим для алгебраической мысли, не может стать ее овнешненным, опредмеченным объектом, хотя бы и объектом обожествления. «Сознание
Сальери не может вместить Моцарта»', — не убив. В чем же художественная тайна этой особенной для всего цикла фигуры?
Музыкальный гений Моцарта передать литературными средствами невозможно, да в этом и нет необходимости, поскольку
пушкинская тайна «моцартианства» сокрыта не столько в новизне моцартовой музыки, сколько в новизне его менталитета. Жизненная позиция Моцарта не принадлежит ни авторитарному, ни
уединенному сознанию. Особенность этого персонажа именно в
том, что его «я» не мыслит себя вне соотнесенности с «ты» — не
с анонимным множеством других (ориентация Альбера), а с самобытной личностью своего другого.
Сальери безоговорочно признает священный дар, бессмертный
гений Моцарта. Но этого гения, вопреки романтическому пониманию гениальности как обособленности, избранности, Пушкин
совершенно не показывает нам в одиночестве. То он играет с мальчишкой на полу, то отправляется к жене предупредить о своем
отсутствии за обедом, то увлекается игрой слепого скрипача, то
музицирует или пирует с Сальери. Наконец, даже в одинокие часы
бессонницы его сознания не покидает потенциальный слушатель:
Сальери, кому была адресована очередная безделица гения, или
черный человек (Всю ночь я думал: кто бы это был?), для которого
сочиняется реквием. Жизненная норма для Моцарта — причастность к какой-либо человеческой связи: С красоткой или с другом —
хоть с тобой... Разрыв же такой связи, минутная уединенность
рождает в его воображении виденье гробовое.
Таков диалогизированный строй сознания, вследствие которого Моцарт (как это вполне адекватно ощущается Сальери) всегда
больше самого себя, хоть сам того не знает. Духовное целое его
личности существенно обогащено причастными к нему другими
«я». Сальери же, в уединенности своего сознания опредмечивающий чужую личность, не умеет духовно обогащаться причастностью к жизни другого: Что пользы, если Моцарт будет жив?Сальери занимает вопрос пользы для себя, тогда как Моцарт не только
полагает пользу такого рода презренной, но и задается противоположным вопросом: И что ему во мне?
Живого Моцарта Сальери не в силах поверить алгеброй и опредметить, поскольку он и сам — неотъемлемая часть конвергентной (смыкающей в себе миры других «я») личности Моцарта. Союз,
' Ф е д о р о в В.В. Гармония трагедии («Моцарт и Сальери» А.С.Пушкина) //
Литературное произведение как целое и проблемы его анализа. — Кемерово,
1979.-С. 144.
176
связующий Моцарта и Сальери, поистине нерасторжим. Поэтому
осуществляемое Сальери убийство, как было сказано С.Н.Булгаковым и повторено неоднократно другими, оказывается формой
1
его собственного «духовного самоубийства» .
Мотив «двойного самоубийства» в этой трагедии подробно рассмотрен в одной из работ Ю.Н.Чумакова, в центре внимания
которой — мысль о том, что «перед нами не замаскированное
злодейство, а откровенно демонстративный, открытый акт, что
яд брошен в стакан прямо на глазах Моцарта»2,
В самом деле, после вопроса: правда ли, Сальери, / Что Бомарше кого-то отравил, и в ответ на утверждение Моцарта о несовместимости гения и злодейства Сальери произносит и совершает
следующее:
Ты думаешь?
(Бросает яд в стакан Моцарта.)
Ну, пей же.
Моцарт тотчас, не дожидаясь Сальери, выпивает этот стакан
за искренность союза двух сыновей гармонии, решительно прерывает ужин и говорит: Слушай же, Сальери, / Мой Requiem. И содержание фразы, и повтор частицы «же» ясно говорят о том, что
Моцарт своей игрой непосредственно отвечает на поступок друга.
Ты плачешь?— спрашивает он, не отрываясь от игры, словно предвидит именно такую реакцию слушателя (между тем Сальери плачет впервые). После этого Моцарт уходит, произнося: Прощай же!
Сальери лицемерно говорит ему: До свиданья.
Интерпретация Ю.Н.Чумакова, на наш взгляд, весьма убедительна вот в каком отношении: Моцарта этой пушкинской пьесы
немыслимо представить себе отказавшимся пить из подозрения,
о чем уже писал в свое время С. Н. Булгаков. Подобный отказ осуществим только с позиции субъекта уединенного сознания. Для
Моцарта же само желание друга устранить его (если желание действительно таково) уже равносильно гибели, поскольку его «я»
живо лишь в диалоге с «ты», в одиночном монологическом существовании оно было бы духовно мертво. Отсюда печальная нота
последней мысли Моцарта в тексте: Нас мало... (тогда как для
Сальери этого узкого: Мы все, жрецы, служители музыки, — более чем достаточно).
Авторитарное сознание догматически исходит из миропорядка — единого и единственного. Романтическое (уединенное) сознание видит особый мир в личности отдельного человека. Менталитет же моцартианского типа усматривает «мир» во всякой
духовно-содержательной связи одной личности — с другой лич1
2
Б ул га ко в С. Н. Указ. соч. — С. 300.
Ч у маков Ю.Н. Указ. соч. - С . 282.
177
ностью, во всяком межличностном (но не роевом) «мы». Жест
Сальери, бросающего нечто в стакан Моцарта, уже стал событием их интерсубъективного жизнесложения, и событие это должно
быть пережито сполна, каковы бы ни были его последствия. Такова логика сознания, конвергентного в своей диалогической открытости «другому».
Отсюда и озабоченность Моцарта фигурой черного человека,
остающегося для него непроясненным, закрытым для диалога,
«чужим другим». Однако угрожает Моцарту не эта псевдороковая
фигура, а личная инициатива «своего другого». Поскольку Моцарт внутренне вполне приемлет личность Сальери (в счастливом
настроении он твердит мотив из «Тарара»; последний его монолог
наполнен отголосками мыслей друга об избранности прекрасного
жрецов и чуждости их нуждам низкой жизни, о собственной счастливой праздности), постольку он не может не выпить и предложенный ему яд. Но самим своим приятием Сальери таким, каков
он есть, Моцарт опровергает самую основу «сальерианского» мироотношения и, по-сократовски выпивая яд 1 , диалогически утверждает собственную правду в сознании своего отравителя: Ужель
он прав, — восклицает Сальери после ухода Моцарта.
Последующая аргументация, уподобляющая правоту высокомерного «жреца» сказке тупой бессмысленной толпы, разрушительна
для уединенного сознания. О «самоубийстве» Сальери можно говорить, на наш взгляд, только в этом, ментальном, смысле. Что
же касается поведения Моцарта перед лицом открыто предложенной ему угрозы смерти, то оно аналогично тому, как для лирического героя пушкинского творчества, по мысли В.А.Грехнева,
«даже самоотказ» означает «не потерю себя», а «взлет на особую
духовную высоту, обретение себя в "другом"»2.
«Моцартианскую» идею Пушкина достаточно адекватно, нам
кажется, можно было бы высказать, например, такими словами:
«Эгоизм <...> прав, когда вдохновляется образом индивида, который поднимается вверх в соответствии с принципами жизни, развивая до предела собственное, уникальное и непередаваемое содержание»; однако, «стремясь как можно больше отделиться от
других <...> он падает опять <...> он уменьшается и теряется. Чтобы
быть полностью самими собой, нам надо идти в обратном направлении — в направлении конвергенции со всем остальным, к другому. Вершина нас самих, венец нашей оригинальности — не наша
индивидуальность (отдельность, уединенность. — В. Г.), а наша личность; а эту последнюю мы можем найти <...> лишь объединяясь
между собой»3.
'См.: Чумаков Ю.Н. Указ. соч. — С. 296.
Г р е х н е в В. А. Лирика Пушкина. О поэтике жанров. — Горький, 1985. — С. 232.
Т е й я р де Ш а р д е н П. Феномен человека. — С. 257, 258.
2
3
178
Такова была далеко обогнавшая духовные искания своей эпохи миросозерцательная тенденция пушкинского новаторства, воплотившаяся не только в художественном строе «Опыта драматических изучений» и в образе Моцарта, этом редчайшем случае
сюжетного инобытия авторского сознания, но и в целом ряде иных
произведений его позднего творчества, столь затрудненно воспринимавшихся современниками.
Однако главным предметом «драматических изучений» на всем
протяжении цикла остается уединенное сознание. Поэтому в пьесе
о Моцарте, как замечает Ст. Рассадин, именно «Сальери задает
тон. Он начинает вторую сцену, он ее заканчивает, он, наконец,
совершает главное деяние пьесы. <...> А Моцарт в основном оттеняет своими словами драматизм происходящего»1. Он даже появляется в пьесе после слов уединенного монолога: О Моцарт,
Моцарт! — так, как «вполне мог бы возникнуть в воображении
Сальери, в его разговоре с самим собой»2. Можно сказать, что
перспектива конвергентного сознания, олицетворяемая Моцартом, открывается сознанию уединенному как следствие его разрыва с авторитарностью. Но пушкинский Сальери останавливается на полпути и не совершает того шага из монологизма в
диалогизм, какой нежданно оказывается возможным для Дон
Гуана.
В «Каменном госте» циклообразующее противостояние догматической авторитарности ролевого сознания, с одной стороны, и
индивидуализма сознания уединенного — с другой, существенно
усложняется. На первый взгляд оба менталитета демонстрируют
здесь свою взаиморазрушительную силу: сокрушена добродетельность Доны Анны, для которой Дон Гуан — безбожный развратитель и сущий демон; но сокрушен и «демонизм» Дон Гуана, взывающего в финале к Богу и обретенному в лице Доны Анны символу добродетели. Однако на самом деле картина взаимодействия
сознаний в этой пьесе тоньше и сложнее; по характеристике
Ю.Н.Чумакова, она амбивалентна: «Нет настоящей борьбы: либо
судьба Дон Гуана полностью предначертана, либо герой находится в пустоте абсолютной свободы, отчего все происходящее кажется подобным сну»3.
Своеобразие коллизии менталитетов может быть мотивировано, в частности, тем, что мы имеем дело с моцартианским сюжетом, интерпретированным композитором в опере «Дон Жуан» и,
как полагал Пушкин, освистанным Сальери. Иначе говоря, пушкинская версия легенды о «Севильском озорнике» (Тирсо де Молина), о персонифицированном воплощении антиавторитарного
1
Р а с с а д и н Ст. Указ. соч. — С. 105, 106.
Там же. - С . 102.
3
Ч у м а к о в Ю.Н. Указ. соч. - С . 269.
2
179
поведения по художественной логике цикла озарена светом кон1
вергентного, диалогизированного, моцартианского сознания .
Гуан в трагедии Пушкина олицетворяет уединенное сознание,
чем художественно мотивирован, в частности, ночной колорит
2
всей пьесы . Женщины, которых он соблазняет, и мужчины, которых он убивает, — только жертвы новые его самовольной воли,
только объекты его индивидуалистического мироотношения. Не
случайно о северных красавицах Дон Гуан говорит: куклы восковые. Но таковы же в конечном счете для него и испанки. Если в
северных красавицах жизни нет, то у Инезы были помертвелые
губы, а голос тих и слаб — как у больной, однако соблазнитель
находил и в этом странную приятность.
Вам все равно, с него бы ни начать, / С бровей ли, с ног ли, —
иронически замечает Лепорелло, акцентируя (по воле автора)
«опредмечивающий» взгляд Дон Гуана на другую личность: достаточно и узенькой пятки — воображенье / В минуту дорисует остальное. Взгляд на человека с позиции уединенного сознания порождает замечательные своей «кинематофафичностью» слова пушкинского героя:
...Когда сюда, на этот гордый гроб
Придете кудри наклонять и плакать.
Дон Гуан не способен к сопереживанию чужому «я», поэтому
и говорит не о скорби — о красоте ее пластического выражения.
«Кудри наклонять», — писал Юрий Олеша, — это результат обостренного приглядывания к вещи, не свойственного поэтам тех
времен»3. И не случайно пушкинская строка заставляет Олешу
вспомнить о Блоке, чья лирика — апофеоз уединенного сознания, мучительно ищущего путей преодоления этой уединенности.
Менталитетом своим Гуан продолжает в рамках цикла линию
Барона, а не Альбера. Выстраивание ряда сыновей (Альбер, Гуан
и Моцарт), ряда отцов (Барон, Командор и Сальери) и сведение
содержательной основы цикла к «смертельному противостоянию
двух извечных мировых антитез — отца и сына»4 ошибочно, поскольку все три персонажа и первого, и второго рядов оказываются носителями различных жизненных позиций. А. И. Иваницкий
1
О моцартианских оперных аллюзиях в пушкинском тексте см.: Г а с пар о в Б. М. «Ты, Моцарт, недостоин сам себя» // Временник Пушкинской комиссии. 1 9 7 4 . - Л . , 1977.
2
Ср.: «Образ ночи тянется через всю художественную ткань "Каменного гостя", мерцает гранями смысла, оказывается одновременно угрожающим и влекущим» ( Ч у м а к о в Ю. Н. Указ. соч. — С. 269). Приглядевшись повнимательнее к персонажам пушкинского «Опыта», можно заметить, что его авторитарные и уединенные герои во всех пьесах цикла соотносятся как «дневные» и «ночные».
3
О л е ш а Ю. Ни дня без строчки. — М., 1965. — С. 209.
4
И в а н и ц к и й А.И. Указ. соч. — С. 19,25.
180
гораздо ближе к истине, когда утверждает, что «гуановский вызов
Командору имеет цель, схожую с бароновским "пиром" созерцания сундуков»1. При этом, однако, Дон Гуан своей активно направленной на окружающих жизнетворческой энергией очевидно
разнится с Бароном. Если Скупой олицетворяет «подпольный»,
или, пользуясь термином Юнга, интровертированный вариант
уединенного сознания, то Дон Гуан являет собой яркий пример
«наполеонического», экстравертированного типа уединенного
сознания.
Сопровождающий своего господина Лепорелло осуществляет
профанацию гуановского менталитета с точки зрения патриархально-ролевого сознания, продолжая тем самым в рамках цикла
линию Альбера. Дон Гуан для Лепорелло — подобный таким же,
как он, бессовестный, нахальный кавалер, пользующийся помощью лукавого, а Дона Анна — неотличима от прочих в ее положении: О вдовы, все вы таковы. Сам Лепорелло при этом — сторонник спокойной и законопослушной (не самовольной) жизни, которому сил уж нет быть причастным к авантюрам Гуана. Аи, аи...
Умру! — в ответ на кивок статуи звучит в устах Лепорелло пародийным предзнаменованием грядущей гибели центрального действующего лица.
Оба антагонистических типа сознания представлены в «Каменном госте» не единичными героями, а рядами персонажей.
Так, Лаура принадлежит, конечно, к ряду Дон Гуана. Ее расположение к Дон Карлосу — всего лишь властная направленность
уединенного сознания на свой объект. Отношение Лауры к нему
своевольно меняется едва ли не поминутно: сначала — велю тебя
зарезать; потом — останься у меня. Ты мне понравился; затем, с
появлением Гуана, — Извольте выйти вон; и, наконец, — Куда
я выброшу его? Героиня поистине осматривает тело безотносительно к личности (душе): И кровь нейдет из треугольной ранки, /
А уж не дышит — каково? Любовь Лауры — только гедонистическая устремленность субъекта к объекту, только сиюминутная самовольная прихоть, не ведающая ни прошлого, ни будущего. На
вопрос Карлоса, любит ли она Гуана, героиня отвечает:
В сию МИНУТУ?
Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя.
Теперь люблю тебя.
Но уже несколько мгновений спустя на вопрос вернувшегося
Дон Гуана, давно ли она любит Карлоса, Лаура ответит совершенно искренне: Кого? ты, видно, бредишь. Ведь Карлос к этому
моменту уже мертв, т.е. в качестве объекта для любовно-гедонистического чувства уже не существует. Дона Анна, напротив, по4
И в а н и ц к и й А.И. Указ. соч. — С. 50, 51.
181
лагает, что должна и гробу быть верна, видя в муже — живом или
мертвом — партнера по социальной роли.
Лаура не просто принадлежит к раду субъектов уединенного
сознания, друзей Дон Гуана, как называет она своих гостей. Именно
она, а не Гуан, отступающий от своего эгоцентризма и гибнущий
с именем Доны Анны на устах, главенствует в этом раду персонажей, подобно тому, как Командор возглавляет ряд субъектов ролевого сознания. Показательна в этом отношении перекличка ремарок: Статуя кивает в знак согласия и Лаура делает утвердительный знак.
Очевидно, что Дон Карлос (угрюмый гость Лауры) выступает
носителем того же догматически-ролевого строя мышления, что
и Командор или Дона Анна в начале пьесы (на коленях / Пред
мраморным супругом). Беседа Карл оса с Лаурой — глухое столкновение сознаний, между которыми полностью отсутствует взаимопонимание. Каждый из собеседников, не постигая чуждости другого, включает его в свою систему ценностей: Лауре Карлос напоминает Гуана, между тем как они антиподы; Карлос же беседует с Лаурой о пугающей перспективе одинокой старости, пытаясь, надо полагать, склонить ее к мысли о законном браке, привести к ролевому самоопределению. Два противоположных менталитета сталкиваются в «диалоге глухих».
Напротив, Гуан и Лаура являют собой носителей единой ментальности. Здесь диалог излишен и нецелесообразен, поскольку
субъектам уединенного сознания, по сути дела, нечего сказать
друг другу: Скажи... Нет, после переговорим.
Подлинный диалог (а не обмен монологическими репликами)
возникает лишь во взаимоотношениях Гуана и Анны. Разность сознаний в этом случае приводит их не к взаимоотталкиванию, а к
продуктивной встрече, схождению, конвергенции. В герое пробуждается неведомое дивергентному (от лат. divergens — 'расходящийся') Я-сознанию чувство ответственности (На совести усталой много зла), в героине же пробуждается ее личностность. Анна
начинает жить не памятью (печальная вдова / Все помню я свою
потерю), но сердцем (соглашаясь на повторное свидание, она
произносит: О Дон Гуан, как сердцем я слаба). Тем самым она уподобляется Лауре, которая вольно предавалась вдохновенью, / Слова
лились, как будто их рождала / Не память рабская, но сердце.
В этой встрече двух противоположных менталитетов, приоткрывающих створки своей догматической или индивидуалистической закрытости, являет себя диалогически открытый строй авторского сознания. Однако пьеса названа именем не Гуана, а торжествующего «Каменного гостя», этого идола авторитарности.
О величественном памятнике Командору Дон Гуан говорит: Ка-
ким он здесь представлен исполином!<...> А сам покойник мал был и
тщедушен. В облике Командора ролевое сознание приобретает осо182
бое качество сверхличной императивности. Это принципиально
иной тип авторитарности в сравнении с патриархальной авторитарностью Доны Анны, а в первой пьесе — Альбера.
Пушкинское заглавие красноречиво, но загадочно отличается
как от мольеровского «Дон Жуана, или Каменного гостя», так и
от моцартовского (опера «Дон Жуан»). Опуская имя главного героя
и отсылая изначально к общеизвестному финалу традиционного
сюжета, такое название пьесы заметно усиливает энигматичность
ее концовки. Поскольку финал этот читателю и зрителю должен
был быть заранее известен, весь художественный смысл «драматического изучения» концентрируется в миросозерцательной мотивировке совершенно не мотивированной в плоскости жизнеподобия гибели героя и героини1.
Пушкинская версия далека от авторитарной мольеровской картины преступления и наказания. Но она и не является апологией
импровизатора любовной песни. Здесь принципиально важно, что
гибель приходит к носителям различных типов сознания не столько
извне, не вследствие их обезоруженности и побежденное™, сколько изнутри собственной жизненной позиции каждого. Причина их
гибели не в диалогической встрече сознаний, но в монологической ограниченности этих менталитетов.
Традиционный (фольклорного происхождения) сюжет возвращения мужа из потустороннего царства мертвых на свадьбу своей
жены2 не случайно актуализирован в «Каменном госте» дважды:
это не только приход Командора к Доне Анне, но и визит к Лауре
Гуана3. При этом такого рода возвращение несет гибель только
той из героинь, которая к своей роли хранительницы верности
отсутствующему герою относилась с патриархально-догматической
серьезностью — по долгу чести. Дона Анна, согласно собственному ее разумению, грешит, принимая у себя влюбленного в нее
кавалера, тем более, как оказывается, убийцу ее неотомщенного
мужа. Только поэтому явление Командора воспринимается ею как
гибельное возмездие. Ведь сама роковая статуя — это всего лишь
памятник Дону Альвару, который жена ему воздвигла.
Что касается Гуана, то пушкинский субъект уединенного сознания оказывается истинным протагонистом собственной гибели. Ведь он сам при этом гробе просит у Доны Анны смерти, а в
заключительной сцене говорит: Что значит смерть? за сладкий
1
В цитированных уже ранее болдинских заметках о драматургии Пушкин писал, что «самая сущность драматического искусства именно исключает правдоподобие* (VII, 146).
2
См.: Б а г н о В. Е. «Каменный гость» как перекресток древнейших легенд и
мифов// Studia Russica Budapestinensia, II —III. — Budapest, 1995.
3
См.: А г р а н о в и ч С.З., Р а с с о в с к а я Л.Л. Отражение архаических пространственно-временных и социально-этических представлений в трагедии
А. С. Пушкина «Каменный гость» // Поэтика реализма. — Куйбышев, 1985.
183
миг свиданья / Безропотно отдам я жизнь. Напомним, что, ком»
ментируя смерть Дон Карлоса, Гуан говорит: Что делать? / Он
сам того хотел. В конечном счете это Дон Гуан своим кощунственным приглашением оживляет каменную статую: ведь уединенное
сознание само творит свой мир, опредмечивая живое и одушевляя, если ему заблагорассудится, мертвое. Реплика статуи: Брось
ее, I Все кончено — звучит как усиленное эхо реплики самого
Гуана: Оставь его (о мертвом Карлосе, после падения которого
Гуаном было произнесено: Вставай, Лаура, кончено). Те же два
слова — но кончено уже по отношению к себе — Гуан произносит
в концовке пьесы. Как пишет Ю.Н.Чумаков, «у Пушкина Командор пришел потому, что Дон Гуан занесся в своей безудержности. <...> Наказание героя в нем самом, и погибает он прежде
всего "от себя"»'.
Таким образом, явление Статуи — порождение обоих сознаний в их взаимной уступчивости и обезоруженное™. Однако этот
гибельный финал отнюдь не отменяет состоявшегося диалога альтернативных жизненных позиций, который между Бароном и
Альбером был бы неосуществим. Диалог, едва начавшись, прерывается (Гуан приглашал статую не для того, чтоб с нею говорить);
герои в своей внутренней трансформации еще не достигли ступени конвергентного сознания, они еще расплачиваются по векселям прежних своих ментальностей. Но происходящее в их диалоге
духовное преображение уже необратимо.
Конкретный, живой убийца мужа перестает быть для Доны
Анны ее абстрактным, теоретическим врагом; она не вонзает, как
собиралась, кинжал в его сердце, а переходит с ним на «ты» и
беспокоится о его безопасности. С другой стороны, и сам Гуан
перестает быть хитрым искусителем, поскольку действительно влюбляется, о чем свидетельствует его непритворный предсмертный
возглас. Влюбленный Дон Гуан, готовый дышать лишь для тебя
(своей возлюбленной), утрачивает свой демонизм, что выявляется, если проследить по тексту пьесы мотив пограничного препятствия (ворот, дверей, порога).
Пьеса начинается у ворот Мадрита, по улицам которого, преодолевая запрет короля, но дождавшись ночи (это значимо для
демонической темы), Дон Гуан собирается полететь — к Лауре
прямо в дверь, хотя и предполагает, что дверь заперта (а если ктонибудь I Ужу нее — прошу в окно прыгнуть). Мотив запертой двери
развивается далее в связи с Доной Анной (ревнивый муж взаперти держал ее; у монаха она просит: Отец мой, отоприте). По
слову Гуана Отопри... Лаура тотчас впускает его к себе. При первом разговоре Дон Гуана с Доной Анной решетка заперта, но не
для него: и ранее (история с Инезой в июле... ночью), и теперь
' Ч у м а к о в Ю.Н. Указ. соч.— С. 273.
184
Гуан легко проникает в монастырь под видом монаха. В беседе с
героиней он просит похоронить себя у дверей — у самого порога
(не имея права быть похороненным в ограде монастыря?). Далее
Лепорелло по воле Гуана приглашает статую Командора стать у
двери, Гуан — стать на стороже в дверях. Дон Гуан, с его дьявольской способностью проникать в любое пространство (включая внутреннее пространство соблазняемой души), уверен, что и
эту преграду преодолеет с той же легкостью, с какой преодолевал все прочие — до диалогического объяснения с Доной Анной
(Но как могли прийти сюда вы?). Однако ответа на вопрос: как же
отсюда выйти вам, неосторожный, — получить уже не удается.
В дверь, охраняемую Командором, недемонический отныне Дон
Гуан пройти не сможет.
В предсмертных словах Гуана, начинающихся и завершающихся
восклицательным «о!», его сознание стремительно пробегает путь
от авторитарного «он» — через уединенное «я» («меня», «мне») —
к конвергентному «ты»:
...о, тяжело
Пожатье каменной его десницы!
Оставь меня, пусти — пусти мне руку...
Я гибну — кончено — о Дона Анна!
Еще при появлении статуи Командора Дон Гуан обращается
поначалу не к ней, а к Доне Анне: страх за возлюбленную сильнее
легко преодолеваемого страха за себя. Концовка заключительной
микротирады героя — повторное взывание к умолкнувшей собеседнице (второе на протяжении сцены падение Доны Анны еще
не является бесспорным свидетельством ее смерти). Это отчаянная попытка восстановления прерванного диалога как подлинной
жизни сознаний. Напомним, что в «Пире во время чумы» одно
лишь произнесение Священником имени Матильды преображает
ситуацию спора и позиции его участников. Гуана губит не императивная мощь авторитарного сознания, а немощь его собственного, обновленного, только еще зарождающегося менталитета:
утратив гордую уединенность «я», он бессилен без диалогической
поддержки со стороны «ты».
Попутно заметим, что столь не понравившееся Белинскому
вмешательство в развитие драматического сюжета пришельца из
потустороннего мира («статуя портит все дело»), в сущности говоря, ИСПОДВОЛЬ подготовлено предшествующими частями интегративного цикла. Так, уже Скупой Рыцарь делает заявку на возвращение, подобное приходу Командора: ...о, если б из могилы /
Прийти я мог, сторожевою тенью... Мотив загробной тени развит
далее в «Моцарте и Сальери». Это черный человек, заказавший реквием: За мною всюду / Как тень он гонится. Осуществившаяся в
«Каменном госте» проницаемость границы между миром живых
185
и миром мертвых принципиально значима и для «Пира во время
чумы». Здесь человек может быть от жизни отлучен каким-нибудь
виденьем (вспомним виденье гробовое Моцарта); здесь в видении
Луизы мертвые лепетали / Ужасную, неведомую речь...; здесь Вальсингама призывают тень матери и дух Матильды. И хотя Председатель требует оставить / В гробу навек умолкнувшее имя, это ему
не удается. Как было сказано еще Бароном, от угрызений совести
могилы I Смущаются и мертвых высылают.
«Пир во время чумы», завершая цикл, связывает в единое диалогическое целое все жизненные позиции, выведенные Пушкиным на сцену «драматических изучений». Это не только простые
души (иронические слова Луизы), причастные патриархально-ролевому мироотношению, и не только безбожные безумцы (гневные слова Священника), удерживаемые в кругу пирующих, как
Вальсингам, сознаньем беззаконья своего.
Основное противостояние жизненных позиций четко сформулировано обличающим Священником:
Вы пиршеством и песнями разврата
Ругаетесь над мрачной тишиной,
Повсюду смертию распространенной!
Средь ужаса плачевных похорон,
Средь бледных лиц молюсь я на кладбище...
В ситуации всеобщего ужаса и безысходности Священник как
субъект авторитарного самоопределения остается на своей ролевой позиции в миропорядке. Его ментальность поначалу жестко
императивна, что отсылает к фигуре Командора (обращение Священника к Вальсингаму: Ступай за мной! аналогично приходу
Командора за Дон Гуаном) и существенно отличается от ментальности, манифестированной в песне Мери. Последняя же сродни сознанию Альбера и Доны Анны, какими они являются в начальных сценах своих пьес.
Хранительница патриархальной памяти-песни и архаичнородового самосознания (ср.: Сестра моей печали и позора, — обращенное к третирующей ее Луизе), чуждая отчаянной веселости пирующих, задумчивая Мери встречает угрозу смерти с раскаянием блудной дочери. О, если б никогда я не певала / Вне
хижины родителей моих! — говорит эта «анти-Лаура», представляя себя поющей у родимого порога. Ее участие в пире, знаменующее отрыв от патриархальных устоев жизни, аналогично уступчивости Доны Анны, тогда как ее песня — о неразрывности
уз, связующих богобоязненных людей (Боязливо Бога просят /
Успокоить души их) под сенью небес. Императивность ролевого
сознания здесь начисто отсутствует. Более того, обращенные к
Эдмонду слова песенной героини Дженни: Уходи куда-нибудь, /
Где б ты мог души мученье / Усладить и отдохнуть, — звучат
186
своего рода оправданием безбожного, как представляется Священнику, пира.
Остальные пирующие суть субъекты уединенного сознания,
которые парадоксально объединены застольем — кощунственным
отвержением традиционной морали. Неподлинность этого единения одиноких, проницательно выявленная речами Молодого человека и Луизы (аналог Лауры в новой драматической ситуации),
таит в себе авторскую мысль о том, что избраннические1 притязания тех, кто обретать и ведать мог неизъяснимы наслажденья романтического упоения, не способны стать почвой новых человеческих отношений, предпосылкой действительной конвергенции
сознаний и воль.
Хотя весельчак Джаксон ушел уже / В холодные подземные жилища, однако, как провозглашает другой весельчак, много нас еще
живых, и нам I Причины нет печалиться. Уединенное сознание
живет своей собственной жизнью, и потеря собеседников в его
ментальном поле не становится принципиально значимым событием; оно нуждается в других (которых пока еще достаточно много) лишь в качестве внешнего материала своей внутренней жизни.
Поэтому носителю такого сознания ничего не стоит выпить за
мертвого «другого» с веселым звоном рюмок, с восклицаньем / Как
будто б был он жив. Но в то же время уединенное «я» одиноко
перед лицом смерти, и страх живет в душе, страстьми томимой.
Пирующие внутренне разобщены этим страхом, вдруг сказавшимся
в обмороке Луизы. Из-за этой экзистенциальной разобщенности
уединенных сознаний и оказывается, что нежного слабей жестокий.
Средоточием позиции уединенного сознания, диалогически
соотнесенным с песней Мери, звучит гимн Председателя. Здесь
«мы» знаменует отнюдь не единение, но лишь умножение числа
тех, о ком можно сказать: И счастлив тот, кто <...> ведать мог
гибельной угрозы неизъяснимы наслажденья. Однако текст этого
гимна неоднороден и внутренне противоречив, как противоречива природа самого уединенного сознания. Если первые три куплета восхваления Чумы сводятся к идее запереться от нее, то в
трех последующих, начиная со слов есть упоение в бою, парадоксальная хвала Чуме становится вызовом ей: Нас не смутит твое
призванье. Первая интенция отсылает нас к подполью Скупого,
вторая — к безудержно рискующему, провоцирующему собственную смерть Дон Гуану.
Председатель пира, подобно Сальери, проходит путь от авторитарного менталитета, причастность к которому подтверждается
восклицанием Священника (Ты ль это, Вальсингам ? ты ль самый
1
О воплощении идеи избранничества в гимне Председателя см.: П о д д у б ная Р.Н. «Пир во время чумы» А.С.Пушкина: Опыт целостного анализа идейно-художественной структуры // Studia Rossica Posnaniesia. — 1977. — VIII.
187
тот... и т.д.), к уединенному модусу духовности. При этом Вальсингам заметно перерастает наивный эгоцентризм Молодого человека, Луизы и других пирующих, остающихся глухими к упрекам и призывам Священника и глумливо отвечающих ему: Вот
проповедь тебе!пошел!пошел!Председатель в кругу пирующих удержан не столько новостью сих бешеных веселий, как остальные,
сколько экзистенциальным отчаяньем, к которому неизбежно ведет углубление внутренней уединенности (как покажет десятилетия спустя Достоевский). Странная охота к рифмам, породившая
гимн, и была вызвана (впервые в жизни), надо полагать, жаждой
заглушить это отчаяние: сначала менее сильным средством — опьянением (утопим весело умы), затем более радикальным — упоением гибельным риском.
Гимн не остается последним словом центрального персонажа.
Духовный путь Вальсингама на наших глазах продолжается, не
обрываясь смертельной утратой себя, как в случае Дон Гуана,
или отчаянием, как в случае Сальери. Председатель не присоединяется к пирующим, однако и не отдается отчаянию: отчаяние
бездумно, тогда как Вальсингам погружается в глубокую задумчивость (что перекликается с задумчивостью внутренне непричастной пиру Мери), вызванную преодолением рубежа уединенного
сознания. Проникнутая воскрешенной памятью задумчивость Председателя — это задумчивость воссоединения, а не ухода в себя:
Где я? Святое чадо света! Вижу
Тебя я там, куда мой падший дух
Не досягнет уже...
С точки зрения пирующих весельчаков, подобное видение, уводящее за пределы уединенного сознания, — безумный бред. Он
сумасшедший, — I Он бредит о жене похороненной, — выкрикивает
женский голос. Уединенное сознание не ведает иерархической
ценности небес и света, оно признает лишь земную жизнь да холодные подземные жилища. Ранее и сам Председатель говорил о
безумии тех, кто от земли <...> отлучен каким-нибудь виденьем.
С позиции же авторитарно мыслящего священника здесь не
сумасшествие, а напротив, откровение императивной истины:
Матильды чистый дух тебя зовет.
Однако решительный отказ Вальсингама следовать за Священником, хотя и выраженный в новой для героя тональности
(Отец мой, ради Бога, / Оставь меня), ясно говорит нам, что
не о возврате к системе авторитарных ценностей следует вести
речь. Называя Матильду святое чадо света и видя ее в недостижимой для себя райской высоте самых небес, Председатель словно перефразирует Сальери, говорящего о Моцарте: Как некий
херувим, I Он несколько занес нам песен райских, / Чтоб <...>
после улететь. Прекращающее спор видение Матильды в кон188
тексте цикла читается символом конвергентного сознания, представляющегося Вальсингаму недостижимым для его падшего духа.
Однако как знать?
Финал «Пира...» оказывается в высшей степени знаменательным финалом всего цикла «драматических сцен». Страстный спор
адептов ролевого мироотношения и уединенного самоопределения вдруг затихает в точке схождения (конвергенции) чуждых друг
другу сознаний. Выложивший все свои аргументы и сам не удовлетворенный ими (поскольку круг замкнутого сознания разорван
его соотнесенностью с любимым «ты» Матильды, чьими бессмертными очами он взглянул на себя), Председатель безбожного пира
погружается в глубоко значимое молчание. Но старик-священник
при этом не торжествует, а неожиданно просит прощения у своего идейного противника (это Прости, мой сын отзовется у Достоевского в «Братьях Карамазовых» поклоном Зосимы).
В развязке сквозного для всех составляющих цикла столкновения двух менталитетов они не сокрушают друг друга, а нежданно
озаряются взаимопониманием. И.Л.Панкратова и В.Е.Хализев справедливо увидели в финале «Пира...» «образ глубокого духовного
контакта»: «Когда старик говорит Вальсингаму "прости", он тем
самым раскаивается в том, что смел <...> так свысока, так жестоко осуждать и наставлять человека, о страданиях которого не подозревала его замкнувшаяся в уверенности собственной правоты
душа». С другой стороны, «принимая истину Священника, но при
этом оставшись с пирующими, Вальсингам молчаливым раздумьем <...> приобщен к духовному знанию, столь значительному и
полному, что всякое человеческое слово бессильно перед его огромностью»1.
Сопряжение разноголосых правд в единстве внутреннего диалога, не отвергающего ни одной из них, — таков строй пушкинского творческого мышления, беспрецедентного для своей культурной эпохи. Молчание взаимопонимания несовпадающих жизненных позиций героев и есть в данном случае проявление конвергентного строя авторской мысли.
Если драматургический цикл Пушкина является, как показывает анализ, не суммативной структурой, основанной лишь на
жанровой общности произведений, а структурой интегративной,
цикличность которой содержательна, то вопрос о порядке следования текстов приобретает принципиальное значение. Изложенные выше наблюдения подтверждают конструктивную целесообразность привычного расположения пьес не только в хронологическом порядке их написания, но и в соответствии с пушкин1
П а н к р а т о в а И.Л., Х а л и з е в В.Е. Опыт прочтения «Пира во время
чумы» А.С.Пушкина // Типологический анализ литературного произведения. —
Кемерово, 1982. — С. 62, 63.
189
ским перечислением на обороте эскиза обложки для книги стихотворных драм1.
«Скупой рыцарь» демонстрирует демоническое превосходство
внутренне свободного уединенного сознания над патриархальноавторитарным. Исходя из четырехфазной парадигмы фабульности
(см. раздел «Фабула» в гл. 3), эта пьеса закономерно открывает
цикл, демонстрируя сюжетообразующую значимость мотива обособления (не только Барона — изначально, но и Альбера — впоследствии и даже Герцога — в концовке).
В «Моцарте и Сальери» авторитарность и уединенность как векторы духовной жизни объединяются фигурой Сальери перед лицом новой и высшей ментальное™ — диалогически конвергентной. Носитель такой ментальности устраняется поступком Сальери как некий херувим, возмутивший бескрылое желанье / В нас,
чадах праха. Здесь уединенное сознание, осознавая обособленность
не как свободу, а как покинутость (отсутствие высшей правды),
оглядывается на свое ролевое прошлое. Но одновременно оно оказывается в ситуации искушения вследствие нежданного взаимодействия с принципиально иным сознанием (фаза нового партнерства).
Устранив херувима конвергенции, менталитет уединенности
обезоруживает себя в противостоянии авторитарности, что и демонстрирует финал следующей пьесы. В то же время с уходом
Моцарта дух диалогического начала жизни не покидает контекста «драматических изучений»: эпиграфом к «Каменному гостю»
является строка из текста моцартовой оперы. Не случайно в двух
последующих драмах совершенно отсутствуют уединенные монологи, вокруг которых были конструктивно организованы две
первые.
«Каменный гость» создает ключевую перипетию цикла. Уединенное сознание достигает своего гибельного апогея, но одновременно заявляет о себе и губительная мощь авторитарного сознания, способного препятствовать зарождающемуся диалогизму
межличностных отношений. Однако идол такого сознания (в противовес херувиму сознания конвергентного) является не с неба —
из «праха»2, не из будущего — из прошлого, из мифопоэтической
1
Ср. иное решение этого вопроса на основании порядка следования культурных эпох Средневековья, Возрождения, Нового времени в ст.: Беляк Н.В.,
В и р о л а й н е н М.Н. «Маленькие трагедии» как культурный эпос новоевропейской истории (судьба личности — судьба культуры) // Пушкин, Исследования и материалы. — Т. XIV. - Л., 1991.
2
О «вертикальной структуре мира» (подземный «прах» — земной мир — мир
небесный) и циклообразующем «обмене репликами» между верхом и низом см.:
М а н ь к о Ю. В. Диалог мира и личности в «маленьких трагедиях» А. С. Пушкина //
А.С.Пушкин: филологические и культурологические проблемы изучения. — Донецк, 1998.
190
«страны мертвых». В «Каменном госте» метасюжет вторжения уединенного сознания в ролевой миропорядок проходит свою лиминальную (пороговую) фазу. В особенности этому способствует обращение Пушкина к ренессансному отголоску Книдского мифа
об оживающих и мстящих статуях, олицетворяющих мертвых предков и прежнюю ментальность (веру)1.
Ключевая роль третьей драмы в общей композиции цикла подтверждается, в частности, такой особенностью ее строения, что
развитие действия здесь воспроизводит общую динамику смены
частей циклического целого. Сюжет самого «Каменного гостя» —
за вычетом лиминального финала, обретающего свою глубинную мотивированность именно со стороны метасюжета, — организован четырьмя сценами пьесы в полном соответствии с
обнаруживаемой в основе цикла четырехфазной фабульной моделью.
Ситуация сцены I — обособленность изгнанника Дон Гуана и
овдовевшей Доны Анны — перекликается с ситуацией «Скупого
рыцаря» (один персонаж жаждет общения, другой ведет затворнический образ жизни). Сцена 11 — ярко выраженная фаза партнерства, перекликающаяся с «Моцартом и Сальери» темой музыкального творчества. Сцена III — соблазнение очередной жертвы
любовных притязаний приводит Дон Гуана к лиминальному общению с Командором (обитателем загробного мира), что и составляет квинтэссенцию сюжетного развития пьесы в целом. Сцена IV — преображение вступающих в диалог героев, перекликающееся с итоговой ситуацией «Пира во время чумы».
Наконец, в финале «Пира...» и всего общего текста «драматических изучений» уединенность «я-в-мире», миновавшая в ипостаси Дон Гуана свою лиминальную фазу, закономерно преображается (непредседательская задумчивость Вальсингама и смирение
Священника-обличителя), являя «нравственное чудо» смены «требований и угроз на сострадание и задушевность»2. При этом неуловимый, но и неустранимый призрак новой («моцартианской»)
ментальности, оборачиваясь зовущим духом Матильды, воскресает здесь как принципиальная возможность конвергентной встречи
неотождествимых жизненных позиций.
«Маленькая трилогия» А. П. Чехова
Классическим примером прозаического цикла может служить
Чеховская композиция из трех рассказов (при журнальной публикации пронумерованных латинскими цифрами), смысл которых заметно обедняется и несколько меняется при раздельном
'См.: Шульц Р. Пушкин и Книдский миф. — Munchen, 1985.
П а н к р а т о в а И.Л., Х а л и з е в В.Е. Указ. соч. — С. 62.
2
191
их восприятии: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».
Конструктивным моментом взаимосвязи самостоятельных художественных целых здесь выступает композиционный принцип
«рассказа в рассказе», а рассказчики (оказывающиеся в свою
очередь героями для повествователя) выступают сквозными персонажами цикла.
Если бы смысл первой части цикла сводился к саркастическому изобличению «футлярности», «беликовщины», то можно
было бы констатировать, что литературоведу в этом случае анализировать по сути дела уже нечего. Разве самим Буркиным, излагающим историю «человека в футляре», не сделаны соответствующие наблюдения, обобщения, выводы? Разве характер Беликова нуждается в нашей дополнительной оценке или переоценке?
В самом деле, экспрессивно-символическая детализация образа, которую в иных случаях исследователю приходится фиксировать и выявлять по крупицам, рассказчиком Буркиным уже осуществлена и проинтерпретирована. При этом эстетическая позиция
саркастически настроенного Буркина совпадает с иронией автора
в «Смерти чиновника» или в финале «Ионыча». Но в этот раз Чехову
понадобился посредник, рассказывающий историю персонаж,
наделенный к тому же достаточно карикатурной внешностью: Это
был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс. Карикатурность этого портрета оттеняется контрастным обликом его собеседника, превращающим
их в своего рода «карнавальную пару»: высокий худощавый старик
с длинными усами. (Напомним, что и сам Беликов оказался героем
карикатуры «Влюбленный антропоо.)
Внимание к внешнему облику рассказчика, совершенно избыточное для повествования о «футлярности» Беликова, вынуждает
нас предполагать несводимость авторской позиции к той, которую вполне определенно занимает Буркин. «Субъект сознания, —
писал Б.О.Корман, — тем ближе к автору, чем в большей степени он растворен в тексте и не заметен в нем»; и напротив, «чем в
большей степени субъект сознания становится определенной личностью со своим особым складом речи, характером, биографией
(не говоря уже о внешности. — В. Г.), тем в меньшей степени он
непосредственно выражает авторскую позицию»1.
Относительная узость кругозора рассказчика состоит, например,
в том, что он легко и самонадеянно отделяет себя от тех, о ком он
говорит: ...а сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет! Между тем патетический гимн свободе, звучащий
1
К о р м а н Б. О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов // Проблемы истории критики и
поэтики реализма. — Куйбышев, 1981. — С. 42.
192
из уст самого Буркина, неожиданно выдает ограниченность, некоторого рода «футлярность» его собственного мышления:
...Никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, — чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве,
когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже
слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?
Столь инфантильное переживание свободы как краткосрочной
вседозволенности в отсутствие старших, робкое чаяние лишь намека на такую возможность объясняет «футлярную» реакцию Буркина на горькие обобщения его собеседника: — Ну, уж это вы из
другой оперы, Иван Иваныч. <...> Давайте спать. (Отметим, что
мотив сна — распространенная в чеховских текстах аллюзия неподлинного существования, тогда как бессонница обычно свидетельствует о напряженности внутренней жизни героя.)
Ориентированное на вдумчивого читателя авторское углубление смысла рассказанной истории можно усмотреть в речах Ивана Иваныча:
А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин,
говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр?
Но эти слова не могут служить исчерпывающим выражением
собственной позиции автора, поскольку также вложены в уста
действующего лица, изображенного субъекта речи.
Иван Иваныч — тоже посредник, но уже не между героем (Беликовым) и автором, как Буркин, а между героем и читателем.
Внимательный слушатель рассказа о Беликове — это как бы образ
читателя, введенный внутрь произведения. Не случайно он высказывается от имени некоторого «мы».
Если Буркин, иронически дистанцируясь от Беликова, ограничился саркастической интерпретацией своего рассказа, то Иван
Иваныч, включая и самого себя в число людей, обремененных
«футлярностью», драматизирует ситуацию:
Видеть и слышать, как лгут <...> сносить обиды, унижения, не сметь
открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за
какого-нибудь чинишка, которому грош цена, — нет, больше жить так
Невозможно!
Однако Иван Иваныч — всего лишь один из героев произведения, таящего в себе своеобразный «эффект матрешки»: нравственный кругозор Ивана Иваныча шире, чем сарказм Буркина (который, в свою очередь, шире юмористического смеха Вареньки над
7т.„,.,
193
1
Беликовым), но уже авторской нравственной нормы . Для выявления этой последней необходимо сосредоточиться на «смысловом контексте», возникающем «на границах отдельных составля2
ющих» цикла .
В «Крыжовнике» функция рассказчика переходит к Ивану Иванычу, и он предлагает нам весьма драматическую картину жизни.
Правда, герой его истории — Чимша-Гималайский младший —
пополняет ряд саркастических чеховских персонажей, однако рассказ Ивана Иваныча оборачивается его личной исповедью: Но дело
не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена
произошла во мне...
Изложение истории брата начинается с картины их вольного,
здорового детства. Акцентируется душевная близость героев, не
вполне исчезающая с годами. Непосредственно вслед за шаржированным по-гоголевски портретом брата-помещика, заканчивающимся словами того и гляди хрюкнет в одеяло, следует: Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то
были молоды, а теперь оба седы, и умирать пора.
Иван Иваныч всматривается в новый характер Николая Иваныча, как в зеркало: Я тоже за обедом и на охоте поучал, как
жить, как веровать, как управлять народом и т. д. В ту ночь рассказчик переживает драматический катарсис. Ощущая себя субъектом широкой внутренней заданности бытия (знаменитое: Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар,
вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и
особенности своего свободного духа), Иван Иваныч в постыдном
довольстве брата прозревает узость внешней данности повседневного быта. Он постигает несогласуемость, несовместимость
этих параметров человеческой жизни. В этом переживании рождается своего рода формула чеховского драматизма: ...нет cwi
жить, а между тем жить нужно и хочется жить! (как Гурову,
Анне Сергеевне из «Дамы с собачкой» и многим другим героям
писателя).
Второй «рассказ в рассказе» практически не требует интерпретации. Точки над i убедительно расставляются самим Иваном Иванычем. Две пятых текста отданы обрамлению этой исповедальной
истории, что никак не позволяет вполне отождествить авторскую
позицию с итоговыми суждениями рассказчика.
Об антагонизме между автором и рассказчиком, по-видимому,
не может быть речи, однако не только младший, но и старший
1
В одном из своих писем (к А. Н. Плещееву) Чехов писал о двуединой художественной задаче «правдиво нарисовать жизнь и, кстати, показать, насколько
эта жизнь уклоняется от нормы» ( Ч е х о в А.П. Письма: В 12 т. // Чехов А. П
Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. — М., 1976. — Т. 3. — С. 186).
2
Д а р в и н М.Н. Проблема цикла в изучении лирики. — Кемерово, 1983.— С. 14.
194
Чимша-Гималайский проявляет узость нравственного кругозора,
провозглашая драматизм нормой жизни: Счастья нет, и не должно
его быть...
При виде счастливого человека мною овладело тяжелое чувство,
близкое к отчаянию, — говорит Иван Иваныч. Он не вполне осознает, что довольство брата — всего лишь мнимое счастье чисто
«внешнего» человека, выродившейся псевдоличности. Занятая же
им самим «экзистенциалистская» позиция отчаяния, чутко уловленная Чеховым в атмосфере эпохи, не оставляет в жизни места
для чувства радости бытия.
А между тем такого рода радость по воле автора постоянно
дает о себе знать в обрамлении основной истории. То охотники
проникаются любовью к этому полю и думают о том, как велика,
как прекрасна эта страна. То Алехин искренне радуется гостям,
а те восхищены красотой горничной Пелагеи. Пожилой Иван
Иваныч с мальчишеским увлечением и восторгом плавает и ныряет под дождем среди белых лилий. Алехин с видимым наслаждением ощущает тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь,
радуется разговору гостей не о крупе, не о сене, не о дегте. Не
только об Алехине, но и о Буркине (и даже как будто о незримо
присутствующих авторе и читателе) сказано: Хотелось почемуто говорить и слушать про изящных людей, про женщин (в устах
же Ивана Иваныча женщины — глупые и праздные). Своего рода
формулой ощущения живой радости бытия, не заслоненной, не
вытесненной драматизмом исповеди, звучит: ...и то, что здесь
теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, — это было лучше всяких рассказов.
Иван Иваныч отвергает радости жизни с жестко моралистической позиции. Впрочем, и в самом деле, не служат ли всякого
рода радости своеобразными «футлярами» счастливых людей, глухих к страданиям тех, кто несчастен? Постараемся извлечь обоснованный чеховский ответ на этот вопрос из трилогии в целом
как циклического образования. Пока же отметим некоторые особенности нравственной позиции рассказчика в «Крыжовнике».
Драматический максимализм Ивана Иваныча {для меня теперь
нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее
вокруг стола и пьющее чай) не безобиден для окружающих. Он
несет в себе не только жажду добра, но и тонкий яд отчаяния. На
это указывает, в частности, тесная связь на уровне фокализации
финальных ситуаций первого и второго рассказов.
В концовке «Человека в футляре» Буркин, рассказав историю Беликова, быстро засыпает, а разволновавшийся, невыговорившийся Иван Иваныч все ворочался с боку на бок и вздыхал,
й потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил
Шрубочку. В финале же «Крыжовника» облегчивший свою душу
Исповедью отчаяния Чимша-Гималайский укрывается с голо195
вой (как Беликов!) и засыпает, после чего повествователь замечает:
От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот
тяжелый запах.
Показательно, что повествователь не демонстративно, но вполне
очевидно меняет свою позицию тем, что в этот раз бодрствует с
Буркиным, а не с Иваном Иванычем. Показательно и то, что тяжелый запах, ассоциирующийся с тягостными мыслями хозяина
трубочки, с его драматической исповедью, отравляет иной запах,
говорящий о простых радостях бытия, — за две фразы до процитированной концовки сообщалось: ...от их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.
Следует отметить и то, что Иван Иваныч, разуверившись в личном счастье, утрачивает доверие к возможностям человеческой
личности вообще, возлагая свои надежды лишь на неведомое сверхличное начало бытия: ...а если в жизни есть смысл и цель, то смысл
этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и
великом. Повествователь при этом явственно «отстраняется» от этого тезиса (столь понравившегося Толстому), замечая некое несоответствие коммуникативного поведения: герой проговорил это так,
как будто просил лично для себя. В этом замечании нет никакого
упрека, но в нем сквозит подспудная авторская мысль о том, что
любой смысл коренится в личном бытии человека. Чехов, как показывает заключительный текст трилогии (и общий контекст его
творчества), не знает ничего более разумного и великого.
Исповедь Алехина, составляющая третий рассказ цикла, весьма драматична. Зерно этого драматизма, как и в написанной год
спустя «Даме с собачкой», составляет нереализованность личной
тайны: Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам
же самим (слово тайна еще трижды встречается в речи Алехина).
Обрамление рассказываемой истории не вступает в противоречие с эстетической ситуацией «рассказа в рассказе», как это было
в «Крыжовнике», однако в самих рассуждениях главного героя
немало противоречивого. Противоречие состоит, например, в том,
что, по мнению Алехина (подчеркнем: не автора!), нужно объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать, но сам
Алехин завершает свою историю как раз обобщением.
Заявив в самом начале, что в любви важны вопросы личного счастья (и тем самым косвенно вступая в спор с Иваном Иванычем), Алехин в конце своего монолога, подобно рассказчику «Крыжовника», утверждает: Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более
важного, чем счастье или несчастье... А далее прибавляет: ...или не
196
нужно рассуждать вовсе, — чем дискредитирует высшее как источник рассуждений.
Вся внутренняя жизнь Алехина в его отношениях с Анной Алексеевной пронизана обычным для зрелой чеховской прозы драматическим противоречием между личностью героя и его характером: Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал... Первое идет от
личности, второе — от характера как способа адаптации этой личности к обстоятельствам. «Футлярность» саркастических персонажей двух первых историй состоит как раз в поглощенности, подавленности когда-то живой личности — «скорлупой» характера
(не случайно оба, по воле автора, умирают).
Рассогласованность алехинского характера и его личности проявляется, например, в следующем: работа в имении у него кипела неистовая, но, принимая в ней самое деятельное участие, он при этом
скучал и брезгливо морщился. Но эта рассогласованность по-чеховски
свидетельствует о наличии у героя живого человеческого «я».
В этом и заключается его (подтверждаемое любовью Анны Алексеевны) преимущество перед Лугановичем, который держится
около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным
выражением, точно его привели сюда продавать. Называя Лугановича добряком, Алехин сопровождает эту характеристику парадоксальным разъяснением: ...один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то,
значит, он виноват. Приверженность Лугановича к выражению мнения в законном порядке, на бумаге со всей очевидностью говорит
читателю трилогии, что перед ним «футлярный» человек — вариант Беликова, все же решившегося жениться. Но сам рассказчик
Алехин этого не осознает, характеризуя мужа Анны Алексеевны
как милейшую личность.
Скрытая авторская ирония дает себя знать и в приверженности
героя-рассказчика к теме сна (сон у Чехова практически всегда
аллюзивно сопряжен с духовной смертью). Еще в предыдущем
рассказе Алехину сильно хотелось спать. Теперь же он увлеченно
повествует о том, как спал на ходу, как поначалу, ложась спать,
читал на ночь, а позднее не успевал добраться до своей постели и
засыпал в сарае, в санях или где-нибудь в лесной сторожке. Заседания окружного суда представляются Алехину роскошью после спанья
в санях. При этом он жалуется Анне Алексеевне, что в дождливую
погоду дурно спит.
Однако в целом рассказ Алехина заметно ближе к авторской
манере зрелого Чехова, чем рассказы Буркина и Чимши-Гималайского. Близость эта состоит «в отказе от миссии учительства»,
в том, что «Чехов не навязывал никакого постулата», а «моральная требовательность обращалась им прежде всего на себя» 1 . Эти
' Л а к ш и н В. Я. О « с и м в о л е веры» Ч е х о в а // Ч е х о в и а н а . — М . , 1990. — С. 11.
197
слова вполне применимы и к Алехину — рассказчику, индивидуализирующему собственную историю любви как отдельный случай,
тогда как первые два рассказчика трилогии резко порицают своих
персонажей, решительно обобщают и вообще «учительствуют»:
Буркин — учитель по профессии, а Иван Иваныч страстно проповедует (кстати, его патетическое восклицание: Не давайте усыплять себя! <...> не уставайте делать добро! — весьма неуместно
обращено к наработавшемуся за день Алехину, у которого от усталости слипались глаза).
И все же несомненна некоторая авторская отстраненность от
сонного Алехина, который не вникал в смысл речи Ивана Иваныча и только радовался разговору о чем-то, что не имело прямого
отношения к его жизни. Очевидна она и в отношении двух других
рассказчиков. И хотя в доведении до читателя всех трех рассказов
имеется немалая доля внутреннего согласия повествователя с каждым из них, жизненные позиции рассказывающих героев далеки
от осуществления нравственной нормы авторского сознания.
В поисках текстуальных следов этого «облеченного в молчание»
(Бахтин) сознания обратим внимание на то, что объединяет всех
без исключения персонажей цикла. Общей для них в той или иной
мере оказывается жизненная позиция уединенного существования, в чем и состоит, по-видимому, наиболее глубокий смысл
явления «футлярности». Знаменательна фраза из «Крыжовника»,
сводящая в пределах одного кадра фокализации всех трех героеврассказчиков: Потом все трое сидели в креслах, в разных концах
гостиной, и молчали.
Разъединенность людей — чужих или своих (как братья Гималайские), презирающих, равнодушных или любящих (как Алехин
с Анной Алексеевной) — такова художественная правда человеческих отношений в «маленькой трилогии». Даже горничная Пелагея и та не хочет выходить замуж за повара, которого как будто
бы любит.
Беликов является своего рода точкой отсчета в ряду чеховских
образов самоизоляции человека: ...было видно, что многолюдная
гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мною ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко. Усилению этого ключевого циклообразующего
мотива служит фоновая фигура Мавры, которая, будучи женщиной здоровой и неглупой, в последние десять лет все сидела за печью
и только по ночам выходила на улицу.
Еще об одном крайнем проявлении эгоцентричное™ самовольного, обособленного, уединяющегося сознания узнаем мы из уст
Ивана Иваныча: некий купец перед смертью съедает с медом все
свои деньги, чтобы никому не досталось. По пути к этому пределу
отъединения продвигался и Николай Иваныч с его мечтой есть
собственные щи и собственный крыжовник.
198
Но в «маленькой трилогии» не только у названных героев, но
и у каждого человеческого «я» обнаруживается некий импульс
обособления, отстранения от других. Даже наименее «футлярные» из персонажей «Человека в футляре» — брат и сестра Коваленки — не составляют исключения. В разговоре о перспективе
замужества Вареньки брат решительно отмежевывается от сестры: Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не
люблю в чужие дела мешаться. Самой же Вареньке, по словам
рассказчика, хотелось своего угла. Мавра подобное устремление
лишь доводит до абсурдного предела.
Исчезает душевная близость между братьями («Крыжовник»);
не складываются взаимоотношения влюбленных («О любви»),
обремененных собственной «футлярностью» (как ненужно, мелко
и как обманчиво было все то, что нам мешало любить)', да и между
друзьями-рассказчиками, как мы уже отмечали, нет подлинного
взаимопонимания. Красноречивая подробность: после легкого разлада, возникшего между героями в конце первого рассказа, во
втором рассказе охотники, идя под дождем, молчали, точно сердились друг на друга. Здесь каждый вступающий в психологический
контакт оказывается, пользуясь не случайно повторяющимся выражением Буркина, из другой оперы.
Сама приверженность к рассказыванию историй, к монологическому общению со случайными собеседниками оказывается в контексте цикла знаком личностной уединенности. Вопреки предложению Алехина не обобщать индивидуальные случаи жизни повествователь обобщает (как рождаемую одиночеством потребность в общении) именно само алехинское желание рассказывать:
У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в
баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают
банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же
обыкновенно они изливают душу перед своими гостями.
Представляется совершенно ошибочным усмотрение собственного чеховского убеждения в алехинском тезисе: индивидуализировать каждый отдельный случай. Тезис этот вложен в уста персонажа, заметно отделенного от смыслополагающей инстанции художественного целого, да к тому же еще и поддержан Буркиным
(единственный случай прерывания слушателем речи Алехина). Для
чеховской поэтики идея индивидуализации здесь слишком объективирована, чтобы быть собственной мыслью автора. Зато в ней
присутствует интеллектуальный механизм всеобщего уединения и
самоизоляции.
Иван Иваныч с его обличительной настроенностью формулирует своего рода закон человеческого отчуждения: придет к чело199
веку беда, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не
видит и не слышит других.
Именно уединенность личного сознания в паре с мертвящей
узостью социально мотивированного характера и составляет источник чеховского драматизма. Алехин и Анна Алексеевна о главном молчат между собой, рассуждают они уединенно, думая каждый о своем, что и порождает драматическую коллизию их жизни — жизни разрозненной пары: ..мам нельзя друг без друга. Но, по
какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий
раз прощались и расходились, как чужие. Символичен финал этой
любовной истории: герой и героиня после объяснения едут в соседних пустых купе, оплакивая не общее горе двух обездоленных
«я», а каждый — свое собственное.
Поистине «все живут врозь, каждый целиком поглощен своею
жизнью», как писал Лев Шестов о героях Чехова1. Именно такова
в значительной степени чеховская картина человеческих отношений, но не их авторская «норма». Этого Шестов как раз и не понял, вывернув наизнанку подлинный смысл чеховской художественности. Тем самым философ продемонстрировал предательскую неверность интерпретации без анализа.
О нравственной норме бытия, питающей чеховское творчество,
мо можем судить лишь косвенно — по немногим, но принципиальным отступлениям от картины всеобщей разобщенности. Прежде
всего здесь следует отметить сквозной для всей трилогии мотив
детства.
В первом рассказе похороны Беликова неожиданно объединяют всех на почве чувства, похожего на то, какое мы испытывали
давно-давно, еще в детстве. И в «Крыжовнике» роднящее братьев
мы относится к детству, проведенному в деревне на воле. Наконец,
подлинность душевной близости Алехина и Анны Алексеевны также проецируется на детство: ...сразу я почувствовал в ней существо
близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные
глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал
на комоде у моей матери. И далее незначительные факты взаимного душевного контакта, общения с Анной Алексеевной рассказчик воспринимал с таким торжеством, точно мальчик.
Как видим, для всех трех рассказчиков, которые росли порознь,
детство оказывается общим духовным опытом единения.
Импульс единения таится и в созерцании красоты (ранее этот
мотив был разработан Чеховым как сюжетообразующий в рассказе
«Красавицы»). Так, давно уже отчужденно молчавшие Иван Иваныч и Буркин при виде красивой Пелагеи оба разом остановились и
поглядели друг на друга. Красота Вареньки с ее малороссийскими
1
Ш е с т о в Л. Творчество из ничего (А.П.Чехов) // Шестов Л. Начала и концы. - СПб., 1908.-С. 66.
200
романсами очаровала всех, даже Беликова. Наконец, в финале последнего рассказа красота природы и воспоминание об Анне Алексеевне и ее красоте объединяют всех трех рассказчиков. Первые два,
став слушателями третьего и любуясь прекрасным видом на сад и
плёс, не заняли позицию отчуждения от рассказанного, как то было
с ними накануне, а вместе думали о том, какое, должно быть,
скорбное лицо было у молодой дамы, когда он (Алехин. — В. Т.) прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в
городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.
Приведенная цитата составляет концовку рассказа «О любви».
Стало быть, мотивом сближающей людей красоты и даже словом
о ней завершается трилогия в целом.
Символична детализация природного обрамления рассказываемых историй. Разговор Буркина и Ивана Иваныча в первом рассказе происходит ночью; в «Крыжовнике» обрамляющие рассказ
о Чимше-Гималайском встречи и разговоры — в дождливый пасмурный день, а завершает этот текст фраза: Дождь стучал в окна
всю ночь. Последний же абзац рассказа «О любви» открывается
описанием нового, светлого состояния природы, словно возвращающейся к некой естественной норме: Пока Алехин рассказывал,
дождь перестал, и выглянуло солнце.
Когда Иван Иваныч и Буркин молчали, точно сердились друг на
друга, вокруг было сыро, грязно, неуютно, и вид у плёса был холодный, злой. Теперь же, когда они вместе любовались, жалели, думали, — и плёс на солнце блестел как зеркало. Природное зеркало
человеческого духа.
В конечном счете «облеченная в молчание» норма авторского
сознания заявляет о себе самим художественным заданием цикла,
искусно связавшего три совершенно самостоятельных, тематически и идейно разнородных рассказа в единое «произведение произведений».
Чеховская нравственная норма может быть определена (разумеется, с опорой и на другие его тексты) как духовное единение
личных тайн, как конвергентность индивидуальных внутренних
миров. Осью системы ценностей чеховского видения жизни можно считать внутреннее единение личностей, внешне разделенных
не только социальным пространством ролевых отношений, но и
историческим временем.
В «маленькой трилогии» встречаются не только имена Пушкина, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, разных там Боклей, но и
обилие скрытых цитат и литературных аллюзий. Даже сам Беликов -— это до известной степени вариация на темы СалтыковаЩедрина, а его «подколесинские» колебания по поводу женитьбы да колоритные хохлы Коваленки легко воспринимаются в гоголевском ключе. Гоголевские и щедринские аллюзии очевидны
и в рассказе о Чимше-Гималайском.
201
Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли, — реминисценция из рассказа Толстого «Много ли человеку
земли нужно». А мечта есть собственные щи — скрытая цитата из
«Евгения Онегина» («Да щей горшок, да сам большой»). В конце
своего рассказа о брате Иван Иваныч еще раз цитирует Пушкина,
на этот раз называя его. Впрочем, и его итоговое счастья нет, и не
должно его быть пристрастно перефразирует знаменитую строку
Пушкина. А недоверчивое отношение к зрелищу счастливого семейства, сидящего вокруг стола и пьющего чай, может быть соотнесено, например, с финалом «Гробовщика» (прочитанного без
юмора). Разглагольствования Николая Иваныча о народе воскрешают в памяти Фому Опискина, а страстный монолог Ивана Иваныча о счастливых и несчастных звучит эхом голосов целого ряда
персонажей Достоевского.
Тургеневским героем, нерешительным в любви, задающим себе
обезоруживающие, расслабляющие вопросы, предстает Алехин.
В его рассуждениях встречается прозрачный намек и на иной тургеневский тип — на Инсарова: Другое дело, если бы у меня была
красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины... В то же время укладом своей жизни, хозяйственной деятельностью, чистосердечием своим он несколько напоминает Константина Левина. Анна Алексеевна же выглядит, так
сказать, несостоявшейся Анной Карениной. Здесь имеется целый
ряд перекличек: немалое сходство Лугановича с Карениным (даже
в такой частности, как приметные уши, обращающие на себя внимание Алехина), поездки Анны в другой город к сестре, развивающаяся раздражительность, нервозность героини; а расставание
Анны с Алехиным по месту действия ассоциируется с началом
любовной истории Анны и Вронского.
Подобные наблюдения могут быть умножены. Они не самоцельны: выявляемое сгущение реминисценций позволяет нам сказать,
что три самостоятельных «рассказа в рассказе» не только вступают в диалогические отношения между собой, но и вовлечены в
контекст «большого диалога» русской культуры. Не случайно повествователь настойчиво развивает своего рода «соборный» мотив
развешенных по стенам портретов: ...казалось, что его слушали не
только Буркин и Алехин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам. Продолжение
мотива: Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в
сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу чиновника,
который ел крыжовник, было скучно. Развивая интересующий нас
мотив вневременного единения людей, повествователь смыкает
его с мотивом красоты: И то <...> что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай (занятие, только что резко осужденное Иваном Иванычем. — В. Т.) вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам,
и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, — это
202
было лучше всяких рассказов. Наконец, завершающей деталью данного мотива в «Крыжовнике» воспринимается висящее, как и
портреты, на стене старинное распятие из слоновой кости (вспомним нервущуюся цепь девятнадцати веков христианства в размышлении Ивана Великопольского из рассказа «Студент»).
Так трилогия, разворачивающая (при суммативном ее чтении)
картину разнообразия вариантов «футлярности» человеческого
существования, неожиданно обнаруживает в себе мерцающий в
смысловой глубине интегративного цикла образ духовной «ноосферы», неустранимой межличностной связи — образ, который
поистине лучше всяких рассказов, поскольку именно в нем и являет себя нравственная норма бытия.
ГЛАВА 7
АНАЛИЗ СЛОЖНОСОСТАВНОГО ЦЕЛОГО
(«Повести покойного Ивана Петровича Белкина,
изданные А. П.»)
Промежуточное положение между циклическим единством,
с одной стороны, и монотекстовым произведением — с другой,
занимает такое сложносоставное художественное целое, которое, будучи эстетически единым произведением, семиотически
представлено несколькими раздельными текстами. К числу таких
весьма сложных для анализа литературных явлений принадлежит и книга повестей Белкина, полное авторское заглавие которой — «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» — не следует упускать из виду.
Повести Белкина являют собой один из наиболее спорных феноменов русской классической литературы. Объем исследований,
посвященных этому творению пушкинского гения, огромен. Характеры Сильвио и Самсона Вырина, вымышленный автор, общее «художественное задание», историческая и эстетическая значимость этого произведения породили многообразные интерпретации, подчас диаметрально противоположные. Объясняется это
не только трудно преодолимым соблазном «позволить себе досказывать за Пушкина мысли, им не высказанные» (В.В.Гиппиус),
но и коварством мнимой простоты болдинской прозы Пушкина.
Первостепенным здесь является вопрос о мере единства и цельности этого художественного явления: наличие или отсутствие потолстовски понятых «сцеплений» между отдельными историями
может решительным образом сказаться на их содержании.
Так, если «Выстрел» — вполне самостоятельное художественное целое, то финальная фраза повести, казалось бы, позволяет
воспринимать характер Сильвио в героическом ключе: «Повесть
Пушкина велит нам соединить все, что мы знаем о Сильвио, с
1
этим его концом, велит найти конец в начале» . Однако если «Выстрел» не «повесть Пушкина», а сочинение вымышленного Пушкиным Белкина, являющееся своего рода главой гораздо более
обширного художественного целого, то у исследователей были
все основания усомниться в этой героике. Ибо во втором случае
многие черты Сильвио эхом отзываются во Владимире, в романтической позе молодого Берестова и даже отчасти в Адрияне Про1
204
Б е р к о в с к и й Н.Я. Статьи о литературе. — М.; Л., 1962. — С. 229.
хорове и Самсоне Вырине, а финальная фраза оказывается всего
лишь украшающим привеском1 к истории, эстетически завершающим не характер действующего лица (Сильвио), но кругозор
«авторствующего» рассказчика (Белкина).
Ранее других интересующая нас проблема была отчетливо сформулирована В.С.Узиным, справедливо полагавшим, что если «предисловие есть неотъемлемое звено всего этого цикла, тогда не
должно быть ни одного элемента во всем эпическом круге, называемом "Повестями Ивана Петровича Белкина", который не влиял
бы на соседние элементы, а затем и на всю систему повестей;
тогда не могло и не должно бы быть такой повести, которая имела бы разный от других повестей смысл, а все пять повестей должны были бы иметь один и тот же смысл»2.
Однако на деле, как справедливо отмечал Н.К.Гей, в подавляющем большинстве работ «обозначение "Повестей Белкина" как
цикла остается само по себе, а рассмотрение их идет изолированно»3. Так, С. Г. Бочаров, говоря о циклизации повестей как о «завершенности второго порядка», видит здесь не качественный скачок, а лишь «более полное завершение»: «В составе цикла, объятые авторством Белкина, повести сохраняют свободное существование: их можно читать отдельно, до известной степени можно
читать без Белкина»4.
Последнее утверждение представляется совершенно ошибочным. Сопоставим «Повести Белкина» с «Вечерами на хуторе близ
Диканьки», с одной стороны, а с другой — с «Дневником Печорина» в составе «Героя нашего времени». Первые поистине можно
«до известной степени» читать разрозненно и «без» Рудого Панька, поскольку Гоголь полностью скрылся за маской разбитного
«пасичника». Вынести же Печорина за скобки его дневника нет
никакой возможности (сколько бы «маска» Печорина ни напоминала нам подлинное «лицо» его автора), что обусловлено принципиально важным конструктивным моментом двойного авторства, отсутствующим у Гоголя.
Этот конструктивный момент художественной организации
впервые в русской литературе встречается именно в «Повестях
Белкина»5, что и позволило Ю.Селезневу вполне обоснованно
1
Ср.: «Лишней оказывается или сама повесть, или ее заключение» (М их а й л о в а Н.И. Образ Сильвио в повести А.С.Пушкина «Выстрел» // Замысел,
труд, воплощение... — М., 1977. — С. 139).
2
У з и н B.C. О повестях Белкина. — СПб., 1924. — С. 6.
3
Г е й Н.К. Проза Пушкина: Поэтика повествования. — М., 1989. — С. 70.
4
Б о ч а р о в С. Г. Поэтика Пушкина: Очерки. — М., 1974. — С. 127, 147.
5
Ср.: «Вся атмосфера, стилистика, весь тон произведений допушкинских <...>
обусловлены идеологией и манерой автора. <...> Иное дело у Пушкина начиная
с 1830 года» ( Г у к о в с к и й Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. —
С. 295).
205
заметить: «Истоки своеобразия формы "Героя нашего времени" —
не в пушкинском романе в стихах, а в тех возможностях романа,
которые пробивали себе путь через новеллы Пушкина»1. Мы постараемся показать последующим анализом, что «эпический
круг» (Узин) болдинской прозы Пушкина является более «тесным» художественным образованием, чем цикл. Это сложносоставное художественное целое романного типа, на что уже указывалось, например, С. М. Шварцбандом2.
Момент двойного авторства и вытекающего отсюда единства
всего текста «Повестей Белкина» Пушкиным был всячески подчеркнут и полным заглавием произведения; и финальной его ремаркой (Конец повестям И. П. Белкина) — без общепринятого в то
время завершения словом «конец» каждой из повестей в отдельности; и системой эпиграфов, где выбор первого приписать самому Белкину уже никак невозможно (хотя он и перекликается с
упоминанием Тараса Скотинина в конце «Барышни-крестьянки»);
и смеховой тональностью предисловия «От издателя», контрастирующей с серьезностью сочинительской интенции самого Белкина; и глубоко не случайным порядком расположения повестей в
книге3; и многим другим — вплоть до графического оформления
титульного листа первого издания.
В результате пушкинская «завершенность второго порядка» не
столько дополняет первичные художественные завершения, приписанные Белкину, сколько вступает с ними в разногласие: там,
где Белкин видит пять творений, Пушкин — одно (включающее в
себя и творческие усилия самого Белкина как объект художественного интереса со стороны подлинного автора); там, где Белкин
усматривает разрешение конфликта, исчерпанность темы, Пушкин видит незавершенность, а потому и обращается к очередной
«повести», освещающей предыдущую по законам художественного монтажа. Этот эксперимент приводит к художественному открытию огромной важности: «Происходит преломление авторского
замысла в слове рассказчика; слово здесь — двуголосое»4.
Оцельняющим фактором первостепенной значимости в «Повестях Белкина» следует признать именно эффект двуголосого
слова, преодолевающий исторический кризис моносубъектного
1
В мире Пушкина. — М., 1974. — С.421.
См.: Ш в а р ц б а н д С М . Жанровая природа «Повестей Белкина» А.С.Пушкина // Вопросы сюжетосложения. — Рига, 1974. — Вып. 3.
3
Окончательная их последовательность отличается как от последовательности написания, так и от первоначального плана, составленного 13 сентября —
после завершения первой болдинской повести («Гробовщик») и накануне работы над «Станционным смотрителем» и предисловием «От издателя» (где тексты
упоминаются еще в одном, едва ли случайном порядке: «Смотритель», «Выстрел», «Гробовщик», «Метель» и «Барышня»).
4
Б а х т и н М.М. Проблемы поэтики Достоевского. — С. 256.
2
206
1
повествования и явленный Пушкиным впервые в истории не только русской, но и едва ли не всей мировой литературы. Во всяком
случае, Ф.М.Достоевский полагал, что явиться «с Белкиным —
значит решительно появиться с гениальным новым словом, ко2
торого до тех пор совершенно не было нигде и никогда сказано» .
Разумеется, прием подставного автора использовался в мировой и русской литературе и до Пушкина. И все же если, например, в тексте «Пригожей поварихи» Чулкова рассказ от первого
лица заменить повествованием от третьего, то от этого ничего не
изменится. Весь смысл произведения сосредоточен в рассказываемых событиях. Придать художественную значимость самому «событию рассказывания» (Бахтин) Чулков еще не умеет.
У Пушкина же всякое высказывание Белкина само становится
событием; изображающее слово подставного автора, в свою очередь, оказывается словом изображенным, требуя эстетического
отношения не только к обозначаемым им фактам, но и к себе
самому. В итоге перед проницательным читателем, как замечает
И.Л.Попова, открывается возможность «видеть две версии изложенных событий, не только ту, о которой рассказал простодушный повествователь, но и ту, о которой умолчал автор»3.
Полемика С.Г.Бочарова с М.М.Бахтиным, видевшим в фигуре Белкина «чужой голос», «социально определенный и индивидуально-характерный образ», представляется нам безосновательной. Бочаровский тезис о «безголосости» Белкина, о его «невоплощенности» в слове4, будто бы всегда принадлежащем рассказчику записанной им истории, легко опровергается обращением,
например, к тексту второй главы «Выстрела», где мы читаем:
Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня
поселиться в бедной деревеньке Н** уезда. Занимаясь хозяйством, я не
переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной
жизни. <...> До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но как скоро
начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число
книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены
мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница
Кириловна. были мне пересказаны. <...> Принялся я было за неподслаЩенную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться пьяницею <...> чему примеров множество видел я в
Нашем уезде.
'См.: Шатин Ю.В. «Повести Белкина»: кризис моносубъектного повествования // Актуальные проблемы изучения творчества А.С.Пушкина. — Новосибирск, 2000.
2
Д о с т о е в с к и й Ф.М. Об искусстве. - М., 1973. — С. 415.
3
П о п о в а И.Л. Смех и слезы в «Повестях Белкина» // Пушкин А.С. Повести
Белкина. — М., 1999. - С. 481.
4
См.: Б о ч а р о в С.Г. Поэтика Пушкина: Очерки. — С. 132.
207
Сравним с достоверными, по ручательству Издателя, сведениями, полученными от биографа:
Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, пону=
дила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину, где
он (по всей вероятности, вздыхая о прежней своей шумной и беззаботной жизни) в скором времени запустил хозяйство. <...> Сменив исправного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привычке)
были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице,
приобретшей его доверенность ИСКУССТВОМ рассказывать истории. <...>
Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода
излишеств: никогда не случалось мне видеть его навеселе (что в краю
нашем за неслыханное ЧУДО почесться может).
А сообщение биографа о великой склонности Белкина к женскому полу (при стыдливости истинно девической) отзывается в
«Выстреле» признаниями рассказчика:
...признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки
сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть; и далее:
я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла
графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего.
Совершенно очевидно, что, по крайней мере в этом случае,
подполковник И. Л. П. (рассказчик истории) неотличим от Белкина
(сочинителя повести), как бы проговаривающегося о своем сочинительстве: Сияьвио (так назову его)... Как будто Белкин-автор
был не в праве примыслить себе воинское звание повыше (показательно, однако, что на «полковника» он так и не отважился),
которое, впрочем, не вяжется с робостью и трепетом повествователя, ощущающего себя в графском кабинете просителем из провинции. Разночтения между оценкой хозяйственности Белкина со
стороны соседа-биографа и самооценкой рассказчика, пожалуй,
только усиливают впечатление согласуемости этих субъективных
версий одной и той же житейской ситуации. Но особенно существенно (не только для «Выстрела», но и для произведения в целом) признание Белкина, неуклюже укрывающегося за маской
подполковника, о вытверженности наизусть книг, найденных под
шкафами и в кладовой.
Произведения и сюжеты, послужившие фундаментом для «Повестей Белкина», как было показано В.Э.Вацуро, суть «литературные образцы, уже давно сошедшие со сцены и для читателя
1830-х годов безнадежно устаревшие. Встречающееся иногда в литературе мнение, что Пушкин своими повестями стремился
вскрыть надуманность их сюжетных ситуаций и наивность их характеров, уже по одному этому следует отвергнуть. Не было никакой надобности в 1830 г. полемизировать с литературой, уже не
существовавшей для образованного читателя и знакомой лишь про208
винциальному помещику, почитывающему от скуки журналы и
1
книги прошедшего столетия» .
Но здесь-то и коренится собственный голос Белкина, который, по характеристике В.Е.Хализева, «настойчиво стремится
"подвести" своих героев под определенные амплуа <...> героев с
живым лицом он жаждет "подогнать" под известные ему книжные стереотипы»2. Устарелая «литературщина» и неловкие попытки выглядеть значительнее, чем он есть на самом деле, — вот
основные характеристики речевых жестов подставного автора повестей.
С тех пор, как этим занимаюсь (о поцелуе, выпрошенном у
Дуни) — не только безликая псевдоцитата из книжки, найденной под шкафом и вытверженной наизусть, но и скрытая похвальба застенчивого Белкина. Эта похвальба явственно вступает в
негласный спор с неопубликованным анекдотом из письма биографа. В такого же рода квазиспор с замечанием из этого письма о
недостатке воображения у Белкина вступает заявление рассказчика «Выстрела» о своем романическом воображении, вследствие
которого он и заинтересовался Сильвио, ибо тот казался ему героем таинственной какой-то повести. Эта литературная вторичность в сочетании с простодушным самомнением (он любил меня)
выдают в излагающем историю повествователе самого Ивана Петровича.
Напротив, пресловутые рассказчики, роль которых исследователями часто преувеличивается, голоса своего в «Повестях Белкина» как раз не имеют. Появление примечания Издателя об устных
источниках белкинских текстов «не ранее середины августа 1831 г.,
только при подготовке повестей к печати», как справедливо полагает С. М. Шварцбанд, «требует от нас полного отказа от рас3
смотрения указанных "источников" как рассказчиков» , заслоняющих фигуру повествователя. Во-первых, подобное примечание —
это естественный для Пушкина атрибут письменной фиксации
устного источника фабулы. В собственных записных книжках, записывая анекдоты об исторических лицах, он обычно указывал:
«Сл. от...» с инициалами информатора. Во-вторых, издательское
примечание обращено к любопытным изыскателям, активизируя
рецептивную компетентность читателя и заодно выдвигая названного первым «Смотрителя» на передний план в качестве текстаключа. Обозначенные же инициалами рассказчики (с указанием
чина или звания — еще одно указание на белкинскую стандар1
В а ц у р о В.Э. Записки комментатора. — СПб., 1994. — С. 36.
Х а л и з е в В. Е., Ш е ш у н о в а СВ. Цикл А.С.Пушкина «Повести Белкина». - М . , 1989.-С. 40.
•* Ш в а р ц б а н д СМ. История «Повестей Белкина». — Иерусалим, 1993. —
С 177.
2
209
тизированную манеру мышления) суть простые информанты,
носители житейского материала, которому Белкин старательно
придает поверхностную, бьющую в глаза литературность, предполагающую, в частности, и вальтерскоттовские маски рассказчиков.
Так, рассуждение о гробокопателях у Шекспира и Вальтера
Скотта явно принадлежит сочинителю, а не приказчику Б. В.Женские истории девицы К. И.Т., как уже неоднократно отмечалось,
явственно изложены мужским «голосом», о чем свидетельствует
не только грамматическая форма мужского рода, но и шутливопокровительственная тональность рассуждений о прелести уездных барышень, о девической их влюбчивости, о книжности их воззрений на жизнь и т. п. Нет никаких оснований отличать Белкина
и от рассказчиков «Выстрела» или «Станционного смотрителя».
В частности, рассказ титулярного советника А.Г.Н. не мог быть
услышан Белкиным позднее 1823 г. (год отставки и уединения в
Горюхине); однако этот якобы пожилой и опытный человек, изъездивший к тому времени Россию во всех направлениях в течение
двадцати лет сряду, в 1816 г. (начало «Станционного смотрителя») все еще был молод и вспыльчив, а изложенная им история
никак не втискивается в семилетний промежуток времени. «Этой
несообразностью, вкупе со многими другими в "Повестях Белкина", — полагает П.Деберцени, — Пушкин, вероятно, хотел напомнить читателю, что рассказчики повестей — всего лишь игра
воображения и к ним не следует относиться серьезно»1.
Однако еще существеннее другое. Никакой «диалогический угол»
(Бахтин) между интенциями Белкина и его информантов не выявлен в тексте, тогда как между «сочинительством» Белкина и
авторством Пушкина он явственно обнаруживается. Повести, как
формулирует В. Е.Хализев, получают «двоякое эстетическое завершение: Белкин пытается придать пересказанным анекдотам назидательность, однозначную серьезность и даже приподнятость
(без которых литература в его глазах лишается оправдания), а подлинный автор стирает "указующий перст" своего "предшествен2
ника" лукавым юмором» .
«Двоякость» прочтения, возникающая в результате группировки текстов вокруг вымышленный фигуры покойного автора И. П. Б.,
носит принципиальный и глубинный характер. Как пишет об этом
В.М.Маркович, в событиях белкинских повестей «можно усмотреть некую целесообразную связь, выражающую то ли высшую
волю, то ли имманентный закон жизни»; однако в них «слишком
заметны черты житейской обыкновенности, чтобы ореол прови' Д е б р е ц е н и П. Блудная дочь: Анализ художественной прозы Пушкина.
СПб., 1995.-С. 129-130.
2
Хал и зев В.Е., Ш е ш у н о в а С В . Указ. соч. — С. 42, 43.
210
денциального смысла мог беспрепятственно их окружить», поэтому столь же обоснованно те же события «могут представиться
всего лишь игрой случая». И хотя «в глубине подразумеваемого
вырисовывается намек на присутствие универсального закона,
повелевающего счастьем и несчастьем людей», тем не менее «как
бы ни усиливалась здесь символико-поэтическая тенденция, противоположная ей прозаическая правда — правда иронии, скепсиса или простого факта — тем самым вовсе не отменяется»1.
Такого рода двуполярность «Повестей Белкина» объясняется
наличием двух глубинных жанровых истоков сложносоставного
художественного целого, положившего начало классической русской прозе. Такими истоками видятся пралитературные жанры
анекдота и притчи, жанровые стратегии которых создают уникальный контрапункт, пронизывающий поэтику данного произведения в полном его составе. Перед нами поистине двуголосый в жанровом отношении текст, предполагающий возможность одновременного прочтения как на языке анекдота (типичный прароманный жанр, «отец» новеллы и «дедушка» романа), так и на языке
притчи. Немаловажно отметить, что в пушкинском тексте притча
названа «историей блудного сына», что ставит ее в один ряд со
всеми прочими «историями» книги.
Притча и анекдот имеют немало общего. По своему происхождению оба суть «астероидные» жанровые образования, возникающие на периферии фундаментальных контекстов духовной культуры: для притчи это контекст вероучения, для анекдота — контекст публичной историографии (ср. роль придворного византийского историка Прокопия Кессарийского в становлении анекдотической жанровой традиции). Общими для поэтики обоих пралитературных жанров являются: компактность сюжета в сочетании с
емкостью ситуации, лаконичная строгость композиции, неразвернутость характеристик и описаний, акцентированная роль немногочисленных и как бы укрупненных деталей, краткость и точность словесного выражения. Все это, по общему мнению, присуще и стилю пушкинской прозы. Например, «скупость деталей,
отсутствие развернутых описаний, закрытость характеров <...> недостаточность психологических мотивировок в поступках героев»,
2
а также «устная интонация» свойственны притче, как и анекдоту.
Их общим эффектом оказывается отмеченный Л.Толстым «интерес самых событий», вследствие которого пушкинские повести
с позиций классического реализма «голы как-то»3. В пределе своем анекдот «конденсируется» в остроту (ср. из «Выстрела»: знать
М а р к о в и ч В.М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. —
СПб., 1997. - С. 44, 46, 48.
2
П о п о в а И.Л. Указ. соч. - С . 503, 509.
3
Т о л с т о й Л.Н. Указ. соч. - С . 18.
211
у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку, или из «Барышникрестьянки»: Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы порусски хоть сыты), а притча — в паремию, пословично-афористическую сентенцию (ср. из «Станционного смотрителя»: сегодня в атласе да бархате, а завтра метут улицу вместе с голью
кабацкою; или из «Барышни-крестьянки»: Вольному воля, а дорога
мирская).
Однако при этом слово притчи — слово авторитарное, назидательное, безапелляционное в своей монологической императивности (из «Гробовщика»: Разве гробовщик брат палачу?). Слово же
анекдота — слово инициативное, диалогизированное, курьезное
своей окказиональностью и беспрецедентностью (из «Барышникрестьянки»: Не твое горе — ее счастие). Притча осваивает универсальные, архетипические ситуации общечеловеческой жизни
и творит регулятивную картину мира, где герой — субъект этического выбора перед лицом некоего нравственного императива.
Анекдот же осваивает уникальные, исторически периферийные
ситуации частной жизни и творит релятивную, игровую картину
мира как арены столкновения и взаимодействия субъективных
воль, где герой — субъект свободного самоопределения в непредсказуемой игре случайностей.
Герой анекдота Белкин (в первом примечании Издателя читаем:
Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана
Петровича Белкина в себе не заключает) и притчевые персонажи
истории о блудном сыне суть внесюжетные фигуры произведения.
Обрамляя вымышленную реальность «повестей», они остаются на
границах литературного сюжета, поскольку вполне принадлежат
первый — национально-историческому быту, вторые — внеисторическому и вненациональному общечеловеческому бытию.
В пределах же самого сюжета герой притчи (Владимир, развивающий план побега и покаянного возвращения по схеме «блудного сына») становится героем анекдота (диалог заблудившегося
жениха с мужиком в затерянной деревушке); а герой анекдота о
случайном венчании (Бурмин) — героем притчи о том, что суженого конем не объедешь. Типично притчевые герои (Сильвио или
Самсон Вырин, со всей серьезностью осуществляющие некий
регулятивный подход к жизни) сталкиваются лицом к лицу с героями типично анекдотическими (граф Б. с его дуэльными черешнями, мнимый больной Минский). Сквозь явную анекдотичность сюжетов «Гробовщика» и «Барышни-крестьянки» отчетливо проступает притчевая символика (актуализируемая эпиграфами этих повестей), а мыслящий себя героем притчи о муках совести (Предаю тебя твоей совести) Сильвио оказывается героем
анекдота о стрелке-мухобое (Вы смеетесь, графиня? Ей-богу правда). Очевидно анекдотичен набор свидетелей Владимира: человек
212
мирной профессии землемер Шмит в усах и шпорах демонстративно дополняет этими атрибутами гусарства отставного сорокалетнего корнета (младший офицерский чин, приличный юноше, но
не зрелому мужчине) и безымянного шестнадцатилетнего улана.
При этом сам Владимир планирует осуществить с Машей на практике притчевую схему возвращения «блудного сына». Даже в пределах одной фразы обнаруживается порой контаминация окказионального слова остроты (редуцированный анекдот) и авторитарного слова паремии (редуцированная притча): Живой без сапог
обойдется, а мертвый без гроба не живет и т.п.
Взаимопроникновение анекдота и притчи может быть продемонстрировано на примере такой частности, как одеяние родителей Марьи Гавриловны. Колпак и шлафорк, упоминаемые в «Метели» (халат Прохорова, халат и скуфья Минского эквивалентны
им), совпадают с теми же деталями, повторенными дважды в
описании немецких притчевых картинок; но они же в пушкинском сознании выступали атрибутами анекдотичности 1 .
В конечном счете жанровая стратегия притчевого мышления
позволяет Пушкину сопрягать историческую действительность с
универсальными общечеловеческими ценностями. Характерна в
этом отношении перекличка патетического пассажа об окончании Отечественной войны с финальной ситуацией притчи о блудном сыне: Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе. <...> Как сильно билось русское
сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания! <...>
Л для него (отца-государя. — В. Т.) какая была минута! Жанровая
стратегия анекдотичности, напротив, сопрягает «большое» время
общенародного, исторического бытия с «малым» временем индивидуального, интимного быта (ср.: Кто из тогдашних офицеров не
сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою?..).
Если белкинские тексты действительно являют собой единое
художественное произведение, то притча о блудном сыне в составе
одного из них не могла не отразиться на всяком компоненте целого.
Например, по соседству с нею уже не может выглядеть случайным
то, что в «Повестях Белкина» пять овдовевших отцов, включая и
самого персонажа немецких картинок (об участии матери в столь
важных семейных событиях притча ничего не говорит), и еще больше
так или иначе возвращающихся в отчий дом сыновей (и дочерей),
включая и самого Белкина. Хотя в «Метели» действуют оба родителя, зачин повести торжественно посвящен отцу, как если бы он и
был ее центральным персонажем. Впрочем, именно смерть доброго
1
Ср.: «Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке и в шлафорке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее» // Литературная
г а з е т а . - 1830. - № 5.
213
Гаврилы Гавриловича Р**, который славился во всей округе гостеприимством и радушием (прозрачная аллюзия четвертой картинки),
оказывается необходимым звеном сюжета воссоединения тайно
обвенчанных героев. Наконец, даже в «Выстреле» молодые офицеры почитали стариком Сильвио, доверительно говорящего о своей
любви к рассказчику, который, в свою очередь, всех сильнее бьи
привязан к этому заместителю отцовской фигуры. Кстати, не стреляя в графа, Сильвио дарит ему жизнь, присваивая себе тем самым
отеческую власть над противником.
В.Н.Турбиным уже отмечалось, что «притча о блудном сыне
занимает в художественном мире Пушкина место исключительное» 1 . В особенности это верно по отношению к периоду 1829 —
1830 гг. Помимо общеизвестных биографических обстоятельств,
связанных с выношенным намерением жениться и обрести свой
Дом 2 , напомним стихотворение «Воспоминания в Царском Селе»
1829 г. и работу в этом же году над переводом «Гимна Пенатам»
Р.Саути, стихотворения болдинской осени «В начале жизни школу помню я...» и «Отрок» (мотив ухода), «Когда порой воспоминанье...» (мотив возвращения), «Два чувства дивно близки нам...»,
не говоря уже о «Путешествии Онегина». Наконец, напомним,
что описание немецких картинок в готовом виде перенесено в
текст «Станционного смотрителя» из начатых в 1829 г., но не завершенных «Записок молодого человека».
В «Записках...» притча о блудном сыне давала ключ к последующему сюжетному развитию и его осмыслению. Давно ли я бьи
еще кадетом?<...> Теперь я прапорщик, имею в сумке 475р., делаю
что хочу и скачу на перекладных в местечко В. <...> где уже никогда
не молвлю ни единого немецкого слова (зубрежка немецких вокабул —
одно из самых неприятных воспоминаний героя о своей кадетской жизни). Здесь явственно обнаруживается очевидная параллель между будущим участником восстания Черниговского полка
в местечке В. (Васильков) и притчевым беспокойным юношей, который поспешно принимает благословение и мешок с деньгами, тем
более что уже на первой почтовой станции, рассматривая в ожидании лошадей картинки, герой делает свой самый первый, внутренний и бессознательный жест возвращения (пока лишь к привычным занятиям немецким языком, еще недавно казавшимся
столь ненавистными): Под картинками напечатаны немецкие стихи. Я прочел их с удовольствием и списал, чтобы на досуге перевести.
План «Записок...» оканчивается словом «Родина».
' Т у р б и н В. Н. Пушкин. Гоголь, Лермонтов. Об изучении литературных жанров. - М., 1978. - С. 66.
2
«История проходит через Дом человека, через его частную жизнь. <...> Домродное гнездо получает для Пушкина особенно глубокий смысл» (Л о т м а н Ю. МАлександр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. — Л., 1982. — С. 177).
214
Если говорить о пушкинских текстах, символическая связь между отчим домом, вотчиной и отчизной, родиной, между отцом и
1
государем не требует, как нам кажется, особых доказательств . Но
2
она-то и приводит исследователей в замешательство , вынуждая
предполагать, что Пушкин мог иметь намерение написать повесть
о «блудном» декабристе3.
Недоумение рассеивается при обращении к тексту Библии. Ведь
библейская притча о блудном сыне, строго говоря, является притчей о двух сыновьях (начинается она словами: «У некоторого человека было два сына»), причем более трети всего объема текста
(8 заключительных стихов из 22) отведено спору с отцом старшего, «никогда не преступавшего» сына о правах младшего на столь
праздничную встречу. Этот спор, не берущийся во внимание весьма распространенным «филистерским» истолкованием притчи (запечатленным и немецкими картинками), существенно смещает
акценты. Мудрость библейского отца не в том, что он якобы предвидел раскаяние сына (таков печальный отец у Рембрандта, тогда
как у евангелиста Луки ликующий отец обрадован нежданным
возвращением: «Станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был
мертв и ожил, пропадал и нашелся»), а в том, что он не препятствовал уходу сына. Человеческая ценность того, кто пришел в
отчий дом самостоятельно избранной дорогой искушений и испытаний, оказывается выше в сравнении с тем, кто этого дома
никогда не покидал, догматически соблюдая верность устоявшемуся укладу жизни и не претерпев испытаний.
Возможность подобного прочтения истории блудного сына в
контексте пушкинского творчества не только не противоречит ее
каноническому смыслу4 и согласуется с целым рядом пушкинских поэтических (и прозаических) раздумий5, но и обосновывается реконструкцией архаичного ритуально-мифологического под1
В «Воспоминаниях в Царском Селе» 1929 г. хозяйкой родимой обители, куда
лирический герой входит с поникшей головой, как отрок Библии, безумный расточитель, выступает великая жена — Екатерина II. Тынянов имел все основания
написать: «Личный, автобиографический, домашний интерес к истории — характерная черта Пушкина-романиста» ( Т ы н я н о в Ю.Н. Проза Пушкина //
Литературный современник. — 1973. — № 4. — С. 193).
2
«В повести о прапорщике, по всей очевидности, никакого применения для
картинок не предполагалось» ( Б е р к о в с к и й Н.Я. Указ. соч. — С. 328).
3
Ср. полемику Н.Н.Петруниной с автором этих строк ( П е т р у н и н а Н.Н.
Проза Пушкина: Пути эволюции. — Л., 1987).
4
Ср.: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в
покаянии» (Лук. 15:7).
5
Болдинской осенью поэт видел залог величия человека не в любви к родному
пепелищу (очагу) и отеческим гробам, а в его самостоянье; однако последнее для
Пушкина основано именно на любви к родному пределу, к родному живому и
Родному мертвому.
215
текста притчи. Дело в том, что пересказанная лишь в одном Евангелии от Луки, но литературно наиболее продуктивная из всех
евангельских притч, она является прозрачной парафразой обряда
инициации (выделение индивида из общины и возвращение в нее
в новом качестве, осмысляемое как смерть и новое рождение —
преображение).
В притче о блудном сыне нашли свое отражение в соответствующей последовательности такие важные мотивы инициации,
как отправление в «дальнюю сторону» и пребывание в чужеземной стране, приравниваемое мифологизированным мышлением
к прохождению через царство мертвых1; повышенный эротизм
героя («расточил имение свое, живя распутно»); встреча с чудовищем или тотемным животным, нередко проглатывающим героя (свиньи в библейском тексте поедают рожки, которые могли
бы спасти блудного сына от голодной смерти); одевание в новую
одежду и пиршество с закланием жертвенного животного («приведите откормленного теленка и заколите»). При этом инициируемый герой мифологического предания в противоположность
герою преданий религиозных (святому) не должен уклоняться
от искушений, а должен, напротив, пройти через искус; он не
аскет, а «скиталец» (восходит к индоевропейскому корню «спешить, убегать») — будущий инициативный «плут» романной традиции.
Четырьмя немецкими картинками из обители Самсона Вырина Пушкин четко артикулировал все четыре фазы универсального
археосюжета инициации, составляющего фабульный субстрат
многочисленных литературных сюжетов старого и нового времени (см. раздел «Фабула»).
Первая картинка, где почтенный старик в колпаке и шлафорке
отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его
благословение и мешок с деньгами, соответствует фазе обособления, чаще всего реализуемой как уход героя (в прямом или переносном смысле).
Вторая картинка, в которой яркими нертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами, отвечает
фазе нового партнерства, нередко предстающей фазой искушения («блуда»).
Третья картинка отсылает к тому повороту евангельской притчи, который в соответствии с принятой в этнографии терминологией следует обозначить как лиминальную фазу испытания смертью. В рассказанной Иисусом притче лиминальная фаза редуциро1
Оппозиция русского и чужеземного существенна для всех без исключения
белкинских повестей, но кульминацию этой темы представляет пассаж из «Метели» о возвращении победителей, ушедших в поход почти отроками.
216
вана до встречи с голодной смертью: когда «настал великий голод
в той стране», блудный сын, сделавшись свинопасом, «рад был
наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не
давал ему»; далее наступает очевидное оживление после голодного обморока: «придя же в себя <...> встал и пошел к отцу своему»,
говорящему о сыне: «был мертв и ожил».
Наконец, четвертая картинка при учете соответствующего места из притчи прозрачно соотносима с фазой преображения, в
рамках которой символическое «новое рождение» как перемена
статуса сопровождается возвращением героя к месту своего исхода. Знаменательно, что возвращение в притче не только интерпретируется как воскресение из мертвых, но и наделяется символикой обретения власти младшим сыном-пришельцем: «Отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень1 на руку его».
Поэтика пушкинского сюжетосложения, как правило, органично воспроизводит эту парадигму «мировой фабулы». Так, сюжетная динамика «Гробовщика» начинается исходом, переселением (фаза обособления), продолжается знакомством и пированьем с немцами-ремесленниками (фаза новых партнерств), а далее мнимой смертью купчихи Трюхиной и пришествием мертвецов (лиминальная фаза). Завершается повесть, как и следовало
ожидать, преображением: угрюмый и задумчивый, склонный к печальным размышлениям, бранящий по обыкновению своему дочерей и при этом мечтающий похоронить купчиху — гробовщик
вдруг (при известии о здравии Трюхиной) обрадованный призывает дочерей.
Подобная организация фабулы у Пушкина не редкость. Поразительно, однако, что и последовательность составляющих книгу
повестей соответствует все той же четырехфазной модели, явленной картинками.
В общем макросюжете книги «Выстрел», несомненно, осуществляет конструктивную функцию фазы обособления: именно обособленностью и склонностью к уединению характеризуются жизненные обстоятельства и жизненные позиции как центрального
героя Сильвио, так и самого рассказчика. Мотивами искушения,
блуждания, ложного и неложного партнерства (в любовных и дружеских отношениях) направляется фабула «Метели», где к тому
же имеет место разгульное застолье предсвадебного «мальчишника», не менее метели, надо полагать, поспособствовавшее оплошности Владимира. «Гробовщик», реализующий общую парадигму фабульности белкинских повестей в ее, можно сказать,
1
Ср.: Фараон «надевает на палец Иосифа перстень со своего пальца (овеществление магии власти)» ( А в е р и н ц е в С.С. Иосиф Прекрасный // Мифы народов мира: Энциклопедия. — Т. 1. — С. 556).
217
чистом виде, занимает центральное место в книге. Эта шутка вьь
полняет роль своего рода интермедии перед лиминальной фазой
макросюжета, представленной «Станционным смотрителем» с его
кладбищенским финалом на уничтоженной станции. Лиминальная
функция предпоследней части книги вполне мотивирует домин и рующую здесь элегическую тональность, столь чуждую остальным
повестям Белкина. Наконец, «Барышня-крестьянка» многими своими преображениями (переодеваниями и переменами статуса или
жизненной позиции), несомненно, принимает на себя конструктивную функцию заключительной макросюжетной фазы.
Можно отметить и ту особенность организации книги, что каждая из повестей наделена своего рода мотивными «мостиками»,
ведущими к последующим и предыдущим ее частям (центральная
повесть «Гробовщик» в этом смысле равномерно связана со всеми
остальными повестями). Так, новые партнерства, устанавливающиеся между Сильвио и рассказчиком в первой части «Выстрела», между рассказчиком и графом Б. во второй части, являются
здесь не доминирующими, а всего лишь служебными фабульными моментами; однако в то же время они как бы готовят ключевую роль этих моментов в «Метели».
Побег (неудавшийся, что не позволяет ему стать доминирующим мотивом) и последующее обособление Владимира (Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть...)
связывают «Метель» с предыдущей макросюжетной фазой (обособления), а смерть Владимира — с последующей (лиминальной).
Разного рода искусительные партнерства (включая увоз невесты)
связывают «Станционного смотрителя» с «Метелью», тогда как
преображение бедной Дуни в прекрасную барыню прокладывает путь
к «Барышне-крестьянке». В этой последней повести (помимо отсылающего к «Станционному смотрителю» желания Алексея Берестова пойти дорогой Минского и жениться на простой поселянке) встречается также немало лиминальных мотивов — своего
рода отзвуков предыдущей фазы (достаточно напомнить черное
кольцо с изображением мертвой головы).
Притча о блудном сыне не только задает единую фабульную
основу сложносоставного целого, но и формирует его мифотектонику как ритуально-мифологический комплекс мотивов инициации, цементирующий художественное целое. Напомним, что
во втором примечании Издателя, где перечисляются «информанты» Белкина, «Станционный смотритель» назван первым (хотя
титулярный советник А. Г. Н. и ниже подполковника И.Л. П. на
целых два класса), что могло бы навести любопытных изыскателей, кому предназначено это предисловие, на мысль о ключевом
значении этой повести.
Проиллюстрируем сказанное на примере центральной повести
«Гробовщик», где связь с текстом притчи и немецкими картинками
218
обнаруживается лишь самая поверхностная (одинокий отец — но
не сыновей, а дочерей; застолье с ложными, как полагает оскорбившийся Адриян, друзьями; треугольная шляпа и рубище с немецкой картинки — в одеянии мертвецов; расточительность молодого наследника Трюхиной и т.п.). Все основные компоненты ритуально-мифологического комплекса мотивов инициации
представлены здесь достаточно отчетливо и даже троекратно. Имеется три исхода: переезд на Никитскую, выход в гости, отправление на Разгуляй (весьма значимый в данном контексте топоним!)
к покойнице; три возвращения: из гостей (т.е. от немцев, чужестранцев), от покойницы Трюхиной — во сне, из «загробного
мира» сна — пробуждение; три пира, включая чаепития (приглашение к третьему пированью-чаепитию — финальная реплика
повести); три искушения, которым Прохоров легко поддается:
покупка за порядочную сумму (намечен мотив расточительности)
домика, соблазнявшего воображение; приглашение на серебряную
свадьбу, где Адриян пил с усердием; предложение выпить за здоровье
своих мертвецов, провоцирующее приглашение мертвых на новоселье; три испытания: испытание чести — чем ремесло мое нечестнее прочих; испытание совести — наследник купчихи во всем полагается на его совесть; наконец, испытание любви и доброжелательности к мертвецам православным.
Итак, Адриян Прохоров — персонаж, претерпевающий, хоть
и помимо своей воли, процесс инициации. Здесь и следует искать
ответ на давнишний вопрос: происходит ли с героем нечто, или
читательское ожидание комически, как полагал Б.М.Эйхенбаум,
«разрешается в ничто». Содержательная глубина мифопоэтического подтекста повести свидетельствует о справедливости первого соображения. В глазах Белкина, сверхзадача которого состоит в
придании жизненному материалу приличной для сочинителя литературности, развеселившийся в финале гробовщик приобщается
к авторитетному ряду персонажей У. Шекспира и В. Скотта. В глазах же подлинного автора герой приобщается к живой радости
1
жизни , размыкая «сумрачно замкнутый круг уединенной мысли»
(М.Столяров).
Обряд инициации был в значительной степени предуготовлением инициируемого к брачному обряду: возвращающийся к жизни после символической смерти юноша приобретал статус мужчины — воина, охотника и жениха. Мифопоэтическое значение инициации для всего многосоставного целого проявляется, в частности, в повсеместном присутствии свадебного мотива. Сюжетообразующая роль этого мотива в первой, второй и заключительной повестях очевидна. Однако и в сюжете «Гробовщика» ключевая роль
Принадлежит опьянению Адрияна на немецкой серебряной свадьбе;
'См.: Б о ч а р о в С. Г. О художественных мирах. — М., 1985. — С. 68.
219
к тому же во сне он задается вопросом: Не ходят ли любовники к
моим дурам? Наконец, финал «Станционного смотрителя» недвусмысленно говорит о замужестве Авдотьи Выриной во исполнение
обещания Минского: ...не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она
будет счастлива, даю тебе честное слово. А появление Минского
зимним вечером и, судя по его одеянию, в метель {Сняв мокрую,
косматую шапку, отпутав шаль1 и сдернув шинель...) прозрачно соотносится с появлением Бурмина на венчании вместо Владимира.
От А.С.Долинина (Искоза) идет продолженная В.С.Узиным,
М.А.Столяровым, А.З.Лежневым и др. традиция обнаружения
в «Повестях Белкина» антитезы героев «моцартианского» и «сальерианского» типов. Рассмотрение этой проблемы под углом зрения актуализируемого притчевыми картинками комплекса инициации многое проясняет и уточняет. Путь к счастью (для молодых героев «Барышни-крестьянки», для Минского и Дуни, для
Бурмина и Марьи Гавриловны, для графа Б.) — это путь инициации, предполагающей открытую позицию по отношению к миру
(но без разрыва с родным, отеческим). Это приобщение к жизни
посредством искушений, испытаний, блужданий. Все герои, избирающие такой путь, характеризуются самобытностью, моцартовским самостояньем (характерное пушкинское слово из болдинского наброска «Два чувства дивно близки нам...»).
Гибнущие персонажи «Повестей Белкина» (Сильвио, Владимир, Самсон Вырин), напротив, остаются вне законченного сюжета инициации. Так, Владимир идет по этому пути, но не свободно, а расчетливо; он не выдерживает тех испытаний метелью,
а затем войной (эквивалент царству мертвых), которые благополучно проходит Бурмин; он уклоняется от искушения соединиться с Машей, когда получает нежданное согласие ее родителей.
Сама гибель всех этих персонажей говорит, что им (творческой
волею подлинного автора) не дано пройти инициацию как испытание их жизненной позиции — смертью. Все они, разумеется,
далеко не «отрицательные» герои, но и «положительными» их,
вопреки стараниям мнимого автора Белкина, признать невозможно.
«Сальерианская» жизненная позиция Сильвио, Владимира и даже
Самсона Вырина эквивалентна позиции второго сына из Притчи — завистника, обоснованно, как ему представляется, претендующего на превосходство или предпочтение. Не вина, а беда
этих персонажей состоит в их отгороженности от искушающего
течения жизни, в их фанатической приверженности готовому укладу, плану или идее, в конечном счете в авторитарности их мышления.
1
Для Пушкина «шаль» — принадлежность семантического комплекса «женитьбы». Ср.: «Жениться! Легко сказать — большая часть людей видит в женитьбе
шали, взятые в долг...» (Из наброска «Участь моя решена. Я женюсь...»).
220
Второй выстрел графа — жест поистине антиавторитарный,
поскольку он противоречил правилам дуэли и чести. Однако он
ускорял течение дуэли, за этой поспешностью — беспокойство
не за себя, а за любимого человека: Я считал секунды... я думал о
ней... «Поспешность» и «беспокойство» — пушкинские характеристики блудного сына лубочных картинок, что в контексте целого художественно как бы снимает с графа даже столь явное пятно бесчестья. Это парадоксально, но не более чем парадоксальна
сама Иисусова притча.
В сущности, белкинские повести разворачивают перед нами
противостояние всего двух основных характеров или жизненных
позиций, пронизывающее едва ли не каждую клеточку повествования. Так, когда Минский прибыл на станцию, смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье.
Вырин готовится к продолжению размеренного, спланированного, бессобытийного существования, тогда как Дуня — к обновлению своего облика и фактически к побегу: с этим самым шитьем
она просидит три дня возле Минского, после чего отправится с
ним к воскресной обедне (можно быть уверенными, что в новом
платье).
Дуэльное противостояние Сильвио и графа в первой повести
сменяется неявным, скрытым от них самих соперничеством Владимира и Бурмина. Например, высказывание последнего: Непонятная, непростительная ветреность... я стал подле нее перед налоем, — так явственно напоминает одну из фраз графа (Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить... но — я выстрелил), как будто они произнесены одним человеком. Что касается Владимира, чья смерть столь же «исторична», как и смерть Сильвио, то обратим внимание на присутствие
на его свадебном мероприятии трех свидетелей — подобно тому,
как Сильвио является на поединок в компании трех секундантов
(графа же сопровождает всего один секундант, как и Бурмина —
один слуга).
В «Станционном смотрителе» Минский, несомненно, продолжает линию Бурмина. Тайный увоз невесты из родительского
дома — такая же в сущности преступная проказа, что и венчанье
Бурмина с чужой невестой. А Самсон Вырин, подобно Владимиру, теряет женщину, которую с полной уверенностью считал
своею; оба с опозданием добираются до церкви в надежде найти
эту женщину там; оба, сломленные невероятным происшествием, решительно отступаются от дальнейшей борьбы и т.д.
После лиминального кризиса четвертой повести в «Барышнекрестьянке» аналогичное противостояние редуцируется до ссоры
Двух помещиков, заочно обменивающихся колкостями, подобно
Сильвио и графу Б. Из этих двоих бывший гвардеец Берестов (тезка
самого Белкина) с его гордостью, планомерностью и ненавистью
221
к нововведениям явственно продолжает линию Сильвио — Владимир — старый солдат Вырин, тогда как Муромский, промотав в
Москве большую часть имения своего и продолжая проказничать (на
заграничный манер) в своем имении, несомненно, принадлежит
к линии «блудных» Минского — Бурмина — графа Б.
Однако, нечаянно очутившись в расстоянии пистолетного выстрела друг от друга, антиподы не вступают в поединок, а напротив, мирятся. На смену притчевому их противостоянию приходит анекдотическое единение (старики вспоминали прежнее время и анекдоты своей службы). Зато фигуры Алексея и Лизы здесь
определенно раздвоены (жеманная, блестящая, набеленная по уши
барышня и смуглая, сметливая крестьянка; разочарованный байронический сердцеед и добрый и пылкий малый с чистым сердцем); у героини два имени (Бетси и Акулина), у героя — две
жизненные позиции (мрачный и разочарованный и бешеный баловник).
В «Гробовщике», где нет сюжетообразующего противоборства
сторон, Адриян Прохоров своей угрюмостью и приверженностью
к самому строгому порядку напоминает Сильвио и отчасти Вырина (которому Пушкин в процессе работы передал первоначальное
имя гробовщика). При этом он явственно противопоставлен как
веселым гробокопателям Шекспира и Скотта, так и веселящимся
немецким ремесленникам, в частности Готлибу Шульцу с его веселым видом и открытым нравом. Но, пожалуй, еще существеннее
для этого зародыша книги (как известно, «Гробовщик» возник
прежде остальных ее частей) то, что состояние героя после пробуждения входит в противоречие с его обычной жизненной позицией, создавая легкий эффект раздвоения, который будет существенно развит в заключительной повести.
Центром развертывания коллизии двух разнонаправленных способов присутствия человеческой личности в мире следует признать лиминальную фазу макросюжета книги — «Станционного
смотрителя».
Ян ван дер Энг был, кажется, первым, кто заметил, что Самсон Вырин размышляет и ведет себя не столько как отец, сколько
1
как соперник возлюбленного своей дочери . Развивая этот тезис,
В. Шмид весьма убедительно, на наш взгляд, доказывает, что горе
смотрителя составляет «не несчастье, угрожающее любимой дочери, а ее счастье, свидетелем которого он становится» 2 ; что в
глубине души это «ревнивец» и завистник, безуспешно противо1
См.: Eng J. van der. Les recits de Belkin: Analogie des procedes de construction// Eng J. van der., Hoik A.G.F. van, Meijer J.M. The Tales of Belkin
by A. S. Puskin. — The Hague. — 1968. — P. 9 — 60.
2
Ш м и д В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина». -~
СПб., 1996. - С. 99.
222
стоящий Минскому в борьбе за обладание Дуней (знаменательно,
что имя Авдотья этимологически означает: рабыня). В самом деле,
вслушаемся в эти слова: Уж я ли не любил моей Дуни <...> уж ей ли
не было житье? — тогда как Минский утверждает: Она меня любит', она отвыкла от прежнего своего состояния. При этом он спрашивает смотрителя: Зачем тебе ее? Известно зачем: Бывало барин,
какой бы сердитый ни был, при нец утихает и милостиво со мною
разговаривает.
По прошествии трех лет смотритель уже не ожидает возвращения кающейся блудной дочери (что было бы наиболее естественным после слов о голи кабацкой), а желает ей могилы; он притворяется, что не слышит вопроса о ее замужестве (по-видимому,
предполагая вероятность именно такого исхода). Иными словами,
притчевым эквивалентом Вырина с картинок его обители оказывается не почтенный старик в колпаке и шлафорке, ожидающий
праздничного воссоединения, а старший брат, вопрошающий слуг
о причине таковой радости. Не случайно на выринских картинках
евангельский текст притчи оказывается усеченным — без картины негодования старшего сына, утрачивающего свою потенциальную власть над отцовским наследством.
Тщательно проведенное В. Шмидом «сопоставление смотрителя с его библейскими прототипами показывает: Вырин не является ни бескорыстным, великодушным отцом из притчи о блудном сыне, ни добрым пастырем (из Евангелия от Иоанна. — В. Т.).
Дуня не нуждается в спасении от Минского, а Вырин не тот человек, который мог бы дать ей счастье. <...> За покровом устанавливаемых им ложных эквивалентностей он раскрывается как слепой ревнивец»1. Выявляя ключевой для данного текста мотив ослепления (смотритель не понимал <...> как нашло на него ослепление). В.Шмид вслед за В. Н. Турбинным предлагает «каламбурный оксюморон "слепой смотритель", смысл которого недоступен Вырину и не входил в намерение рассказчика», однако открыт истинному автору и проницательному читателю, поскольку
«эта семантическая фигура <...> развернутая в повествовании <...>
указывает на общий смысл действий Вырина в целом сюжете»2.
Прибавим к этому, что мотив ослепления пронизывает всю
линию обездоленных старших претендентов на счастье и благополучие. Владимир, застигнутый метелью, ничего не взвидел. Прохорову не удается порядочно разглядеть своего недавно похороненного гостя, да и прочих мертвецов с их мутными, полузакрытыми
глазами он во сне не узнает; однако после слов наконец открыл он
глаза мы имеем дело уже, как говорилось выше, с преобразив1
Ш м и д В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина». —
С 132.
2
Т а м ж е . - С . 100.
223
шимся гробовщиком. Поразительную слепоту демонстрирует
и Алексей Берестов, не различая своей Акулины под маской из
белил и сурьмы: Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте
своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да ц
после не подозревал. Но ослепление такого рода постигает не того
Алексея, который самым бешеным слогом Акулине предлагал свою
руку, а того, который и сам надевает маску холодной рассеянности
и гордой небрежности.
Сильвио в этом ряду отличает, напротив, физическая сверхзоркость стрелка, оборачивающаяся, однако, той же самой слепотой в переносном смысле. Он не видит, что ради единого выстрела, хотя бы и предельно меткого, губит свою жизнь и даже
честь (честь его была замарана и не омыта по его собственной вине).
Желая помешать жизни другого человека, Сильвио лишает полноценной жизни себя самого (все его пожитки умещаются в одном из двух чемоданов, второй заполнен пистолетами).
Интенция смерти также объединяет всех героев сальерианского типа. Вырин желает могилы своей дочери. Сильвио ежедневно
готовится к убийству графа. Прохоров мечтает о смерти купчихи
Трюхиной. Молодой Берестов до знакомства с Лизой-Акулиной
носил черное кольцо с изображением мертвой головы. Наконец, для
отправляющегося в армию Владимира смерть остается единою
надеждою. Никто из альтернативных им персонажей, напротив,
не помышляет о смерти. На языке притчи это весьма значимое
различие: вспомним негативную реакцию старшего брата на провозглашаемое отцом воскресение младшего.
Всем «неблудным» персонажам свойственно ощущать себя в
жизни «праведниками, не имеющими нужды в покаянии», чем
питается их гипертрофированное самолюбие. С видом довольного
самолюбия говорит о дочери Самсон Вырин. В «Гробовщике» после
шутливого тоста все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился', уязвленным самолюбием героя мотивировано и
само его сновидение. Оплошавший Владимир в ответ на приглашение ненарадовских помещиков объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме. Сюжетное движение «Выстрела» питается
гордостью самолюбивого Сильвио, поскольку первопричина всех
событий повести состоит лишь в том, что, по выражению самого
героя, первенство его заколебалось.
А вот добрый и пылкий малый Алексей Берестов со своим чистым сердцем способен лишь на внешние проявления гордой небрежности (Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого). В этом отношении он выступает подражателем, имитатором, хотя мрачность и разочарованность, утраченные радости увядшей юности и кольцо с мертвой головой — все это было чрезвычайно ново в той губернии. Другое дело, когда он заговорил с Лизой языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен —'
224
в ответ на поразившие его мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке.
Подобно старшему сыну из притчи, который не отступал в
своем нормативном поведении от усвоенного образца, все белкинские персонажи этого ряда являются подражателями. Наиболее знаменателен открывающий линию имитаторов Сильвио, который, как показывает анализ В. Шмида, не является подлинным
романтиком: «В своем прозаическом существовании он только
инсценирует черты романтического поведения», поскольку, «подобно другим неудачникам повестей Белкина, Сильвио тоже читатель»; «Сильвио-читатель буквально воплощает литературу в свою
жизнь вплоть до горького финала»1, имитирующего гибель Байрона — добровольного борца за независимость Греции.
Читателем с не менее романическим воображением, чем у Марьи Гавриловны (берегущей книги, им некогда прочитанные <...>
и стихи, переписанные для нее), предстает Владимир, не случайно
мыслящий сплошными стереотипами:
...умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько
времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут
тронуты наконец героическим постоянством и несчастием любовников,
и скажут им непременно: «Дети! Придите в наши объятия».
Как видим, мысль о подлинном уходе, пришедшая в голову Алексею Берестову, здесь начисто отсутствует; Владимир намеревается расчетливо имитировать «блудный» путь.
Вырин, судя по его речи, — также читатель, но не романов, а
Библии да нравоучительных историй. В особенности же его характеризует истовое доверие к нравственным поговоркам, о которых в
«Метели» сказано, что они бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.
Отсюда и несамостоятельность жизненного поведения этого героя. При разрешении своих конфликтов с господами проезжающими он укрывается за обаянием дочери, которая вся в покойницу
мать, вероятно, ранее выполнявшую аналогичную функцию в
жизни смотрителя; а после исчезновения Дуни, как показывает
В. Шмид, «Вырин имитирует три центральных действия своего
соперника»2.
Гробовщика Прохорова к числу читателей причислить невозможно; не случайно подчеркивается и его несходство с литературными гробокопателями. В сущности, не является читателем и
Алексей Берестов, для которого воспитание в университете оказалось безрезультатным, ибо он рвется вступить в военную службу;
' Ш м и д В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина». —
С. 176, 184.
2
Там же. — С. 106.
8тк,п,
225
к «Наталье, боярской дочери» он обращается только лишь для
обучения Акулины чтению. Не в свободе ли от литературных стереотипов кроется способность этих двух героев менять свою жизненную позицию?
Каково же место самого Ивана Петровича Белкина в этом размежевании героев на самостоятельно «блудных» и подражательно
«праведных»? Во-первых, он покойник, что демонстративно объявлено уже в заглавии книги. Во-вторых, он, насколько можно судить по тексту «Выстрела», является страстным читателем, а в
качестве сочинителя — подражателем прочитанному. Таким образом, Белкин — фигура, эквивалентная неблудному сыну притчи.
Положение, однако, усложняется тем, что у литературного
«отца» Белкина нет второго «сына». На Ивана Петровича возложена двойная миссия. Если сознание Белкина-сочинителя занимает
проблема превращения житейской «истории» в литературу, то интерес Пушкина привлекает преображение бытовой личности в
творческую индивидуальность на пути приобщения к литературе
как к национальной культуре слова. Это и побуждает его, как пишет Н.К.Гей, «ввести в повествование определенную интригу,
но не сюжетно-событийного плана <...> а именно самое повествование сделать предметом интригующего самораскрытия, в ходе
которого обнаруживаются новые измерения и смыслы»1. Однако
сам Белкин с этой стороны подобен гробовщику Прохорову: его
инициация происходит неявно для него самого; по воле действительного автора он идет, не ведая того, верным путем литературного «блудного сына».
«Уходу» соответствует устремленность рассказчика «Выстрела»,
с его от природы романическим воображением от бессобытийной
повседневности (вспомним первые абзацы обеих частей повести)
к бурным романтическим страстям и таинственным историям.
Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо
рту, придавали ему вид настоящего дьявола — эта диковатая фраза
есть поистине стилевой «блуд» простодушного сочинителя. Вслушаемся в напыщенную искусственность ремарки: Граф указывал
пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания. Это, говоря словами самого Пушкина, «смешно, как мелодрама». Высшая точка литературного «блуда» Белкина — наивно-хитроумная финальная фраза, подверстывающая Сильвио к
судьбе Байрона, тоже павшего в борьбе за независимость Греции.
Если эпиграф был взят Белкиным из повести Марлинского «Вечер на бивуаке», если Сильвио подозрительно похож на «венгерского дворянина» из «Вечера на Кавказских водах в 1824 году»
того же автора, то фраза о его героической гибели закономерно
' Г е й Н.К. Указ. с о ч . - С . 70.
226
связывается с гибелью Владова во «Втором вечере на бивуаке».
Здесь Белкин и Пушкин (явившийся в свое время с черешнями
на дуэль с Зубовым) расходятся максимально.
В «Метели» Белкин, вдохновившись вычитанным в старом журнале («Благонамеренный» за 1818 г.) анонимным «истинным происшествием» под названием «Кто бы это предвидел?», поддается вполне «искушению» литературщиной и вступает в новые
для него «партнерские» отношения с широким кругом «истинных
сочинителей» подобных повестей. Эклектичность подражания здесь
поистине «расточительна», как поведение блудного сына, проматывающего отцовское наследие. Сочинитель контаминирует расхожие у сентименталистов и романтиков фольклорные сюжеты
увоза невесты (Карамзин, Бестужев-Марлинский), мертвого жениха (Бюргер, Жуковский, Ирвинг), подмены жениха («Отеческое наказание» В.И.Панаева, «Суженого конем не объедешь»
Н.Хмельницкого), неузнанных супругов (слезные комедии де Лашоссе, де Мервиля); вставляет в сновидение героини ситуацию
карамзинского «Острова Борнгольма»; цитирует Грибоедова, Петрарку, Руссо; блистает эрудицией (Артемиза, ирония по поводу
французских романов и т.п.). В итоге «из многочисленных условных мотивов Пушкин (лучше было бы сказать: Белкин по воле
Пушкина. — В. Т.) составил сюжет, который своей неправдоподобностью выходит далеко за рамки всех своих претекстов»1.
«Гробовщик» в общей композиции книги занимает место ритуального путешествия в литературный загробный мир2. И дело здесь
не только в могильной теме и сне с мертвецами православными.
Повествователь, столь активный в начале этого текста, в конце его
символически «умирает», умолкнув (единственный раз из всех финалов «Повестей») и отдав концовку диалогу персонажей. При этом
он отступается от предпринятой было попытки противостоять литературным авторитетам (У.Шекспира и В.Скотта), следуя истине
мрачного ремесла своего героя: вопреки начальным фразам повествование оказывается именно веселым и шутливым.
В «Станционном смотрителе» Белкин совершает гораздо более серьезную попытку «возвращения» из литературы в повседневную жизнь. В связь с этим можно поставить не только полемическое (по отношению к Вяземскому, Булгарину, Карлгофу —
сочинителям, писавшим о станционных смотрителях) внимание
к неразрешимым противоречиям реальной действительности, не
только отход от благополучного финала «Лоретты» Мармонтеля,
1
Ш м и д В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина». —
С 225.
2
Заслуживает внимания версия Э. Нерре, усматривающей в «Гробовщике»
пародийное воспроизведение франкмасонской повести и лежащего в ее основе
ритуала масонской инициации (см.: N e r r e E. Puskins «Grobovscik» als Parodie
auf das Freimaurertum // Winer Slawistischer Almanach. — Wien, 1985. — Bd. 17).
227
как и от несчастной любовной истории карамзинской «Бедной
Лизы», но и возврат рассказчика к статусу действующего лица
(параллель «Выстрелу» — «уходу») и саму открыто заявленную
тему блудного сына, и повторные посещения повествователем
своего героя. Впрочем, полного освобождения от литературщины здесь отнюдь не происходит (о чем речь пойдет далее). Белкину здесь, как и решающемуся на возвращение сыну из притчи,
пока еще неведома милость его литературного «отца», которая
будет явлена в заключительной повести. Стиль «Станционного
смотрителя» крайне неровен, клочковат, соткан из противоречий: имитаторское позерство и подражательность здесь соседствуют с подлинной наблюдательностью и простодушной откровенностью.
До сих пор главными героями повествований выступали персонажи «сальерианского» ряда: Сильвио, Владимир, Прохоров,
Вырин. Как нам известно из биографии сочинителя, Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств.
Это делает объяснимой его явную, хотя и не всегда однозначную,
симпатию к перечисленным героям. Только в заключительной повести Белкин переносит свое внимание на таких персонажей, чье
мироощущение, самоопределение и, так сказать, предрасположенность к счастливому жребию далеки от его собственных жизненных установок, но зато близки А. П. (не случайно упоминание
о Скотинине незадолго до окончания «Повестей Белкина» возвращает нас к общему, открыто авторскому эпиграфу к произведению в целом).
«Барышня-крестьянка» — полноправный композиционный эквивалент веселого «пира» воссоединения, не нашедшего места на
выринских лубочных картинках (характерна параллельность во
многих отношениях этой второй «женской» повести — «Метели»,
функционально реализующей ситуацию первого, «искусительного» застолья). Здесь Белкин, проведенный Пушкиным по «блудному» пути, получает в дар подлинную художественность. Истинный автор сложносоставного целого щедро делится с ним своим
собственным стилем, собственным остроумием и даже... онегинским финалом: герой застает героиню одетой по-домашнему
за чтением письма от него, после чего следует появление отца
(в романе — мужа, годящегося в отцы), на чем автор и прощается
с читателями (отмечено М.С.Альтманом). Более того, Пушкин
приводит своего вымышленного собрата по ремеслу к апологии
самобытности (indevidualite), которой не грозит опасность растворения в чужом (склонность старика Муромцева) или традиционном (склонность старика Берестова).
«Двуголосое» слово двойного авторства здесь из «контрапунктирующего» слова-спора преображается в сплачивающее словосогласие, осуществляющее своеобразную конвергенцию жизнен228
ных и творческих позиций обоих авторов, аналогичную примирению враждовавших помещиков. Сколь бы ни были мало уместны
жан-полевские рассуждения Белкина о человеческом величии в применении к уездным барышням, они по сути своей созвучны напряженно обдумываемой в Болдине пушкинской идее «самостоянья»
человека как залога его «величия». Поскольку условием такой самобытности человеческого «я» для Пушкина являются два чувства любви: к родному живому (пепелищу, т.е. очагу) и родному
мертвому (отеческим гробам), — постольку притча о блудном сыне
как нельзя лучше отвечает авторской интенции ухода (самостоянья), предполагающего неразрывность духовных корней и любовное возвращение к отеческим истокам бытия.
Именно такова непостижимая для Белкина жизненная позиция вечных любимцев счастья — графа Б., Бурмина, Минского и
Берестова-младшего. Все четверо начинают свой жизненный путь
гуляками праздными (слова Сальери о Моцарте), однако все они
обретают семейное благополучие, основывают собственный дом,
как и сам биографический автор, болдинский помещик А. П. —
сочинитель Белкина.
Как мы могли убедиться, Иисусова притча о блудном сыне —
подлинный ключ к истолкованию «Повестей Белкина» в качестве
художественного целого. Она явилась своего рода парадигмой сотворения текста. Однако история блудного сына в данном случае все
же не обладает монопольным правом на организацию смысловой
перспективы. Рассмотрев притчевую «кровеносную систему» книги, перейдем к той стороне ее поэтики, которая обусловлена жанровой стратегией анекдота, и в частности смеховым мироотношением в качестве эстетической характеристики внутреннего единства «Повестей Белкина».
Не приводимые в тексте анекдоты упоминаются в предисловии «От издателя» и в заключающей цикл «Барышне-крестьянке»; косвенно — в «Метели» (гусарские проказы из прежнего времени отставного корнета Дравина). В «Выстреле» анекдот рассказан
самим повествователем — о своей стрельбе по бутылке и остроте
забавника ротмистра. Анекдотически прозаизированный вакхический мотив застолья и пребывания навеселе вообще оказывается
лейтмотивом всех без исключения частей целого.
Например, как замечает И.Л.Попова, «ясно, при каких обстоятельствах русский человек <...> готов клясться в готовности жертвовать жизнью для первого встречного без видимой на то причины»1. Этими-то обстоятельствами (о которых, вероятно, умолчала
Менее догадливая девица К. И. Т.) и может быть вразумительно
мотивирована невероятная оплошность оказавшегося навеселе
Жениха. Однако простодушным трезвенником Белкиным, которо1
П о п о в а И.Л. Указ. соч. — С. 490.
229
го его биографу никогда не случалось видеть навеселе, эта мотивировка не была эксплицирована.
Если в притче всегда случается то, что и должно было случиться (по тем или иным соображениям), то в анекдоте происходит
нечто маловероятное или даже вовсе не вероятное. Движущей силой здесь выступает не моральный императив, а личная инициатива, беспрецедентностью своей вызывающая веселое восхищение в случае удачи или бессострадательное осмеяние в противоположном случае. Так возникает культивируемая анекдотом окказиональная, случайностная картина мира, где может произойти
все, что угодно, но всегда торжествует карнавально-смеховое начало жизни.
Важнейшие события пушкинско-белкинских повестей, как
правило, имеют двойную мотивировку: притчевую (императивную) и анекдотическую (инициативную). Бурмин поехал в самую
бурю, поскольку, казалось, кто-то его так и толкал, однако само
венчание — это его инициативная проказа, вызванная лишь тем,
что девушка показалась ему недурна. Владимир оставляет свою невесту на попечение судьбы, тогда как сам полагается лишь на себя.
Впрочем, Марья Гавриловна совершает свой путь к замужеству
при участии не только сверхличной судьбы, но и персонального
искусства Терешки кучера\ а Владимир не достигает своей цели не
только по причине своей личной оплошности, но и как бы по
воле судьбы: стоило ему без кучера выехать за околицу, как в одну
минуту дорогу занесло.
Аналогичные примеры можно множить и множить. Притчевый
по своей сути эксперимент Сильвио (Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой) осуществляется в
окказиональном мире анекдота, поэтому запыленный и обросший
бородой мститель настигает графа лишь после свадьбы. Вероятно,
его, как и Владимира, тоже ожидали в дороге непредвиденные
затруднения. Не это ли обстоятельство делает поведение педантично расчетливого человека столь странным, а если вдуматься,
просто нерешительным?
Если жанровая ситуация притчи создается иносказательностью
рядовых, узнаваемых фактов, отношений, поступков, то жанровая ситуация анекдота возникает в результате инверсии или гиперболизации нормального и привычного.
В «Повестях Белкина» очевиден анекдотический гиперболизм,
например, стрельбы Сильвио по мухам, вследствие которой стены
его комнаты были источены пулями <...> как соты пчелиные', или
самоотверженности трех случайных свидетелей Владимира, которые клялись ему в готовности жертвовать для него жизнию*
а позднее вчетвером (считая горничную) поддерживали невесту и
заняты были только ею; или заполненности кухни и гостиной гробовщика, выпивающего седьмую чашку чаю, гробами всех цветов
230
и всякого размера; или симптомов мнимой болезни Минского; или
позерства Алексея и маскарада Лизы, восклицающей, в частности: ...ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми.
Что касается анекдотической инверсивности ситуаций, то наиболее приметная инверсия организовывает сюжет «Станционного
смотрителя»: вместо возвращения блудной дочери в отчий дом
отец сам отправляется за ней вдогонку. Это далеко не единичный
пример. Большими и малыми инверсиями пронизана вся текстовая ткань книги. Одна из наиболее существенных — инверсия сентиментально-романтической пары: коварный соблазнитель и его
беззащитная жертва.
Эффектной заявкой на эту традиционную тему (остро значимую для вымышленного автора, при всей его девической стыдливости имевшего, однако, к женскому полу великую склонность)
выглядит картина из «Выстрела»: Маша Б. у ног Сильвио. Другая
Маша, поддерживаемая со всех сторон свидетелями и горничной,
тоже выглядит жертвой преступной проказы Бурмина, но лишь в
момент венчания; впоследствии военные действия мнимой жертвы бросят полковника Бурмина к ее ногам. В «Гробовщике» между
мужским и женским полюсами устанавливается весьма своеобразное равновесие: умирающая Трюхина — своего рода жертва
мрачного адриянового ремесла, однако и он — своего рода жертва ее затянувшегося умирания, не позволяющего гробовщику возместить свои убытки.
Рассматривая женскую тему в «Станционном смотрителе» и
анализируя интертекстуальные связи пушкинского произведения
с бальзаковской «Физиологией брака», В.Шмид остроумно доказывает, что «хозяйкой положения является теперь Дуня», восседающая элегантной наездницей и наматывающая на свои сверкающие пальцы кудри того, кого ей пришлось умиротворять, когда
он возвысил было голос и нагайку. Эта сцена, списанная Белкиным
у Бальзака (впервые это отметила А.А.Ахматова), достаточно ясно
«намекает, что в войне полов побежденным является скорее Минский, что он жертва искусного кокетства со стороны знающей,
чего она хочет, красивой женщины, которая уже в доме смотрителя научилась обхождению с мужчинами»1.
Наконец, в «Барышне-крестьянке» женщина впервые оказывается главным действующим лицом, «инициатива все больше
2
переходит от соблазнителя к его жертве» — отношения здесь явственно инверсированы. Холодная рассеянность и гордая небрежность Алексея, предназначенные закоренелой кокетке, пропадают
втуне, поскольку достаются старой мисс Жаксон, тогда как, уго1
Ш м и д В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина». —
С. 137.
2
Там же. - С. 243.
231
варивая простую девушку не отказываться от свиданий, мнимый
соблазнитель обещал <...> повиноваться ей во всем. С другой стороны, самолюбие Лизы было втайне подстрекаемо темной, романическою надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца.
Итак, несмотря на исключительную роль притчи в организации всех частей пушкинского произведения, характеристика белкинских сочинений как новелл (жанровых образований, восходящих к анекдоту) отнюдь не беспочвенна. Достаточно обратить внимание на обостренную перипетийность всех пяти повествований,
где обязательно происходит «перемена событий к противоположному»1, и каждое событие завершается, как и положено новелле,
пуантом. Таковы и байроническая гибель Сильвио в финальной
фразе «Выстрела», и взаимное узнавание героев в финале «Метели», и радостное пробуждение «угрюмого» гробовщика, и приход
славной барыни Дуни на могилу своего отца, и утреннее объяснение любовников в «Барышне-крестьянке».
Из всех конститутивных признаков анекдотического типа высказываний наиболее существенная роль принадлежит внеимперативному, антиавторитарному, смеховому мироотношению и видению человеческого «я-в-мире».
Наличие юмора в повестях Белкина обычно не подвергается
сомнению. Юмористические аспекты этого пушкинского текста
убедительно акцентируются, например, В. Е.Хализевым и С. В. Шешуновой в монографии, специально посвященной данному циклу. Однако даже эти авторы, справедливо полагающие, что такое
произведение «вряд ли может быть верно воспринято при невнимании читателя к его смеховой стороне», усматривают здесь на
равных основаниях «и идиллическое начало, и драматизм, и ко2
мическое» . Столь многоплановой в эстетическом отношении могла бы оказаться книга повестей, составленная как суммативный
цикл. Но перед нами гораздо более интенсивное художественное
единство, в отношении которого неопределенность эстетической
модальности не представляется убедительной.
Как покажет последующий анализ, «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» являют собой комическое3 художественное целое, пронизанное именно этим строем
художественности от первого слова и до последнего.
Такое утверждение, столь спорное для многих пушкинистов,
возможно, не вызвало бы возражений у читателей пушкинского
'Определение перипетии см. в кн.: А р и с т о т е л ь . Об искусстве поэзии.
М, 1957.-С. 73.
2
Х а л и з е в В.Е., Ш е ш у н о в а СВ. Указ. соч. — С. 53, 31.
3
См.: Т а м а р ч е н к о Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Указ.соч.— Т. 1.
С. 64-66.
232
круга, например Баратынского или Кюхельбекера. Характеристика
Пушкиным читательской реакции первого («ржет и бьется») общеизвестна. Но особого внимания заслуживает дневниковая запись Кюхельбекера от 20 мая 1833 г. Напомним, что сделана эта
запись узником одиночной камеры, отнюдь не предрасположенным к смеховым эстетическим переживаниям, но зато «доверенным» читателем Пушкина, распознающим скрытые в тексте интенции авторского сознания, быть может, проницательнее, чем
это дано современному исследователю.
Итак: «Прочел я четыре повести Пушкина (пятую оставляю
<...> на завтрашний день) — и, читая последнюю, уже мог от
доброго сердца смеяться. Желал бы я, чтоб об этом узнал когданибудь мой товарищ; ему, верно, было бы приятно слышать, что
произведения его игривого воображения иногда рассеивали хандру его несчастного друга»1.
Несомненно, что «смех от доброго сердца» — одно из возможных определений юмора. Но не парадоксально ли, что смех этот
прозвучал наконец над страницами четвертой повести — последней из прочитанных Кюхельбекером в тот день? Кюхельбекера
рассмешил «Станционный смотритель», вызвавший впоследствии
столько публицистических «слез» по поводу несчастной доли пресловутого маленького человека. И даже исследовательница иной
научной ориентации, всматриваясь в «комическую изнанку грустных повестей», приходит к выводу, что Пушкин «по канве Притчи о блудном сыне написал самую печальную свою повесть»2.
А ведь, казалось бы, элегический (или все же псевдоэлегический?)
финал этой «истории скорби и гибели»3 должен был не «рассеять
хандру», а возвратить заживо погребенного в казематах крепости
читателя к меланхолическим переживаниям обстоятельств своей
собственной несчастной судьбы.
Впрочем, есть основания утверждать, что сочувствие несчастью в аристократической русской культуре первых десятилетий
XIX в. не играло столь существенной роли, какую оно приобретает в разночинной культуре второй половины столетия. Во всяком случае Пушкин размышлял в письме Прасковье Осиповой от
5 ноября 1830 г., т.е. почти одновременно с работой над «Повестями Белкина»: «Мы сочувствуем несчастным по некоторому роду
эгоизма: мы видим, что в конце концов мы не одни. Сочувствие
счастью предполагает вполне благородную и вполне незаинтересованную душу». Примечательно, кстати, что в этом контексте
письма, написанного по-французски, Пушкин вспоминает великого юмориста Рабле. Не сложно предположить, что Кюхельбекер
' К ю х е л ь б е к е р В. К. Путешествие. Дневник. Статьи.—Л., 1979.— С. 250.
П о п о в а И.Л. Указ. соч.— С. 480, 504.
Там же. — С. 506.
2
3
233
прочел «Станционного смотрителя» в истинно пушкинском ключе «сочувствия счастью» Минского с Дуней.
В тексте повестей имеется целый ряд факторов юмористического художественного впечатления, обнаружение которых для современного исследователя сопряжено с немалыми затруднениями.
Однако дело здесь не только в эзотеричности пушкинского смеха1,
питаемого «арзамасской» традицией игрового мироотношения.
Исключительно важен, как уже говорилось выше, момент двойного авторства. Дезавуируемая подлинным автором интенция белкинского сознания состоит в преображении живой жизни, житейской «истории» в «приличную» литературу (ср. приличные немецкие стихи под лубочными картинками и тульскую печатку с
приличной надписью). Так возникает смеховой эффект распознанной маски как существеннейший и многообразно явленный фактор целостности сложносоставного произведения. Характерно, что
Кюхельбекер отзывается о «Повестях Белкина» как о произведении «игривого воображения» творца, укрывшегося за фигурой
сочинителя с недостатком воображения.
Практически любая фраза белкинских сочинений имеет «лицевую» и «изнаночную» стороны, вследствие чего «производит
впечатление двусторонней ткани: с лица виден один цвет и узор,
с изнанки все выглядит совершенно иначе»2. Не вникнув в эту их
особенность, легко можно стать читателем повестей именно Белкина, а не гениально лукавого пушкинского творения — т.е. восприятие целого подменить рассматриванием его осколков.
...Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами — такова «лицевая» сторона финала «Выстрела». Однако
мы опустили начало этой фразы: Сказывают, что Сильвио... Между
тем в начале второй части рассказчик «проговаривается», что был
и остается лишенным общения с кем-либо, кто мог бы поделиться с ним этим слухом. Мы уже говорили о несомненном для внимательного читателя тождестве этого рассказчика с Белкиным,
вышедшим в отставку в 1823 г. А поскольку сражение под Скулянами имело место в 1821 г. и никаких сведений о байронической
смерти своего загадочного знакомого у мнимого подполковника
И. Л. П. до июня 1825 г. не имелось (граф и графиня посетили свое
имение через два года после выхода рассказчика в отставку), то
выдуманность этой смерти Белкиным-сочинителем становится и
вовсе очевидной.
1
С. В. Шешунова справедливо отмечает «эзотерический пласт цикла, обращенный к тесному кругу друзей и единомышленников» ( Ш е ш у н о в а С.В.
О смысле эпиграфа к «Повестям Белкина» // А.С.Пушкин: Проблемы творчества. - Калинин, 1987. — С. 93).
2
Глас с э А. О мужичке без шапки, двух бабах, ребеночке в гробике... //
Новое литературное обозрение. — 1997. — № 23. — С. 94.
234
Несомненность именно такой датировки событий подтверждается также и тем соображением, что столь бравый гусар, каким
был поначалу Сильвио, не мог уйти в отставку ранее 1814 г. (победное возвращение армии в Россию). Граф Б. вступает в брак
через шесть лет после их дуэли с Сильвио, побудившей гусара к
отставке, т.е., вероятнее всего, году в 1820, а рассказывает о своеобразном возобновлении дуэли через пять лет после своего медового месяца, т.е. в том самом 1825 г., какой мы получили исходя
из биографии Белкина.
Так приоткрывается «изнаночная» сторона финала повести.
Белкин-сочинитель умышленно «умерщвляет» своего персонажа,
дабы, уподобив его Байрону, тем самым возвысить, героизировать Сильвио. Но это чисто литературная смерть, проливающая
свет не на характер героя, а на усилия его героизации со стороны
повествователя. Поистине «если отбросить романтическую маску <...>
то Сильвио из внушающего трепет маньяка превращается в жалкого неудачника»1. Соответственно и эстетический итог повествования здесь не героика, а смеховая квазигероизация, которой в
«Выстреле» просвечен, подобно рентгеновским лучам, любой
фрагмент этого двуголосого высказывания.
Не аналогичным ли образом обстоит дело и в «Станционном
смотрителе»? Только эстетическая установка Белкина здесь несколько иная — элегический мелодраматизм. Во всяком случае,
«лицевая» сторона финальной фразы предполагает элегическую
растроганность читателя: И я дал мальчишке пятачок и не жалел
уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.
Однако вглядимся в «изнанку» концовки. Рассказчик здесь,
очевидно, любуется собой перед зеркалом собственного повествования (что всегда выглядит несколько смешно для стороннего
наблюдателя). И я... — Белкин всегда и во всем вторичен, в этом
его суть, такова жизненная и литературная позиция пушкинского
сочинителя, этого персонажа — имитатора. Естественно, что Минский не мог стать для него объектом героизации: если Сильвио
был похож на романического героя, то Минский, будучи импровизатором, субъектом свободного жизнетворчества, не умещается
в границах белкинского понимания (еще менее он понятен Самсону Вырину). В подаче Белкина, к тому же таящего в глубине
души ревнивую зависть к счастливому похитителю, фигура Минского выглядит неубедительно, распадается, казалось бы, на несводимые воедино осколки различного литературного происхождения.
Зато Вырин — вполне «литературен», его история очевидно
Драматична. Впрочем, форсируя драматичность своего повествования, Белкин добивается обратного эффекта: создает искусст' Д е б р е ц е н и П. Указ. соч. — С. 124.
235
венный драматизм (мелодраматизм). Не жалел уже... о семи рублях, мною истраченных — высказывание весьма двусмысленное на
фоне исходного заявления рассказчика о своем герое: ...память
одного из них мне драгоценна (дороже семи рублей?). А тем более на
фоне первоначальной простодушной реакции рассказчика на известие о смерти Вырина: Мне стало жаль семи рублей, издержанных даром.
Прочтя «Станционного смотрителя» с его «изнаночной» стороны как нечто сочиненное, нарочито сконструированное с целью растрогать читателя, мы обнаружим мелодраматический коллаж из разнородных литературных реминисценций и неловких
полемических выпадов. А мелодрама в глазах Пушкина — эстетический объект смехового отношения: «Смешно, как мелодрама», —
писал он все той же осенью 1830 г. Адекватному восприятию «Станционного смотрителя» современным читателем препятствует, повидимому, последующая интенсивная драматизация темы «маленького человека» в русской литературе.
Не менее существенным моментом, без учета которого выявление подлинного строя художественности «Повестей Белкина»
представляется едва ли возможным, выступает нераздельность
белкинских историй, глубинное архитектоническое единство их
художественного мира, заданное в предисловии «От издателя»1.
Если для Белкина каждая его повесть — завершенное целое, то
для Пушкина белкинское завершение неубедительно и смехотворно
(за исключением «Гробовщика», где «авторское» завершение со
стороны Белкина отсутствует, и «Барышни-крестьянки», где оно
не случайно передоверяется читателям).
Так, спор Сильвио с графом в глазах подлинного автора вовсе
не окончен — он лишь искусственно оборван надуманно героической смертью Сильвио. Этот принципиальный спор жизненных
позиций, экзистенциально противоположных способов существования, «сальерианского» и «моцартианского» типов личности2,
подхваченный и продолженный в рамках макросюжета Владимиром и Бурминым, гробовщиком Прохоровым и его жизнерадостными сотрапезниками, смотрителем Выриным и ротмистром
Минским, разрешается лишь в «Барышне-крестьянке» — и разрешается комически. Причем дело здесь не только во вздорности
вражды и анекдотичности примирения Берестова с Муромским,
1
Этот момент впервые был по достоинству оценен В.С.Узиным, однако эстетический смысл двойного авторства, к сожалению, оказался при этом вывернутым наизнанку: трагедия, «напялившая на себя шутовской колпак комедии»
( У з и н В. С. Указ. соч. - С. 68).
2
Ср.: «Почти из одних и тех же элементов Пушкин творит все свои Болдинские произведения <...> то трагические (в «Маленьких трагедиях»), то комические (в «Повестях Белкина»)» (И с к о з ( Д о л и н и н А. С.) Повести Белкина //
Библиотека великих писателей: Пушкин. — Т. 14. — СПб., 1910. — С. 186).
236
но и в том, что антагонистические способы присутствия человеческого «я» в мире оказываются и для Лизы, и для Алексея всего
лишь внешними, намеренно принимаемыми на себя личинами
живого бытия личности.
Любая частность, сколь бы драматична она ни была сама по
себе вплоть до гибели героя, будучи рассмотрена в контексте всего белкинского цикла, существенно меняет свою эстетическую
значимость и оказывается в конечном счете причастной к юмористическому смыслу целого.
Скажем, грозная реплика Сильвио: Ты не узнал меня, граф? —
пародируется в «Гробовщике» репликой скелета Курилкина: Ты
не узнал меня, Прохоров? В это «магнитное поле» смехового мелодраматизма, усиленное мотивом неузнавания в «Метели» (И вы не
узнаете меня?) и «Барышне-крестьянке», попадают и вторая встреча рассказчика с Выриным (Узнал ли ты меня?), и приход самого
Вырина к Минскому и в будуар бедной Дуни. Пристрастие Белкина
к неожиданным появлениям героя и неузнаваниям достигает в
«Станционном смотрителе» некоего мелодраматического накала:
В сени (где некогда поцеловала меня бедная Дуня)... — и тут же скрыто осмеивается: ...вышла толстая баба... Излюбленную сочинителем сюжетную ситуацию жизнь, можно сказать, выворачивает наизнанку. Впрочем, в финале «Барышни-крестьянки» нежданный
приход и мотив неузнавания (мнимого) уже и самим Белкиным
использованы с противоположным художественным заданием —
юмористическим.
Следует подчеркнуть, что адекватному истолкованию пушкинского произведения в немалой степени препятствуют несколько
превратные представления об эстетической природе юмора. Даже
в работе столь проницательной читательницы «Повестей Белкина», как С. В. Шешунова, можно встретить ложное противопоставление «юмористического пласта цикла» его «серьезной, общественно значимой проблематике»1. Между тем юмор сам по себе
и достаточно «серьезен», и «общественно значим». Это, по слову
М.М.Бахтина, «серьезно-смеховое» мироотношение, определяющей чертой которого является антиавторитарность (тогда как сатира по природе своей глубоко авторитарна).
Серьезно-смеховая эстетика юмора таит в своей глубине очень
древний «трансисторический» субстрат карнавального миросозерцания с его амбивалентностью (что было проанализировано Бахтиным). Карнавальная традиция явственно ощутима и в «Повестях
Белкина». Сюда следует отнести, например, несомненную святочную тональность «Метели»2; мотив ряженья, что относится не
только к Лизе Муромской, но и к ротмистру Минскому, предста' Ш е ш у н о в а СВ. Указ. соч. — С. 83.
См.: П о п о в а И.Л. Указ. соч. — С. 489 —491.
2
237
ющему то в шали, то в колпаке, то мнимым больным, и даже к
Сильвио, расхаживающему перед рассказчиком в простреленной
красной шапке, и к другим персонажам; проблему похоронных и
праздничных нарядов в «Гробовщике»; лейтмотив «подмены»1 во
всех повестях и даже явственную амбивалентность дородного Амура с опрокинутым факелом в руке (совмещение аллегорий любви и
смерти). В этом контексте открытый Пушкиным эффект двуголосого
слова пришелся как нельзя кстати: серьезное слово Белкина смешно но смешное «белкинское» слово Пушкина вполне серьезно и
насыщено содержанием.
Метакарнавальный юмористический комизм не менее концептуален, чем сатира, героика или трагизм. Он отвергает любой предустановленный или укоренившийся порядок (напомним в связи
с этим исходное пристрастие к самому строгому порядку гробовщика Прохорова), не принимает всерьез саму сверхличную инстанцию «миропорядка». Все, что претендует на сверхличную значимость, юмором низводится до простой условности или привычки, разоблачается в качестве безликой инерции личного бытия масочно-ролевого стереотипа существования. Пользуясь словами Издателя, можно сказать, что юмор отслаивает чин или звание от носящей его индивидуальной особы, т.е. личности.
Героизация и юмор ориентированы нередко на одни и те же
моменты человеческой жизни, но расценивают их диаметрально
противоположно. Один из характерных объектов юмористического смеха, воспользуемся выражением самого Пушкина, «честь,
состоящая в готовности жертвовать всем для поддержания какого-нибудь условного правила, во всем блеске своего безумия»2.
Напомним в связи с этим о комической функции и самого без3
умия .
Я не имею права подвергать себя смерти, — заявляет жаждущий
возмездия Сильвио, в свое время намеренно оскорбивший графа
и спровоцировавший дуэль. Отстаивание мнимо поруганной чести — всего лишь маска, прикрывающая личную прихоть завистника, которая в его собственных глазах приобретает «сверхличное» содержание. Голос поруганной чести звучит и в последнем
письме Владимира, и в пьяной обиде Адрияна, и в напыщенной
защите Белкиным сословия оклеветанных смотрителей, и в оскорбленности мисс Жаксон или англомана Муромского. Позитивная
ценность, с насмешливым восхищением отстаиваемая юмористическим миропониманием, есть самобытность человеческого «я».
1См.: П о п о в а И.Л. Указ. соч. — С. 481.
П у ш к и н А. Дневники. Автобиографическая проза. — М., 1989. — С. 109.
3 g аспекте «народно-смеховой» культуры «безумие — веселая пародия на
официальный ум, на одностороннюю серьезность официальной "правды". Это —
чное безумие» ( Б а х т и н М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная
средневековья и Ренессанса. - М., 1990. - С. 47).
2
238
Самостоянье человека, осуществляемое в превратных, заемных,
неадекватных формах, — таков импульс юмористического смеха,
концентрируемый искусством в амбивалентной фигуре «чудака».
Исторические истоки этого юмористического героя — в более
архаичных фигурах «дурака» и «плута». По своей архитектонике
персонажи-чудаки и впоследствии довольно четко подразделяются на ограниченных в своей серьезности эгоцентриков (бывшие
«дураки») и эксцентричных шутников (бывшие «плуты»). Тот же
Сильвио по художественной природе своей не злодей и не герой,
а чудак эгоцентрического склада — юмористический «безумец».
Приведем рассуждение Пушкина, в данном случае весьма актуальное: «Чем более мы холодны, расчетливы, осмотрительны, тем
менее подвергаемся нападениям насмешки (таким хотел бы быть
Сильвио, и таким он видится столь же комично серьезному Белкину. — В. Т.). Эгоизм может быть отвратительным, но он не смешон, ибо отменно благоразумен. Однако есть люди, которые любят себя с такою нежностию, удивляются своему гению с таким
восторгом, думают о своем благосостоянии с таким умилением, о
своих неудовольствиях с таким состраданием, что в них и эгоизм
имеет свою смешную сторону энтузиазма и чувствительности»1.
Эгоцентризм такого рода присущ не только Сильвио, но и
Владимиру, и Адрияну Прохорову, и старику Берестову, и Самсону Вырину. Это свойство характера легко может явиться одной
из превратных форм личностной самобытности. В подобных случаях и эгоизм способен вызывать жизнерадостный юмористический смех. Упрощенно говоря, импульс самостоянья человека
(не как залог величия его, а в своей самоценности и самоцельности) питает юмористическую радость жизни, тогда как превратные формы такого самостоянья порождают смеховую форму самой этой радости.
«Серьезно-смеховая» картина мира «выводит за пределы кажущейся (ложной) единственности, непререкаемости и незыблемости существующего мира», открывая равнодостойность «друго2
го миропорядка, другого строя жизни» . Это не культивируемая
притчей единая для всех в своей императивной категоричности
законосообразность, не прибежище внесубъективной и сверхличной истины и морали. На роль истины здесь претендуют пустые
нравственные поговорки, над которыми повествователь иронизирует в «Метели», но которыми обильно уснащает речь Самсона
Вырина. Юмористическое видение жизни — это мерцание взаимоотрицающих, но равнодостойных правд, веселая разноголосица, плюрализм личностных самоопределений.
1
П у ш к и н А. Указ. соч. — С. 106.
Б а х т и н М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — С. 57.
2
239
В макросюжете «Повестей Белкина» авторитарно мыслящим
персонажам-эгоцентрикам последовательно противостоят «чудаки» иного, эксцентрического склада: это и граф, и Бурмин, и
пирующие ремесленники в «Гробовщике», и Минский, и Муромский. На смену их открытому конфликту (например, в «Выстреле») приходит состязательная антитеза двух правд, взаимоналожение и взаимоотталкивание несовместимых воззрений на
жизнь, их взаимная дискредитация. В чистом виде эта анекдотическая альтернатива явлена в почти игровой вражде Муромского
и Берестова.
Она же составляет и фундаментальный принцип образа автора
«Повестей Белкина». Подобно Алексею Берестову с его двумя обликами — мнимым (разочарованно эгоцентрическим) и истинным (жизнелюбиво эксцентрическим) — двоится и сам автор,
выступая в двух ипостасях — Белкина и его Издателя. Их понимание одних и тех же историй неотождествимо даже в «Барышнекрестьянке», хотя здесь они и приходят к согласию, подобно помирившимся помещикам-антиподам. Неприметный диалог двух авторских ипостасей время от времени дает о себе знать в любой
части книги. Не только прославленный поэт А.П. посмеивается
над вторичностью белкинской прозы; иногда и прозаик Белкин
как будто не остается в долгу. Например: ...поэт, заметя ее поведение, сказал бы: Se amor none, che dunque?
На всем протяжении текста «Повестей Белкина» догматику
и аскету, исповедующему сальерианское «усильное постоянство»,
так или иначе противостоит открытый жизненным соблазнам
моцартианский «гуляка праздный». Культурно-историческую
основу, образотворческий исток этой поляризации, выступающей законом эстетической целостности всего сложносоставного
произведения, составляет пракомический архетип карнавальной
пары. В данном случае наиболее актуальным вариантом данного
архетипа представляется антитеза Арлекин — Пьеро (веселый
плут — меланхолический простак). В цирковой традиции эта карнавальная пара трансформировалась в дуэт рыжего и белого клоунов.
Разумеется, речь не может идти о сознательном стремлении
Пушкина «зашифровать» в сюжетах «Метели» и «Станционного
смотрителя» коллизию традиционного треугольника: Пьеро —
Коломбина — Арлекин. Однако подобное прочтение этих повестей не только имеет заслуживающие внимания предпосылки в
тексте, но и способно приоткрыть содержательную глубину комизма всего пушкинского шедевра, который Бахтин причислял к
1
числу «наиболее карнавализованных произведений» . Во всяком
случае, иностранное имя для своего героя Сильвио, который ко' Б а х т и н М.М. Проблемы поэтики Достоевского. — С. 185.
240
зался русским, Белкин заимствует (оговариваясь: так назову его)
1
из романской карнавальной традиции комедии масок .
Отметим при этом, что между эстетической культурой комедии дель арте, которая, по мнению Бахтина, «полнее всего сохра2
нила связь с породившим ее карнавальным лоном» , и «Повестями Белкина» имеется отдаленная, но вполне очевидная преемственная связь. В роли посредника здесь выступает Пьер Мариво.
Достаточно вспомнить, что автор «Игры любви и случая», использованной Белкиным в сюжете в «Барышне-крестьянке», выступил таким же завершителем традиции анонимной площадной
арлекинады (французский вариант итальянской импровизационной комедии масок), каким в свое время Рабле явился для более
широкого и более архаичного спектра карнавальных мотивов.
Весьма существенно и то, что во времена Пушкина представления об Арлекине и Пьеро — все еще живой элемент французской низовой культуры, традициями которой питалась комедиография не только Мариво, но и Бомарше. Причем после революции 1789 г. Арлекин из слуги превращается в героя-любовника,
а Пьеро — в мужа Коломбины (в прошлом также служанки, наперсницы хозяйки). Сохранив свои прежние карнавальные функции, они заместили собой и двух кавалеров итальянской традиции: жизнерадостного, развязного и застенчивого, печального. Не
могли не дойти до Пушкина также отголоски бурной полемики
вокруг фигуры Арлекина в немецкой театральной критике, где за
веселого плута против Готшеда и его единомышленников вступился сам Лессинг. Приметная страница этой полемики — книга
Ю.Мёзера «Арлекин, или Защита гротескно-комического» (1761 г.).
Так или иначе, некоторые совпадения и переклички «Повестей Белкина» с названной комической традицией поразительны.
К числу таких феноменов «культурной памяти» может быть отнесен, в частности, своего рода цветовой код антитезы персонажей
эксцентрического и эгоцентрического типа.
Напомним, что традиционные цвета Арлекина — цвета пламени: красный и желтый (включая рыжий цвет парика); традиционный цвет Пьеро — белый (включая бледность набеленного лица),
т.е. траурный по католической традиции. Поэтому не удивительно, что Сильвио, побледневшему от злости, вообще присуща мрач1
Ср.: «Весной 1912 года родилась очередная идея театра для артистов: дачного, в Териоках, на берегу Финского залива. <...> Предполагался карнавал в белую ночь: с балаганами, аттракционами и ряжеными. Ожидалась и пантомима:
Панталоне хочет выдать дочь Аурелию за старого доктора из Болоньи, а она
любит молодого Сильвио. Влюбленным помогают слуги, Арлекин и Смеральдина, все запутывающие и ведущие к счастливому концу» ( Р о т и к о в К.К. Другой
Петербург. — СПб., 1998. - С. 62). (Подчеркнуто мной. - В. Т.)
2
Б а х т и н М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — С. 42.
241
ноя бледность, тогда как лицо графа (который, по словам Сильвио, всегда шутит, подобно Арлекину) горело как огоны Кстати,
черешни, которыми угощался граф во время первой дуэли, как
известно, бывают красного и желтого цветов. А бедная мазанка
Сильвио — это глинобитный домик белого цвета (на Украине, на
юге России такие «мазанки» обязательно белят). Сильвио, впрочем, хранит принадлежавшую ему ранее и простреленную графом
красную шапку, однако не следует забывать, что до появления
графа его способ существования был иным: Сильвио был поначалу отъявленным «эксцентриком», а не «эгоцентриком», но зависть приводит его к метаморфозе, напоминающей путь пушкинского Сальери.
В мелодраматической «Метели», естественно, доминирует белый цвет (снега), практически не оставляя места для иных красок. Лишь сама метель, которой Бурмин обязан своим счастьем,
а Владимир — несчастьем, несколько неожиданно приобретает
желтоватый оттенок, да ненарадовская Коломбина покраснела,
выслушав признание в любви из уст Бурмина. В остальных ситуациях лица всех трех основных персонажей — как водится в сентиментальной романистике — отменно бледны. Однако не будем
забывать о вмешательстве Белкина: ветреного повесу, шутника и
проказника, каким предстает беспенно насмешливый Бурмин в его
собственном рассказе, подставной автор в соответствии со своим литературным вкусом преображает в романического героялюбовника. Отсюда и его трафаретная бледность, отчасти мотивированная ранением. Мотив огня все же хранит ассоциативную
связь этого персонажа, наделенного пылкостью характера, с графом из «Выстрела»: глаза Бурмина с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне (хранительнице тульской печатки с двумя
пылающими сердцами). Да и Белкин, увлекаясь мелодраматичностью финала, словно проговаривается, комически обнаруживая
нарочитость портретного штампа: Бурмин побледнел... и бросился
к ее ногам... — сказано о герое, ранее уже наделенном интересной бледностию.
В демонстративно анекдотическом «Гробовщике», напротив,
белый цвет упоминается лишь однажды, зато желтый и красный
доминируют, встречаясь 8 раз, но характеризуя не главного героя, а лишь его окружение. Желтый домик, куда переселяется гробовщик в начале повествования, ему чужд: Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о
ветхой лачужке (ср. бедную мазанку Сильвио). Цвет лица Адрияна
остается нам неведом, однако инерция читательского ожидания,
возникающая после первых двух повестей, создает и здесь невольное впечатление бледности персонажа, чей нрав совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Оно усиливается контрастом с
карикатурным портретом краснолицего переплетчика и легко ас242
соииируется с присущей гробовщику, как и Сильвио, угрюмой
задумчивостью. Во всяком случае, пьяный Прохоров заявляет, что
он не гаер святочный (слово «гаер» толкуется В.Далем как «арлекин, паяц, шут»), и как бы отрекается от причастности к желтокрасному полюсу праздничности (ср. желтые шляпки и красные
башмаки дочерей, надеваемые только в торжественные случаи).
В тексте «Станционного смотрителя» упоминаются красные и
желтые листья, однако они не могут иметь отношения к Самсону Вырину, поскольку кладбище, где он покоится, не осеняется
ни единым деревцом. Зато мы узнаем о его седине и давно небритом
(как у Сильвио в кабинете графа) лице хилого старика (надо
полагать, бледном). Рассказ свой, как это принято у всех театральных Пьеро, он неоднократно прерывает обильными слезами.
А вот Минский выходит к Вырину в красной скуфье, что очевидным образом ассоциируется (как и красная шапка прежнего Сильвио) с шутовским колпаком1, чему способствует и поведение
Минского на станции, где он был чрезвычайно весел, без умолку
шутил <...> насвистывал песни.
В «Барышне-крестьянке» пародийно переплетаются многие
мотивы, зародившиеся в предыдущих повестях. Касается это также и символической антитезы красного и белого. Читательница,
надо полагать, английских романов (во всяком случае, ее гувернантка два раза в год перечитывала «Памелу» Ричардсона) Лиза
была уверена, что у занимавшего ее воображение Алексея лицо
бледное. Между тем оказывается, что у него румянец во всю щеку.
Напротив, смуглая красавица Лиза бледнеет, узнавая о предстоящем визите Берестовых и задумываясь о том, какое мнение сложится у Алексея о ее поведении и правилах, о ее благоразумии (кстати, второе заглавие «Памелы» — «Вознагражденная добродетель»).
Скрытая пушкинская арлекинада прорывается в игре жизнерадостно проказничающей шалуньи с белилами: Лиза, его смуглая Лиза,
набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были,
как парик... и т.д. Что касается умирающей со скуки мисс Жаксон,
представляющей своего рода женскую ипостась Пьеро, то у нее,
напротив, обнаружилась способность бросать пламенные взгляды,
а багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну
ее лица. Соотнесенная с цветовым кодом карнавальной пары эта
фраза предстает метафорически точной (за вычетом слова «досада») характеристикой двойного авторства «Повестей Белкина» и
самого комического строя их художественности.
Если мы задумаемся о «карнавальном мезальянсе» авторов, то
о внешнем виде Издателя нам, разумеется, ничего определенного
1
Ср.: «нетленный красный колпак арзамасский» — своего рода пароль участников «Арзамаса».
243
не может быть известно (впрочем, инициалы А. П. вынуждают
вспомнить о смуглости лица самого Пушкина). Зато Белкин, как и
положено Пьеро, лицом был бел. Даже имя, отчество и фамилия
этой ипостаси «белого шута», как кажется, не совсем случайны:
в состав фамилии входит бел', Петр соответствует итальянскому
Пьеро и французскому Пьер, словно указывая на «отцовскую»
традицию — Пьер Мариво и комедия дель арте; наконец, Иван
соответствует итальянскому обозначению этого амплуа. Дело в том,
что фигуры Арлекина и Пьеро — результат эволюции традиционной пары слуг деревенского происхождения, именовавшихся в
итальянской комедии масок «дзанни», т.е. «ваньками».
Интересно, что на могилу Самсона Вырина приходят именно
два Ивана (мальчик-провожатый оказывается тезкой нашего сочинителя1). И если один, как мы помним, лицом был бел, а настроен весьма меланхолически, то второй, радостно вспрыгивающий на могилу, — рыжий и кривой. Этот веселый, одноглазый
(будто вечно подмигивающий) «рыжий шут», проводник Белкина в стране мертвых (голое место, ничем не огражденное, усеянное
деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом), видится нам одним из потаенных обликов истинного автора-юмориста.
Мотив кощунственного, профанно-анекдотического отношения к таинствам миропорядка (к таинству смерти, таинству брака) у пушкинских «арлекинов» далеко не случаен. Как свидетельствуют рогатая маска пра-Арлекина, преобразившаяся впоследствии в «двурогий» и двуцветный колпак, и красно-желтые
ромбы его традиционного костюма (стилизованные языки пламени), по своему происхождению Арлекин — мистериальный
дьявол, трансформировавшийся впоследствии в веселого карнавального черта. Пушкину эта родословная Арлекина была хорошо известна. Мефистофель в пушкинской «Сцене из Фауста» говорит: Как арлекина из огня / Ты вызвал наконец меня. От римскоитальянских карнавальных оргий («Кто знает край, где небо блещет...», 1829) и берет, по всей видимости, начало юмористическая игра веселого демонизма эксцентриков с пародийной святостью эгоцентриков, пронизывающая собой художественное
целое «Повестей Белкина».
Не случайно граф в «Выстреле» дьявольски счастлив', у Сильвио же только вид настоящего дьявола, демонизм его мнимый,
наигранный, романический. В одной из своих реплик Сильвио как
бы намекает даже на покровительство ему неких сакральных сил:
1
Титулярный советник А. Г. Н., в течение двадцати лет изъездивший всю
Россию, является такой же маской Белкина, намеренного побеседовать с любезными читателями, какой сам Белкин является для своего подлинного автора
Достаточно указать на разноголосость вступления, где «литераторский» пафос
сочинителя неуклюже прячется за фразой еще несколько слов вымышленного пожилого чиновника.
244
Благодарите Бога, что это случилось у меня в доме; а для продолжения дуэли в кабинет графа по его требованию приносят свечи.
Владимир видится наедине с Марьей Гавриловной у старой
часовни, где клянется ей в вечной любви; он стремится в церковь,
которой достигает лишь после пения петухов, отпугивающего,
как известно, нечистую силу. Бурмин же следует мимо церкви и
непозволительно шутит с таинством брака. При этом нравственные терзания, тяжелое ранение в Бородинской битве и последующая смерть наделяют Владимира ореолом мученичества, тогда как Бурмина Белкин характеризует ужасным повесою.
Адриян Прохоров по роду своего ремесла непосредственно
причастен к таинству смерти, тогда как его собутыльники осмеивают эту причастность. При установлении порядка в новом жилище гробовщика на первом месте фигурирует кивот с образами;
события же своего сна гробовщик называет дьявольщиной.
Самсон Вырин отправляет свою дочь в церковь, а впоследствии чудесным образом разыскивает ее, отслужив молебен у Всех
Скорбящих. Отсылка к сакральному авторитету библейского Самсона, погубленного женским коварством, здесь очевидна (вплоть
до мотива «ослепления», хотя и в переносном смысле) 1 . Минский
же провозит Дуню мимо церкви и увозит ее как заблудшую овечку
(еще одна аллюзия Священного Писания). О шаловливой кощунственное™ поведения на могиле Вырина маленького чертенкаарлекина, рыжего и кривого («единаок» — одна из традиционных
модификаций бесовского облика), уже было сказано. Примечательно, что этот Ванька забавляется с кошкой — с животным,
традиционно причастным, согласно мифологическим представлениям, к нечистой силе или к языческим божествам радости и
веселья (что в данном контексте весьма знаменательно).
В следующей повести возникает любопытная перекличка: входя в свою плутовскую роль, Лиза Муромская качала головою, наподобие глиняных котов. В то же время в рамках этой роли она
клянется святой пятницей. Молодой Берестов также соединяет в
себе оба антиномичных начала: напускную святость (говорил об
утраченных радостях и об увядшей своей юности; поклялся было ей
святою пятницею) и вакхическое бешеное жизнелюбие 2 (за девушками слишком любит гоняться). Напомним, что и граф Б. в молодости демонстрировал веселость самую бешеную.
Что же касается самого Белкина, рожденного от честных и
благородных родителей, то его жизнеописание в немалой степени
является пародийным житием. Особо выделим сообщение о том,
что покойный отец его <...> был женат на девице. Эта стилистиче1
См.: Ш м и л В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина». — С. 100 и др.
2
Любопытно заметить, что адресованный псу окрик Алексея: «Tout beau», —
в дословном переводе с французского означает «все хорошо».
245
екая неловкость биографа невольно вызывает святотатственно-пародийную ассоциацию с непорочным зачатием (едва ли есть необходимость напоминать об игре Пушкина с этим мотивом в «Гавриилиаде»).
Однако псевдосвятость извечно несчастных Пьеро и псевдодемонизм преуспевающих, дьявольски счастливых Арлекинов — это
их шутовские, игровые, масочные атрибуты, подвергаемые карнавальному переосмыслению. В своих ритуально-мифологических
истоках карнавальная пара красного и белого шутов явственно
восходит к амбивалентному противостоянию солнца и луны, дня
и ночи, жизни и смерти в поле архаического сознания. Отнюдь не
случайно костюм Пьеро напоминает саван, а обтягивающее одеяние Арлекина подчеркивает его живую телесность.
Что касается солярного мифопоэтического подтекста, то напомним, что на свою первую дуэль с графом Сильвио прибывает на
рассвете, а появление графа совпадает с восходом солнца: С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнц
взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком...
Отправляясь мстить графу, Сильвио заявляет: Еду сегодня в ночь.
Графа для продолжения дуэли он ожидает в темноте. С солнечным
циклом соотнесено и появление графа по соседству с Белкиным:
повествователь ожидает приезда их сиятельств с весны (как Сильвио — на рассвете), но они прибыли в начале июня месяца.
Обыкновенные для гробовщика Прохорова печальные раздумья
связаны с ненастьем {проливным дождем), а замогильные события
его сна — с лунным светом: Ночь была лунная; Луна сквозь окна
освещала лица приглашенных мертвецов, тогда как анекдотическое преображение-пробуждение Адрияна озарено солнцем: Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза...
История знакомства Белкина (повествователя) с Самсоном
Выриным начинается весной, в мае месяце, таким же проливным
дождем, каким были испорчены гробовые наряды Адрияна Прохорова накануне его переселения. Завершается эта история осенью
при закате солнца. Однако прекрасная барыня Авдотья Самсоновна, увезенная зимой, возвращается в родные места (подобно графине Б.) летом. Соотнесенность сюжета с годовым циклом очевидна, только эти опорные события доводятся до нас в обратном
порядке: весна, зима, осень, лето. Но и притчевый сюжет картинок в повести вывернут наизнанку: отец отправляется на поиски
блудного дитяти.
Вполне закономерно, что и авантюрное знакомство Лизы Муромской с Алексеем Берестовым совпадает с восходом солнца: когда
Лиза отправилась в рощу, заря сияла на востоке, и золотые ряды
облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. А прекращение свиданий связывается с дождливой погодой.
246
В плане оппозиции живого и мертвого как солнечного (дневного) и лунного (ночного, ненастного) совершенно не случайно —
сочинитель Белкин — покойник (как и покойный отец его), что
подчеркивается полным заглавием произведения. В своих историях
Белкин мелодраматизирует судьбы экзистенциально близких ему
героев, тяготеющих, как и он сам, к «архетипу Пьеро». Как автор
своих повестей он «хоронит» и Сильвио, и Владимира, и Вырина.
Эта участь минует лишь самого гробовщика, однако данное исключение, пожалуй, лишь подтверждает правило: персонажи эгоцентрического склада репрезентируют собой смерть, несут в себе
мертвящее начало карнавально-амбивалентного единства бытия.
Ведь сама жизнь гробовщика состоит в том, чтобы хоронить. Перед нами своего рода невольная автопародия Белкина, жаждущего историй для своего сочинительства, как Прохоров ждет смертей для своего ремесла.
Но Белкин не подлинный, а мистифицированный автор. Соответственно и осуществляемые им литературные «похороны», как
в сонном видении гробовщика, не подлинные, а мнимые: «серьезно-смеховые». В известном смысле и Сильвио, и Владимир, и смотритель Самсон сами «хоронят» себя, эгоцентрически замыкаясь в
своей ограниченности, так или иначе отрекаясь от жизни в ее
действительной полноте и многообразии. Для Владимира, например, смерть остается единою надеждою, а Вырин в мрачном своем ослеплении (отправляя в воскресенье Дуню с гусаром, он поддается светлому, праздничному, воскресному ослеплению) доходит до того, что желает смерти и самой Дуне.
Все «сумрачные» персонажи «Повестей», включая и их вымышленного автора, живут не в соответствии с окказиональной данностью жизни, но, ориентируясь на императивы заданности, конвенциональное™, нормативности, прислушиваются не столько к зовам бытия, сколько к запретам миропорядка.
Тем самым они собственным «героическим постоянством» живое в себе сами подчиняют мертвому, существование — отвлеченным сущностям. Однако авторский смех благодаря эффекту
двойного авторства эстетически «воскрешает» этих персонажей«смертников», преображая мелодраматических героев в чудаков,
снова приобщая их в этом качестве к полноте и многообразию
жизни.
Пушкин, разумеется, вовсе не жестокосерден к тем, кто на
страницах «Повестей Белкина» погибает. Но дело здесь не только
в мелодраматической нарочитости белкинского сочинительства.
Неумолима художественная воля самого комизма. В рамках юмористической концепции человеческого «я-в-мире» аналогом смерти
выступает всякая жесткая упорядоченность и завершенность, тогда как аналогом жизни — динамичный эволюционный процесс
непрерывного, текучего, пластичного становления и отдельной
247
личности, и всего универсума межличностных отношений. И Сильвио, и Владимир, и Самсон Вырин, и сам Белкин, говоря языком Тейяра де Шардена, суть «неудачные пробы эволюции». Они
останавливаются в своем внутреннем движении и с этого момента для юмора становятся «мертвы». Все «живые» персонажи «Повестей Белкина», напротив, внутренне текучи, душевно пластичны. Участниками карнавала жизни остаются лишь те, кто сохраняет способность к внутренней метаморфозе, что и происходит с
гробовщиком в финале этого ключевого во многих отношениях
рассказа — не случайно он был написан первым и поставлен в
центр общей композиции книги.
Не следует, однако, впадая в крайность, приписывать Пушкину апологию героев, тяготеющих к «архетипу Арлекина», которые, подобно персонажам «Барышни-крестьянки», были счастливы настоящим и мало думали о будущем. Разумеется, они гораздо ближе к автору в его «последней смысловой инстанции»
(Бахтин), поскольку выступают не только объектами, но и
субъектами юмористического мироотношения: подобно Бурмину, все они обладают умом безо всяких притязаний и беспечно
насмешливым. И все-таки даже они — всего лишь равноправные
и равнодостойные участники серьезно-смехового «прения живота со смертью», пронизывающего собой все части этого художественного целого. Перед лицом юмора, как в карнавале, все
равны.
Отсюда крайне существенная особенность явленного в «Повестях Белкина» строя художественности, которая состоит не только в поляризации живого и мертвого, но и в карнавальном снятии границ между ними. Эта амбивалентность (смотритель, например, ни жив, ни мертв) достигает своего апогея в «Гробовщике» {пожитки на похоронных дрогах; гробы отдаются напрокат и
починяются; мертвый без гроба не живет; нищий мертвец даром
берет себе гроб; пить за здоровье своих мертвецов и т.п.). Однако
она заявлена уже в первой фразе Издателя по поводу оксюморон ного жизнеописания покойного.
Один из многочисленных примеров такого рода — легкое косноязычие белкинской фразы: Мы спрашивали уже, жив ли еще
бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот
же вопрос. Можно подумать, что появление среди живых еще не
гарантирует принадлежности бедного поручика к их числу. Таков
комический эффект лукавого двуголосого слова. Зато в насмешливой фразе повествователя властью второго голоса «мертвый» фразеологизм «оживает» и превращает смерть в одно из повседневных
занятий мисс Жаксон, которая за две тысячи рублей в год умирала со скуки в этой варварской России.
К «Повестям Белкина» в полной мере приложимы бахтинские
слова: «Смерть здесь входит в целое жизни как ее необходимый
248
момент, как условие ее постоянного обновления и омоложения»1.
Эта наиболее архаичная интенция смехового миросозерцания наследуется юмором, но не исчерпывает его. Здесь «мертвое» все
более тесно связывается с жесткой офаниченностью мнимо сверхличных начал жизни, а «живое» — с непреднамеренностью, окказиональностью индивидуального жизнесложения, личностного
самоосуществления. Пушкинский юмор, как и вообще юмор Нового времени, сконцентрирован на самобытности человеческого
«я». В глазах носителя юмористической концепции личности несчастный «маленький человек» Вырин не менее смешон, чем осчастливленные Бурмин или Берестов. Генетически связанный с
карнавальным смехом, юмор тем и отличается от своего культурного предшественника, что является неутолимой жаждой той яркой личностности бытия, какой всегда недоставало этим бледным Пьеро.
Если карнавальное миросозерцание — это апология жизни,
торжествующей даже в самом акте смерти, в умирании отжившего, то юмор — апология личности, самостоянье которой состоит
в жизнетворческом отталкивании от всего готового и заданного,
от мнимо сверхличных стереотипов существования. Однако отталкивание неизбежно включает в себя момент опоры, как полнота
жизни включает в себя момент смерти; самостоянье личности
неосуществимо без опоры на обезличившиеся стереотипы жизнеуклада. Таков серьезно-смеховой «механизм» юмористического
воззрения на мир: «карнавализованный» человек смешон не только своим масочно-ролевым нарядом, который всегда с чужого
плеча; не менее смешон он и в своей наготе, тогда как третьего не
дано. Вся соль юмористической концепции человека в неслиянности и нераздельности лица и маски.
Именно такова эстетическая природа демонстративной «литературности» белкинских повестей. Ток юмористического переживания создается прежде всего постоянно ощущаемым напряжением между заемным, имитированным, чужим и наивным,
неумелым, своим (по отдельности ни то, ни другое ни юмористическим, ни вообще художественным значением не обладало
бы).
Той же природы особая роль всего нерусского в общем контексте целого. Здесь иноязычное («немецкое» в самом широком, этимологическом смысле этого слова: чужое и загадочное в своей
«немоте»), иностранное (потустороннее, незнаемое) принадлежит символическому «ряду смерти» (включая и мотив бледности),
тогда как русское, свое — «ряду жизни» (включая и мотив румянца). При этом глубоко значимы как карнавальная инверсия этих
• Б а х т и н М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — С. 59.
249
рядов в «Гробовщике», так и их конвергенция в «Барышне-крестьянке».
Корнями своими юмористический взгляд Пушкина на русскость
как историческую «личностность» нации уходит в карнавальную
неслиянность и нераздельность живого и мертвого, злободневной
же смысловой верхушкой этого древа явилась причастность к журнальной полемике 1830 г. о русском «полупросвещении» и национальной самобытности. Не последнюю роль в этом контексте приобретает и рассмотренная выше игра белого и красного цветов. Первый тяготеет к символике европейской цивилизации (английские белила, пристрастие к бледности в западных романах),
второй — к символике первобытной естественности (напомним
портрет пушкинской калмычки: Лицо смуглое, темно-румяное. Багровые губки...).
Русские два узла Марьи Гавриловны — такой же юмористический объект, как и два чемодана полуиностранца Сильвио. Русское здесь в равной степени смешно: и в чужом наряде (настоящий русский барин англоман Муромский), и в своей доморощенной «наготе» самодовольства (Берестов). Но пушкинское осмеяние национального российского самостоянья в основе своей позитивно. Национальное своеобразие в глазах Пушкина не готовая
заданность, а живая данность вызревания, становления самобытности1. Такое становление всегда эксцентрично, оно исключает
эгоцентрическую самоизоляцию: стать самим собой, обрести подлинное «я» можно только во взаимодействии, во взаимопритяжении и взаимоотталкивании с чужеродным. Чувство юмора предполагает конвергентную способность видеть себя со стороны как
другого-для-других.
В тексте «Барышни-крестьянки» имеется прямое высказывание
повествователя по поводу самобытности, с которым подлинный
автор «Повестей Белкина» в данном случае вполне солидарен.
Присутствие Белкина здесь ощущается, пожалуй, лишь в неуместной патетичности рассуждения о человеческом величии в отношении уездных барышень, да в неискоренимой его вторичности (ссылка
на Жан-Поля). Двуголосое слово не всегда внутренне дискуссионно. Юмор последней повести — точка эстетической конвергенции
двух авторов, вымышленного и действительного.
Эта конвергенция, преодолевающая насмешливое отчуждение,
задана изначально эпиграфом ко всему циклу. Если бы целью эпиграфа было только очевидное — отделить незадачливого сочинителя от подлинного автора и выставить его комическим героем
собрания собственных его историй — достаточно было бы реплики г-жи Простаковой. Прибавляя к ней еще и реплику Скотини1
Ср.: «Замечу, что порода калмыков начинает изменяться и первобытные
черты их лица мало-помалу исчезают* (Пушкин А. Указ. соч. — С. 37).
250
на: Митрофан по мне, — Пушкин вносит исключительно важный
акцент. Если первая реплика говорит о неслиянности подлинного
и подставного авторов, то вторая — об их нераздельности (о чем
свидетельствует и упоминание Тараса Скотинина самим Белкиным в заключительной повести книги).
Богатство оцельняющих сцеплений болдинской прозы поистине неисчерпаемо. Одним из существенных моментов этого рода
следует признать проанализированный М.Н.Дарвином «метасюжет мужского и женского», развивающийся по пути «ослабления
внешней конфликтности, отказа от геройства». Фундаментальное
для целостности книги динамическое «равновесие» постоянно
взаимодействующих «двух жизненных начал: мужского и женского»1 — одно из проявлений общего закона конвергенции, связывающей автора и героя, эксцентрика и эгоцентрика, «моцартианское» и «сальерианское», русское и иностранное, сакральное и
инфернальное, в конечном счете живое и мертвое в юмористически позитивное и онтологически глубокое всеединство бытия.
1
См.: Д а р в и н МН. Мужское и женское в «Повестях Белкина» А.С.Пушкина: О некоторых особенностях построения цикла // Сюжет и мотив в контексте
традиции. — Новосибирск, 1998.
ГЛАВА 8
ИНТЕРТЕКСТОВЫЙ АНАЛИЗ
В 1960-е годы Юлия Кристева ввела в литературоведческую практику понятие интертекстуальности, использовав его как фундаментальную характеристику любого текста1. Художественный текст,
как и всякий другой, действительно представляет собой «пучок»
самых разнообразных межтекстовых связей и отношений и оказывается своего рода интертекстом. Однако в этом отношении он не
представляет собой эстетически завершенной целостности и не
может быть подвергнут семиоэстетическому анализу, предполагающему, как говорилось выше, полноту и неизбыточность научного описания.
Со временем интертекстуальность стала модной категорией
постмодернистского мышления, что не способствовало эффективности ее понятийного бытования в науке. Под интертекстовым
анализом нередко стали понимать выявление различного рода влияний, заимствований, цитат, реминисценций, аллюзий, т.е. филологическое комментирование текста. Зафиксированные в тексте
интертекстуальные явления, разумеется, могут стать предметом
семиоэстетической систематизации, но для этого они должны
обрести статус «голосов», складывающихся во внутренне завершенную систему глоссализации данного произведения.
С другой стороны, анализом этого рода именуется также изучение литературного интертекста в качестве специфического надтекстового образования. Однако само понятие интертекста при этом
нередко остается весьма неопределенным и расплывчатым, прилагаемым едва ли не к любой группе произведений, объединяемых исследователем по тому или иному признаку.
Между тем в истории литературы имеют место особые сверхтекстовые образования, принципиально разнящиеся по своей природе от циклов и циклоидных ансамблей. Таковы, например, политекстуальные единства, складывающиеся вокруг топонимов высо2
кой культурной значимости (Петербург, Москва, Кавказ и т.п.) .
1
См.: К р и с т е в а Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. — М., 2004. —
С.136.
2
См.: М е д н и с Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. — Новосибирск.
2003.
252
Именно при обращении к подобного рода сгущениям литературного ряда понятие интертекста оказывается уместным и научнопродуктивным в той мере, в какой взаимоналожение текстов образует совершенно особое межтекстовое художественное пространство.
Путь к определению семиотической природы интертекстов был
намечен В.Н.Топоровым в работе, положившей начало целому
научному направлению. «Во всех текстах, составляющих Петербургский текст, — писал Топоров, — выделяется ядро, которое
представляет собой некую совокупность вариантов, сводящихся в
принципе к единому источнику»1. В примечании было высказано
также следующее важное уточнение: «Эта ситуация отчасти аналогична соотношению типа сказки и ее вариантов»2.
В самом деле, здесь имеется существенное сходство: Петербургский «надтекст» присутствует в каждом своем «субтексте», как
сказка — в любом ее варианте. И в каждом отдельном произведении все интертекстуальное единство завершается по-своему, не
дожидаясь последующих своих наращиваний. Можно сказать, что
Петербургский интертекст представляет собой «напластование»
текстов — семиотическое образование палимпсестного характера.
Если обычный текст является структурой синхронической и
синтагматической, то транстекстуальные феномены, подобные
Петербургскому тексту, диахроничны и асинтагматичны. Последнее означает отсутствие каких-либо правил следования субтекстов одного за другим во времени. Иначе говоря, «Петербургский
текст русской литературы» — это парадигматическое явление, по
природе своей аналогичное мифу, в том числе и своей анонимностью, ибо никто из авторов интегрированных субтекстов не может быть признан автором интертекста.
Единство поэтики в этом случае следует искать, по-видимому,
не в языковом коде, не в «густоте языковых элементов, выступающих как диагностически важные показатели принадлежности к
Петербургскому тексту»3, не в сюжете или композиции (ибо у
интертекста в отличие от цикла таких сверхтекстовых конструкций не имеется), а в предметно-смысловом единстве данного культурного топоса (Петербурга) как интенционального (предполагаемого сознанием) объекта.
Следует оговориться, что тематическая привязка сюжетного
действия к столице Российской империи вовсе еще не гарантирует принадлежности того или иного произведения к Петербург1
Т о п о р о в В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы»:
Введение в тему // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в
области мифопоэтического. — М., 1995. — С. 279.
2
Там же. — С. 336.
'Там же. - С . 313.
253
скому интертексту. Решающая роль здесь принадлежит независимому от индивидуального сознания писателя мифологическому
субстрату, питающему единую мифотектонику всего палимпсестного ряда произведений.
Соответственно интертекстовая аналитика представляет собой
по преимуществу аналитику мотивов мифотектонического уровня.
Сибирский интертекст русской литературы
К XIX столетию Сибирь была не только освоена Российской
империей геополитически, но и усвоена русской культурой в качестве некоторого концепта и интенционального объекта. Сибирь
с ее каторгами, пересыльными тюрьмами, принудительными поселениями и одновременно искателями счастья (переселенцами)
в национальном сознании мифологизировалась, стала общепонятным хронотопическим образом определенного способа присутствия человека в мире.
Об этом свидетельствует, например, такая фраза из частной
переписки 30-х годов XIX в.: «...а Кавказ у нас в России слывет
хуже Сибири»1. Ни в климатическом, ни в эстетическом отношении (в том же письме говорится о поражающих «пылкое воображение» красотах «угрюмого Кавказа»), ни в социальном (в тех
местах не было каторги) Кавказ не мог представляться «хуже»
Сибири. Это могло быть сказано только в одном смысле — «смертельности» данного пространства. В другом частном письме того
же времени автор говорит о себе: «...ваш Мельмот жив даже и на
Кавказе». Далее он заявляет: «Я не премину уведомить вас о себе,
жив ли или убит»2. Шутливо алогичная фраза мифологически трактует состояние смерти на Кавказе как естественное, как если бы
это было место обитания мертвых.
Приведенное выше уподобление Кавказа Сибири далеко не
случайно: именно Сибирь в российском культурном сознании
обрела характеристики и свойства мифологической страны мертвых. От завоевания мертвым военачальником3 руин погибших цивилизаций до абсурдистских отголосков сибирской мифологемы
в прозаической поэме Вен. Ерофеева «Москва—Петушки»:
<...> — А где же он теперь, твой Евтюшкин?
— А кто его знает, где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он
приехал в Ростов и все еще живой, значит, он где-нибудь в Средней
Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит, в Сибири...
1
Цит. по: Т р о и ц к и й Ю. Л. Российская провинция — от топоса к хронотопу // Российская провинция XVIII —XX веков: Реалии культурной жизни. — Пенза, 1996.-Кн. 1 . - С . 159, 160.
2
Там же. — С. 66.
3
Погибшему в столкновениях с сибирскими татарами Ермаку расхожее общественное мнение приписывало овладение всей Сибирью.
254
— Верно говоришь, — поддержал я ее, — в Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить <...>
— А в Сибири?..
— А в Сибири — нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще
докто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят,
выпить им нечего, не говоря уж «поесть». Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца — и негры на них вешаются...
Чернота мнимых сибирских негров — прозрачная аллюзия трупов, не нуждающихся в еде и питье, но нуждающихся в ритуальном убранстве (полотенца). Если мертвые там продолжают жить,
то и нуждаются в систематическом обновлении этого убранства.
Хронотопический образ Сибири в русской классической литературе представляет ее страной холода — зимы — ночи (луны),
т.е. смерти в мифологическом на нее воззрении. И хотя за Уралом
три летних месяца по преимуществу стоит жара, в литературных
пейзажах Сибири лето и солнце, как правило, игнорируются. Одновременно Сибирь — страна безлюдного и беспредельного (аллюзия космической вечности) пространства. Как пишет Чехов в очерках «Из Сибири»: Сила и очарование тайги не в деревьях-гигантах и
не в гробовой тишине, а в том, что разве одни только птицы перелетные знают, где она кончается.
Однако при всей своей фундаментальной «могильности» (в тех
же очерках читаем: Иртыш не шумит и не ревет, а похоже на то,
как будто он стучит у себя на дне по гробам) Сибирь обильно населена дикими животными (из очерков: Зато никогда в жизни не видал я такого множества дичи). Это вообще отнюдь не инфернальный хронотоп окончательной и бесповоротной смерти, но скорее
«богоугодное»1 место временной смерти: лиминальный хронотоп
смертельного испытания, ибо Сибирский тракт — самая большая
и, кажется, самая безобразная дорога на всем свете, а на отправившегося по ней автора очерков все смотрят с сожалением, как на
покойника.
В исследованиях этнографов лиминальной фазой переходного
2
обряда инициации , как известно, именуется фаза символической смерти посвящаемого — посещения страны мертвых, хозяином которой обычно выступает тотемное животное. Знаменательно, что Чехов называет тайгу зеленым чудовищем. Юноша, успешно выдержавший испытание смертью, после контакта (часто поглощения) с бестиарным первопредком (или праматерью, обернувшейся в сказках бабой-ягой) возвращался к жизни будто заново родившимся — в новом социальном статусе мужчины: воина, охотника и жениха.
1
«Из Сибири» Чехов начинает словами: — Отчего у вас в Сибири так холодно ? — Богу так угодно! — отвечает возница.
2
См.: G e n n e p A. van. The Rites of Passage. — L., 1960.
255
Ландшафт маргинального пространства каторги, ссылки и про1
живания различного рода «коммунитас» с поражавшими воображение лесами и реками (переправа через реку и углубление в лесную чащу — традиционные компоненты обряда инициации), с
растягивающейся на полгода зимой и полярной ночью в северных
районах оказался благодатной почвой для актуализации одной из
наиболее архаичных культурных моделей. Уникальное взаимоналожение геополитических, культурно-исторических и природных
факторов привело к мифологизации Сибири как края лиминальной полусмерти 2 , открывающей проблематичную возможность
личного возрождения в новом качестве и соответствующего обновления жизни. Знаменательно предположение Чехова, что на
Енисее жизнь началась стоном, а кончится удалью.
Речь, разумеется, не идет о сознательном и продуманном обращении русских писателей к ритуально-мифологическому комплексу мотивов инициации. Данный мифотектонический подтекст,
как и любой другой, являет собой феномен смыслопорождающего механизма трансисторической культурной памяти — художественную «форму "имплицитного" мифологизма, чья плодотворность не раз обнаружилась потом в процессе развития русской
реалистической литературы»3.
У истоков концептуализации Сибири как лиминального хронотопа русской литературы — текст «Жития протопопа Аввакума».
Вольно или невольно, но ссылка в Сибирь обретает под пером
Аввакума символические количественные характеристики: Таже
послали меня в Сибирь с женою и детьми <...> три тысящи верст
недель с тринадцеть волокли. Если независимое от людей пространственное измерение три имеет позитивную, сакральную коннотацию, то временное тринадцать, характеризующее человеческие
действия, — негативную, демонологическую. Отправляемый из
Тобольска на Лену и уповающий на Христа (смерть и воскресение
которого аналогичны обряду инициации), Аввакум говорит: ...ожидаю милосердия Его и чаю воскресения мертвым. Мытарства предстоящей христологической инициации (претерпевающие наказание становятся, по Аввакуму, сыновьями Бога, а не выблядками)
заранее мотивированы: ...яко многими скорбми подобает нам внити
в царство небесное.
1
Этим словом Тэрнер обозначает группу изгоев, претерпевающих состояние
«временного унижения и бесформенности», неструктурированности общественных отношений, актуализирующее «сущностную и родовую связь между людьми,
без которой немыслимо никакое общество» ( Т э р н е р В. Указ. соч. — С. 170, 171)
2
Ср.: «Лиминальность часто уподобляется смерти, утробному существованию, невидимости, темноте» (Там же. — С. 169).
3
М а р к о в и ч В.М. И.С.Тургенев и русский реалистический роман
XIX века. - С. 22.
256
Фактология собственных реальных страданий Аввакума насквозь
пронизана символикой переходного обряда:
Стало у меня в те поры кости те щемить и жилы те тянуть, и сердце
зашлось, да и умирать стал. <...> Наутро кинули меня в ЛОДКУ1 И напредь
2
3
повезли. Егда приехали к порогу , к самому большему — Падуну <...>
4
меня привезли под порог <...> льет вода по брюху и по спине . <...> Из
лодки вытаща, по каменью скована о кол порога тащили5. Грустно гораздо, да душе добро6. <...> Посем привезли в Браикий острог7. <...> И сидел
до Филиппова поста8 в студеной башне; там зима в те поры живет9.
В конце своих сибирских мытарств Аввакум восклицает: Ну,
слава Христу! Хотя и умрешь после того, ино хорошо, — поскольку
такого рода смерть (сибирская) обещает или даже гарантирует воскрешение.
Мифологизация Сибири как лиминального пространства русской культуры окончательно сложилась благодаря отправке на
каторгу декабристов. Однако соответствующий хронотопический
образ зауральских просторов колонизации, где телесное умирание может оказаться залогом духовного возрождения, начал складываться задолго до этого исторического события.
В своего рода пророческой поэме Рылеева «Войнаровский»
Сибирь — страна мятелей и снегов', царство хлада: царство ночи.
Здесь всегда сурова и дика <...> угрюмая природа, хтоническим чудовищем ревет сердитая река. Мифопоэтика поэмы такова, что в
ее тексте развернуты только ночные пейзажи. Например:
Погасло дневное светило;
Настала ночь... Вот месяц всплыл,
И одинокий и унылый
Дремучий лес осеребрил
И юрту путникам открыл.
Юрта (архаическое жилище) посреди дремучего леса вполне
соответствует традиционному сооружению для обряда инициации.
1
Лодочная переправа (достижение запредельной страны мертвых) — один из
наиболее существенных мотивов инициации.
2
Достижение лиминальной границы.
3
Паденье — один из символических синонимов смерти (ср. фразеологическое: пасть смертью храбрых).
4
Аналог погребального омовения.
5
Аналог похоронной процессии.
6
Намек на приближаемое похоронным ритуалом воскресение.
7
Именно так могло бы именоваться помещение для инициируемых, поскольку
все посвящаемые в первобытной древности были братьями — юношами одного
племени.
8
Пост (отказ от пищи) — одна из символических форм временной смерти.
9
Своего рода персонификация хозяйки страны мертвых, соответствующей
старухе-праматери в архаичном переходном обряде.
вТюна
257
Взгляд Войнаровского при этом сравнивается с тем, Как в час
глухой и мрачной ночи. / Когда за тучей месяи спит, / Могильныц
огонек горит. Что же касается обыкновенных людей (живых), то о
них сказано: Никто страны сей безотрадной, / Обширной узников
тюрьмы, I Не посетит, боясь зимы. Поскольку зима как время
года наступает в любом пространстве, то здесь она явно оказывается чем-то иным — мифопоэтической персонификацией смерти.
Войнаровский, как и его жена, предварившая подвижничество жен декабристов, гибнет в Сибири. Однако инициируемым
персонажем в поэме выступает не сам свободолюбивый казак, а
вступающий с ним в контакт (словно с культурным героем-первопредком) представитель автора — ученый Миллер. Сам же главный герой в свое время уже претерпел собственную символическую смерть (и одновременно обретение жены — закономерное
последствие переходного обряда) еще на Украине:
Все было тихо... Лишь могила
Уныло с ветром говорила.
И одинока и бледна,
Плыла двурогая луна
И озаряла сумрак ночи.
Я без движения лежал;
Уж я, казалось, замирал:
Уже, заглядывая в очи,
Над мною хищный вран летал.
Двурогая луна, да еще в сопровождении хищного врана, легко
прочитывается как образ хтонического божества ночной страны
мертвых, тем более что замирание происходит на говорящей (оживающей) могиле (могилами в Южной Украине зовутся степные
курганы). Наконец, после спасительного вмешательства будущей
жены героя совершается его постлиминальное преображение:
Я обновленный встал с одра. Ритуально-мифологический комплекс
мотивов инициации и зимне-ночной образ Сибири как маргинальной земли мертвых в поэме Рылеева пока еще не соединились в одно смыслообразущее целое, но уже оказались в продуктивном соседстве.
Складывающееся таким образом и закрепляющееся в интертекстуальных повторах мифотектоническое пространство художественной природы оказывается ключом к целому ряду произведений русской классической литературы, в частности к знаменитому посланию в Сибирь Пушкина (1827), где после троекратного
(в трех строфах) поэтического эвфемизма могилы заживо погребенных (глубина сибирских руд; мрачное подземелье; каторжные норы)
в заключительной строфе вдруг звучит бравурное:
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
258
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Было бы в высшей степени наивно полагать, что Пушкин возлагает надежду на более удачную попытку нового государственного переворота. Скорее всего, поэт, как и в «Стансах» (1826),
исходит из исторической параллели между императорами Николаем I и Петром I. Так, в поэме «Полтава» (1828—1829) Петр I
прозревает, кто был истинным радетелем о благе Отечества:
С брегов пустынных Енисея
Семейства Искры, Кочубея
Поспешно призваны Петром.
Он с ними слезы проливает.
Он их, лаская, осыпает
И новой честью и добром.
Мазепы враг, наездник пылкий,
Старик Палей из мрака ссылки
В Украину едет в царский стан.
Нечто подобное могло бы произойти и с декабристами, если
бы Николай I вдруг оценил по достоинству их гордое терпенье, их
скорбный труд и дум высокое стремленье. Эксплицированная в поэме модель чаемого Пушкиным возвращения декабристов в новом статусе национальных героев есть не что иное, как завершающая фаза ритуала инициации.
Существенными этапами наращивания Сибирского «палимпсеста» русской литературы явилось творчество Некрасова, Достоевского, Толстого, Чехова.
В дилогии «Русские женщины» помимо использования мотива
нисхождения ангела (княгиня Волконская) в ад, в подземный город
теней, Некрасовым разворачивается целый ряд картин лиминального характера, легко воспринимаемых как традиционный сибирский пейзаж:
...Мороз сильней, пустынней путь,
Чем дале на восток1;
На триста2 верст какой-нибудь
Убогий городок,
Зато как радостно глядишь
На темный ряд домов.
Но где же люди? Всюду тишь,
Не слышно даже псов 3 .
1
Ср. мифологическое направление потустороннего движения мертвого светила к своему восходу-воскрешению.
2
Кратность числу 3, как уже упоминалось, характерна и знаменательна.
3
Аллюзия погоста — города мертвых.
259
Направо — горы и река.
Налево темный лес...
Пропали горы; началась
Равнина без конца.
Еще мертвей! Не встретит глаз
Живого деревца.
Но хуже, хуже в руднике,
Глубоко под землей!..
Там гробовая тишина,
Там безрассветный мрак...
Зачем, проклятая страна,
Нашел тебя Ермак?
Луна плыла среди небес
Без блеска, без лучей.
Налево был угрюмый лес,
Направо — Енисей.
Темно! Навстречу ни души.
Ямщик на козлах спал 1 ,
Голодный волк2 в лесной ГЛУШИ
Пронзительно стонал...
«Записки из Мертвого дома» Достоевского — очевидная хроника жизни «коммунитас» (в тэрнеровском понимании), существующих по ту сторону жизни в ожидании права на возвращение
в жизнь.
Гораздо интереснее сосредоточиться на лиминальных мотивах
эпилога романа «Преступление и наказание», начинающегося
словами: Сибирь. На берегу широкой, пустынной реки стоит <...>
острог. В остроге уже девять месяиев заключен... Число месяцев,
разумеется, не случайно: оно сигнализирует о близящемся рождении (возрождении) героя.
Чудо этого воскресения (Как это случилось, он и сам не знал,
но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам, после чего он воскрес) совершается вслед за глубокой и длительной болезнью Раскольникова (весьма обыкновенный знак
символической смерти) на самом берегу сибирской реки. Именно там происходит его несомненное для окружающих перерождение: ...все каторжные, бывшие враги его, уже глядели на него
иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. <...>
1
Поскольку сон мифологически мыслится редуцированной смертью, то в
мифопоэтическом прочтении текста княгиню Трубецкую везет мертвец.
2
Мифопоэтическая ипостась тотемного животного, существенного атрибута
обряда инициации. К тому же волк — антипод сопровождающих человеческую
жизнь, но текстуально отсутствующих в сибирском хронотопе псов (см. выше).
260
Но ведь так и должно было быть: разве не должно теперь все измениться?
За несколько мгновений до совершающегося с ним внутреннего преображения Раскольников посмотрел на противоположную сторону реки, словно заглядывая через лиминальную границу: С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего
другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи <...> была свобода и жили другие люди, совсем непохожие на здешних, там как бы самое время остановилось,
точно не прошли еще века Авраама и стад его. Сумрачная Сибирь
оказывается порогом, ставящим героя на грань солнечной вечной
(библейской) жизни, после чего должна начаться история обновления человека, его перехода из одного мира в другой. Не случайно
на остающиеся Раскольникову семь лет каторги смотрят как на
семь дней (творенья?).
Создавая роман о духовно аналогичном преображении падшего героя, Толстой в третьей части «Воскресения» сполна реализует уже накопленный сибирским интертекстом русской литературы мифопоэтический ресурс лиминальной символики. Выделим
лишь некоторые наиболее знаменательные моменты.
Духовную инициацию проходит в Сибири, естественно, не
только Нехлюдов, но и каторжная Катюша Маслова: — Вот плакала, что меня присудили, — говорила она. — Да я век должна Бога
благодарить. То узнала, чего во всю жизнь не узнала бы. В частности, узнала от Симонсона, что все в мире живое, что мертвого
нет\ или от Набатова — что ничто не кончается, а постоянно переделывается от одной формы в другую <...> так и человек не уничтожается, но только изменяется. Высказывания, которые легко прочитываются как лиминальный опыт смерти-рождения.
Состоящие на службе в Сибири говорят о себе так, как если
бы они были могильщиками, исполнителями ритуальных услуг:
Живешь в этой Сибири, так человеку образованному рад-радешенек.
Ведь наша служба, сами знаете, самая печальная. В то же время
губернатор в романе знаменательно называет Сибирь тридевятым
царством, т.е. местом, где герои волшебной сказки, возникшей
на основе обряда инициации, претерпевают испытание смертью,
обретая некое новое качество.
Содержание последних глав романа и состоит в развертывании
ситуации подобного рода. Накануне решающего преображения главного героя ему, как и Раскольникову, дано увидеть солнце, что,
Как уже говорилось, для «литературной» Сибири большая редкость,
а также явлена некая аллюзия Елисейских полей, осеняемых горными вершинами, символизирующими (совокупно с подъемом
солнца и церковными крестами) предстоящее духовное восхождение: На половине перегона лес кончился, и с боков открылись елани
{ ) , показались золотые кресты и куполы монастыря. День совсем
261
разгулялся, облака разошлись, солние поднялось выше леса, и мокрая
листва, и лужи, и куполы, и кресты церкви ярко блестели на солнце
Впереди направо^ в сизой дали, забелели далекие горы.
Однако прежде, чем закономерное обновление реализуется,
Нехлюдов вступает в полосу символической смерти: Погода переменилась. Шел клочьями спорый снег и уже засыпал дорогу, и крышу,
и деревья сада. После установления канонически «сибирской» зимней погоды Нехлюдов почувствовал, что страшно устал от всей
жизни. Он... закрыл глаза и мгновенно заснул тяжелым, мертвым
сном. В следующей, XXVI главе герой безвольно идет за провожатым по острогу («Мертвому дому» Достоевского) как во сне, це
имея силы отказаться и уйти, испытывая все ту же усталость и
безнадежность. В XXVII главе Нехлюдов попадает в покойницкую,
где ему стало казаться, что ничего нет, кроме смерти2, и ему сделалось дурно. Помутнение сознания, обморок, как и сон, есть редуцированный образ смерти.
И только в заключительной главе вместе со словами из Евангелия, призывающими стать «как дети» (аллюзия рождения), героя
постигает лиминальное прозрение: ...восторг охватил его душу. Точно
он после долгого томления и страдания нашел вдруг успокоение и
свободу.
Концовка романа звучит почти парафразой финала «Преступления и наказания»:
«...Так вот оно, дело моей жизни. Только кончилось одно, началось
другое».
С этой ночи3 началась для Нехлюдова совсем новая жизнь не столько
потому, что он вступил в новые условия жизни, а потому, что все, что
случалось с ним с этих пор, получало для него совсем иное, чем прежде, значение. Чем кончится этот новый период его жизни, покажет
будущее.
Чеховский рассказ «В ссылке», можно сказать, впитал в себя
лиминальные мотивы мифологемы Сибири, упроченные предшественниками. Но писатель дал им несколько иное развитие.
Место действия в рассказе — переправа (лиминальный мотив
первостепенной значимости) через темную холодную реку, от которой веяло пронизывающим холодом. На противоположном берегу,
будто сигнализируя о преисподней, змейками ползли огни. Один из
героев констатирует: Оно, конечно, тут не рай... вода, голые берега, кругом глина и больше ничего. Здесь даже совсем не такое небо,
как дома (территория жизни).
1
Позитивное направление согласно мифопоэтической символике.
Своего рода антипрозрение, противоположное тому, что открылось Кате
Мае л о вой.
3
Ср. «день разгулялся* в процитированном выше фрагменте — символическом обещании грядущего «воскресения».
2
262
Пейзаж переправы не только разворачивает мотив реки, размежевывающей пространства жизни и смерти, но и содержит в себе
легкий намек на обиталище бабы-яги из волшебной сказки. Видны
только кусты тальника на воде и зыбь, а назад оглянуться — там
глинистый обрыв, внизу избушка, крытая бурою соломой. Упоминание о том, что на рассвете здесь слышно, как пели петухи, бросает
на избушку семантический отсвет «курьих ножек». Это пение, призванное отпугивать сказочную нечисть, только усиливает соответствующий мотив (хватай черта за хвост, — произносит старик).
При этом баржа переправы принимает угрожающий облик некоего, возможно тотемного, животного: Было в потемках похоже
на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном
с длинными лапами и уплывали на нем в холодную УНЫЛУЮ страну, т
самую, которая иногда снится во время кошмара. Мотивы кошмарного сна и унылого холода столь же существенны для актуализации мифологемы страны мертвых. Имеется намек и на нескончаемость в Сибири мертвого, допасхального времени года — зимы:
Святая давно уже прошла, а на реке лед идет, и утром нынче снег
был. Снег продолжает падать и далее по ходу рассказа.
Собеседники-антагонисты на переправе названы стариком и
мальчиком (о похожем на мальчика молодом татарине старик к
тому же говорит, что у него молоко на губах не обсохло). Эта возрастная антиномия, несомненно, способствует активизации мотивного комплекса смерти-рождения. Знаменательно и то, что старик называет молодого братом (как всех «коммунитас», их роднит
причастность к лиминальному хронотопу). Да и сосланный за жуткую сибирскую реку барин с братьями что-то там не поделил',
к перевозчику он в свою очередь обращается так: брат Семен. А молодой татарин, как Иванушка в сказке, — младший из трех осужденных братьев (и притом отличающийся от них невиновностью).
На первый взгляд старик проповедует инициацию как стандартное преображение: Вы старое-то бросьте, забудьте, как будто
его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить
сызнова. Однако в Сибири, по его мнению, это неосуществимо.
О дочери барина он говорит: Кровь играет, жить хочется, а какая тут жизнь? И далее: Все равно помрет. Помрет она всенепременно.
Идейный спор в рассказе идет именно по поводу того, живут
люди в Сибири (в темноте и в сырости, словно в могиле) или не
живут. Почва для такой несколько экстравагантной постановки
вопроса, как мы видели, подготовлена всеми предыдущими «главами» сибирского интертекста. Однако у Чехова обнаруживается,
что никакой мифопоэтической универсалии здесь нет: ответ зависит от экзистенциальной позиции человека. Таков чеховский вариант художественного завершения базовой интертекстуальной
ситуации.
263
Старику Толковому, своего рода идеологу безжизненного существования, как мертвецу, ничего не надо! Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо. Тогда
как мальчику татарину лучше один день счастья, чем ничего. Не желая быть зарытым в холодной ржавой земле и вступаясь за Василия
Сергеевича, утверждавшего, что и в Сибири люди живут, он кричит самодовольному перевозчику в сибирское царство смерти:
Барин хорошая душа, отличный, а ты зверь1, ты худо! Барин живой, а ты дохлый... Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и
радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина! Палее в тексте разворачивается символическое подтверждение этого приговора:
Все улеглись. Дверь отворилась от ветра, и в избушку понесло снегом
Встать и затворить дверь никому не хотелось: было холодно и лень.
— А мне хорошо! — проговорил Семен засыпая. — Дай бог всякому
такой жизни.
— Ты, известно, семикаторжный. Тебя и черти не берут.
Старик, сжившийся с замогильным пространством зимы, камня
и глины, для чертей свой. Возможность воскресения отвергнута
им самим, тогда как похожий на собачий вой (антитеза дикому
зверю, узнанному в Толковом) плач татарина свидетельствует о
не утраченной героем причастности к жизни. Не случайно он
перекликается с горестным воем барина, который в начале ссылки
хотел своим трудом жить, да и теперь опять ожил (минуя символическую смерть).
Пунктирный ряд приведенных нами вершинных примеров актуализации лиминальной мифологемы Сибири в художественных
произведениях, как представляется, свидетельствует о присутствии
в составе русской литературы корпуса сочинений, связанных не
только тематически, но и мифотектонически. Это является решающим аргументом для идентификации их как феноменов Сибирского интертекста, в каждом своем субтексте своеобразно завершаемого.
Фрагменты Петербургского интертекста
«Петербургский текст» русской литературы в отличие от Сибирского трактовался многократно и многообразно. Однако мифоте ктоническому интертекстовому анализу он, по сути дела, не
подвергался.
1
Этот бсстиарный персонаж, между прочим, говорит о себе: могу голый на
земле спать и траву жрать, сравнивает себя с щукой и нельмой, а также предполагаемой собачке лохматенькой на диване по-волчьи желает, чтоб она издохла. Его
небезосновательно можно расценить как пародийную фигуру полуживотного первопредка.
264
В.Н.Топоров, много размышлявший о «Петербургском мифе»,
подошел очень близко к определению его базовой мифологемы.
«Креативный и эсхатологический мифы не только возникли в одно
и то же время (при самом начале города), но и взаимоориентировались друг на друга, выстраивая каждый себя как антимиф по
отношению к другому, имеющий с ним, однако же, общий корень»1. Далее этот «общий корень» именуется «более глубокой
структурой, которую можно назвать сакральной»2. Наконец, Топоров указывает на «духовную ситуацию, которая лежит в основе
этих узрений иного, "небесного", запредельного Петербурга, того
"сверх-Петербурга", в котором все реальные и случайные черты
стерты (сотри случайные черты) ради того, чтобы из сферы изменчиво-преходящего увидеть его * вечно-неподвижную" основу,
идею города»3.
«Идея города» в данном случае действительно была глубоко
сакральной. Вслушаемся в самую первую фразу, можно сказать
эпиграф, Петербургского интертекста: «От воплощения Иисуса
Христа 1703 года мая 16, основан царствующий град Санкт-Петербург великим государем царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем всероссийским», — гласила каменная плита, водруженная на месте будущего города. Слово «воплощение»,
употребленное вместо более привычного слуху «Рождества Христова», на наш взгляд, не случайно акцентирует момент инкарнации, воплощения, нисхождения божественно-духовного в человечески-телесную оболочку.
Петр изначально основал столицу, которая должна была сменить в этой функции Москву — третий Рим. Но о «четвертом Риме»
не могло быть и речи: умножение подобий Святого города не только
снижало бы ценность новостройки — после сакрального числа 3
число 4 оказывалось уже инфернальным. Как отмечает Топоров,
«мессианизм петербургской темы русской литературы, конечно,
глубже и напряженнее усвоенного в свое время мессианизма Мос4
квы» . Петр строил не еще один Рим, а сверх-Рим — не тот языческий «царствующий град», которым апостол Петр овладел духовно, но город, изначально предназначенный для Петра небесного (святого) Петром земным (Алексеевичем).
Если Сибирский интертекст русской литературы концентрируется вокруг мифологемы инициации (лиминального посещения страны мертвых), то в основе Петербургского интертекста
обнаруживается миф об инкарнации Града Небесного. Всякая
инкарнация — это воплощение духовного, его о-плот-нение,
' Т о п о р о в В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы»:
Введение в тему. — С. 275.
2
Там же. - С . 288.
3
Там же. - С . 305.
4
Там же. - С . 295.
265
облепление плотью, грязью, пушкинской топью блат. Это неизбежно — мука, страдание, обостренное ощущение физиологической формы духовного бытия и незащищенность от инфернальной силы зла.
Такая мифопоэтическая модель создает крайнее напряжение
между горним и дольним мирами, совмещающимися в точке инкарнации. Совмещение порождает кентаврический образ города,
над которым в неколебимой вышине пребывает тот, чьей волей роковой I Под морем город основался. Обратим внимание на то, что
олицетворяющий столицу империи Медный Всадник и является
своего рода кентавром.
Источник мифотворческой двойственности сотворенного Петром города, на наш взгляд, не столько в «двоевластии природы и
культуры» (Топоров), сколько в раздвоении единого исторического деяния между божественным и инфернальным его началами. К точке этой инкарнационной двусмысленности стекаются или,
скорее, из нее проистекают все антиномии и амбивалентности
Петербургского интертекста: ею осмысливаются отмечаемые Топоровым коллизии между верхом и низом, вертикалью и горизонталью, оформленностью и аморфностью, прозрачностью и призрачностью, слепотой и сверхвидением, космосом и хаосом и т.п.
В «Белых ночах» Достоевского петербургская жизнь характеризуется как смесь чего-то фантастического, горячо-идеального и вместе с тем <...> тускло прозаичного и обыкновенного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого. В прозе этого, может быть самого
петербургского, писателя закономерно появляется мотив небесного города, который парадоксально существует как низменноземной: А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не
уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым («Подросток»); Петербург
походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в
свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему
небу («Слабое сердце»).
«Медный всадник» Пушкина — подлинное начало Петербургского интертекста, где коренной петербургский миф вполне уже
манифестирован, хотя без последующих субтекстов он так бы и
не приобрел этого статуса, поскольку был бы лишен своего межтекстового пространства.
Очевидное кентаврическое раздвоение поэмы на одическую
хвалу и печальный рассказ усилено конструктивным напряжением
между стихом и прозой в ее составе. Через прозаические компоненты текста — подзаголовок (Петербургская повесть, а не поэма), предисловие, отсылающее к журнальным источникам сведений о подробностях наводнения, и примечания — в поэтически
условный и поэтически возвышенный мир проникает прозаически сниженная действительность.
266
Конструктивным принципом снижения и прозаизации организованы параллели между героями, уподобленными друг другу
в своей монументальной недвижности (подобно памятнику строителю чудотворному, и сам Евгений На звере мраморном верхом, /
Без шляпы, руки сжав крестом, / Сидел недвижный... Как будто к
мрамору прикован, / Сойти не может!). Высоким мыслям Петра
(И думал он...) противопоставлены житейские раздумья Евгения
(О нем же думал он?..); выстроенным Петром громадам дворцов
и башен — ветхий домик Параши и чаемый Евгением приют смиренный и простой; вечному сну Петра (концовка одического текста) — нищенские похороны Евгения (концовка основного текста).
Если Медный Всадник является своего рода кентавром, то это
же можно сказать и о Евгении. Оглушенный шумом внутренней
тревоги, он ни зверь, ни человек. Более того, он — Ни то ни се, ни
житель света / Ни призрак мертвый... Тем самым герой печальной
повести — второе, сниженное олицетворение Петербурга в его
сакрально-инфернальной амбивалентности.
В контексте древнерусской традиции сказаний о гордом царе1
Евгений, который, в свою очередь, ужасных дум безмолвно полон,
предстает второй (развенчанной, никем не узнаваемой) ипостасью властелина, искушавшего Бога. Особенно важны в этом отношении мотивы утраченной знатности, переправы через реку, наготы, едва прикрываемой ветхой одеждой. Ирреальное преследование Евгения бронзовым конем предстает инверсией мотива преследования царем волшебного животного. Мы вовсе не собираемся утверждать сознательного обращения Пушкина к древнерусским источникам сюжета о царской гордыне. Существенно лишь
то, что генеративный принцип рассматриваемого интертекста —
принцип раздвоения единого — обнаруживается даже в системе
персонажей поэмы.
Аналогично двойственна Нева с ее державным теченьем и с ее
же буйной дурью, в которую она впадает, как зверь остервенясь.
Антиномичны твердыня военной столицы с ее дымом и громом, с
воинственной живостью потешных Марсовых полей и — тихая сто
лица, где кругом, / Как будто в поле боевом, / Тела валяются.
Двойственность проникает в саму хвалебную патетику вступления. Такие строки, как Однообразную красивость или Люблю зимы
твоей жестокой, звучат как оксюмороны. А в восторженных словах: Из тьмы лесов, из топи блат / Вознесся пышно, горделиво —
слышится аллюзия вавилонского греха гордыни, усиленная впоследствии и вопросом Куда ты скачешь, гордый конь?и называнием памятника Петру горделивым истуканом, и, наконец, ссылкой
'См.: Р о м о д а н о в с к а я Е.К. Повести о гордом царе в рукописной традиции XVII —XIX веков. — Новосибирск, 1985.
267
в примечаниях на поэму Мицкевича «Олешкевич», где имеется
такая параллель к петербургскому бедствию: Господь низверг развратный Вавилон. Комментируя в примечании одно из лучших стихотворений Мицкевича, Пушкин замечает: Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было. Незначительность упрека означает лишь то, что вавилонская аллюзия мятежного польского поэта
Пушкиным не отвергается, а принимается.
Идея инкарнации Града Небесного (строитель чудотворный)
прорывается на поверхность пушкинского текста только из уст
безумца бедного, но после того, как прояснились в нем страшно
мысли. Впрочем, неявно эта «идея города» (Топоров) присутствует уже в облике Петербурга во вступлении, воспевающем город,
озаренный безлунным светом, как будто вовсе не ведающий мрака
бытия, существующий, не пуская тьму ночную / На золотые небеса.
Однако с первой же строки основной части (Над омраченным
Петроградом) облик этот меняется. Основное действие поэмы совершается во мраке ночи и озаряется луною бледной. В этом потустороннем свете гроба с размытого кладбища / Плывут по улицам,
а державец полумира приобретает антихристианский статус кумира и истукана. Напомним, что в подготовительных материалах к
«Истории Петра» Пушкин записывает: «Народ почитал Петра антихристом». Напомним также: в полемическом «Отрывке» из третьей части «Дзядов» Мицкевич утверждал, что «Петербург построил
сатана».
Благодаря примечаниям сатанинский мотив хоть и неявно, но
присутствует в «Медном всаднике». Сквозит он, например, в завуалированном вопросе: А в сем коне какой огонь... М.Эпштейн
квалифицирует как сатанинский самый образ ожившей статуи1.
Скрытыми отзвуками возможного сатанинства Петербурга в качестве заносчивого подобия, пародийного дубликата Града Небесного может быть спровоцирован такой важный мотив поэмы, как
Божий гнев, с которым царям не совладеть.
Знаменательно, что в начальной строке основной части СанктПетербург царева замысла, запечатленного на каменной плите, и
Petersbourg первого примечания переименован в Петроград — российскую реальность личностного воплощения (Петра творенье),
а в кульминационной сцене наводнения он еще раз переименован — в Петрополь. Последнее имя отсылает нас к прогневившему Бога и павшему «второму Риму» — Константинополю.
Глубокая двусмысленность пушкинского текста проявляется и
в том, что стихия, названная во вступлении побежденной (человеком), в основной части именуется Божией и непобедимой. Поэма, начавшаяся с фигуры человека (курсивом набранное «он»),
оканчивается словом Бог. В конечном счете точкой равновесия сил
1
268
Эп штейн М. Парадоксы новизны. — М., 1988. — С. 56.
между божественным предопределением (здесь нам суждено) и
сатанинской гордыней царя (властелин судьбы) представляется
мысль о том, что сама жизнь в болотном подобье Града Небесного, как сон пустой, есть насмешка неба над землей.
Однако и эта насмешка «сверху» не остается без ответа «снизу».
Автор поэмы (незаметно обернувшийся бедным поэтом, поселившимся в оставленном Евгением пустынном уголке) иронически
характеризует бездарного графа Хвостова: Поэт, любимый небесами.
Всеми перечисленными моментами создается шаткое, трагическое, «кентавроподобное» равновесие, тщетно стремящееся к
неколебимости (неколебимо, как Россия). Такое равновесие противоположностей, прежде всего сакрального и инфернального аспектов бытия, и представляет собой генеративный принцип Петербургского интертекста1.
Двойственная природа петербургской жизни становится сюжетообразующим механизмом двух параллельных историй «Невского проспекта» Гоголя. А характеристика красавицы, околдовавшей
бедного Пискарева, концентрирует в себе коренную полярность
петербургской мифологемы:
Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай <...> она
была бы прекрасной тихой звездой. <...> Она бы составила божество <...>
но, увы! она была какою-то ужасною волею адского духа <...> брошена с
хохотом в его пучину.
Именно инфернальное начало задает тон в петербургских повестях Гоголя. Текст, начавшийся фразой: Нет ничего лучше Невского
проспекта, — завершается словами о том, что там все дышит обманом... но боле всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на
него... когда весь город превратится в гром и блеск (ср. твердыни гром
у Пушкина. — В. Т.), мириады карет валятся с мостов, форейторы
кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для
того только, чтобы показать все не в настоящем виде.
В стихотворении Ап. Григорьева «Город», как и в «Невском проспекте», кентавр горне-дольнего града оборачивается преимущественно своей низменной ипостасью:
Великолепный град! пускай тебя иной
Приветствует с надеждой и любовью2.
1
Один из позднейших примеров: в аллитерированном на П стихотворении
Б.Окуджавы «Зной» (1964) Питер предстает пеклом потным, но после того, как
петухи проголосили, строения проплывают и парят, будто пребывают в небесах.
Это рождено не хитроумным умыслом, а мощью того интертекста, к которому
поэт прикоснулся, оживляя своим воображением плеть Петра, / Причуды Павла, I Пушкина пресветлый вз&\яд.
2
Прозрачная аллюзия на автора «Медного всадника», выказывающего к Петербургу и любовь (Люблю тебя...), и надежду (Да умирится же...).
269
И длинный столб луны на зыби волн следит,
И очи шлет к неведомым палатам,
Еще дивясь тебе, закованный в гранит
Гигант, больной гниеньем и развратом.
Неведомые палаты Града Небесного здесь только чудятся. Вертикаль света опрокинута и превращена в зыбкую горизонталь,
под которой пучина стихии. Замена топи блат гранитом, камнем
(Петр — камень) не устраняет болотного гниения. Это лишь дальнейшее уплотнение, материальное загустевание духовного, чреватое страданием (болезнью) и развратом.
Шаткое равновесие диаметральных противоположностей миропорядка в отдельных петербургских субтекстах часто нарушается в
сторону его негативного полюса. Так, в чеховском петербургском
рассказе «Тоска» неподвижно застывший под снегом со своей лошаденкой извозчик Иона выглядит печальной пародией на Медного Всадника; его постоянно обзывают нертом, дьяволом, лешим,
а Петербург здесь предстает омутом, полным чудовищных огней. Но
даже в этом, незатейливом на первый взгляд тексте сакральное
начало скрыто присутствует в имени героя — отца, у которого умер
сын. Напомним, что Ионой звали отца апостола Петра.
Другому Ионе, ветхозаветному пророку-мученику, проглоченному китом, как известно, было Божье повеление проповедовать
покаяние и предсказание гибели нечестивого города (Ниневии).
Но чеховского Иону (призывающего свою смерть, как это было и
с пророком) никто не хочет слушать. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не
найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы
его? Но толпы бегут, не замечая... Этот нечестивый (все седоки
беспрестанно сквернословят) город равнодушных людей, надо полагать, никакому пророку не спасти.
Полюса мотивного комплекса инкарнации Града Небесного
(в облике инфернального бытия грешных людей) каждым отдельным субтекстом могут быть манифестированы весьма неравномерно. Однако в рамках палимпсестной их общности единство горнего и дольнего все равно сохраняется в качестве интертекстуального фона, а порой и активизируется, как в «Двенадцати» Блока.
Эта поэма, несомненно, также принадлежит к Петербургскому интертексту — не только по месту действия, но и по своей
сакрально-инфернальной двойственности (черная злоба, святая
злоба). Характерная антиномичность ощутима в контрастах белого и черного, белого и красного (кровавого), во внутренней
раздвоенности персонажей, которые «одержимы гордостью мирового свершения и одновременно ужасом отступничества» 1
'Ляхова Е.И.Указ. соч. — С. 174.
270
Сатирическая «сниженность реальных действий двенадцати по
сравнению с патетичностью их целей»1 совпадает с двоякой
направленностью стихии: Снег воронкой завился (нисхождение. —
В. Т.), I Снег столбушкой поднялся (вознесение. — В. Т.). Поведение красногвардейцев вполне инфернально: Пальнем-ка пулей в
Святую Русь и т.п. Но в блоковском варианте очередного завершения Петербургского интертекста над снежной топкостью завьюженной горизонтали (не утянешь сапога) в конечном счете
торжествует горняя вертикаль Христа, шествующего нежной поступью надвьюжной.
Со всей очевидностью коренная мифологема Петербурга проступает в одной из самых последних «скрипций» анализируемого
«палимпсеста» в рассказе Е.И.Замятина «Дракон». Для наглядности приведем этот небольшой текст целиком:
Люто замороженный Петербург горел и бредил. Было ясно: невидимые за туманной занавесью, поскрипывая, пошаркивая, на цыпочках
бредут вон желтые и красные колонны, шпили и серые решетки. Горячечное, небывалое, ледяное солнце в тумане — слева, справа, вверху,
внизу — голубь над загоревшимся домом. Из бредового, туманного мира
выныривали в земной мир драконо-люди, изрыгали туман, слышимый
в туманном мире как слова, но здесь — белые круглые дымки; выныривали и тонули в тумане. И со скрежетом неслись в неизвестное вон из
земного мира трамваи.
На трамвайной площадке временно существовал дракон с винтовкой, несясь в неизвестное. Картуз налезал на нос и, конечно, проглотил
бы голову дракона, если б не уши: на оттопыренных ушах картуз засел.
Шинель болталась до полу; рукава свисали; носки сапог загибались кверху — пустые. И дыра в тумане: рот.
Это было уже в соскочившем, несущемся мире, и здесь изрыгаемый
драконом лютый туман был видим и слышим:
— ...Веду его: морда интеллигентная — просто глядеть противно. И еще
разговаривает, стервь, а? Разговаривает!
— Ну и что же — довел?
— Довел: без пересадки — в Царствие Небесное. Штычком.
Дыра в тумане заросла: был только пустой картуз, пустые сапоги,
пустая шинель. Скрежетал и несся вон из мира трамвай.
И вдруг — из пустых рукавов — из глубины — выросли красные,
драконьи лапы. Пустая шинель присела к полу — и в лапах серенькое,
холодное, материализовавшееся из лютого тумана.
— Мать ты моя! Воробьеныш замерз, а? Ну скажи ты на милость!
Дракон сбил назад картуз — и в тумане два глаза — две щелочки из
бредового в человечий мир.
Дракон изо всех сил дул ртом в красные лапы, и это были явно слова
воробьенышу, но их — в бредовом мире — не было слышно. Скрежетал
трамвай.
•Ляхова Е. И. Указ. с о ч . - С . 172.
271
— Стервь этакая: будто трепыхнулся, а? Нет еще? А ведь отойдет, ейбо... Ну скажи ты!
Изо всех сил дул. Винтовка валялась на полу. И в предписанный судьбою момент, в предписанной точке пространства серый воробьеныщ
дрыгнул, еще дрыгнул — и спорхнул с красных драконьих лап в неизвестное.
Дракон оскалил до ушей туманно-пыхающую пасть. Медленно картузом захлопнулись щелочки в человечий мир. Картуз осел на оттопыренных ушах. Проводник в Царствие Небесное поднял винтовку.
Скрежетал зубами и несся в неизвестное, вон из человеческого мира,
трамвай.
Перед нами апогей зимы твоей жестокой (Пушкин) — картина гибели земной, человечьей ипостаси Города и одновременно
сублимации его души, ипостаси Небесной. Земной мир отслаивается от Царствия Небесного. А в предписанный судьбою момент, в
предписанной точке пространства совершается воскрешение того,
что, материализовавшись и погибая на земле, принадлежит Небу.
Поскольку солнце (оно же голубь — воплощение Духа Святого) не высится над этим городом, а присутствует в нем везде, со
всех сторон, можно заключить, что действие туманного мира происходит уже непосредственно в Граде Небесном, тогда как земной мир колонны, шпили и серые решетки этого Града, как и трамваи, покидают навсегда.
Амбивалентная природа петербургской мифологемы, проявляющаяся в соединении холода и жара, замораживания и горения
(ледяное солнце), конденсируется в дематериализованной, пустой
фигуре кентавра, одного из наводнивших город драконо-людей.
Будучи явным выходцем из ада, этот маленький Люцифер одновременно исполняет функцию ангела — проводника в Царствие
Небесное. А изрыгаемый им лютый туман — тот самый туман Достоевского, который вот-вот разлетится и уйдет кверху; искурится паром, унося с собой весь этот гнилой, склизлый город — в замятинское неизвестное.
По поводу данного текста можно сказать, что апокалипсические обстоятельства реальной истории, потрясшие всю русскую
культуру, включая Петербургский интертекст, явственно обнажили на этом историческом изломе мифотектонический его пласт.
ГЛАВА 9
ДИСКУРСНЫЙ АНАЛИЗ
Дискурсный анализ представляет собой рассмотрение текстов
с позиций риторики, или, точнее, неориторики, — учения о коммуникативных событиях и процессах, возрожденного на руинах
классической риторики в 50-е годы XX в.
До сих пор мы упражнялись в литературоведческом анализе с
эстетической направленностью идентификации. В настоящее время, однако, в области анализа текстов различной природы все
актуальнее становится неориторическая направленность их изучения. В случае художественного произведения это означает, что
оно рассматривается в качестве единого высказывания, или дискурса, — коммуникативного события между креативным (производящим) и рецептивным (воспринимающим) сознаниями.
В античности поэтика и риторика были сопряжены как теории
двух взаимодополнительных родов высказывания: поэтического и
прозаического, из которых первый направлялся по преимуществу
на миметические (вымышленные) объекты, а второй — на объекты
фактические. После возрождения риторики в середине XX столетия взаимодополнительность этих филологических дисциплин восстановилась на новой основе и в новом качестве. Поэтика к тому
времени превратилась в весьма разработанную теорию художественного текста (как поэтического, так и прозаического) и практику
его анализа. Риторика же усилиями А. Ричардса (Философия риторики, 1950), М.Бахтина (Проблема речевых жанров, 1952),
X. Перельмана (Риторика и философия, 1952; Новая риторика,
1958) и др. обратилась в науку о речевой (дискурсивной) практике человеческого общения.
Отныне риторика вместо выработки правил построения эффективного текста занимается изучением коммуникативного поведения (с обеих сторон). По мере своего развития эта «новая риторика» обретает «все больше оснований заявлять свои права на...
рассмотрение живой действительности языка во всей его видимой протяженности — от инфралингвистических до металингвистических измерений»1. Ибо, «задаваясь вопросом о том, как ра' А в е л и ч е в А. К. Возвращение риторики // Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. - М, 1986.-С. 22.
Ютюпа
273
ботает язык, мы одновременно задаем вопрос и о том, как мы
мыслим и чувствуем, как протекают все остальные типы деятельности человеческого сознания»1.
Такого рода «металингвистика» (Бахтин) имеет все основания
для обращения также и к художественному письму (литературе).
В отличие от поэтики ее занимает при этом не само по себе устройство текста, но интерсубъективная реальность дискурса (коммуникативного события), манифестируемого этим текстом. «Событие жизни текста, — писал Бахтин, — то есть его подлинная
сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов»2. Такого рода событие, предполагающее стратегию взаимодействия, и обозначается в последние десятилетия термином «дискурс». Предметом риторического (дискурсного) анализа оказывается коммуникативная стратегия, породившая данное высказывание, тогда как поэтика выявляет и типологизирует текстовую организацию индивидуальной целостности произведения в его эстетической специфике как порожденного эмоциональной рефлексией определенного типа.
В самом общем виде понятие коммуникативной стратегии предполагает некий алгоритм коммуникативного поведения говорящего/пишущего по отношению к объекту речи, к ее адресату и к
своему авторству — к инстанциям высказывания, определенным
еще Аристотелем. Отец классической риторики выделил в составе
коммуникативного события «самого оратора», «предмет, о котором он говорит», и «лицо, к которому он обращается»3. Аристотелевская модель определяет риторическую мысль и в XX в.: «Слово
есть выражение и продукт социального взаимодействия трех: говорящего (автора), слушающего (читателя) и того, о ком (или о
4
чем) говорят (героя)» . Одна из позднейших перефразировок этого риторического треугольника, принадлежащая Ю.Хабермасу,
гласит: «Три всеобщие прагматические функции (с помощью некоего предложения нечто отображать, выражать намерение говорящего и производить межличностное отношение между говорящим и слушателем) лежат в основе всех тех функций, которые
может принимать на себя высказывание в особенных контекстах»'.
Если поэтика сосредоточена на специфической (эстетической)
функциональности художественных текстов, то риторический
анализ любого дискурса состоит в выявлении его общекоммуникативных функций. Т. А. ван Дейк в этом смысле говорит о «схема' Р и ч а р д е А. Философия риторики//Теория метафоры. — М., 1990. — С. 47.
Б ахти н М. М. Эстетика словесного творчества. — С. 285.
' А р и с т о т е л ь . Риторика // Античные риторики. — М., 1978. — С. 24.
4
В о л о ш и н о в В.Н. Указ. соч.— С. 72.
5
H a b e r m a s J. Was heisst Universalpragmatik? // Sprachpragmatik und Philosophic - Frankfurt/Main, 1976. - S. 214.
2
274
тической суперструктуре» высказываний, рассматриваемой металингвистикой (неориторикой) «с точки зрения динамической природы их производства, понимания и выполняемого с их помощью действия»1. В качестве объекта дискурсного анализа текст предстает как конструктивная взаимообусловленность трех явленных в
нем компетенций: референтной, креативной и рецептивной2, различающихся отношениями данного дискурса соответственно к
действительности, языку и сознанию.
Термин «компетенция» вслед за А. Ж. Греймасом мы используем «для обозначения совокупности необходимых (коммуникативных. — В. Т.) условий реализации высказывания», поскольку «производство дискурса проявляется как длящийся выбор возможностей, пролагающий себе дорогу через сеть ограничений»3. Понятие
«дискурсивной компетенции» Греймас выводит из риторической
организованности речи как неизбежно принадлежащей к тому или
иному типу высказываний: «Дискурсивная деятельность опирается на дискурсивное умение, которое ничем не уступает умению,
например, сапожника. Иначе говоря, мы должны предполагать
наличие нарративной (или иной коммуникативной. — В. Т.) компетенции, если хотим объяснить производство и восприятие единичных дискурсов»4. П.Рикёр в этом смысле рассуждает о содержательно значимых «интенциях» высказываний: «Когда я говорю, значащая интенция присутствует во мне как пустота, предназначенная к заполнению словами»5. Мысль Рикёра практически
совпадает с утверждением Бахтина о том, что «когда мы строим
свою речь, нам всегда предносится целое нашего высказывания...
Мы не нанизываем слова, не идем от слова к слову, а как бы
заполняем нужными словами целое»6.
Поэтика, в сущности, всегда касалась также и риторических аспектов художественного письма. Однако, не утрачивая своей научной определенности и оставаясь сосредоточенной на вопросах художественной специфики текста, она лишена возможности принципиальной трактовки этих моментов в качестве общих проблем
человеческой коммуникации. Соответствующее расширение данная
проблематика получила в классической работе Бахтина «Проблема
речевых жанров», трактуемых как типовые способы высказывания,
7
соответствующие «типическим ситуациям речевого общения» .
' Д е й к ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. — М , 1989.— С. 130, 122.
См.: Т а м а р ч е н к о Н.Д., Т ю п а В.И., Б р о й т м а н С.Н. Указ. соч. — Т. 1. —
С. 8 3 - 9 1 .
3
G r e i m a s A . J . , C o u r t e s J. Semiotique: Dictionnaire raisonne de la theorie du
langage. - Paris, 1979. - P. 103, 106.
4
Ibid.-P. 248.
5
Р и к ё р П. Конфликт интерпретаций. — М., 1995. — С. 382.
6
Б а х т и н М.М. Эстетика словесного творчества. — С. 266.
7
Там же. - С . 267.
2
275
В ситуациях такого рода и складываются «дискурсные формации» (по терминологии М.Фуко), которые «для говорящего индивидуума имеют нормативное значение, не создаются им, а даны
1
ему»; «выдумать их нельзя (как нельзя выдумать язык)» . Даже
помимо воли инициатора коммуникативного события само его
«высказывание занимает какую-то определенную позицию в данной сфере общения», поскольку в силу реализуемой им коммуникативной стратегии «имеет свою, определяющую его как
жанр, типическую концепцию адресата»2 (рецептивную компетенцию).
Одно из ключевых мест в становлении учения о коммуникативных стратегиях следует отвести работе М.Фуко «Археология
знания» (1969). Своеобразие осуществленного здесь подхода к дискурсу было четко сформулировано автором: «Описать высказывание — не означает анализировать отношения между автором высказывания и тем, что он сказал (или хотел сказать, или сказал,
не желая); это означает определить, какова позиция, которую
может и должен занять любой индивид, чтобы быть субъектом
данного высказывания»3. В обнаружении такой «позиции» и состоит цель риторического описания любой дискурсивной практики,
не исключая и художественного письма.
Особо следует подчеркнуть, что категория стратегии (высший
уровень абстракции в научном описании любой деятельности)
приложима только к дискурсу в целом — интегративному единству креативной, референтной и рецептивной компетенций данного коммуникативного события4. Стратегию нельзя отождествить
с субъективно преследуемой целью; она есть один из принципиально возможных путей к той или иной цели. В противоположность тактике, которая формируется и управляется самим деятелем, стратегия им лишь избирается. После этого свободно избранная стратегия ограничивает деятеля, навязывает ему базо1
Б а х т и н М.М. Эстетика словесного творчества. — С. 260, 358.
Там же. - С . 271,276.
3
F o u c a u l t M. L'Archeologie du savoir. — Paris, 1969. — P. 153.
4
А.Д.Степанов в интересном и значительном по своим результатам исследовании, полемизируя с автором этих строк, необоснованно сводит понятие коммуникативной стратегии к характеристикам авторской интенции, а не «всей
коммуникативной цепи» ( С т е п а н о в А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. —
М., 2005. — С. 54, 55, 323). Ограничиваясь «тем аспектом образа автора, который
стоит за всеми коммуникативными тактиками текста», он заявляет: «Мы можем
исключить из рассмотрения аспект коммуникации "повествователь" — "читатель"» (Там же. — С. 56, 55). Отсюда трактовка коммуникативного события не как
метатекстуального взаимодействия (со-бытия) сознаний, но всего лишь как «смещения речевого жанра» в плоскости текста (Там же. — С. 70). Отсюда же и крайне
сомнительный вывод: «Чеховское понимание коммуникации остается по сути
скептическим даже в рассказах, неизменно оставляющих у читателей светлое
чувство» (Там же. — С. 335).
2
276
вые параметры его коммуникативного поведения (мысль об известного рода власти дискурса над говорящим/пишущим стала
уже общим местом современной риторики). Разумеется, смена
стратегии почти всегда возможна, но в области коммуникации
выбор новой стратегии неизбежно означает прерывание одного
высказывания и начало нового, ибо настоящая коммуникативная стратегия (а не частный тактический ход) представляет собой принципиальное позиционирование объекта (в поле типовой картины мира), субъекта (в языковом поле определенного
типа) и адресата (в типовом поле сознания).
Репертуар коммуникативных стратегий при этом весьма широк и исторически неограничен, ибо каждый «речевой жанр» (Бахтин) являет собой общность текстов, связанных единством актуальной для них коммуникативной стратегии. Однако основу этого
репертуара составляет типологически ограниченное число базовых коммуникативных стратегий культуры, являющей собой универсум (ноосферу) человеческого общения. Мы в дальнейшем сосредоточимся именно на такого рода риторических типах коммуникативной практики, логическое соотношение которых предоставляет в наше распоряжение инструмент дискурсного анализа
исторически разнообразных текстов.
Сопоставительный анализ двух Silentium'oB
Для иллюстрации приложения научного аппарата (метаязыка)
неориторики к поэтическим текстам обратимся к сопоставлению
двух стихотворений с общим названием «Silentium» — Тютчева
и Мандельштама, из которых второе, несомненно, учитывает опыт
первого, вступая с ним в сложное интертекстуальное отношение.
Тютчев:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, Любуйся ими — и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь;
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
277
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..
Мандельштам:
Она еще не родилась,
Она и музыка, и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.
Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В черно-лазуревом сосуде.
Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!
Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!
Начнем с референтных компетенций сравниваемых поэтических
дискурсов. Такие компетенции различаются отношением высказывания к действительности (которая, разумеется, не входит в состав
дискурса непосредственно, будучи представленной в нем референтной ддя данного текста картиной мира). По своему референтному
содержанию всякое высказывание неизбежно обладает одним из
четырех возможных риторических статусов: оно является общением в модальности знания, убеждения, мнения или понимания.
Перечисленные модальности предполагают принципиально различные риторические (типовые) картины мира, которые выступают
своего рода общими знаменателями, наиболее обобщенными «топосами согласия» при взаимопонимании людей, обладающих весьма несхожими индивидуальными картинами мира.
Так, риторический статус знания (как содержания сознания,
не зависимого от самого сознания) действителен в рамках прецедентной (от лат. praecedens — 'предшествующий') картины мира,
где обладает значением только то, что повторяется, воспроизводится.
Модальность убеждения соотносится с императивной (от лат.
imperatives — 'повелительный') картиной мира, которая, оставляя сколь угодно обширное поле для заблуждений и ошибок, предполагает возможность единственно верного пути, ориентированного на истину в последней инстанции.
278
Модальность мнения (субъективная ценность которого не претендует на истинность) обосновывается окказиональной (от лат.
occasionalis — 'случайный') — беспрецедентной и релятивистской
картиной мира. В рамках картины мира, соотносимой с индивидуально самодостаточным сознанием, возможно в принципе все что
угодно.
Наконец, модальность понимания предполагает вероятностную
картину мира, характеризующуюся нерелятивистской множественностью смыслов. Здесь всегда остаются открытыми две или более
возможности (разные основания, разные сценарии, разные правды и т.п.), но с различной долей вероятности. Содержанием понимания выступает такая истина, которая «требует множественности сознаний, она принципиально невместима в пределы одного сознания <...> и рождается в точке соприкосновения разных
сознаний»1.
Тютчевское стихотворение «Silentium!» являет собой яркий пример высказывания в риторической модальности мнения: поскольку
оно уже изречено, то, как всякая мысль изреченная, оно есть ложь.
Содержание этого высказывания сугубо релятивно: при свете дневных лучей ночные звезды погаснут, и все внутренне ценное утратит свою значимость, заглушённое наружным шумом. Не случайно
в других, «дневных» стихах Тютчева (часто соседствующих с «ночными») мы имеем дело с иным лирическим героем и иной картиной бытия. Окказиональность общей картины мира данного текста состоит как в том, что внутренний мир души беспрецедентен,
так и в том, что любое мгновение жизни вследствие собственной
неосторожности может оказаться для него губительным.
В произведении Мандельштама мы имеем дело с очевидным
примером вероятностной картины мира: переживаемое состояние жизни отнюдь не случайно, однако и не фатально. В точке
пока еще не наступившей разделенное™ того, что слито, имеются иные возможности бытия. Проекция актуального присутствия
«я» в жизни на ее первоначальное, первоосновное состояние не обладает ни верифицируемостью знания, ни императивностью убеждения, ни кажимостью безоенбвного мнения; это акт понимания
объективной данности жизни как одного из возможных состояний бытия. В частности, молчание здесь мыслится не как произвольное поведение субъекта (таково оно у Тютчева), но как благодатно обретенное единение субъективности с бессловесной и
объективной связью всего живого. Единение субъективного с объективным без растворения первого во втором, но и без поглощения
первым второго в сущности и является пониманием.
Креативные (от лат. creation — 'сотворение') компетенции высказываний различаются интенциями авторства в его отноше1
Б ахти н М. М. Проблемы поэтики Достоевского. — С. 135.
279
нии к языку. Эти типы дискурсивности накладывают на коммуникативное поведение говорящего/пишущего субъекта известного рода языковые ограничения, аналогичные тому, как указанные выше модальности ограничивают многообразие действительности пределами той или иной референтной картины мира.
Пользуясь знаками всех видов, организатор коммуникативного
события тем не менее неизбежно обращается к языку в целом
как текстопроизводящему механизму определенного типа, чем
формируется та или иная «форма авторства» (категория бахтинской металингвистики), или, иначе, риторическая фигура авторства.
Опираясь на классическую теорию знаков Ч.С. Пирса, следует
разграничить индексальную, эмблематическую, иконическую и
аллюзивно-символическую дискурсивности.
В частности, индексальная (от лат. index — 'указатель') дискурсивность может быть охарактеризована как оперирование значениями (знаками с готовым значением, фиксированным денотатом), что соответствует модальности знания и опирается на информативность в качестве коммуникативного ресурса речи. Напротив, эмблематическая дискурсивность представляет собой оперирование смыслами (знаками с готовым смыслом, фиксированным концептом), что отвечает модальности убеждения и опирается на суггестивность (от лат. suggestio — 'внушение') как коммуникативный ресурс речи.
В первом случае риторической фигурой авторства оказывается
фигура самоустранения, что предполагает равнозначность и взаимозаменимость различных субъектов в качестве носителей одного
и того же знания. Во втором случае — это риторическая фигура
нормативно-ролевого (в частности, жанрового) самоограничения
авторской инициативы.
В связи с тем, что уже было сказано о рассматриваемых поэтических текстах выше, в ходе их сопоставления нас будут занимать
две другие креативные компетенции, релевантные модальностям
мнения и понимания.
Иконическая (от гр. eikon — 'картина') дискурсивность предполагает обращение к языку как окказиональной знаковой системе, не сводимой к готовым значениям и смыслам. Она представляет собой оперирование сигналами языка в их первичности и
неизбежной при этом контекстуальное™ значений. Подобное текстопроизводство устремлено к пределу «самовитого» слова, а риторическая фигура авторства при этом — фигура самовыражения
коммуникативного субъекта, что коррелирует с модальностью
мнения.
Текст Тютчева может служить достаточно очевидным примером иконической дискурсии. Креативная компетенция в данном
случае состоит в порождении новых значений при невыразимости
280
персонального смысла, сокрытого в субъективности смыслополагающей авторской воли. Здесь, например, дневное и ночное окказионально противопоставлены как внешнее — внутреннее и как
враждебное —безопасное, а глубина (души) окказионально отождествлена со звездной высотой (ночного неба); здесь взрывать и
изрекать выступают окказиональными синонимами и т.д.
Более того, если мы будем читать это стихотворение в ритме
традиционного четырехстопного ямба, то в трех его строках (4, 5
и 17) обнаружатся окказиональные ударения. Размер этих стихов
можно трактовать как трехстопный амфибрахий, однако при чтении остальных строк в соответствии с этим размером число окказиональных ударений умножится. Впрочем, один стих (9) может
быть прочитан двояко: и по схеме ямба, и по схеме амфибрахия.
При этом эмфатика смысла будет ощутимо меняться: Поймет ли
он, чем ты живешь? или Поймет ли он, чём ты живешь? Такая
полускрытая ритмическая двойственность стихотворения иконична:
она непосредственно, почти наглядно демонстрирует нам невозможность идентичного взаимопонимания между «я» и «другим»
(равно как и неизбежную окказиональность соотношения практики письма и чтения).
Характерной особенностью иконического дискурса является
также и то, что при всей своей интеллектуальной рефлективности это поэтическое высказывание организовано имагинативно
(«вообразительно»): как зримый образ некоторой внутренней мировой сферы (замкнутой и конструктивной) в окружении внешней сферы (разомкнутой и деструктивной). (Ср. более очевидный
пример аналогичной архитектоники у Тютчева: Как океан объемлет шар земной, / Земная жизнь кругом объята снами', / ...И мы
плывем, пылающею бездной / Со всех сторон окружены.) И магинативность (от лат. imago — 'образ') — коммуникативный ресурс
речи, состоящий в провоцировании новых значений, обнаруживается в основе иконической дискурсии.
Риторическая фигура авторства тютчевского «Silentium'a», несомненно, состоит в безадресном самовыражении некоторого
«я», внимающего пенью собственных дум. Тот, кто, исключая
возможность взаимопонимания, тем не менее говорит: молчи
(вместо того, чтобы действительно молчать), говорит это самому себе, инициирует автокоммуникативное событие, питающие
ключи которого таятся в субъективной глубине иконического
дискурса.
Четвертый тип дискурсии — аллюзивная (от лат. allusio — 'намек') — отнюдь не сводится к нанизыванию намеков. Аллюзию
мы рассматриваем здесь не как элементарную отсылку, но как
риторическую фигуру умолчания (энтимему) — своего рода воронку, втягивающую в себя смыслы. Реализуя коннотативные возможности полисемии языка для формирования анфиладной пер281
спективы становящегося смысла (в отличие от смысла готового —
эмблематического), она опирается на интеллигибельность (от лат.
intelligibilis — 'постижимый умом'), как на такой коммуникатжь
ный ресурс речи, который состоит в образовании новых смыслов.
Аллюзивный символ — это сложно организованный «гиперзнак»,
смысл которого заключает в себе указание на другой, более глу^
бокий смысл, невыразимый более простыми знаками. Если ико~
ническая дискурсивность предполагает амплификацию (нагромождение) значений при единстве скрытого смысла, то аллюзивная — амплификацию смыслов при единстве открытого, общедоступного значения.
Риторическая фигура авторства, присущая коммуникативному
субъекту в этом случае, — фигура самоактуализации, коррелирующая с модальностью понимания. Будучи объективацией субъективного, такая дискурсивность «нуждается в могучей точке опоры
вне себя, в некоторой действительно реальной силе, изнутри которой я мог бы видеть себя как другого»1.
Стихотворение Мандельштама, иллюстрирующее этот четвертый тип креативной компетенции, открывается местоимением
Она, которое принципиально не поддается однозначной дешифровке. В данном случае оно приложимо и к поэзии, еще не разделившейся с музыкой, и к Афродите, вышедшей из пены, и к
любви или красоте, олицетворяемым Афродитой. Но ни одно из
этих значений не оказывается исчерпывающим (почему Афродита — и музыка и слово? или почему поэзия — связь всего живого?). Версия А. Г. Меца, будто местоимение «она» следует соотносить с немотой2, представляется еще менее убедительной: поскольку немота названа первоначальной, к ней не могут относиться слова еще не родилась. В данном случае мы имеем дело
с эффектом «семантической воронки», с амплификацией вероятных смыслов единого значения — значения нераздельности
как первоосновы того, что разделяется, осуществляя процесс
жизни.
Эмблематическое имя Афродиты служит здесь не аллегорией
любовной красоты, но символом божественного рождения, которое свершается вследствие разделения первоосновы и последующего соития ее сторон: морского (аллюзивно тождественного ночному) инь и дневного (аллюзивно тождественного небесному) ян.
Отнюдь не предполагая влияния китайской мифологии на поэта,
мы этими предельно емкими терминами лишь лаконично обозначаем весьма прозрачную общемифологическую аллюзию мандельштамовского текста. В эстетической ситуации произведения разделение еще не произошло: черно-лазуревый сосуд — это не икон и' Б а х т и н М. М. Эстетика словесного творчества. — С. 30.
См.: М а н д е л ь ш т а м О. Камень. — М.; Л., 1990. — С. 290.
2
ческий образ двухцветной вазы, но аллюзивный образ мирового
целого (чернота земного низа + лазурь небесного верха)1. Однако
жизнетворный процесс уже назревает, о чем говорят союз но,
светлое безумие пня и сиреневый мотив цветения (чреватого плодоношением).
Кстати, между пеной сирени и морской пеной нет иконической
связи, поскольку визуальное сходство здесь практически отсутствует; и эта связь — также аллюзивно-символическая. При всей
зрелищности деталей второй строфы она, как и стихотворение в
целом, не имагинативна, но интеллигибельна (открыта не воображению, но умственному созерцанию).
Третья строфа обнажает риторическую фигуру авторства
субъекта дискурсии как позицию самоактуализации — взгляда
на себя со стороны иных, нежели уже осуществленные им, высших возможностей мировой жизни. Если тютчевский лирический
герой (в «Silentium'e», а не во всем корпусе лирики) удовлетворен внутренним содержанием своего «я», чем и вызвана его охранительная интенция, то интенция мандельштамовского лирического «я» состоит в проектировании себя другого, потенциального. (Ср. еще у Мандельштама: Я подымаюсь над собою: / Себя
хочу, к себе лену.) Для него эта креативная интенция (Да обретут мои уста...) означает вовсе не отказ от творчества, но возврат к связи всего живого как первооснове творчества, богатой
иными, еще не открывшимися возможностями.
Рецептивные (от лат. receptio — 'принятие') компетенции, образующие третью грань коммуникативных стратегий, различаются отношением дискурса к сознанию. Текст высказывания всеми
своими принципиальными моментами предполагает ту или иную
коммуникативную позицию адресата. Моделируемый «адресат, —
словами П.Серио, — может быть определен как тот, кто принимает все пресуппозиции каждой фразы, что позволяет дискурсу
осуществиться; при этом дискурс-монолог приобретает форму
2
псевдодиалога с идеальным адресатом» . «Идеальность» в данном случае фигурирует в значении «виртуальность» — объективно существующая предельная возможность, а не субъективная
желанность.
По мысли Перельмана, перекликающейся с идеями Бахтина,
развертывание риторической аргументации высказывания равнозначно проектированию аудитории как прогностического конструкта. Такое проектирование предполагает наличие в тексте, по
1
«Мутно-лазоревый сосуд» в первоначальной публикации, будучи визуальной метафорой моря (иконическим образом), был заменен автором в пору его
поэтической зрелости на «черно-лазуревый». Столь малое изменение (других внесено не было) представлялось, однако, Мандельштаму настолько значительным, что под текстом стихотворения были проставлены две даты: 1910, 1935.
2
|
S e r i o t P. Analys du discours politique sovietique. — Paris, 1985. — P. 17.
I
283
слову В. Изера, «ориентировок», которые «текст предоставляет
своим возможным читателям как условие рецепции»1.
Но риторику занимают прежде всего такие «условия рецепции», которые предоставляются самим воспринимающим в качестве коммуникативного ресурса его сознания, актуализируемого
текстовыми «ориентировками». При этом не все ментальное пространство сознания оказывается стратегически востребованным
текстовыми «ориентировками» (как и в предыдущих двух аспектах
активированным выступает не все объектное и не все языковое
пространство возможных дискурсивных практик).
Проектируемую высказыванием рецептивную позицию (настроенность) аудитории в риторике со времен Аристотеля принято
именовать этосом2, который может быть охарактеризован как риторический феномен заботы, возбуждаемой и одновременно (в случае внутренней завершенности высказывания) удовлетворяемой
дискурсом.
Индексальной дискурсивное™ текста с риторической модальностью знания соответствует репродуктивный (от лат. reproducere —
'воспроизводить') ресурс воспринимающего сознания, что дает в
совокупности коммуникативную стратегию (хорового) единогласия3. Идеальным адресатом готового знания выступает реципиент, способный адекватно воспроизводить это знание. Дискурс,
проектирующий такого адресата, характеризуется этосом покоя.
Забота его адресата состоит в обретении и сохранении статуса
приобщенности к общезначимой информации.
Эмблематическая дискурсивность текста с модальностью убеждения отвечает регулятивному (от лат. regulo — 'упорядочиваю')
ресурсу воспринимающего сознания, что предполагает коммуникативную стратегию монологического согласия. Идеальным адресатом убеждающего дискурса выступает реципиент, способный усваивать уроки коммуникативных событий, способный корректировать свое мышление и жизненное поведение в соответствии с сообщенными ему императивами. Активирующий такую
способность дискурс характеризуется этосом долженствования. Он
1
1 s е г W. Der Akt des Lesens: Theorie asthetischer Wirkung. — Munchen, 1976. —
S.60.
2
Группа \i определяет этос как «аффективное состояние получателя, которое
возникает в результате воздействия на него какого-либо сообщения и специфические особенности которого варьируют в зависимости от нескольких параметров» ( Д ю б у а Ж. и др. Указ. соч. — С. 264).
3
Ср.: «Когда мы поем вместе, мы живем вместе во внутреннем пространстве. <...> В хоровой песне расстояние от нашего сознания до других сознаний не
так велико, как при других формах коммуникации. В этом случае единодушие
выходит на передний план, а все различия сознаний подавляются» ( Р о з е н ш т о к-Х ю с с и О. Речь и действительность. — М., 1994. — С. 132). Подобное единение коммуникантов имеет место, конечно, не только в ситуации хоровою
пения.
284
предполагает коммуникантов, способных к ролевой саморегуляции и озабоченных обязанностями своего функционирования в
мире.
Иконическая дискурсивность с модальностью мнения прибегает к провокативности (от лат. provoco — 'вызываю') в качестве
коммуникативного ресурса. Идеальным адресатом высказанного
мнения выступает субъект, обладающий иным, собственным мнением о предмете общения. Дискурс этого типа характеризуется
этосом неподчинения. Забота вступающего в коммуникацию состоит в ограждении своей внутренней свободы и одновременно провоцировании свободной реакции адресата.
Именно такова коммуникативная стратегия, которую не только реализует (весьма сдержанно), но и метафорически аргументирует «Silentium» Тютчева. Наиболее полной реализации в сфере
поэтического письма эта провокативная стратегия разногласия
достигает усилиями поэтов-авангардистов.
Наконец, аллюзивная дискурсивность опирается на инспиративный (от лат. inspirare — 'вдохновлять') ресурс солидарного по
отношению к авторской интенции воспринимающего сознания.
Идеальной позицией для адресата речи в модальности понимания
является позиция восполнения данного высказывания ответным
пониманием. В рамках коммуникативности такого рода, по мысли
Рикёра, «говорение — это акт, благодаря которому язык преодолевает себя. <...> Язык хотел бы исчезнуть»1, не препятствуя конвергенции автономных сознаний.
Очевидно, что именно такова природа немоты, чаемой Мандельштамом в его «Silentium'e», где индивидуальные сознания
метонимически замещаются сердцами.
Восполняющая компетентность состоит в реализации смыслового потенциала, содержащегося в тексте. Она может быть охарактеризована как взаимодополнительность рецептивного смысла к
смыслу креативному. Если регулятивная стратегия монологического
согласия основывается на общеобязательной объективности сверхличных смыслов, а провокативная стратегия разногласия — на
уникальности и несообщаемости смыслов субъективных, то инспиративная стратегия диалогического согласия исходит из сообщаемости (интерсубъективности) смыслов, поскольку два сознания, составляющие диаду коммуникативного события, взаимодополнительны. Высказывание, отвечающее данной стратегии, являет собой проект соединения усилий, проект совместного с адресатом продвижения по направлению к точке взаимоприемлемого смысла. Указанием на такую точку и служит, в частности,
полисемическое местоимение, открывающее мандельштамовский
текст.
1
Р и к ё р П. Конфликт интерпретаций. — С. 131.
285
Этос такого дискурса — этос ответственности: взаимной озабоченности коммуникантов реализацией открывшейся им возможности некоторого коммуникативного события как со-бытия. Мандельштамовский стыд сердец представляется перифразом именно
такой ответственности и одновременно аллюзией на тютчевский
текст. Устыдись в данном случае мотивировано той взаимной разобщенностью субъектов, вышедших из единой первоосновы, при
которой сердцу высказать себя оказывается уже невозможным.
Ответственность подобного рода предполагает не обязанность
служения, не ролевое долженствование, но свободное самоограничение личной свободы ради неподавления свободы другого. Э.Левинас, как ранее это делал Бахтин, связывает фундаментальную
способность субъективности к моральной ответственности перед
другой субъективностью с неустранимой «интерпелляцией» — вопросно-ответной основой человеческого бытия, тайна которого
открывается только в событии диалогической встречи1. Ответственное общение предполагает достижение диалогического согласия,
«в котором всегда сохраняется разность и неслиянность голосов»;
оно, по Бахтину, «никогда не бывает механическим или логическим тождеством, это и не эхо; за ним всегда преодолеваемая
даль и сближение (но не слияние)»2.
Неслиянность позиций согласия может моделироваться в самом тексте полифонией (голосов) или полиаспектностью (кругозоров). Второй случай мы имеем в стихотворении Мандельштама,
где смена грамматических субъектов высказывания (от третьего
лица в первых двух строфах — от первого лица в третьей — от
второго в заключительной строфе) создает диахроническое единство трех кругозоров: вечности (довременное состояние ненарушаемой связи в прошлом), биографии (да обретут мои уста в будущем), истории (слово, в музыку вернись, — говорится из исторического настоящего, когда разделение музыки и слова уже состоялось).
Диалогическую позицию «сближения, но не слияния» занимает и весь текст Мандельштама по отношению к одноименному
тексту Тютчева. Да обретут мои уста / Первоначальную немоту —
это ответ на вопрос: Как сердцу высказать себя? / Другому как
понять тебя? Но ответ Мандельштама расходится с автокоммуникативным ответом Тютчева (молчи!). Восстановление кристалличности первородной чистоты (ср. соборы кристаллов сверхжизненных и чистых линий пучки благодарные из позднего стихотворения «Может быть, это точка безумия...») не замыкает уст. Оно
обещает иные, искомые возможности развертывания жизни и
смыслополагания.
'См.: L e v i n a s E. Totalite et Infini. — Paris, 1961.
Б а х т и н М.М. Собрание сочинений: В 7т. — Т. 5. — С. 364.
2
286
Оба рассмотренных примера представляют весьма поздние в
историческом отношении коммуникативные стратегии, утверждающиеся в европейских культурах на протяжении XIX —XX вв.
Поскольку стихотворение Мандельштама оказывается своего рода
«антигимном» Афродите, в качестве фонового текста с принципиально иной архаичной стратегией общения можно указать на
гомеровский гимн к Афродите, начинающийся словами:
Муза! Поведай певцу о делах многозлатной Киприды!
Сладкое в душах богов вожделенье она пробудила,
Власти своей племена подчинила людей земнородных,
В небе высоком летающих птиц и зверей всевозможных,
Скольким из них ни дает пропитанье земля или море,
Всем одинаково близко сердцам, что творит Киферея.
Только троих ни склонить, ни увлечь Афродита не в силах:
Дочери Зевса-владыки, сиятельноокой Афины.
Также не в силах Киприда улыбколюбивая страстью
Жаркой и грудь Артемиды зажечь златострельной и шумной.
Дел Афродиты не любит и скромная дева Гестия,
Перворожденная дочь хитроумного Крона-владыки...
Прежде всего отметим коммуникативную позицию самоустранения как риторическую фигуру авторства со стороны инициатора гимнического дискурса: произносимый им текст ему индивидуально не принадлежит; сам певец — лишь адресат музы, ее исполнитель и посредник между нею и слушателями. Все эти участники коммуникативного события (не исключая и самой Афродиты — «нададресата» гимна в ее честь) связаны хоровым единением.
Креативной компетенции этого рода присуща индексальная
дискурсивность. Отсюда, в частности, чистая и однозначная синонимия наименований богини (Афродита, Киприда, Кифарея,
Урания), как и обилие двусоставных эпитетов — этих знаковых
украшений с фиксированным значением (многозлатная, улыбколюбивая, прекрасновеночная, сиятельноокая, златострелъная
и т.п.).
Референтное содержание гимна — транзитивное (переходное)
знание, не подлежащее верификации. Залогом именно такого коммуникативного статуса произносимых слов служит благосклонность Афродиты, которой адресуют то, что ей самой должно быть
известно лучше всех — якобы тайную историю ее влюбленности и
любовной встречи с Анхизом. История эта не событийна: она имеет
место в неизменном, прецедентном мире. Поэтому Афина, Артемида и Гестия так никогда и не станут подвластны чарам Афродиты, но упоминание о них, как и рассказ о ее собственном прелю287
Таблица 3
00
ОС
Таблица базовых коммуникативных стратегий
Стратегии
Компетенции
референтные
креативные
рецептивные
хорового
единогласия
монологического
согласия
разногласия
(автореферентная)
диалогического
согласия
риторическая
модальность
высказывания
знание
убеждение
мнение
понимание
риторическая
картина мира
прецедентная
императивная
релятивная
вероятностная
дискурсивность
индексальная
эмблематическая
иконическая
аллюзивная
коммуникативный
ресурс речи
информативный
суггестивный
имагинативный
интеллигибельный
риторическая
фигура авторства
имитативноисполнительская:
самоустранение
нормативноролевая:
самоограничение
инициативнодивергентная:
самовыражение
инициативноконвергентная:
самоактуализация
коммуникативный
ресурс сознания
ре продуктивность
регулятивность
провокативность
инспиративность
риторический
этос
покой
долженствование
неподчинение
ответственность
бодеянии со смертным, не дискредитирует славословия богине
любви, а только вписывает олицетворение любовной страсти в
незыблемый божественный миропорядок.
Стабильность мифического миропорядка и позволяет Афродите сразу же после зачатия поведать Анхизу будущее их еще не
рожденного сына Энея. Хотя Афродита и говорит о происшедшем
как о своем заблуждении (заблудился мой разум), вполне очевидно, что в развернутой перед нами картине мира такое заблуждение было фатально неизбежным. Далеко не случайны подробности ритуальной подготовки Афродиты к своему позору величайшему на вечное время. Здесь невозможно, перефразируя Мандельштама, воскликнуть: останься девой, Афродита! — поскольку в референтной действительности мифа происходит лишь то, что не может не происходить.
Коммуникативные характеристики гомеровского дискурса свидетельствуют о том, что мы имеем д^ло со стратегией хорового
единогласия, рецептивной компетенцией которой служит этос
покоя, питаемый репродуктивностью человеческого сознания.
Подобная стратегия глубоко архаична, но она жива и доныне,
например в общении взрослых с маленькими детьми или в массовой рекламе.
Изложенные характеристики базовых коммуникативных стратегий для наглядности суммированы в табл. 3.
«Скучная история» А. П. Чехова
Анализ «Скучной истории» с точки зрения риторики может
быть обоснован уже тем, что в данном произведении чеховский
герой формулирует исходные позиции своего лекторского мастерства в полном соответствии с «риторическим треугольником»
Аристотеля: Чтобы читать хорошо <...> нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том,
что составляет предмет твоей речи. Однако более существенной
предпосылкой для обращения к «запискам старого человека» является то обстоятельство, что они представляют собой своего рода
«маленькую энциклопедию» риторических модальностей и соответственно базовых коммуникативных стратегий.
Хранитель университетских преданий швейцар Николай охарактеризован как субъект типично мифологического дискурса с прецедентной картиной мира. Он повествует о необыкновенных мудрецах, знавших все, о 3OMe4amejtbHbix тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки', добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый
глупого, скромный гордого, молодой старого. Автор «записок» комментирует эти гиперболизированные легенды университетского
фольклора так: ...процедите их, и у вас на фильтре останется то,
289
что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.
Однако в той же самой стратегии хорового единогласия с риторической модальностью знания выдержаны и ежедневные утренние монологи жены Николая Степановича, которая аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что
хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки —
и все это таким тоном, как будто сообщает мне новость.
Модальностью убеждения с ее императивной картиной мира в
«Скучной истории» наделяется коммуникативное поведение прозектора Петра Игнатьевича:
Фанатическая вера в непогрешимость науки и главным образом всего
того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах,
знает цель жизни и совершенно незнаком с сомнениями и разочарованиями. <...> Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности
самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с
ним невозможно.
Перед нами носитель авторитарной коммуникативной стратегии монологического согласия.
К аналогичной стратегии прибегает и супруга главного героя,
побуждая его съездить в Харьков, дабы выяснить социальное и
имущественное положение жениха их дочери: Так нельзя относиться к серьезному шагу... Когда речь идет о счастье дочери, надо
отбросить все личное и т.д.
В модальности мнения общается филолог Михаил Федорович,
у которого постоянно шутливый тон, какая-то помесь философии с
балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Вот образцы его
релятивистских суждений: Наука, слава богу, отжила свой век. <...>
Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее
чем-нибудь другим; Измельчала нынче наша публика...; Уморительные попадаются субъекты... и т.д.
Цитируя Лермонтова, Михаил Федорович (по воле автора) ясно
указывает на романтическое происхождение своего скептицизма.
Все его насмешки формулируются с позиции уединенного, непричастного сознания. Критицизму, возобладавшему в европейской культуре начиная с эпохи Просвещения, вообще наиболее
органична модальность мнения с ее релятивизированной картиной мира. Торжество этой модальности, не совместимой с «доксой», и разрушило устои классической риторики.
В той же коммуникативной стратегии всеобъемлющего скепсиса
высказывается, как правило, и Катя: Бросьте все и уезжайте. <...>
И университет тоже. Что он вам ? Все равно никакого толку. <...> Вы
лишний. Катя проецирует на Николая Степановича свою собственную жизненную неудачу (любовная драма, разочарование в театре,
290
отсутствие значительного актерского дарования). Такую коммуникативную стратегию можно назвать автореферентной, поскольку она
состоит в отнесении высказывания не к общезначимому миру всеобщего бытия, а к индивидуально значимой, субъективной картине мира. Автореферентное общение в стратегии разногласия, которое Катя удачно характеризует словами мы с вами поем из разных
опер, чрезвычайно распространено в чеховских произведениях.
Проект дискурса в модальности понимания развернут Николаем Степановичем в его характеристике собственных лекций,
требующих троякой компетентности: и ученого, и педагога, и оратора, т.е. референтной, рецептивной и креативной. В отличие от
первых двух стратегий (хорового или авторитарного, но в обоих
случаях — «готового», неоригинального слова) речь центрального героя не запрограммирована: Я знаю, о нем буду читать, но
не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни
одной готовой фразы. Вероятностная картина мира, с какой имеет дело чеховский лектор, представляет собой бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных
своих и чужих мыслей. Но это многообразие отнюдь не релятивно, а коммуникативное поведение лектора далеко не окказионально:
Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное <...> чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом
для правильной компоновки картины.
Однако тот же автор «записок» в других ситуациях прибегает к
иным коммуникативным стратегиям. Так, с нерадивым студентом-сангвиником Николай Степанович общается в модальности
убеждения, априорно предполагая в нем пристрастие к пиву и
опере и позиционируя его в рамки императивной картины мира:
Самое лучшее, что вы можете теперь сделать, это — совсем оставить
медицинский факультет. <...> У вас нет ни желания, ни призвания быть
врачом. <...> Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь. <...> Конечно, вы не станете ученее
оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это
воспитает в вас характер.
В разговоре с докторантом герой переходит к автореферентной стратегии общения в модальности мнения. Ничего не зная о
собеседнике, он растворяет его фигуру в толпе многочисленных
обезличенных соискателей и квазиромантически самовыражается, возвышаясь в своей субъективной свободе над этой несвободной толпой:
Что вы все ко мне ходите, не понимаю? Лавочка у меня, что ли? Я не
торгую темами! В тысячу первый раз прошу вас всех оставить меня в
291
покое! <...> Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так
противна свобода?
Далее рассмотрим коммуникативное поведение чеховских персонажей с точки зрения их креативных компетенций.
Индексальная дис курс ивность представляет собой обращение
к языку в его указательной знаковости. Словарное слово-индекс
реализует информативный ресурс речи — передачу готовых значений, что соответствует модальности знания (прецедентной картине мира). Так, швейцар Николай, встречая профессора, произносит в зависимости от погоды: Мороз, ваше превосходительство!
или Дождик, ваше превосходительство! Риторическая фигура авторства коммуникативного субъекта в рамках индексальной дискурсивности предстает фигурой самоустранения. В этом случае мы
имеем дело с имитативно-исполнительской формой авторства:
инициатор высказывания здесь — всего лишь исполнитель хорового (ничейного) слова.
Дискурсивность эмблематическая состоит в обращении к языку в его формально-символической (конвенциональной) знаковости. Прямым монологизированным словом такой дискурсивности реализуется суггестивный ресурс речи — передача готовых
смыслов, что отвечает модальности убеждения (императивной
картине мира). Концепты призвания быть врачом, нелюбимого дела,
воспитания характера в приложении к неведомой профессору
живой личности студента — это, по сути своей, эмблемы: словесные знаки с готовым смыслом. Эмблематично в этом понимании
термина и рассуждение супруги Николая Степановича о счастье
дочери:
Женихов теперь не бог весть сколько, и может случиться, что не представится другой партии. <...> Конечно, у него нет определенного положения, но <...> он из хорошего семейства и богатый.
Эмблематическая дискурсивность предполагает ту или иную
нормативно-ролевую форму авторства, определяемую традиционно-жанровыми, модно-стилевыми или идеологическими канонами реализуемого дискурса (самоограничение как риторическая
фигура авторства). Именно риторикой авторского самоограничения раздражает чеховского героя нынешняя литература, представляющаяся ему своего рода кустарным промыслом, где авторы готовы опутать себя всякими условностями. Один боится говорить о
голом теле, другой связал себя по рукам и ногам психологическим
анализом, третьему нужно «теплое отношение к человеку», четвертый опасается быть заподозренным в тенденциозности... Один
хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой
непременно дворянином и т. д. Умышленность, осторожность, себе
на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется.
292
Окказиональная картина мира, по мысли Перельмана, требует
для себя автора, выступающего субъектом частной инициативы в
области речевой практики означивания, что ведет к развитию
омонимии, изобретению неологизмов, расшатыванию синтаксиса, отступлению от грамматических правил и т.п. Возникающая
таким образом иконическая дискурсивность являет собой автокоммуникативное по своей природе слово, реализующее имагинативный («вообразительный») ресурс речи — проектирование
неготовых значений. Провокативная знаковость такого рода мотивирована риторической модальностью мнения и предполагает
инициативно-дивергентную (отклоняющуюся от нормы) форму
авторства самовыражающегося субъекта.
Характерно, что, когда письма Кати являли собой образцы свободного душевного излияния, в них обнаруживалась масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было; когда
же она подпала под влияние вошедшего в ее жизнь мужчины,
показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки.
Образцы иконической дискурсивности явлены в речи Михаила Федоровича. Например: Читает, можете себе представить, точно леденец сосет: сю-сю-сю... Струсил, плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде. Или: застаю там студиоза. <...> Лицо этакое...
в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыслия, а байке про
идиотин поверил. Или: сидят каких-то два: один «из насих» и, повидимому, юрист, другой, лохматый — медик. Медик пьян, как сапожник... и т.п.
Аллюзивная дискурсивность являет собой обращение к языку в
его содержательно-символической (инспиративной) знаковости.
Несобственно-прямое («двуголосое») слово аллюзивной дискурсии реализует интеллигибельный (мыслепорождающий) ресурс
речи. В отличие от провоцирования окказиональных значений здесь
мы имеем проектирование вероятных смыслов. Такое коммуникативное поведение мотивировано модальностью понимания; оно
реализуется в инициативно-конвергентной форме авторства.
В тексте самих записок доминирует аллюзивная дискурсивность
интеллигибельного слова. Так, аракчеевские мысли, многоголовая
гидра или воробьиная ночь — и не эмблемы, и не иконические
(имагинативные) знаки: это символы с вероятностным смыслом.
Характеристика студенческой аудитории как многоголовой гидры
ведет к шутливой самоидентификации лектора с Гераклом, но не
убивающим, а, напротив, дающим жизнь: Геркулес после самого
пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз после лекций. Неоднократное именование себя героем, отличным от обыкновенных людей, в этой аллюзивной связи амбивалентно: с одной стороны,
его судьба приговорила к смертной казни; с другой — мифический
293
Геракл был причислен к богам и обрел бессмертие. Не потому ли
душа Николая Степановича не желает знать видений могильного
сна, а кладбище не производит на него ровно никакого впечатления, хотя ему и суждено вскоре лежать на нем?
Текстопроизводство в формах аллюзивной дискурсивности предполагает самоактуализацию субъекта речевого поведения, которая откровенно заявлена в «записках»:
Читаю (лекции. — В. Т.) я по-прежнему не худо. <...> Пишу же я
дурно. <...> Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конец, не помню
начала. <...> И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое
напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и
умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской.
Подобная авторская рефлексия собственного слова (письменного и устного) делает читателя до известной степени причастным
акту текстопорождения, а риторическая фигура авторства предстает при этом как фигура самоактуализации. В данном случае самоактуализации пишущего «я», ощущающего свое разительное
отличие от собственного популярного, счастливого, блестящего
имени, о котором сказано: не люблю.
В плоскости рецептивных компетенций утренние беседы супруги Николая Степановича характеризуются этосом покоя. Но они
не достигают своей риторической цели (практической они лишены), поскольку их адресату вообще чужда коммуникативная стратегия единогласия, следуя которой жена привыкла мое жалованье
называть нашим жалованьем, мою шапку — нашей шапкой. Однако
сама говорящая этими постоянно воспроизводимыми монологами, по-видимому, успокаивает себя, вновь и вновь ритуально
репродуцируя некий статус супружеских взаимоотношений.
Риторический этос долженствования, взывающий к регулятивному ресурсу сознания собеседника, питает адресованность речей
ассистента главного героя: Петр Игнатьевич, даже когда хочет
рассмешить меня, рассказывает длинно, обстоятельно, точно защищает диссертацию. К такому же этосу прибегает и сам Николай
Степанович в беседе с нерадивым студентом.
Автореферентный этос свободы (неподчинения), опирающийся
на альтернативность, беспрецедентность, неотождествимость всякого иного сознания, проявляется в провокативности высказываний, выражающей внутреннюю свободу субъекта речи как источника мнений. Именно такова коммуникативная стратегия злословия, какому предаются Михаил Федорович с Катей как невинному
развлечению, но которое в силу их неограниченной коммуникативной свободы переходит в глумление и в издевательство над объектами своих суждений.
Риторическим этосом ответственности согласно развернутой
автохарактеристике проникнуты лекции Николая Степановича.
294
Но в общении с отдельными людьми, даже с Катей, герой постоянно отступает от оптимальной, с его точки зрения, линии коммуникативного поведения.
Теперь остается выявить риторическую природу текста в целом.
Хотя по своему «речевому жанру» записки принципиально отличаются от лекции, базовая коммуникативная стратегия анализируемых «записок» однородна с предлагаемым в них образом лекторского мастерства.
Прежде всего отметим модальность понимания, доминирующую в данном тексте как едином высказывании. В некоторых местах она прямо эксплицирована: Стремясь понять кого-нибудь <...>
я принимая во внимание не поступки, в которых все условно, а желания. <...> Теперь я экзаменую себя. <...> В моих желаниях нет чегото главного, чего-то очень важного. Понимание интенционально,
это такое содержание сознания, которое зависимо от состояния
самого сознания. Утрату прежнего мировоззрения, смысла и радости своей жизни Николай Степанович не провозглашает релятивистским итогом и не делает своей новой позицией в мире. Он
возлагает на себя самого ответственность за утраченность того,
что выше и сильнее всех внешних влияний, за постигшее его равнодушие — паралич души, преждевременную смерть.
Вероятностная картина мира в «Скучной истории» проявляется не сразу. Первые четыре главы рисуют безысходно прецедентную картину жизни. В пятой главе случается беспрецедентное событие воробьиной ночи, однако эта окказиональность не
приобретает завершающего значения. Итоговым равновесием бесконечно повторяющегося и необъяснимо уникального оказываются маловероятные события заключительной главы: поездка в
Харьков, тайное венчание дочери Лизы, последнее свидание с
Катей.
Герой — центральный компонент картины мира — может быть
субъектом функционального действия (актантом), или субъектом
нормативного выбора, или субъектом инициативного самообнаружения, или субъектом самоактуализации самобытного смысла
развертывающейся жизни. Именно таков Николай Степанович,
пребывающий в вероятностном и многосмысленном мире всеобщей межличностной соотносительности. Весь дискурс его записок
организован фундаментальным напряжением между «я» и «мое
имя», т.е. вероятностной взаимодополнительностью внешнего и
внутреннего аспектов жизни.
Это дискурс, пронизанный этосом ответственности (у меня не
хватает мужества поступить по совести; думаю нехорошо, мелко,
хитрю перед самим собою и т.п.) и ориентированный на конвергентную позицию диалогического согласия со стороны адресата.
Например: Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей.
295
Наконец, в качестве художественного произведения рассматриваемые «записки» представляют собой дискурс автора, «облеченного в молчание» (Бахтин). В данном случае авторская коммуникативная стратегия не опротестовывает, а напротив, углубляет
стратегию героя.
К числу эстетически завершающих моментов относится, в частности, система персонажей произведения, которая для самого
Николая Степановича — отнюдь не система персонажей, а реальность его жизненного окружения. Фигуры этого окружения олицетворяют различные жизненные позиции и, что особенно для
нас существенно, различные коммуникативные стратегии. Причем конвергентная стратегия понимания, самоактуализации и
диалогического согласия присуща только рассказчику, в чем и
заключается причина его одиночества. Но одновременно такая
стратегия — единственно возможный способ преодоления одиночества, преодоления, осуществляемого с нашей, читательской
помощью.
Одним из эффектов авторской системы персонажей оказывается, например, наше понимание того, что, несмотря на глухую
враждебность двух столь близких профессору молодых женщин,
приобщившаяся к артистической (музыкальной) среде, Лиза, тайно обвенчавшись с Гнеккером, идет по пути Кати. Впрочем, аналогия этих жизненных судеб не фатальна, как не фатально и финальное прощай, завершающее слово героя, а не автора.
Аллюзивная дискурсивность характеризует авторское художественное целое в еще большей мере, чем речь героя. Она актуализируется, в частности, на фоне неудачной попытки Николая Степановича прибегнуть к басенной эмблематике:
Я долго глядел с презрением на Гнеккера и ни с того ни с сего
выпалил:
Орлам случается и ниже кур спускаться,
Но курам никогда до облак не подняться...
Эта выходка (уже по воле автора, а не героя) отсылает нас к
восхвалению героем петуха как своего благовестителя, а также к
«петушиному» побуждению самого профессора: мне хочется прокричать громким голосом.
Еще раньше в тексте встречается, по видимости, бесцельное
сообщение о том, что вследствие своей бессонницы Николай Степанович как-то раз за ночь прочел машинально целый роман под
странным названием: «О чем пела ласточка». Поскольку название
воспринято как «странное», оно, вероятно, никак не связывается
для героя с его собственной жизнью. Но читатель чеховского текста, в чьем сознании ласточка — «домовитая птичка», легко может
связать невосприимчивость к теме ласточкиного щебета с призна296
нием героя: Я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания
вернуть ее. Затем в жизни рассказчика случается своего рода воробьиная ночь, когда он в ужасе слышит неведомый птичий крик: —
Киви-киви! — раздается вдруг писк в ночной тишине, и я не знаю,
где это: в моей груди или на улице? Наконец, он приходит к мысли, что утрата жизненного равновесия побуждает его видеть в каждой птице сову. Почему именно сову? Не потому ли, что эта пугающая птица тоже не спит по ночам? И что же он сам за «птица» —
этот знаменитый ученый? Орел, петух, курица, ласточка, воробей, сова, загадочный нездешний птах (звукоподражательное киви
намекает на экзотический для России вид пернатых)? Эмблематика единственно правильного аллегорического значения здесь
отсутствует. Цепочкой птичьей мотивики создается вопросительная анфилада смыслов личностной самоактуализации без заготовленного автором правильного ответа.
Не лишая читателя самостоятельности, чеховская поэтика формирует для него некоторый спектр инспиративных прочтений.
В частности, членение на главы в произведениях Чехова служит
тонким орудием, своего рода «скальпелем» креативной воли, апеллирующей к воле рецептивной, поскольку сильная пауза конца
главы создает семантически акцентированное место в тексте.
В «Скучной истории» авторское упорядочение монолога начинается только со второй главы, после слов: Не легко переживать такие минуты. Обозначение начала первой главы в этом
тексте отсутствует, что естественно для непубличных «записок».
Вторая глава завершается словами: Куда идти? Ответ на этот
вопрос у меня давно уже сидит в мозгу, к Кате. Концовка третьей
звучит так: А потом — бессонница... Здесь круг суточного времени безысходно замыкается. Но одновременно это и середина рассказа, за которой следует сюжетный перелом. В конце четвертой
главы Николай Степанович задерживается у Кати и даже присоединяет свой старческий смех к обычному у нее за столом балагурному злословию. Пятая завершается словами: И она уходит
так быстро, что я не успеваю даже сказать ей прощай. Наконец,
концовка шестой главы и текста в целом: Прощай, мое сокровище!
Благодаря этим авторским композиционным акцентам нам открывается истинный (внутренний) адресат записок. Это Катя, с
которой Николай Степанович расстался столь неудачно, не найдя
для нее ни одного ободряющего слова. Интенция записок амбивалентна: они предстают самооправданием в такой же степени, как
и покаянием.
Но внутренне откликнуться на исповедальность развернутого
перед ним дискурса призван читатель. Именно ему адресована
общеизвестная открытость чеховских финалов. Эту конструктивную особенность П.М.Бицилли считал «главной» для чеховских
297
произведений: «нет "развязки", "завершения", разрешения жиз1
ненной драмы» .
Открытые финалы у Чехова отнюдь не релятивно-окказиональны; они — вероятностны. Они отвечают сформулированному великим физиком XX в. Вернером Гейзенбергом «принципу соотношения неопределенностей»: вероятности последующих изменений
ситуации не произвольны (хотя и не однозначны); они — взаимодополнительны. Роль читателя при этом аналогична роли наблюдателя в квантовой физике: чеховский текст подобен гейзенберговой природе, которая при всей ее объективности «выступает
в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу
постановки вопросов»2.
Упрощенно говоря, оптимистически настроенный читатель
получает возможность наделять чеховский текст позитивным завершающим смыслом, а настроенный пессимистически — негативным. Этим создается характерный эффект чеховского письма,
будто автор «с каждым читателем ведет задушевный разговор наедине»3. Отсюда столь значительные порой расхождения в истолковании эмоционально-волевой тональности одного и того же
текста чеховедами самой высокой квалификации.
Как и всякое порождение креативной интенции, художественный текст обладает виртуальным смыслом. Но у Чехова это не
некий «тайный замысел», а некоторый смысловой потенциал:
достаточно определенное (и соответственно исследовательски
определимое) соотношение взаимодополнительных неопределенностей4, создающее, по словам В. Страды, «ощущение засюжетного пространства, просвета, за которым угадывалась бы незавершенность мира»5 (точнее было бы сказать — вероятностность).
Речь идет, разумеется, не о любых возможных перспективах
«засюжетных» изменений сложившейся к финалу ситуации, но
только о сценариях жизненного поведения, присущих «чеховско1
Б и ц ил л и П. М. Творчество Чехова: Опыт стилистического анализа // Бицилли П.М. Трагедия русской культуры. — М, 2000. — С. 205.
2
Г е й з е н б е р г В. Физика и философия. — С. 36.
3
С т р а д а В. Антон Чехов // История русской литературы. XX столетие. Серебряный век. - М., 1995. - С. 49.
4
Само понятие «неопределенность» заимствовано не столько из физики новейшего времени, сколько у Чехова. В юношеской драме «Безотцовщина» писатель устами персонажа Глагольева рассуждал о «выразителе современной неопределенности» как «состояния нашего общества»; о «русском беллетристе»,
который «чувствует эту неопределенность», который «не знает, на чем остановиться» (Чехов А. П. Сочинения: В 18 т.// Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем. — М., 1978. — Т. 11. — С. 16). Зрелый Чехов не то, чтобы «не знает»,
он, по-видимому, не считает для себя возможным вносить собственную определенность в жизнь, самоопределяющуюся экзистенциальным выбором каждого
своего участника.
5
Страда В. Указ. соч. — С. 58.
298
му человеку». Поэтому исход художественных построений зрелого
Чехова всегда «одновременно четкий и двусмысленный: четкий
потому, что полюс подлинного положителен по отношению к
неподлинному, но этико-интеллектуальное содержание и того и
другого проблематично, и ни герои, ни рассказчик не в состоянии решить проблему»1. Ответственность за ее решение возлагается на читателя, собственно и формирующего своими нравственно-эстетическими предпочтениями затекстовое ментальное пространство жизни. Инстанция читателя включается в коммуникативное событие произведения как невербальная инспиративная
составляющая его текста.
Чехов искусно формирует все необходимые предпосылки для
классической эстетической завершенности целого. Но заключительный акт смыслового завершения (ответ на «правильно поставленный вопрос») автор оставляет читателю, апеллируя к его коммуникативной, эстетической и моральной ответственности. В самых
общих чертах это напоминает майевтику Сократа, ибо чеховская
сверхзадача — «активизировать мысль человека, внушить ему интеллектуальную тревогу за необходимость решения вопроса жизни»2. Поистине не только читатель читает рассказ Чехова, но и сам
рассказ «читает» своего читателя: текст функционирует как тест.
'Страда В. Указ. соч. — С. 62.
Л и н к о в В.Я. Художественный мир прозы А.П.Чехова. — М., 1982. — С. 34.
2
ГЛАВА 10
НАРРАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Анализ художественного текста, по преимуществу эпического,
как нарратива (рассказа о каких-либо событиях) — это наиболее
широко применимая в современной науке о литературе разновидность дискурсного анализа.
Современная нарратология представляет собой весьма обширную область научного поиска в области сюжетно-повествовательных дискурсов, содержащих некоторую фабулу (историю, интригу). Речь при этом ведется не только о художественных текстах и
порой даже не только о текстах вербальных: усилиями историков,
философов, культурологов категория нарративности получила
весьма широкое распространение и богатое концептуальное наполнение. Особо следует отметить роль философа Поля Рикёра1,
историка Хайдена Уайта2, литературоведов Жерара Женетта 3 ,
Джеральда Принса, Вольфа Шмида4, внесших значительный вклад
в нарратологические исследования.
При всех существующих разночтениях в понимании нарративности решающей здесь оказывается двоякая событийность: «Перед нами два события, — писал М.М.Бахтин, — событие, окотором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели); события эти происходят в разные времена (различные и по
длительности) и на разных местах, и в то же время они неразрывно объединены в едином, но сложном событии, которое мы можем обозначить как произведение в его событийной полноте. <...>
Мы воспринимаем эту полноту в ее целостности и нераздельности, но одновременно понимаем и всю разность составляющих ее
5
моментов» .
Наррация — это особая интенция (направленность сознания)
говорящего или пишущего. Нарративная интенциональность высказывания состоит в связывании двух событий — референтного
(о котором сообщается) и коммуникативного (само сообщение как
•См. Р и к ё р П. Время и рассказ: В 2 т. — М.; СПб., 2000.
См. Уайт X. Метаистория. — Екатеринбург, 2002.
3
См. Ж е н е т т Ж. Фигуры: В 2 т. - М., 1998.
4
См. Шмид В. Нарратология. — М., 2003.
5
Б ахти н М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975. — С. 403, 404.
2
300
событие) — в единство художественного, религиозного, научного или публицистического произведения «в его событийной полноте». При этом ни первое событие (фабульное происшествие), ни
второе (текстопорождающая речь определенной композиционной
формы) сами по себе, без посредства нарративного акта, не могли
бы быть квалифицированы как художественные, исторические,
религиозные и т.д.
Специфика художественного нарратива определяется архитектоникой референтного события. Архитектонические формы
события сакрального (в религиозном тексте) или исторического
(в историографическом труде), или политического (в средствах
массовой информации) существенно иные, но и там они имеются, составляя основу своеобразия различных коммуникативных
программ культуры. В частности, само «историческое качество истории», как говорит Рикёр, создается особой «интенциональностью исторического познания», осуществляющей переход от «донарративных структур реального действия» к «двойной структуре
конфигурирующей операции рассказа»1, тогда как художественному дискурсу предшествует «виртуальный опыт бытия в мире»2.
При воззрении на природу нарратива как двоякособытийного
дискурса ключевой нарратологической категорией оказывается
категория события. Последнее в самом общем виде определяется
В.Шмидом как «некое изменение исходной ситуации: или внешней ситуации в повествуемом мире (естественные, акциональные
и интеракциональные события), или внутренней ситуации того
или другого персонажа (ментальные события)»3. Категория событийности может быть уточнена в намеченном Рикёром ряду «родовых феноменов (событий, процессов, состояний)»4.
Всякий процесс — не только природный, но и культурный,
исторический, ментальный — есть закономерная временная протяженность: цепная последовательность состояний (ситуаций).
Каждое состояние может приобрести статус факта, если будет
зафиксировано и тем самым условно вычленено из процесса. Процессуальная цепь бытия онтологически неразрывна. Отдельные
факты в ней обнаруживаются только вследствие вмешательства
языка, текстопорождающей деятельности (дискурсии). Без дискурсивной артикуляции (текстуального освоения сознанием) фактов, строго говоря, не существует, как не существует цвета предметов без зрительного восприятия волн отражаемого ими света
различной длины. Факт есть не что иное, как референтная функция дискурса — высказывания о нем.
1
Рикёр
Там же.
3
Шм ид
4
Рикёр
2
П. Время и рассказ. — Т. 1. — С. 208, 209.
— С. 108.
В. Нарратология. — С. 13.
П. Время и рассказ. — Т. 1. — С. 212.
301
Фактография представляет собой дробление и локализацию
процессуальное™: фактом служит пространственно-временная
единичность, которая может быть зафиксирована и может оказаться событийной, но может таковой и не оказаться. Специфика
нарративного дискурса в отличие от стенограммы или элементарной хроники состоит именно в том, что он наделяет факт или
некоторую совокупность фактов статусом события. Здесь на передний план «выходит новое и главное действующее лицо события —
свидетель и судия»1. Никакой природный катаклизм или социальный казус вне соотнесенности с нарративной интенцией (повествовательной установкой) свидетельствующего сознания пока
еще не является событием. Чтобы стать таковым, ему необходимо
обрести статус не только зафиксированного, но и осмысленного
факта (как это случилось, например, в последние десятилетия с
фактом гибели динозавров, имевшим место миллионы лет тому
назад).
По Ю. М.Лотману, смыслосообразная значимость события состоит в том, что оно есть «всегда нарушение некоторого запрета,
факт, который имел место, хотя не должен был его иметь»2. Это
определение представляется излишне жестким. В действительности и закономерный процесс, и нормативная система культуры
обычно предполагают веер более или менее вероятных возможностей, часто не выходящих за рамки «нормального» или «естественного». Правильнее будет утверждать, что событие — это осуществление одной из двух или нескольких возможностей. Даже распятие
Христа (которое как раз должно было случиться) могло оказаться
казнью или ложного Мессии, как многие тогда полагали, или
Мессии истинного. «Событие, согласно более мягкому и точному
определению П.Рикёра, — это то, что могло произойти по-дру3
гому» . Закипание воды при 100 °С или восход солнца — процессуальные моменты и поэтому событиями не являются, однако рассказ о восходе солнца в некоторой уникальной ситуации способен придать ему событийный характер.
Иначе говоря, событие есть факт, обладающий собственным
значением в меру того, насколько и в какую сторону он отличается от всех прочих, не реализовавшихся в данный момент возможностей. В отличие от процесса, не нуждающегося в осмыслении,
событие должно быть осмыслено. В отличие от факта событие не
ограничивается зафиксированностью в тексте (хотя всякое событие фактографично); оно как бы адресовано некоторому сознанию, способному его адекватно осмыслить. Эта неявная (имплицитная) адресованность события вытекает из его неизбежной тек1
Б а х т и н М. М. Эстетика словесного творчества. — С. 341.
Л о т м а н Ю.М. Структура художественного текста. — С. 286.
3
Р и к ё р П. Время и рассказ. — Т. 1. — С. 115.
2
302
стуальной оформленности (хотя бы внутренней речью «свидетеля
и судии»).
Минимально необходимым для характеристики события, как
референтного, так и коммуникативного, представляется следующий ряд свойств.
1. Событие гетерогенно (неоднородно по составу).
В противовес гомогенной непрерывности процесса или состояния событийная цепь фрагментарна, эпизодична. Это вызвано тем,
что первоначальной и порождающей инстанцией событийности
является актантный фактор вторжения, целенаправленно или случайно прерывающий, искажающий, трансформирующий естественную или нормативную последовательность состояний, ситуаций, действий. Поэтому нарративность предполагает персонификацию (не обязательно антропоморфную) актантной функции
поступка, свершения, воздействия. Данная функция может быть
реализована не только одним или несколькими действующими
лицами, но и природной стихией или вмешательством сверхъестественных сил. При этом координаты события образуются корреляцией факторов двоякого рода: актантного фактора дестабилизации и взаимодополнительного ему пассиентного (от лат. passivus —
'страдательный') фактора стабильности (ситуации, объекта или
претерпевающего воздействие субъекта).
2. Событие хронотопично
То, что фиксируется как событие, есть прежде всего со-бытие
каких-то факторов (актантного и пассиентного свойства) во времени и в пространстве, а не в вечности и безмерности. Даже самое
краткосрочное событие обладает протяженностью во времени, т.е.
имеет начало, середину и конец, являясь, в свою очередь, звеном некоторой более значительной длительности. При этом даже
самое микроскопическое событие занимает некоторый объем в
общей картине мира, а значит, непременно обладает также пространственными координатами, предполагая нераздельное единство пространства и времени, в рамках которых оно является сознанию.
3. Событие интеллигибельно (умопостигаемо, смыслосообразно).
Третьей и решающей инстанцией событийности выступает актуализатор события, обнаруживающий себя в тексте как бахтинский «третий», как обладатель точки зрения («свидетель») и ценностной позиции («судия»), относительно которых и актуализируется смысловая природа данного события, без чего никакая
фактичность не событийна.
В структуре референтного события функцию актуализации осуществляет сам нарратор. В коммуникативном же событии рассказывания актуализатором выступает адресат — свидетель вторжения повествователя в цельность завершившегося и застывшего в
прошлом события. При этом актантом коммуникативного собы303
тия выступает, естественно, креативная фигура говорящего (пишущего); пассиентом же здесь становится не кто иной, как актант
рассказываемой истории — персонаж. Принципиальное различие
между референтным и коммуникативным событиями состоит в
том, что первое имеет место только «там и тогда», а второе только «здесь и сейчас», поскольку без участия рецептивного сознания адресата никакое коммуникативное событие не свершается.
Интеллигибельность события отнюдь не предполагает субъективности его смысла. Но она реализуется только в присутствии
субъекта. Смысл интерсубъективен. Он не есть субъективная значимость, навязанная факту, но «смысл всегда отвечает на какието вопросы. То, что ни на что не отвечает, представляется нам
бессмысленным»1. Поэтому смысл для своей актуализации нуждается в вопрошающем сознании. Со стороны же субъекта «имеет
место приобщение» к событию как «ценностно-смысловому моменту» бытия2. Наррация и есть активно-коммуникативное (текстопорождающее) приобщение к излагаемому референтному событию.
Наконец, нарративная «история» (ход событий) фрактальна
Это означает, что в принципе любое событие посредством нарративного акта может быть развернуто в цепь микрособытий или,
напротив, свернуто в эпизод макрособытия — вплоть до последнего гиперсобытия: «события бытия» (Бахтин).
Перечисленные свойства событийности позволяют вслед за
Рикёром утверждать, что наррация не сводится к дискурсивной
практике известного рода, но представляет собой специфический
способ понимания жизни — креативный в противовес логическому, ибо логичность в силу закономерной однозначности своих
выводов и следствий всегда «в какой-то мере неадекватна креа3
тивности, присущей рассказу» .
Креативное наделение факта (текстуально зафиксированного в
некотором языке звена некоторого процесса) статусом события
(смыслосообразного, парадигматически значимого со-бытия факторов), собственно говоря, и представляет собой нарративный
акт повествования как дискурсии особого рода. Это нерасторжимое внутреннее единство обоих полюсов наррации имеет своим
следствием то, что нарративный дискурс не распадается на историю и дискурсию. Интрига истории и нарративная конструкция
рассказа о ней — две стороны единой коммуникативной стратегии: не только повествование немыслимо без повествуемой истории, но и никакой истории (в том числе национальной и общечеловеческой) не может быть без ее повествовательного изложе' Б а х т и н М. М. Эстетика словесного творчества. — С. 350.
Там же. - С . 368,369.
Р и к ё р П. Время и рассказ. — Т. 2. — С. 67.
2
3
304
ния, что связанно с неустранимостью «эпизодического аспекта
построения интриги»1.
Следует признать, что эпизод действительно предстает ключевой единицей нарратологического анализа. Проблема аналитической сегментации нарративного текста является общериторической проблемой. При решении этой проблемы необходимо учитывать двоякособытийную природу нарративности.
Наиболее простой способ сегментации — формальное членение текста на отрезки, разделяемые паузами различной интенсивности: главы, абзацы, фразы, синтагмы. Этот способ членения, улавливающий ритмико-интонационную структуру текста,
не отражает его нарративной специфики.
Субъектно-композиционное, или дискурсное, членение предполагает возможность выявления в рамках единого нарративного
дискурса внутритекстовых субдискурсов — фрагментов, различающихся субъектом, адресатом и/или способом высказывания, в
том числе вненарративным (см. раздел «Композиция» в гл. 3). Эта
сегментация необходима для выявления разноуровневых повествовательных инстанций нарративного произведения, но она не затрагивает самой доносимой до читателя истории, которая представляет собой ряд «событий, или диегетических сегментов»2.
Анализируя эту сторону романного или историографического
текста в отвлечении от дискурсивной стороны повествования, мы
осуществляем не актуальное, а потенциальное членение изложенной нарратором истории (фабулы). Суть такого диетического членения СОСТОИТ в обнаружении и схематизации ее интриги (в значении, придаваемом этому термину Уайтом или Рикёром), т.е.
в обнаружении потенциальной смыслосообразности событийного
ряда, который различными его наблюдателями или участниками
3
может быть увиден, понят и рассказан по-разному. Интриги конкретных повествовательных дискурсов при всем своем бесконечном многообразии принадлежат к одному из основополагающих
традиционных типов (или являются результатами их взаимоналожений и контаминации). Х.Уайт говорил в этом отношении об
интриге как об «архетипической форме» связывания событий в
историю. «Чтобы стать логикой рассказа», история, по мысли Рикёра, «должна обратиться к закрепленным в культуре конфигурациям, к схематизму повествования, оперирующему в типах интриг, воспринятых из традиции. Только благодаря этому схематизму действие может быть рассказано»4.
1
Р и к ё р П. Время и рассказ. — Т. 2. — С. 186.
Ж е н е т т Ж. Указ. соч. - Т. 2. - С. 71.
3
Рикёр понимает «интригу» как то, что «связывает начало с концом» и реализуется в «очень изощренной эпизодичности» ( Р и к ё р П. Время и рассказ. —
Т. 2. - С . 30, 31).
4
Р и к ё р П. Время и рассказ. — Т. 2. — С. 50.
2
11 ткиш
305
Нарративный дискурс, заключая в себе интригу определенного типа (кумулятивного, циклического, лиминального), придает
излагаемым фактам событийный характер, что предполагает их
смыслосообразность, потенциальную понимаемость. Но адекватно эксплицировать эту интеллигибельность событийного ряда сам
нарративный дискурс не может: внутритекстовые рассуждения принадлежат фиктивному автору или цитируемым персонажам и могут оказаться неполнозначными или даже вовсе ложными. Отсюда
неустранимая проблематичность фабульно-диегетического членения нарративной истории, оборачивающегося разгадыванием ее
интриги.
Эта проблематичность разрешается путем актуального членения повествовательной конструкции — членения, не игнорирующего ни единого слова дискурсии, однако ориентированного на
событийные параметры референтной стороны высказывания. Единицей актуального членения всякого сюжетного повествования
призван служить эпизод, т.е., как уже говорилось выше (см. раздел «Сюжет» в гл. 3), участок текста, характеризующийся единством места, времени и состава действующих лиц. Цепь таких эпизодов представляет собой нарративную артикуляцию повествователем диегетической цепи событий повествуемого мира.
Поэпизодная сегментация текста позволяет дать научное описание сущностного двоякособытийного единства нарративной
истории и дискурсии о ней, поскольку, с одной стороны, основывается на диегетической упорядоченности событийного ряда,
однако, с другой стороны, выявляет равнопротяженную тексту
последовательность артикулирующих этот ряд фрагментов, подобно
последовательности единиц дискурсного и формального членений. При этом учитывается авторское разделение текста на фразы, а также, как правило, на абзацы (в этом отношении бывают
особые случаи, нуждающиеся в специальном обсуждении) и более крупные единицы формального членения.
Именно сегментация на эпизоды предстает рассмотрением нарративного текста в его специфической, интеллигибельно-фрактальной природе. Ведь само существо нарратива состоит именно в
том, что он расчленяет континуальную (цельную, неделимую)
картину референтного высказыванию мира на его событийные
фрагменты (микрособытия) и одновременно стягивает эти фрагменты в коммуникативное единство высказывания, нанизывая их
на нить повествования о макрособытии. Эти разнонаправленные
интенции нарративного акта и интегрированы в конфигурации
эпизодов как единиц актуального членения нарративного текста.
Повествовательный акт, состоящий в организации текста как
событийной цепи эпизодов, представляет собой наррацию в собственном или узком значении этого понятия. Но от этого нарративного «скелета» в общей структуре повествовательного текста
306
неотделимы, с одной стороны, внесобытийные, константные
структуры «изображаемого мира», который, по мысли В.Шмида,
всегда шире «мира повествуемого», а с другой — иллокутивные1
(коммуникативно-действенные, целевые) структуры дискурсии
как таковой, всегда направленной от одного сознания к другому.
Событийные изменения, протекающие от эпизода к эпизоду,
не могут охватывать все без исключения семантические единицы
текста. Они обнаруживают за собой некий неизменный фон: пространственно-временную картину универсума, в рамках которого
повествуемые факты обретают статус события. Рассказываемое
событие нуждается в такого рода фоне, без которого его событийность не может быть актуализирована2. Членя событийную динамику на эпизоды и связывая их в нарративную цепь, повествователь обнаруживает некий ценностный кругозор, который и оказывается семантическим универсумом текста. Это кругозор не фактического (писатель) и не фиктивного (нарратор), а виртуального («абстрактного», по Шмиду) автора, являющегося «олицетворением интенциональности произведения»3.
Иллокутивный аспект повествования состоит в непосредственном воздействии нарративной дискурсии на воспринимающее
сознание: в руководстве актами внутреннего зрения, внутреннего слуха и внутренней речи адресата. Данный аспект неустраним
из нарративного акта. Он предстает здесь в качестве коммуникативной среды, преломляющей референтную картину событийности.
С позиции читателя или слушателя, каждая нарративная пропозиция 4 текста выступает своеобразным кадром ментального видения, охватывающего в повествуемом мире объекты не только
зримые, но и слышимые, осязаемые и т.д., не только физически
вещественные, но и умозрительные. Поскольку ни одна самая
подробная фраза не в состоянии вместить в себя обозначения и
характеристики всех без исключения компонентов созерцания,
такой «кадр» образуется в результате отбора и соположения повествователем некоторых деталей воображаемого мира. Нарративный кадр фрактально изоморфен эпизоду: организация повествовательного предложения, как и организация эпизода, является
1
Термин теоретика речевых актов английского философа Дж. Остина.
Комментируя мысль Ю. М. Лотмана о том, что «сюжетный текст строится на
основе бессюжетного» ( Л о т м а н Ю.М. Структура художественного текста. —
С. 287), П.Рикёр говорит: «Необходим застывший образ мира, чтобы кто-то мог
преодолеть его барьеры и внутренние запреты: событие и есть это пересечение,
это преодоление» ( Р и к ё р П. Время и рассказ. — Т. 2. — С. 173).
3
Ш м и д В. Нарратология. — С. 53.
4
П р о п о з и ц и я — семантический инвариант предложения, в вариативно
конкретной фразе актуального высказывания «обрастающий» модальностью, тональностью, стилистикой.
2
307
некоторого рода дроблением континуального мира состояний и
процессов.
Отбор предметов видения, их признаков, действий, связей,
пространственно-временное и ценностное их соположение в повествовательном кадре фокусирует внимание адресата, задает адресату нарративной дискурсии определенную точку зрения на данный фрагмент референтного события, что получило в нарратологии наименование фокализации. При всех разногласиях в трактовке данного понятия фокализация означает «регулировку нарративной информации», состоящую в том, что «повествование может сообщить читателю больше или меньше подробностей, более
или менее непосредственным образом, и тем самым восприниматься <...> как отстоящее на большую или меньшую дистанцию
от излагаемого», как устанавливающее по отношению к нему «ту
или иную перспективу^.
Последовательность кадров фокализации, выявляющая некоторую точку зрения, или, скорее, конфигурацию точек зрения,
представленных в тексте, — неотъемлемый и чрезвычайно важный аспект нарративизации высказывания. «Без точки зрения, —
как справедливо утверждает Шмид, — нет истории. Истории самой по себе не существует, пока нарративный материал не становится объектом "зрения" или "перспективы". История создается
только отбором отдельных элементов из принципиально безграничного множества»2.
Формируемая нарративным актом точка зрения неотождествима с авторским кругозором, ибо, строго говоря, кадры, открывающиеся нашему внутреннему (ментальному) взору, непосредственно соотносимы с точкой зрения имплицитного тексту
виртуального зрителя. Точка зрения — это промежуточная, коммуникативная по своей природе, инстанция, формируемая нарратором, но предназначенная для «наррататора» (адресата наррации). Отбор деталей и ракурсов их видения повествователем
направляет и определяет воззрение на них читателя или слушателя. При этом повествующий волен называть в тексте далеко не
все то или даже вовсе не то, что он «видит» в мире повествования. Ложные показания свидетеля — простейший пример наррации, проистекающей из подлинного кругозора говорящего,
но направленной на приведение слушающего к превратной точке зрения.
Вслед за Перси Лаббоком, Бахтиным и Женеттом, использовавшими понятие голоса как нарративной категории, Рикёр настаивает на «невозможности элиминировать понятие повествовательного голоса», которое «не может заменить собой категория
' Ж е н е т т Ж. Указ. соч. - Т. 2. - С. 180, 181.
Ш м и д В. Нарратология. — С. 121.
2
308
точки зрения»1. Это представляется убедительным, поскольку рецептивная установка внутреннего зрения, направленного на объектную сторону высказывания, и рецептивная установка внутреннего слуха, направленного на субъектную сторону высказывания, в
принципе неотождествимы, хотя и составляют грани единого коммуникативного события.
В качестве «события рассказывания» нарративный дискурс представляет собой взаимодополнительность двух систем: не только
конфигурации точек зрения (кто видит?), но и конфигурации голосов (кто говорит?). Последняя создается использованием оценочных
слов и стилистической маркированностью участков текста, ориентированных на имплицитного слушателя данной дискурсии.
Может показаться, что этот стилистико-оценочный аспект нарративного акта, заслуживающий наименования «глоссализация»
(см. гл. 3), уже не входит в область нарративного анализа. Но это не
так, поскольку всякое повествование есть всегда «преобразование
предполагаемого невербального материала в вербальную форму»2.
Игнорировать эту «форму» глоссализации нарративного «материала» не представляется возможным, ибо вне ее коммуникативного преломления мы не имеем никакого доступа к самому референтному содержанию наррации.
«Архиерей» А. П. Чехова
В данном рассказе искомая интрига создается напряжением
между двумя событиями, лишенными какой бы то ни было причинно-следственной связи: приезд матери и смерть центрального
персонажа. Если бы между ними не имелось никакой иной связи,
то они, не став звеньями интриги, предстали бы двумя безотносительными рядоположными фактами и не обрели бы событийного статуса.
Циклическая модель событийной цепи (утрата — поиск — обретение) к анализируемому сюжету прилагается весьма неубедительно. Для кумулятивной интриги чеховскому рассказу явно недостает количества звеньев. Если же в качестве таковых рассмотреть промежуточные микрособытия (например, обед с матерью и
племянницей, последняя служба в церкви и т.п.), то окажется,
что они лишены необходимого роста напряженности, устремленного к пуанту и тем самым создающего эффект нанизывания: им
недостает «нагромождения или нарастания, которое кончается <...>
3
катастрофой» . Смерть болеющего архиерея не является «катаст• Р и к ё р П. Время и рассказ. — Т. 2. — С. 103.
Ж е н е т т Ж. Указ. соч. — Т. 2. - С. 183, 184
3
П р о п п В. Я. Фольклор и действительность. — М , 1976. — С. 243. Здесь Пропп
говорит о «веселой катастрофе» кумулятивной сказки, но в литературных произведениях такая катастрофа может оказываться и поистине гибельной.
2
309
рофой» в этом специальном сюжетологическом значении термина, поскольку лишена неожиданности, да и умирание наступает
не сразу, а длится подобно крестным мукам.
События «Архиерея» обретают связь и смысл именно в рамках
лиминальной сюжетной схемы. С этой точки зрения начальный
фрагмент повествования образует некий фон для последующего
обособления: содержащий в себе момент единения личности героя с толпой молящихся, он может квалифицироваться как нулевая фаза в развитии сюжета. Затем следует краткий эпизод обособления, текстуально манифестированный отъездом из монастыря.
Впрочем, за пределами изображенного времени эта фаза существенно углубляется как недавним пребыванием архиерея за границей, так и томящим его одиночеством после возвращения.
Сообщение о приезде матери знаменует следующую фазу (сюжетного партнерства). Умирание героя в рамках этой нарративной
матрицы предстает очевидной лиминальной фазой. Но поскольку
вслед за нею никакого явного преображения героя не происходит, завершающий фрагмент текста при диегетической его сегментации выглядит еще одной (эпилоговой) нулевой фазой: по
контрасту с начальным единением наступает почти полное забвение.
В таком случае смерть героя без воскресения утрачивает свою
лиминальную событийность и уподобляется кумулятивной катастрофе. Однако кумулятивность рассматриваемой фабулы нами уже
была оспорена. Это вынуждает задуматься о роли предсмертного
видения героя, где он неявным для окружающих образом достигает фазы преображения. Является ли это видение решающим звеном интриги? Или неким побочным ее продуктом, жестом трагической иронии со стороны повествователя?
Как это часто бывает у Чехова, усмотреть смыслосообразную
событийность излагаемых повествователем фактов крайне затруднительно1, если не вглядеться в самую ткань текста, дискурсивно
артикулирующую историю героя единственно допустимым для
2
автора способом рассказывания . В отвлечении от повествовательного рисунка очерчивания эпизодов и связывания их между собой
интрига может быть воспринята и истолкована весьма превратно.
Система эпизодов. Актуальное членение чеховского «Архиерея»
в качестве единого нарративного высказывания выявляет следующую весьма изощренную, как мы увидим впоследствии, картину.
1
0 редуцировании событийности у Чехова см.: Шмид В. Проза как поэзия. —
СПб., 1998. - С. 263-277.
2
Именно по поводу рассказа «Архиерей» Чехов писал редактору «Журнала
для всех» Миролюбову: «Если цензура выбросит хоть слово, то рассказ возвратите мне». Спустя две недели еще раз: «...если цензура зачеркнет хоть одно слово,
то не печатайте» (Чехов А.П. Письма: В 12 т. // Чехов А.П. Полное собрание
сочинений и писем. —М., 1981. — Т. 10. — С. 198, 206).
310
Глава первая
1 (1.1): Под Вербное воскресенье в Старо-Петровском монастыре... (локализация повествуемого жизненного процесса во времени и в пространстве).
2 (1.2): Скоро и служба кончилась. Когда архиерей садился в карету... (незначительный перерыв в диегетическом времени жизни
персонажа и перенос его в пространстве. На протяжении этого
эпизода карета с архиереем перемещается в пространстве без артикулированных разрывов процессуальной цепи состояний).
3 (1.3): — А тут, ваше преосвященство, ваша мамаша без вас
приехали, — доложил келейник, когда преосвященный входил к себе...
(появление дополнительного персонажа сопровождается хотя и
незначительным, но все же переносом во времени и в пространстве).
4 (1.4): Преосвященный посидел немного в гостиной... (эпизод создается отсутствием келейника и уединением главного персонажа; на протяжении этого эпизода нет переносов во внешнем времени и в пространстве его жизни, но имеется ряд вставных квазиэпизодов, образуемых изложением течения мыслей, воспоминаний героя).
5(1.5): В половине второго ударили к заутрене. Слышно было, как
отец Сисой... (временная граница эпизода усиливается явлением
нового персонажа).
Глава
вторая
6 (2.1): На другой день... (эпизод, отмеченный перерывом во
времени, организован появлением дорогих гостей: матери и племянницы; в начальной фразе эпизода они еще отсутствуют, однако эта фраза не отделена от последующих абзацем, чем событийность излагаемых ею действий героя явственно редуцирована).
7 (2.2): После обеда приезжали две богатые дамы... (после обозначения временной границы актуального членения несколько
повседневных фактов жизни героя вновь обесцениваются единством абзаца, открывающего событийную сторону эпизода —
уединение предающегося воспоминаниям героя, до которого доносятся из гостиной голоса Сисоя, матери и племянницы).
8 (2.3): В спальню вошел отец Сисой... (эпизод образован присоединением к главному герою еще одного персонажа).
Глава
третья
9 (3.1): Епархиальный архиерей... (композиционное обособление границей главы и абзацами, введение новой фигуры и наличие хотя бы слабо локализованного пространственно-временного
единства наделяют этот «итеративный», по терминологии Женетта, фрагмент статусом эпизода).
311
10 (3.2): Во вторник после обедни... (временная локализация кладет начало эпизоду нежданного появления купца Еракина).
11 (3.3): После него приезжала игуменья из дальнего монастыря.
А когда она уехала, то ударили к вечерне, надо было идти в церковь.
(Благодаря временным границам и дополнительному персонажу
этот участок текста, выделенный в самостоятельный абзац, при
всей его краткости и незначительности следует трактовать как самостоятельный эпизод.)
12 (3.4): Вечером монахи пели стройно... (четкая граница повествовательного переноса во времени и в пространстве с появлением фоновых персонажей).
Глава ч е т в е р т а я
13 (4.1): В четверг служил он обедню в соборе...
14 (4-2): Приехав домой, преосвященный Петр...
15 (4.3): И когда преосвященный открыл глаза, то увидел у себя в
комнате Катю... (эта очевидная граница эпизода — появление
персонажа — находится внутри абзаца, что отчасти мотивировано
полудремотным состоянием героя, отчасти же усиливает ненавязчивый эффект уподобления чуду нежданного явления девочки, чьи волосы, как сияние).
16 (4.4): Тихо, робко вошла мать...
17 (4.5): И он вспомнил, что когда-то... (отграниченность этого
эпизода манифестирована уходом матери и племянницы в конце
предыдущего).
18 (4.6): Он оделся и поехал в собор...
19 (4.7): Когда служба кончилась, было без четверти двенадцать.
Приехав к себе...
20 (4.8): — Вы уже легли, преосвященнейший? — спросил он... (эпизод беседы с отцом Сисоем).
21 (4.9): (после ухода Сисоя) Преосвященный не спал всю ночь.
А утром...
22 (4.10): Пришла старуха мать...
23 (4-И)' Приезжали три доктора...
24 (412): А на другой день была Пасха...
25 (4.13): Через месяц был назначен...
Последний из выделяемых эпизодов занимает особое место
своеобразного эпилога о матери героя. Архиерей в нем не только отсутствует, но и забыт всеми (кроме матери). Остальные
двадцать четыре эпизода четко делятся на две половины. Первые двенадцать эпизодов составляют три начальные главы рассказа, вторые двенадцать (с тринадцатым эпилоговым) — заключительную главу. Таким образом, можно выделить два цикла
эпизодов, связанных мотивными перекличками, о чем будет идти
речь ниже.
312
Нумерологические изыскания в чеховском тексте небезосновательны. Достаточно напомнить, что у матери умирающего героя было
девять душ детей и около сорока внуков, что актуализирует в ней не
только просительницу за всех членов своего материнского рода, но
и символическую фигуру носительницы живой памяти об усопших.
В рассказе о предпасхальных днях, т.е. последних днях жизни
не только священнослужителя, но и самого Иисуса Христа, апостольское число 12 явственно приобретает символическое значение. Оно дважды встречается в качестве указания времени; существенную роль в произведении играет литургия под названием
двенадцать евангелий; наконец, отец Сисой всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их одиннадцать душ, т. е. умирающий
герой рассказа оказывается двенадцатым архиереем.
Поразительны мотивные переклички, своего рода семантические «рифмы», обнаруживаемые между параллельными эпизодами двух циклов (дюжин), составляющих нарративное движение
чеховского дискурса, подобно тому, как часовая стрелка дважды
за сутки пробегает один и тот же круг.
Эпизоды 1 (1.1) и 13 (4.1) объединены мотивами покоя, благости, весеннего настроения, аналогичного настроению любимого героем первого евангелия.
В эпизодах 2 (1.2) и 14 (4.2) говорится о возвращении героя из
церкви в монастырь.
В эпизоде 3 (1.3) преосвященный узнает о приезде своей матери с внучкой, а в эпизоде 15 (4.3) эта девочка к нему входит и
открывает причину их приезда.
В эпизоде 4 (1.4) герой думает о своей матери, а в эпизоде 16 (4.4)
она сама входит к нему в комнату.
Эпизоды 5 (1.5) и 17 (4.5) связаны фигурой покашливающего
за стеной отца Сисоя. К тому же, как и в двух предыдущих парах
эпизодов, имеет место своего рода тематическое нарастание семантического параллелизма: если в эпизоде 5 (1.5) архиерей впервые говорит о своей болезни, то в эпизоде 17 (4.5) его призывают
к страстям господним (последней в его жизни и физически мучительной для больного церковной службе).
Эпизоды 6 (2.1) и 18 (4.6) перекликаются резкими переломами от бодрого, здорового настроения героя к болезненному, а также повторами ряда мотивов (в частности, такой детали, как боль
в онемевших ногах).
В эпизодах 7 (2.2) и 19 (4.7) возвращение архиерея к себе представлено с тематическим нарастанием: от торопливо помолился,
лег в постель к разделся и лег, даже Богу не молился.
Эпизоды 8 (2.3) и 20 (4.8) — приходы Сисоя, натирающего
тело преосвященного в первый раз свечным салом (своего рода
помазание), а во второй — уксусом (еще одна деталь, прозрачно
связывающая умирание героя с умиранием Христа).
313
В начале эпизода 9 (3.1) мы узнаем о болезни епархиального
архиерея, который не вставал с постели. В эпизоде 21 (4.9) то же
самое происходит и с героем рассказа, что освобождает и его от
описанных в эпизоде 9 (3.1) обременительных обязанностей.
В эпизодах 10 (3.2) и 22 (4.10) внутренне отрешенный от окружающего мира архиерей не понимает смысла тех слов, с которыми к нему громко обращаются: в первом случае купец Еракин,
а во втором — мать. В обоих эпизодах его именуют владыкой, но
мать уже обращается к нему иначе, хотя раньше тоже так называла.
Эпизоды 11 (3.3) и 23 (4.11) демонстративно пусты: они сводятся к двум безрезультатным визитам (игуменьи и трех докторов).
Но во втором из них, согласно все тому же принципу тематического нарастания, архиерей умирает. Семантическая опустошенность этих сегментов нарративного ряда соответствует предпасхальной субботе (называемой в тексте эпизода 23 (4.11)) — отрезку времени, когда Христос уже умер, но еще не воскрес. Знаменательно, что один из этих двух наиболее кратких эпизодов текста
содержит в себе два слова длинный и три слова долго.
Наконец, эпизоды 12 (3.4) и 24 (4.12) вновь, как и пара начальных, связаны мотивом светлой пасхальной радости, переживаемой в первом случае уединившимся в алтаре архиереем, а во
втором — всем миром.
Прослеженный циклический параллелизм (с тематическим
нарастанием) как организующий принцип системы эпизодов,
разумеется, усиливает зеркальный эффект семантической параллели между уходом из жизни литературного героя и сакральной
парадигмой такого ухода. Но сама эта парадигма представляет собой не миф с его циклической конструкцией, а лиминальный
евангельский сюжет. Зеркальность литературного сюжета относительно евангельского манифестирована не только прямыми их
совпадениями, но и моментами обратной симметрии (так, появление трех докторов перед смертью архиерея обратно симметрично поклонению волхвов после рождения Иисуса).
Помимо отмеченных перекличек в мотивной структуре рассматриваемого нарративного дискурса обращает на себя внимание и
то, что каждый из двух циклов «эпизодического аспекта построения интриги» (Рикёр) делится строго пополам переломами настроения (эпизоды 6 и 13) и возвращениями к себе (эпизоды 7
и 14). Знаменательно также следующее место из переломного эпизода 18 (4.6): Только когда прочли уже восьмое евангелие, он почувствовал, что ослабел <...> что он вот-вот упадет <...> и непонятно
ему было, как и на чем он стоит, отчего не падает... Дело в том,
что именно после эпизода 8 последней главы в эпизоде 24 (4.9),
отмеченном к тому же рубежом восьми часов утра, герой окончательно ослабевает, утрачивает способность вставать, и его проти314
востояние тому мелкому и ненужному, что угнетало его своею массою, с этого момента более не будет продолжаться. Картина душевной угнетенности, от которой освобождается умирающий,
развернута также в эпизоде 9 (3.1), т.е. тоже после восьмого, что
совпадает с переводом архиерея в Россию после восьми лет,
проведенных за границей. Обращает на себя внимание, что возраст пока еще принадлежащей детству Кати — именно восемь лет,
а, будучи сам ребенком, герой жил в восьми верстах от церкви
с чудотворной иконой (мотив чуда, как будет сказано ниже, здесь
также не случаен, художественно концептуален).
Эпизоды анализируемого нарративного построения связаны
между собой многообразно. Переклички между двумя циклами при
всей своей последовательности не столь интенсивны, чтобы привести к эквивалентности параллельных эпизодов, что преобразило бы сюжетную структуру в мифологическую. Более того, одна
из существенных закономерностей — глубокая обратная симметрия начала и конца текста. Если начальный эпизод был моментом
всеобщего единения собравшихся в церкви вокруг плачущего архиерея, то в конечном (эпилоговом эпизоде 25) — архиерей забыт, и собирающиеся на выгоне не верят его матери. Если в эпизоде 2 в лунном свете <...> все молчали, задумавшись, то в предпоследнем — ярко светило солнце и было шумно. Если в эпизоде 3
герою сообщают о приезде матери, то в третьем от конца — матери сообщают о его смерти и т.д.
При такой конфигурации 25 эпизодов в маркированном положении оказывается центральным 13 (4.1). Вот этот краткий эпизод
в полном его составе:
В четверг служил он обедню в соборе, было омовение ног. Когда в
церкви кончилась служба и народ расходился по домам, то было солнечно, тепло, весело, шумела в канавах вода, а за городом доносилось с полей непрерывное пение жаворонков, нежное, призывающее к покою.
Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними, бог знает
куда, уходило бездонное, необъятное голубое небо.
Переклички данного фрагмента с предсмертным видением героя и с характеристикой пасхального воскресного дня столь очевидны, что побуждают в этом мнимо интермедийном эпизоде
увидеть своего рода ключ к проникновению в смысл рассказа как
единого художественного высказывания. В частности, обращает на
себя внимание такая символическая деталь, как омовение ног: на
протяжении последних дней своей жизни архиерей страдает от
боли в ногах, и только покидая жизнь, он идет быстро, весело.
Интеллигибельная стройность актуального членения чеховского
нарратива столько же несомненна, сколько не подлежит сомнению и отсутствие рациональной намеренности этого построения
со стороны писателя. Ведь Чехов никоим образом не мог предви315
деть той техники нарратологического описания текста, которая
здесь нами применяется. Выявленный строй нарративного высказывания возник непредвзято, как результат творческой интуиции
художника, но именно это и придает ему событийный характер.
Как раз строгая циклическая согласованность перекликающихся
эпизодов, напоминающая закономерный ход естественного процесса, и является в данном случае неестественной, маловероятной —- тем, что, как говорит Рикёр, «могло произойти по-другому». Рассмотренная упорядоченность дискурсии производит впечатление чуда (сверхсобытия) и поэтически свидетельствует о
референтной сверхсобытийности текста, повествующего не о смерти очередного архиерея, но о воскресении простого, обыкновенного человека, который свободен теперь, как птица.
Это воскресение столь же аналогично пасхальному преображению умирающего человека в вечно живого Бога, сколь и противоположно ему: владыка преосвященнейший, как именует архиерея
Еракин, становится незначительнее всех, что доставляет герою
искреннее удовлетворение (Как хорошо! — думал он. — Как хорошо!). Теми же словами он думает и в эпизоде 12 первого цикла,
когда слушает пение монахов о воскресении Господнем.
Парадоксальное референтное событие «Архиерея» состоит в
своего рода возвратном преображении Петра — в Павла, преосвященного — в мальчика, «ветхого» человека — в «нового». Это преображение опознается его матерью. В присутствии преосвященного
Петра она прежде робела, говорила редко и не то, что хотела,
искала предлога, чтобы встать, и вообще чувствовала себя больше
дьяконицей, чем матерью', а теперь возле умирающего уже не помнила, что он архиерей и целовала его, как ребенка, называя вновь
Павлушей и сыночком. Своего рода ключом к чуду реверсивного
преображения служит исходное для рассказа перемещение персонажа из сумерек Старо-Петровского монастыря, где огни потускнели, фитили нагорели, все было как в тумане, в залитый светом Панкратиевский монастырь: т.е. от полюса «ветхости» Петра
к полюсу божественного «всевластия» (этимология имени Панкратий).
Исходя из текстуальной данности рассказа, реверсивная инициация героя должна быть признана истинным воскрешением его
личности. Ритуально обретенное социально-ролевое имя Петр,
означающее, как известно, «камень», совершенно чуждо простому человеку Павлу. Об этом свидетельствует не только лейтмотив
каменных плит монастыря, давящих героя низких потолков и каменных монастырских стен (Вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена и т.п.), за освобождение из которых он жизнь бы
отдал, но и альтернативный мотив влекущего архиерея залитого
солнцем неба, которое над проснувшимися к жизни деревьями уходит бог знает куда. Да и в вопросах веры он далек от ортодоксаль316
ной каменности: ...он веровал, но все же не все было ясно <...> казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось.
Любопытно, что именно такова и должна быть, по Павлу Флоренскому, жизненная установка человека, подлинное имя которого — Павел, т.е. имя, знаменующее неутолимое духовное «хотение», «влечение». «В этой пучине хотения вера есть то», чему
«у большинства других конституций личности» соответствует
разум. Но Павлу «не свойственны убеждения, в смысле определенных, уже усвоенных и держащихся в памяти готовыми положений и правил»; он «живет не по убеждениям» (что соответствовало бы жизненной позиции Петра), «а непосредственно
волею жизни» 1 .
Как кажется чеховскому герою, все окружающее его живет своей
особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Напомним, что
на протяжении текста им постоянно овладевает то или иное настроение, рождаемое сиюминутной жизненной ситуацией. За границей его охватывала тоска по родине, и кажется, все бы отдал,
только бы домой', тогда как в России захотелось вдруг за границу,
нестерпимо захотелось! Кажется, жизнь бы отдал. Но Павел, по
Флоренскому, «каков бы он ни был лично, есть начало обратное
смерти»2, что весьма значимо для анализируемого текста. По способу своего существования, экзистенциально «Павел есть юродивый»3. Вспомним, что чеховский Павлуша, который в детстве был
неразвит и учился плохо, будучи странным мальчиком, как юродивый, ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно. В роли преосвященного Петра его, напротив, неприятно волновало, что на хорах изредка вскрикивал юродивый. Но в своем предсмертном видении, опять становясь Павлом, он идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, словно какой-нибудь юродивый странник.
В структуре рассказанного события смерти-преображения герой явно наделен не актантной, а пассиентной, страдательной
функцией претерпевания. Это и ставит под сомнение (провоцируемое самим повествователем) референтную событийность «Архиерея». Однако достигаемая конфигурацией эпизодов символическая глубина текста порождает смысловой эффект сакральной
сверхсобытийности (чудотворности), возлагающей актантную
функцию на высшие силы бытия, которые аллюзивно манифестированы здесь матерью и племянницей героя.
Именно видение матери, или старухи, похожей на мать, которая, точно во сне <...> глядела на него весело, с доброй, радостной
' Ф л о р е н с к и й П. Имена. - Харьков; М., 2000. - С. 170, 171.
Т а м ж е . — С. 175.
Там же.
2
3
317
улыбкой стало причиной тихого плана архиерея, охватившего всю
церковь и преобразившего ритуал всенощной в подлинное событие. Но сама виновница этого благодатного плача усматривает иной
его источник: И вчерась во всенощной нельзя было удержаться, все
плакали. Я тоже вдруг, на вас глядя, заплакала, а отчего, и сама не
знаю. Его святая воля! Следует отметить, что не только имя Мария, но и отчество Тимофеевна сигнализируют о сакральных аллюзиях ее материнства (Тимофей из Евангелия — ближайший ученик и сподвижник св. апостола Павла, имя которого получил при
крещении сын Марии Тимофеевны).
Приезд матери с племянницей не мог стать причиной болезни
архиерея, но зато явился источником всех его настроений в последние дни жизни (а подлинная жизнь Павла и протекает именно в форме настроений), причиной его мысленного возвращения
в детство. Это существенно меняет смысловую перспективу события смерти, актуализируя момент преображения — освобождения
детской души (целый день душа дрожит) от обремененного должностными обязанностями и физически страдающего тела. Увиденный матерью предсмертный лик героя образует дважды упоминаемое в тексте парадоксальное сочетание старческого сморщенного
лица и детских больших глаз.
Племянница Катя в состав этого сверхсобытия входит ангелоподобной: рыжие волосы, в которых весело светилось весеннее
солнышко, у нее, по обыкновению, поднимались из-за гребенки,
как сияние (упоминается дважды). Это посланник иного мира, но
не страны мертвых, а страны детства (думая о матери, архиерей
вспоминает, как когда-то, много-много лет назад, она возила и
его, и братьев, и сестер). Если за все время пребывания в новой
должности ни один человек не поговорил с ним искренне, попросту,
по-человечески, то девочка, не мигая, глядела на своего дядю, преосвященного, как бы желая разгадать, что это за человек. И как
оказывается, с бывшим мальчиком Павлушей их сближает общая естественность взгляда на мир, общая неловкость поведения в этикетных ситуациях, общая смеховая реакция (оба смеются над зеленоватой бородой Сисоя, столь чуждого миру детства, что похоже было, как будто он прямо родился монахом). Не
случайно того, кого окружающие называют «владыкой», волнует все та же надежда на будущее, какая была в детстве. А в ходе
литургии он, слушая про жениха, грядущего в полунощи, и про
чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах (невинному
ребенку не в чем каяться) — архиерей уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и в юность, когда также пели про жениха
и про чертог.
Смерть как возвращение героя к детскому, младенческому способу присутствия в мире (Милое, дорогое, незабвенное детство!<...>
как нежна и чутка была мать!) делает фигуру матери ключевой
318
как в «рассказанном событии» текста, так и в коммуникативном
«событии рассказывания».
Невольно явившись актантной инстанцией первого эпизода,
мать сохраняет этот статус и в заключительном эпизоде, где о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. Это сообщение составляет явную антитезу начальным словам любимого им первого евангелия: «Ныне прославися сын человеческий». Однако антитеза здесь
амбивалентна: ее суть не только в забвении вместо славы; забвение постигает преосвященного, тогда как славу обретает сын человеческий.
Все эти наблюдения, как представляется, позволяют трактовать референтное содержание данного нарративного акта в качестве чуда (сверхсобытия) телесной смерти как духовного возрождения. В рамках этой лиминальной интриги первое фабульное событие (приезд матери) обретает символическую сюжетную необходимость по отношению ко второму событию: даже
чудотворное рождение нуждается в присутствии родительницы.
А заключительные эпизоды в этом преломлении предстают не
нулевыми в событийном отношении, но латентной формой фазы
преображения.
Картина мира. Художественное пространство «Архиерея» организовано вертикальной оппозицией низа и верха: каменных плит
и бездонного неба. Одна из многочисленных манифестаций этого
противостояния: внизу — темные улицы, одна за другой, безлюдные; вверху — высокая колокольня, вся залитая светом (но отгороженная от героя в этом ракурсе зубчатой стеной). Еще одна из
модификаций общего инварианта: белые березы и черные тени (тянущееся вверх бело, а лежащее внизу черно) и т.д. На одном полюсе — тьма, монастырский быт жалких, дешевых ставен (преграда свету), низких потолков и тяжкого запаха, запуганные просители, которые «бухали» ему в ноги (низ); на другом — свет (солнце или луна), пение птиц в небе, веселый, красивый звон дорогих
колоколов, пасхальный радостный звон, который стоял над городом (верх).
Горизонтальные отношения между русской жизнью и заграницей здесь ценностно несущественны, поскольку из обоих этих
пространств герой в равной степени стремится в другое, противоположное. Ибо истинное его устремление, остро переживаемое,
но ясно не осознаваемое им самим, — вверх. Ведь ему так близко
все — и деревья, и небо, и даже луна («все» здесь ограничено только реалиями верха).
Такая организация художественного пространства делает очевидным, что смысл рассказанного события смерти не в погребении (в тексте отсутствует даже малейший намек на него), а в
вознесении — с посмертным воскресным, пасхальным звоном.
Текстуально герой вовсе и не умер, он приказал долго жить. Даже
319
белые кресты на могилах (эпизод 1.2) поставлены в ряд не с черными монашескими фигурами, а с белыми березами, т. е. весенними
проснувшимися деревьями (начало заключительной главы).
Художественное время «Архиерея» упорядочено возвратным
отношением настоящего к прошлому, т.е. отношением памяти: от
воспоминаний преосвященного о детстве и загранице до забвения о нем самом всеми, кроме матери. Даже поступательное движение сюжета от эпизода к эпизоду в известном смысле является
рекуррентным движением вспять — к первособытию христианской культуры: распятию и воскресению Христа.
Временная оппозиция, как и пространственная, тоже символически углублена антиномией тьмы и света. Например: как только стало темно кругом, представились ему <...> ясные, летние утра
его детства, которое кажется светлее, праздничнее и богаче, чем
было на самом деле (когда было не прошлым, а настоящим). И во
второй раз, когда прошлое представлялось ему в столь же светлых
тонах и когда он размышлял о жизни на том свете, архиерей
сидел в алтаре, было тут темно.
Будущее время в этой системе координат практически лишено самостоятельной значимости. Волнующая надежда на будущее
оказывается атрибутом детства, т.е. прошлого, и с точки зрения
настоящего (несостоявшегося будущего) несостоятельна. Предположение же о том, что, быть может, на том свете, в той
жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней
жизни с таким же чувством (ностальгии), окончательно отменяет инстанцию будущего: впереди лишь новое настоящее, по
отношению к которому нынешнее настоящее оказывается прошлым.
Наконец, в пасхальный день будущее смыкается с прошлым в
кольцо вероятной вечности: было весело, все благополучно, точно
так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности,
и в будущем. Эта мифологическая бессобытийность циклического
времени, составляющая фон сюжетного события смерти-воскресения, хотя и артикулирована повествователем, но мотивирована
сознанием Петра, вновь становящегося Павлушей: в церкви ему
казалось, что это все те же люди, что были тогда, в детстве и в
юности, что они все те же будут каждый год, а до каких пор —
одному Богу известно.
Глубинными хронотопическими и ценностными полюсами
жизни в «Архиерее» обнаруживает себя, с одной стороны, дольняя временность мерно длящегося быта (рассказ буквально пронизан временными метками лет, дней, часов), с другой — горняя
вечность бытия. В универсуме с такой системой координат событие смерти оказывается всего лишь уходом из временного мира и
приобщением к вечности. Не случайно в этом отношении возникающее у героя в конце жизни пространственное ощущение вре320
мени: все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже <...>
не будет продолжаться.
Помимо пространственно-временной стабильности фоновой
картины мира анарративный фон событийной цепи формируется
циклическими процессами и ритуальными действиями. В данном
случае следует иметь в виду весенний и пасхально-литургический
колорит повествования, не позволяющий мотивике смерти возобладать над альтернативным ей комплексом мотивов воскресения.
Заключительные три эпизода, как уже говорилось выше, функционально оказываются в конструктивной позиции фазы преображения. На том фоне, какой обнаруживается в «Архиерее» в качестве ценностного кругозора породившего этот текст нарративного акта, преображение героя мыслимо именно как вознесение
из дольнего мира в горний. И ничто в текстовой данности финальных эпизодов не противится такому пониманию, хотя оно и
не эксплицировано рассуждениями нарратора. Подобная экспликация, по-видимому, разрушила бы грань между художественным
и религиозным дискурсами, что никогда не бывает плодотворным ни для первого, ни для второго.
Точка зрения. На протяжении двадцати эпизодов в тексте «Архиерея» осуществляется, согласно классификации Шмида, фокализация третьего типа: «Недиегетический нарратор занимает
точку зрения одного из персонажей» (рефлектирующего)1. Ментальному взору читателя предстает только то, что видит, слышит,
чувствует и знает преосвященный Петр. Неочевидный, но существенный сдвиг в организации кадров внутреннего зрения наступает в следующей фразе из эпизода 21 (4.9):
От кровотечений преосвященный в какой-нибудь час очень похудел,
побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто
он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее
и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то оченьочень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться.
Нам впервые дано увидеть внешний облик героя, чего он сам
без помощи зеркала сделать не смог бы. Но мотивировка портретной зарисовки взглядом в зеркало (как это было, скажем, с Гуровым в «Даме с собачкой») здесь отсутствует. Тем не менее фраза
построена таким образом, будто бы умирающий видит со стороны свою худобу и умаление, поскольку обладает более глубоким
пониманием происходящего, чем его визуальный антипод — крупнотелый доктор, полный старик, с длинной седой бородой.
В следующем эпизоде точка зрения впервые двоится: читатель
имеет возможность увидеть лиминальную ситуацию ухода героя
1
Ш м и д В. Нарратология. — С. 130.
321
из дольней жизни как глазами окружающих его людей, так и его
собственными. Ключевой повествовательный кадр со сменой ракурса выстроен аналогично процитированному выше, но сменяющая внешнюю внутренняя точка зрения здесь не только шире и
содержательнее, она — альтернативна внешней:
А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по
полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо,
залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда
угодно!
Было бы существенной ошибкой отождествить восприятие умирания героя окружающими (ничего не понимал) с точкой зрения
нарратора, которому ведома не только внешняя сторона лиминального события, но и внутренняя. До сих пор ракурсы нарратора и персонажа были совмещены, и у нас нет достаточных оснований видеть в этой фразе их наступившее вдруг размежевание,
тем более что мы были извещены повествователем о неадекватности отношения окружающих к архиерею, например: о страхе, какой
он, сам того не желая, возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав.
Последующие кадры ментального зрения выстраиваются, как
кажется, без опоры на видение уже, в сущности, незрячего персонажа. Впрочем, вчитаемся: День был длинный, неимоверно длинный, потом наступила и долго-долго проходила ночь... Эту томительность ожидания смерти трудно мотивировать отношением к
ней матери или кого-либо еще, кроме самого умирающего. Далее
и такого рода мотивировки исчезают, однако фокализация картин жизни (пасхального благовеста или глухого уездного городишки) сохраняется совершенно неотличимой от всего предшествующего строя фокализации.
Можно сказать, что если первоначально зримое присутствие
героя в повествуемом мире оформляло для адресата точку зрения
повествователя, то в финале рассказа, напротив, сохранение этой
точки зрения оказывается для читателя формой незримого присутствия преобразившегося героя. Это еще раз подтверждает нашу
мысль о том, что центральное событие здесь — событие не смерти
Петра, а воскресения Павла.
Голос. Дословная передача речей персонажа является цитатными вкраплениями чужого дискурса в собственно нарративный.
Такие вкрапления отнюдь не разрушают повествовательного текста, напротив, они актуализируют голос самого нарратора, в силу
которого он вольно или невольно выступает относительно референтного события не только в качестве «свидетеля», но и «судии».
В тексте «Архиерея» стилистическая маркированность голосов
весьма лаконична и затрагивает только речи окружающих главно322
го героя персонажей: Сисоя (не ндравится; нечего там... него уж!
и т.п.); Еракина (всенепременнейше!владыко преосвященнейший!чтоб!
и т.п.); матери (благодарим вас; чаю напимшись; голубчик и т.п.);
Кати (папаша были слабые', будьте такие добрые, дядечка и т.п.).
Ни стилистических, ни аксиологических расхождений между
голосами повествователя и самого архиерея обнаружить не удается,
хотя они и не сливаются в один голос. В качестве одного из многочисленных примеров рассмотрим следующий характерный абзац:
Когда служба кончилась, было без четверти двенадцать. Приехав к
себе, преосвященный тотчас же разделся и лег, даже Богу не молился.
Он не мог говорить и, как казалось ему, не мог бы уже стоять. Когда он
укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось!
Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких, дешевых
ставен, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского
запаха. Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить,
отвести душу!
Абзац, несомненно, начинается речью повествователя. И столь
же очевидным образом завершается медитацией героя, доносимой до нас в двуголосой форме несобственно-прямой речи. Но
переход от первой формы ко второй практически неощутим. Он
приходится на четвертую фразу, где инспективный ракурс повествования (Когда он укрывался одеялом) сменяется интроспективным ракурсом (захотелось вдруг за границу), а далее — несобственно-прямой речью самого персонажа (нестерпимо захотелось!). Это
восклицание продолжается двумя последующими фразами как не
выделенная графически реплика согласия героя со словами о нем
нарратора.
Такой строй двуголосого повествования доминирует на протяжении всего рассказа. А в тех немногочисленных случаях, когда
рассказчик «цитирует» прямую речь центрального героя, она не
подвергается глоссализационному размежеванию с его собственным голосом. Иначе говоря, коммуникативная «передача событий» осуществляется данным текстом преимущественно в форме
несобственно-прямой речи, имитируя непосредственное восприятие происходящего, в том числе и после смерти преосвященного
Петра, когда, как мы уже отмечали, точка зрения внешне отсутствующего героя продолжает определять видение мира в повествовании. В не меньшей степени здесь сохраняется и его голос.
Сравним три следующих отрывка анализируемого текста:
а) казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно
мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей;
б) казалось, что это все те же люди, что были тогда, в детстве и
в юности, что они все те же будут каждый год, а до каких пор — одному
Богу известно;
323
в) одним словом, было весело, все благополучно, точно так же,
как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем.
Первые два фрагмента — характерные образцы несобственно-прямой речи главного героя. Но и третий, оценивающий ситуацию пасхального празднества после смерти архиерея, ни
тематически (неразрывность прошлого и будущего), ни психологически (сомнение и неуверенность), ни интонационно-стилистически не отличается от предыдущих. При соотнесении с гипотетической авторской позицией эту хвалу Пасхе, игнорирующую смерть героя, нередко трактуют как горькую иронию.
Между тем никаких формальных оснований для такого переосмысления тональности повествующего голоса в тексте не существует. Просто несобственно-прямая речь центрального персонажа продолжает звучать и после его устранения из повествуемого мира.
Этим наблюдением лишний раз подтверждается, что фразеологизм приказал долго жить в данном случае окказионально преображается: формально сообщая о смерти, он указывает не на
событие смерти. Статус события данным нарративным актом «свидетеля и судии» приписывается преображению, а не исчезновению героя.
Внутреннее содержание человеческой жизни в душах личностных героев позднего Чехова, как правило, неугасимо. Пробужденное приездом матери, оно разгорается все ярче, как пламя. Внешне одинокое «я» оказывается изнутри себя «соборным» средоточием других жизней, слитых в светлой праздничности прожитого, которое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И дело здесь не в заблуждении,
а в той неповторимой духовной связи, какой личность чеховского
героя одаривает всех живущих в ее памяти, а также и тех неведомых ему, которые жили в памяти отцов и дедов: за личностью
преосвященного обнаруживается весь род его <...> со времен принятия на Руси христианства.
Эта укорененность и делает героя в духовном отношении бессмертным, наделяя его умирание лиминальным содержанием инициации.
Коммуникативная стратегия. Риторика двуголосого слова несобственно-прямой речи доминирует на всем протяжении «Архиерея».
Даже заключительный абзац о старухе, матери покойного в аспекте своей иллокутивной адресованное™ читательскому восприятию решительно ничем не отличается от изложения детских воспоминаний героя о матери. Это дает нам ключ к жанровой идентификации коммуникативной стратегии чеховского нарратива. При
этом мы будем исходить из того, что архетипическими пражанра324
ми нарративного дискурса выступают сказание, притча, анекдот
и жизнеописание1.
На первый взгляд чеховский рассказ мог бы быть прочитан как
сказание — дискурс, реализующий базовую коммуникативную
стратегию хорового единогласия, в частности как религиозная
легенда (о неузнанном святом). Однако преосвященный — далеко
не героический актант, осуществляющий неизбежную судьбу в
рамках прецедентной картины мира. Ему даже веры не достает: он
веровал, но все же не все было ясно.
Чисто ролевая фигура убежденного обличителя Сисоя, пережившего двенадцать архиереев, практически лишенного внутренней жизни и производящего впечатление, как будто он прямо
родился монахом, можно сказать, просится в легендарное сказание. Однако Сисой здесь очевидно выполняет лишь функцию фонового персонажа, олицетворяющего то недолжное существование, которое угнетает и давит Павла-Петра. Не случайно, например, именно Сисой приходит к умирающему со словами Господи Иисусе Христе и с уксусом, что в плане символического
параллелизма ситуаций прозрачно знаменует крестное мучительство.
Наличие этого символического параллелизма подсказывает
возможность прочтения данного текста как притчевого высказывания (в стратегии монологического согласия) — вплоть до еретически пессимистической притчи о неискупленности человеческих страданий страданиями Христа, поскольку каждому приходится заново выстрадать свое обретение покоя.
Потенциально притчевой выглядит в рассказе фигура Марии
Тимофеевны, двоящаяся на робкую дьяконицу и носительницу
бессмертного материнского начала жизни. Однако в рассказе отсутствует ситуация выбора, вообще отсутствует императивность
как характеристика явленной картины мира. Несмотря на свою
почти сакральную тематику, текст, как это вообще свойственно
Чехову, чужд риторике учительного, монологизированного слова, которое здесь представлено лишь изредка цитатно, а то и пародийно.
Зато в «Архиерее» много случайного и нелепого, вызывающего
смех если не у читателя, то у главного персонажа. Немало анекдотического в его детских воспоминаниях. Вполне анекдотичны фигуры купца Еракина; двух богатых дам, помещиц, которые сидели
часа полтора молча, с вытянутыми физиономиями; просительницы, которая не могла выговорить ни одного слова от страха, так и
ушла ни с чем; да и самого отца Сисоя с его зеленой бородой,
выпученными рачьими глазами и рассуждением о японцах, кото' С м ^ Т а м а р ч е н к о Н . Д . , Т ю п а В.И., Б р о й т м а н С.Н. Указ. соч. — Т. 1.—
С. 8 3 - 9 1 .
325
рые будто бы все равно что черногорцы, одного племени. Анекдотичен ответ матери о благополучии брата Никанора, где слово «ничего» явственно приобретает некий окказиональный смысл: Ничего, слава богу. Хоть и ничего, а, благодарить Бога, жить можно.
Но основной позитивно анекдотической фигурой выглядит
девочка Катя с ее непокорно торчащими рыжими волосами, вздернутым носом и хитрыми глазами, разливающая воду, разбивающая посуду, произносящая всякие неожиданные слова (в частности, о том, что Николаша мертвецов режет), с детской непосредственностью повторяемые архиереем. Этот персонаж, наделенный
мотивикой арлекинады (в зародышевой форме), способен составить с Сисоем своего рода карнавальную пару.
В таком ключе рассказ, кажется, мог бы быть прочитан как
своего рода «слезный анекдот» (какова, например, «Тоска» раннего Чехова) о священнике, который откладывал все дела и разговоры до Святого воскресенья, а до воскресенья-то и не дожил.
Такое прочтение обратило бы рассказ в новеллу (литературный
дискурс анекдотического происхождения, питаемый коммуникативной стратегией разногласия1). Однако рассмотренная выше
конфигурация эпизодов не оставляет места для такой конструктивной характеристики новеллистического жанра, как кумулятивная организация сюжета с пуантом в конце. Не органична для
новеллы или анекдота и риторика двуголосого слова: диалогизированное анекдотическое слово предпочитает формы прямой
речи, которая здесь скупо характеризует лишь периферийных персонажей.
В случае с «Архиереем», что вообще характерно для зрелой чеховской прозы, мы имеем дело с рассказом в тесном, терминологическом значении этого слова, а именно: с малой романной
формой нарратива, генетически восходящей к жизнеописанию.
Смыл данного произведения не в судьбе героя, и не в его жизненном выборе, и не в казусности его наличия во внешнем бытии, но в его личностное™. Или иначе: интеллигибельность событийного ряда коренится здесь не в деяниях актантного персонажа, и не в занятой им жизненной позиции, и не в характере
героя, очерчивающем личность, но в самой его личности. Это
интеллигибельность самоактуализации «я» как самоценного компонента вероятностной картины мира.
Такая смыслосообразность текста принадлежит к риторической
модальности понимания. Она акцентирована, в частности, вниманием к обезличенности окружающей жизни. В толпе молящихся
1
Ср. запись М.М.Бахтина: «Новелла и нарушение "табу", дозволенное посрамление, словесное кощунство и непристойность. "Необыкновенное" в новелле есть нарушение запрета, есть профанация священного» (Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 7 т. — Т. 5. — С. 41).
326
все лица — и старые, и молодые, и мужские, и женские — походили
одно на другое, у всех, кто подходил за вербой, одинаковое выражение глаз. Вместо личностных отношений между человеческими
индивидуальностями — бумаги, входящие и исходящие. <...> Благочинные во всей епархии ставили священникам, молодым и старым,
даже их женам и детям, отметки по поведению, пятерки и четверки, а иногда и тройки...
Аллюзивная дискурсивность чеховского нарратива была выявлена и продемонстрирована предшествующим анализом. Коммуникативная стратегия такой дискурсивное™ предполагает соответствующую читательскую позицию инспиративного вникания в
текст и солидарного отношения к чужому (повествуемому) личному опыту бытия. Например: ...слепая нищая каждый день у него
под окном пела о любви и играла на гитаре, и он, слушая ее, почемуто всякий раз думал о прошлом. Но ведомый автором внимательный читатель понимает, почему в этой ситуации думалось о прошлом: ведь там были скрип колес, блеянье овец, церковный звон в
ясные, летние утра, цыгане под окном (надо полагать, певшие и
игравшие на гитарах). Этот частный пример органичен для общей
атмосферы рассказа, реализующего коммуникативную стратегию
диалогического согласия.
Согласно весьма точной характеристике И. Н. Сухих, Чехов отталкивается от «наиболее влиятельной в русской литературе позиции писателя как учителя жизни, мудреца, пророка, знающего
истину и ведущего за собой (стратегия монологического согласия. — В. Т.). Его позиция — это позиция со-искателя», коммуникативным следствием которой оказывается солидаритарная «включенность читателя в мир произведения, особая личностно-актуальная форма восприятия»1.
Обратимся к концовке рассказа, о герое которого совсем забыли.
И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы
встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами,
то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын
архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят...
И ей в самом деле не все верили.
Обратим внимание на некоторые коммуникативно значимые
странности нарративной дискурсии в этом завершающем фрагменте текста.
О Марии Тимофеевне говорится вдруг отчужденно, как о некой будто бы неведомой нам старухе. Материнство этой старухи
специально оговаривается, словно мы знакомимся с нею впер1
С у х и х И. «С высшей точки зрения» // Вопросы литературы. — 1985. - № 1 , С. 167-169.
327
вые, будто и читатель вместе со всеми уже забыл об ее сыне. Тем
самым личная память читателя оказывается противопоставленной
забвению и активизированной, противящейся ему.
Другая странность состоит в явной рассогласованности глагольных времен: старуха, которая живет теперь, как сказано далее,
выходила, сходилась, начинала рассказывать, говорила — и ей не
все верили. Несогласованность между настоящим временем придаточного предложения и прошедшим главного оставляет место для
невольного вопроса: а как же обстоит дело теперь? Но стоит читателю задать себе подобный вопрос, как «теперь» начинает означать время коммуникативного события, переживаемого здесь и
сейчас, — и ответ на него приходится искать в себе самом: верю
ли я лично в небесследность и небессмысленность прожитой кемто жизни? К тому же в аспекте аллюзивной дискурсии живет
теперь — единственный в тексте случай употребления настоящего
времени в речи повествователя — может быть прочитано как символ бессмертия Матери, материнского начала жизни, по-матерински «соборной» человеческой мысли о детях, о внуках.
Поскольку читатель внутренне отмежеван от тех, которые не
верили, духовное воскрешение героя становится символическим
содержанием самого коммуникативного «события рассказывания».
Перед нами одно из тончайших проявлений чеховской тенденции
«включать мысли и воображение читателя в самую суть проблемной ситуации настолько, чтобы заставить ее решать»1, — особенность, отличающая прозу Чехова от классического реализма Толстого или Достоевского и свидетельствующая о ее принадлежности к неклассической нарративике XX столетия.
1
М е й л а х Б.М. Талант писателя и процессы творчества. — Л., 1969. — С. 441.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лев Толстой писал П. Д. Голохвастову в 1873 г. о «Повестях Белкина», что их непременно «надо изучать и изучать», хотя, как ему
казалось, «анализировать этого нельзя»*. В XX в. литературоведение столь существенно продвинулось в понимании природы художественного письма и устройства литературного текста, что мы
уже можем с уверенностью возразить: анализировать шедевры
литературы можно и нужно.
Разумеется, научность в сфере художественности не должна
становиться завоевательницей и поработительницей, но и капитулировать перед трудностью постижения сверхсложного объекта
ей не годится. Аналитическая идентификация смысла не должна
посягать на замещение исследуемого текста исследовательским.
Аналитика художественной реальности есть лишь обнаружение
границ адекватного восприятия данной художественной целостности.
Этой цели могут служить разнообразные методики. В настоящем пособии продемонстрированы в действии только некоторые
из возможных. Все они допустимы и оправданы в меру своей эффективности при условии соблюдения трех незыблемых принципов: полноты, неизбыточности и функциональности (семантической смысл осообразности).
Анализ текста как совокупности факторов художественного
впечатления не есть ни сотворчество, ни сопереживание (стороны эстетического восприятия), ни критика, ни апология произведения. Но он и не сводится к описательной констатации устройства объективной данности знакового материала. Это непредвзято корректирующий собственную читательскую версию произведения диалог согласия с его автором. Но не подчинение, не
обслуживание, не поддакивание тому, что якобы «хотел сказать»
писатель. У науки есть свои пути и возможности проникновения в
глубину смысла, откровением которого явился ддя писателя его
собственный творческий акт.
•Толстой Л. Н. Указ. с о ч . - С . 144.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Анализ художественного текста (лирическое произведение) : хрестоматия / сост. Д. М. Магомедова, С. И. Бройтман. — М., 2005.
Анализ художественного текста : эпическая проза: хрестоматия / сост.
Н.Д.Тамарченко. - М., 2005.
Б а х т и н М.М. К методологии гуманитарных наук. Проблема речевых
жанров. Проблема текста // Эстетика словесного творчества / М, М. Бахтин. - М., 1979.
Введение в литературоведение. — М., 2004.
Г а с п а р о в М.Л. Метр и смысл / М.Л.Гаспаров. — М., 1999.
Г и р ш м а н М.М. Литературное произведение : теория художественной целостности / М.М.Гиршман. — М., 2002.
Е с а у л о в И.А. Спектр адекватности в истолковании литературного
произведения («Миргород» Н. В. Гоголя) / И.А. Есаулов. — М., 1995.
К о р м а н Б.О. Изучение текста художественного произведения /
Б.О.Корман.-М., 1972.
Литературоведение XXI века. Анализ текста: метод и результат. — СПб.,
1996.
Л о т м а н Ю.М. Анализ поэтического текста / Ю.М.Лотман. — Л.,
1972.
М а г о м е д о в а Д. М. Филологический анализ лирического стихотворения / Д. М. Магомедова. — М., 2004.
С и л а н т ь е в И.В. Поэтика мотива / И.В.Силантьев. — М., 2004.
С к а ф т ы м о в А.П. Тематическая композиция романа «Идиот» //
Нравственные искания русских писателей / А. П. Скафтымов. — М., 1972.
С м и р н о в И. Смысл как таковой / И.Смирнов. — СПб., 2001.
Т а м а р ч е н к о Н.Д. Теория литературы : в 2 т. / Н.Д.Тамарченко,
В.И.Тюпа, С. Н. Бройтман. — М., 2004.
Ф о м е н к о И.В. Введение в практическую поэтику / И.В.Фоменко. —
Тверь, 2003.
Х а л и з е в В.Е. Теория литературы / В.Е.Хализев. — М., 2002.
Ш м ид В. Нарратология / В.Шмид. — М., 2003.
Э п ш т е й н М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной...» : система пейзажных образов в русской поэзии / М.Н.Эпштейн. — М., 1990.
Этки нд Е. Г. «Внутренний человек» и внешняя речь: очерки психопоэтики русской литературы XVIII—XIX веков / Е. Г. Эткинд. — М., 1999.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
3
Г л а в а 1. Научность перед лицом художественности
7
Г л а в а 2. Семиоэстетическая природа художественности
20
Г л а в а 3. Технология семноэстегического анализа («Фаталист»
М.Ю.Лермонтова)
34
Фабула
Сюжетосложение
Композиция
Фокализация
Глоссализация
Мифотектоника
Ритмотектоника
Структура текста и архитектоника эстетического объекта
36
41
48
57
65
71
80
94
Г л а в а 4. Анализ поэтического текста («Соловьиный сад» А. А, Блока) .... 102
Композиция
Сюжет
Ритмотектоника
Глоссализация
Фокализация
Мифотектоника
Г л а в а 5. Анализ фрагмента
«Мертвые души» Н. В. Гоголя (глава третья)
«Обломов» И. А. Гончарова (глава первая)
«Анна Каренина» Л.Н.Толстого (ч. 1, гл. XXIX-XXX)
Реконструктивный анализ незавершенного наброска
(«В 179* году возвращался я...» А. С. Пушкина)
Г л а в а 6. Анализ цикла
103
104
105
120
124
125
129
130
137
144
150
157
«Заблудился я в небе — что делать?..» О.Э.Мандельштама
«Опыт драматических изучений» А. С. Пушкина
«Маленькая трилогия» А.П.Чехова
161
169
191
Г л а в а 7. Анализ сложносоставного целого («Повести покойного
Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.»)
204
331
Г л а в а 8. Интертекстовый анализ
Сибирский интертекст русской литературы
Фрагменты Петербургского интертекста
Г л а в а 9 . Дискурсный анализ
Сопоставительный анализ двух Silentium'oB
«Скучная история» А. П. Чехова
Г л а в а 10. Нарратологическийанализ
252
254
264
273
277
289
300
«Архиерей» А.П.Чехова
309
Заключение
Рекомендуемая литература
329
330
Учебное издание
Тюпа Валерий Игоревич
Анализ художественного текста
Учебное пособие
Редактор Л. Е. Азарина
Ответственный редактор Н. П. Галкина
Технический редактор Е. Ф. Коржуева
Компьютерная верстка: А. В. Бобылева
Корректоры О. Н. Тетерина, Е. В. Кудряшова
Изд. № 103109629. Подписано в печать 10.09.2008. Формат 60x90/16.
Гарнитура «Тайме». Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0.
Тираж 1500 экз. Заказ № 27217.
Издательский центр «Академия», www.academia-moscow.ru
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.004796.07.04 от 20.07.2004.
117342, Москва, ул. Бутлерова, 17-Б, к. 360. Тел./факс: (495)334-8337, 330-1092.
Отпечатано в соответствии с качеством предоставленных издательством
электронных носителей в ОАО «Саратовский полиграфкомбинат».
410004. г. Саратов, ул. Чернышевского, 59. www.sarpk.ru
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ACADEMA
«АКАДЕМИЯ»
ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:
Д.М.МАГОМЕДОВА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО
СТИХОТВОРЕНИЯ
Объем 192 с.
В учебном пособии сочетаются лингвистические и литературоведческие методы изучения и интерпретации лирического стихотворения. Книга состоит из двух частей. Первая часть пособия
последовательно рассматривает структурные уровни стихотворного текста. Вторая часть включает монографические и сопоста^ ^ j
вительные анализы отдельных лирических стихотворений. К каж^J^
дой главе прилагается список избранной научной литературы.
Для студентов филологических факультетов университетов и
. ^ _ I педагогических институтов. Может быть полезно аспирантам, пре• ^ ^ ' подавателям высшей школы, средних школ и колледжей гуманитарного профиля.
СН.БРОЙТМАН
JQ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА: Хрестоматия-практикум
Объем 352 с.
Историческая поэтика — часть теории литературы, изучающая
возникновение и развитие как самой литературы, так и основных
теоретических категорий, отражающих ее движение. В хрестоматии собраны и систематизированы статьи авторитетных ученыхлитературоведов по всем темам исторической поэтики. К каждой
< т е м е предлагается система вопросов и заданий для лучшего понимания и усвоения материала.
•#
Для студентов филологических факультетов высших учебных
•Nb заведений, изучающих дисциплины «Введение в литературоведение» и «Теория литературы». Может быть рекомендована студентам и преподавателям вузов, аспирантам и научным работникам,
а также абитуриентам и учителям-словесникам.
•HI
•Ц|
Н.А.НИКОЛИНА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА
Объем 256 с.
Учебное пособие знакомит студентов с различными приемами
анализа текста и отдельных его категорий, формирует у них представления об основных понятиях современной лингвистической поэтики, а также вырабатывает навыки анализа различных типов текста. Теоретические понятия раскрываются на конкретном материале. Для анализа привлекаются художественные произведения русских писателей XIX—XX вв., которые изучаются в школах и вузах.
Для студентов филологических факультетов высших учебных
заведений. Может быть полезно преподавателям средних школ и
колледжей.
Н.Д.ТАМАРЧЕНКО
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА: Хрестоматия-практикум
Объем 400 с.
В хрестоматии собраны и систематизированы разнообразные
определения основных понятий теоретической поэтики, почерпнутые из авторитетных зарубежных и отечественных литературоведческих источников. К каждой теме предлагается система вопросов
и заданий для лучшего понимания и усвоения материала.
Для студентов филологических факультетов высших учебных
заведений.
В.Е.ХОЛШЕВНИКОВ
ОСНОВЫ СТИХОВЕДЕНИЯ: Русское стихосложение
Объем 208 с.
Автор учебного пособия — профессор Филологического факультета Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета Владислав Евгеньевич Холшевников (1910 — 2000).
В основу книги положен курс лекций по теории литературы (раздел
«Стиховедение»), читавшийся автором на протяжении 40 лет в СанктПетербургском университете. Стиховед с мировым именем, блестящий специалист по истории и теории литературы, В. Е. Холшевников
уточнял и дополнял каждое следующее издание (первое вышло в
свет в 1962 г., второе — в 1972 г., третье — в 1996 г.) в соответствии
с достижениями современного стиховедения и собственными научными исследованиями, что позволило этой книге стать классическим
учебником по основам стиховедения. Четвертое издание было исправлено и дополнено автором, настоящее же выходит без исправлений.
Для студентов филологических факультетов университетов, преподавателей русского языка и литературы, а также для всех интересующихся русским стихом.
ACADEM'A
Издательский центр
_
«Академия»
Учебная литература
для профессионального
образования
Наши книги можно приобрести (оптом и в розницу)
Москва
129085, Москва, пр-т Мира, д. 101 в, стр. 1
(м. Алексеевская)
Тел./факс: (495) 648-0507, 330-1092, 334-1563
E-mail: sale@academia-moscow.ru
Филиалы: Северо-Западный
198020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д. 211-213, литер «В»
Тел.: (812) 251 -9253, 252-5789, 575-3229
Факс: (812)251-9253,252-5789
E-mail: TSpbacad@peterstar.ru
Приволжский
603005, Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 24г и 24д
Тел.: (8312) 18-1678
E-mail: pf-academia@bk.ru
Уральский
620144, Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92а, корп. 4
Тел.: (343)257-1006
Факс: (343) 257-3473
E-mail: academia-ural@mail.ru
Сибирский
630108, Новосибирск, ул. Станционная, д. 30
Тел./факс: (383) 300-1005
E-mail: academia_sibir@mail.ru
Дальневосточный
680014, Хабаровск, Восточное шоссе, д. 2а
Тел./факс: (4212) 27-6022,
E-mail: filialdv-academia@yandex.ru
Южный
344037, Ростов-на-Дону, ул. 22-я линия, д. 5/7
Тел.: (863)253-8566
Факс:(863)251-6690
E-mail: academia-rostov@skytc.ru
Представительство в Республике Татарстан
420094, Казань, Ново-Савиновский район,
ул. Голубятникова, д. 18
Тел. / факс: (843) 520-7258, 556-7258
E-mail: academia_kazan@mail.ru
www. academia-moscow. ru