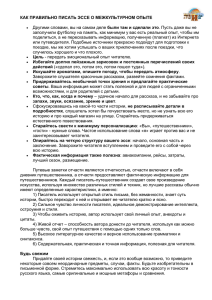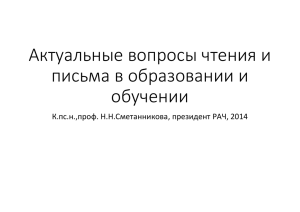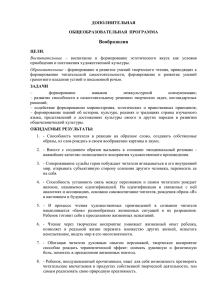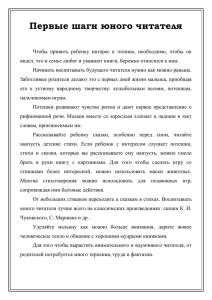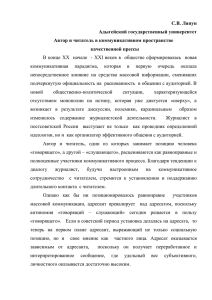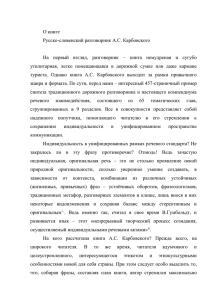Практическое занятие № 1 Мифологическая школа в зарубежном и отечественном литературоведении 1. Мифология как система миропонимания. Мифологическое мышление в грекоримской культуре. Мифология — форма общественного сознания, мировоззрение древнего общества, которое совмещает в себе как фантастическое, так и реалистическое восприятие окружающей действительности. Как правило, мифы пытаются дать ответ на следующие основные вопросы: • происхождение Вселенной, Земли и человека; • объяснение природных явлений; • жизнь, судьба, смерть человека; деятельность человека и его достижения; • вопросы чести, долга, этики и нравственности. Чертами мифа являются: • очеловечивание природы; • наличие фантастических богов, их общение, взаимодействие с человеком; • отсутствие абстрактных размышлений (рефлексии); • практическая направленность мифа на решение конкретных жизненных задач (хозяйство, защита от стихии и т. д.); • однообразие и поверхность мифологических сюжетов. Мифологическим мировоззрением – независимо от того, к далекому прошлому или сегодняшнему дню оно относится мы назовем такое мировоззрение, которое основано не на теоретических доводах и рассуждениях, либо на художественно-эмоциональном переживании мира, либо на общественных иллюзиях, рожденных неадекватным восприятием большими группами людей (классами, нациями) социальных процессов и своей роли в них. Одна из особенностей мифа, безошибочно отличающая его от науки, заключается в том, что миф объясняет «все», так как для него нет непознанного и неизвестного. Он является наиболее ранней, а для современного сознания – архаичной формой мировоззрения. Мы встречаем мифы во всех культурных регионах Древнего мира. Мифология систематизированная, универсальная форма общественного сознания и духовнопрактический способ освоения мира, первобытного общества. Это -исторически первая попытка дать связный ответ на мировоззренческие вопросы людей, удовлетворить их потребность в мироуяснении и самоопределении. Любой миф построен как повествование на ту или иную мировоззренческую тему - о мироустройстве, о происхождении человеческого рода, о стихиях, богах, титанах, героях. Широко известны античные мифы - детально разработанные повествования древних греков и римлян о богах, титанах, героях, фантастических животных. Античную мифологию наряду с библейской по праву считают наиболее значительной по степени ее влияния на дальнейшее развитие культуры многих народов, в особенности европейских. Благодаря распространенным в Европе латыни и - в меньшей степени - древнегреческому языку античные мифы, получили не только широкое распространение, но подверглись глубокому осмыслению и изучению. Невозможно переоценить и их эстетическое значение: не осталось ни одного вида искусств, который не имел бы в своем арсенале сюжетов, основанных на античной мифологии - есть они в скульптуре, в живописи, музыке, поэзии, прозе и т. д. Что касается словесности, то прекрасно сказал об этом в свое время А. С. Пушкин: «Не считаю за нужное говорить о поэзии греков и римлян: кажется, каждый образованный человек должен иметь достаточное понятие о созданиях величавой древности». Древние греки были деятельным, энергичным народом, не боявшимся познавать реальный мир, хотя он и был населен враждебными человеку существами, вселявшими в него страх. Но безграничная жажда познания этого мира пересиливала страх перед неизвестной опасностью. Приключения Одиссея, поход аргонавтов за золотым руном - это запечатленные в поэтической форме все те же стремления узнать как можно больше о той земле, на которой обитает человек. В своих поисках защиты от страшных стихийных сил греки подобно всем древним народам, прошли через фетишизм - веру в одухотворенность мертвой природы (камней, дерева, металла), который потом сохранился в поклонении прекрасным статуям, изображавшим их многочисленных богов. В их верованиях и мифах можно заметить и следы анимизма и самых грубых суеверий первобытной эпохи. Но греки довольно рано перешли к антропоморфизму, создав своих богов по образу и подобию людей, при этом наделив их непременными и непреходящими качествами - красотой, умением принимать любой образ и, самое главное, бессмертием. Древнегреческие боги были во всем подобны людям: добры, великодушны и милостивы, но в то же время зачастую жестоки, мстительны и коварны. Человеческая жизнь неизбежно кончалась смертью, боги же были бессмертны и не знали границ в выполнении своих желаний, но все равно выше богов была судьба - Мойры предопределение, изменить которое не мог никто из них. Таким образом, греки, даже в участи бессмертных богов усматривали их сходство с судьбами смертных людей Боги и герои греческого мифотворчества были живыми и полнокровными существами, непосредственно общавшимися с простыми смертными, вступавшими с ними в любовные союзы, помогавшие своим любимцам и избранникам. И древние греки видели в богах существа, у которых все, свойственное человеку, проявлялось в более грандиозном и возвышенном виде. Безусловно, это помогало грекам через богов лучше понять себя, осмыслить собственные намерения и поступки, достойным образом оценить свои силы Римская мифология во многом сформировалась на основе греческой мифологии, однако изначально религиозные верования древних римлян основывались на анимизме – обожествлении и наделении душой объектов природного мира. Римские боги не были близки к человеку, они скорее выступали как некие грозные и страшные силы, расположение и поддержку которых можно было заслужить с помощью поклонения и специальных ритуалов. Ни одно дело римлянин не начинал без молитвенного обращения к богам, однако оно подчас носило формальный характер, и было вызвано страхом навлечь на себя божественную немилость. Следует отметить, что мифы Древнего Рима не являются такими же поэтичными, как греческие: делая основной упор на сюжетно-событийную линию, римские мифы без особых художественных изысков отражают религиозные представления людей того времени. Римские боги не имели своего Олимпа, не были связаны узами родства и часто выступали в качестве символов. Например, камень символизировал бога Юпитера, огонь ассоциировался с богиней Вестой, Марс отождествлялся с копьем. Под негласным покровительством таким образов-символов, с которыми отождествлялись римские боги, и проходила вся жизнь римлянина от рождения до смерти. Греческая мифология и римская мифология несут мощный заряд философского, этического и эстетического осмысления жизни, ставя перед человечеством вопросы, которые до сих пор являются актуальными. Практическое занятие № 2 Культурно-историческая школа в зарубежном и отечественном литературоведении 7. Вклад Н.С. Тихонравова, А.Н. Пыпина в развитие идей культурно-исторической школы. Деятельность Пыпина тесно связана с общим подъемом национального самосознания и общественной мысли середины XIX века. Прослеживание этого процесса составляло главное содержание и основной пафос трудов ученого. Он исходит из мысли о глубокой связи литературы и жизни и из понимания произведения как памятника определенной эпохи и факта культурно-исторического развития, в котором неизбежно отражается время. С другой стороны, и время, по убеждениям Пыпина, выдвигает для своего выражения крупные литературные фигуры: «В истории литературы много примеров того, как известное настроение эпохи находит как бы прирожденных его выразителей» 43. Эти крупные исторические деятели, по словам Пыпина, не являются внезапно, без корней в прошлом, а бывают всегда «как бы последним выводом, сосредоточением его стремлений, после которого только и может быть исторически понят смысл работы этого прошедшего, а само оно, как совсем пережитое, отходит в историю». Ученый органически усвоил идею преемственного, исторического развития литературы. Всякое преобразование в общественной и умственной, литературной среде, как бы ни казалось оно поразительным и неожиданным по силе, по его мнению, подготавливается заранее и носит в себе элементы предыдущего развития. Как исследователя, Пыпина интересует прежде всего исторический смысл литературных явлений. С удовлетворением он отмечает, что литературная критика приходит, наконец, «к убеждению, что значение великих явлений литературы становится тем яснее, чем больше определяется их историческое возникновение в общественной среде и затем расширяется их, так сказать, историческая проверка опытом позднейших поколений»49. Историческое изучение литературы у Пыпина основывается идее детерминизма. Согласно его убеждению, «причинная связь явлений не знает границ». В литературе Пыпин видел прежде всего отражение общественной жизни и психологии народа, вследствие чего ставил задачей обстоятельное «определение общественных условий, действовавших на писателя и на весь склад литературы». Его книга «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов» специально преследовала цель «отметить собственно общественную сторону» литературного движения. За литературой он признавал большую общественно-воспитательную и познавательную силу, и с этих позиций выступал против идей «чистого искусства» и «эстетической» критики середины XIX века, в которой не ощущалось исторического начала. Эти идеи Пыпина и эта его борьба с особой наглядностью проявились в его критической статье о книге А. П. Милюкова «Очерки стории русской поэзии». Литературу Пыпин рассматривал как часть общественной истории, подчеркивал связь литературы и действительности, общественной жизни и жизни народа. По убеждениям Пыпина, «история литературы входит в целую историю общества, и по литературе мы имеем возможность судить возрастание общественного самосознания». Это «общественное самосознание» и было настоящим предметом исследований Пыпина. Первая же глава его «Истории русской литературы» начинается с рассмотрения тех «общих вопросов», которые «сами собой представляются» историческим исследованием русской литературы, и тем не менее до того времени изучались «отрывочно и по другим поводам»,— «литература редко привлекалась к их решению». Огромная, четырехтомная «История русской литературы» прежде всего излагала пыпинскую концепцию русской истории и истории русской культуры; она переполнена сведениями по истории русского просвещения, науки, книг, публицистики, истории религии и церкви. В сущности, это и есть скорее курс истории русской культуры с опорой на литературный материал. Когда речь заходит о собственно литературных вопросах, Пыпин прибегает к пространным, по нескольку страниц, выпискам из сочинений авторитетных, на его взгляд, исследователей: С. П. Шевырева, И. Н. Жданова, И. П. Хрутщева, А. Н. Веселовского, Н. С. Тихонравова и др. Но совсем мало в четырех томах «Истории русской литературы» литературных цитат, выписок с анализами и даже упоминаний конкретных произведений. Все посвящено истолкованию социального смысла творчества писателей и целых литературных эпох. В ряде основных методологических положений А. Н. Пыпин совпадает с западноевропейскими теоретиками культурно-исторической школы — И. Тэном, Г. Геттнером, Г. Паулем и др. Проницательность и точность, научность теоретических построений И. Тэна ценились им очень высоко. В то же время он указывал на сомнительный характер некоторых положений французского ученого, которым тот придавал принципиальный характер, в частности, о действии «первоначальных сил» — «расы, среды и момента». Их влияние Пыпин находил слишком широким и слишком неуловимым, чтобы основывать на них изучение литературы. Все труды Пыпина покоятся на солидной источниковедческой базе. Чрезвычайно ценит он документальные письменные источники — «посмертные» произведения писателей, переписку, дневники, мемуары, официальные документы, которые неизменно привлекались им к характеристике общественных и литературных явлений. Целый ряд больших его очерков создан на основе подобных источников: дневников Фарнгагена фон Энзе, переписки Александра и Николая Тургеневых, записок Н. Н. Муравьева (Карского) и др. Труды А. Н. Пыпина, написанные с чрезвычайной научной основательностью, включают в себя огромный фактический материал, глубоко его осмысляют и в то же время вполне доступны по изложению. В этом сказывается общая черта сочинений культурноисторической школы, представленной трудами И. Тэна, Г. Брандеса, С. А. Венгерова, П. С. Когана и др. Как и эти последние, Пыпин не избежал попреков в известной публицистичности своих сочинений. Однако при этом справедливо отмечалось, что «широта воззрений, выдержанность основной точки зрения, богатство библиографического аппарата в значительной мере искупают кое-где резко проглядывающую историкопублицистическую точку зрения автора». Сочинения Пыпина, охватывающие едва ли не все главные разделы историко-литературной науки, и его метод господствовали в течение нескольких десятилетий и пользовались огромным влиянием. Однако с началом XX столетия возникли новые веяния и участились критические нападки на метод Пыпина (как и на всю культурно-историческую школу) со стороны литературоведов интуитивистского и других идеалистических направлений. С обширным антикультурническим трактатом выступил А. М. Евлахов; М. О. Гершензон подверг Пыпина критике за то, что он ставил перед историко-литературной наукой несвойственную ей цель проследить развитие общественной мысли и этим, мол, уводил читателей от настоящей истории литературы. Несмотря на то, что метод Пыпина был в конечном итоге преодолен новейшим литературоведением, его огромное научное наследие благодаря богатству наблюдений, материалов и выводов, благодаря цельности отразившегося в нем гражданского миросозерцания сохраняет свою познавательную ценность. В близком родстве с основными положениями культурно-исторической школы находилась научная методология академика Николая Саввича Тихонравова (1832—1893). И. Тэн был для него, по собственным признаниям ученого, в числе первых научных авторитетов.Отражение в литературе исторической эпохи, «среды», условий народной и общественной жизни были всегда в центре внимания Тихонравова. С этих позиций так же, как и Пыпин, он вел борьбу с устаревшим «эстетическим» методом. Тот поворот к историческому изучению литературы в связи с отношением ее к народности, какой совершился в середине XIX века, был закреплен в русской науке в значительной мере трудами Н. С. Тихонравова, которому также была свойственна широкая постановка вопроса о задачах и методах истории литературы. Показателен метод исследований Н. С. Тихонравова и общий характер его работ. Их отличали библиографическая обстоятельность, документальность, строгая фактичность, критическая проверка фактов, детальная разработка аргументации. История рукописей, книг и отдельных писателей складывается у Тихонравова в конечном итоге в цельное исследование человеческой мысли, мысли общественной, господствующих и вновь возникающих настроений, входящих в летопись человеческой культуры. В методологическом отношении в наследии Тихонравова наибольший интерес представляет разбор трехтомного сочинения А. Д. Галахова (1807—Г892) «История русской словесности, древней и новой» (СПб., 1863, 1868, 1875). Этим разбором, написанным в 1876 г. по случаю присуждения уваровских премий, открывается собрание сочинений Н. С. Тихонравова. Разбор Тихонравовым сочинения Галахова сводится к категорическому отрицанию «эстетического» догматизма как антиисторического направления, вышедшего из так называемой ложно-классической теории. Тихонравов не раз в своих сочинениях заявлял себя сторонником и пропагандистом «сравнительно-исторического» метода, основы которого он унаследовал от Буслаева, что, однако, не противоречит традиционному причислению его к культурно-исторической школе (как, впрочем, и Пыпина, который также много сделал в направлении сравнительноисторических изучений). Н. С. Тихонравов действительно немало сделал на основе сравнительно-исторических принципов, в частности, указывал на необходимость исследования древнеславянских памятников сравнительно с памятниками византийской литературы, по которым нередко можно судить об утраченных древнерусских произведениях и, таким образом, строить историю древнерусской литературы. Тихонравов предсказывал большое будущее таким изучениям, и они действительно заняли это место, присутствуя, например, в исследованиях главы советской медиевистической школы Д. С. Лихачева, указывающего на великую миссию древнеславянской литературы-посредницы, присоединившей все славянские страны через Византию к общеевропейскому культурному развитию 168. Эта мысль чрезвычайно сродни высказываниям на тот же предмет Пыпина и Тихонравова, хотя и не получила у них той детальной разработки и доказательности, которыми она отмечена у Д. С. Лихачева. Необходимо все же отметить, что Тихонравов в своих исследованиях по истории русской литературы, древней и новой, первым применил сравнительный метод, вводя параллельные экскурсы в историю западноевропейской литературы, что чрезвычайно важно при исследовании, особенно таких тем, как ранний русский театр, русское просветительство и т. п. Именно эти темы и занимали Тихонравова. В значительной мере благодаря трудам Тихонравова культурно-историческая школа развила в себе одно качество — широкое применение филологического метода всестороннего историко-критического изучения памятников литературы по их источникам. Изданные Тихонравовым сборники, значение которых достаточно весомо и само по себе, принесли огромную пользу науке и сильно способствовали дальнейшим исследованиям. Так, в основу известной диссертации А. Н. Веселовского «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине» (1872) и ряда других его работ были положены тексты, изданные Тихонравовым. Н. С. Тихонравов осуществил издание «Слова о полку Игореве» (1866; повторено с исправлениями в 1868 г.), в котором блестяще применил свой опыт, обширнейшие библиографические познания и критическое чутье и предложил множество исправлений в первопечатный текст 1800 г., опираясь на опубликованную в 1864 г. П. П. Пекарским екатерининскую копию памятника. В завершение многолетних трудов о раннем русском театре Н. С. Тихонравов издал в 1874 г. два тома «Русских драматических произведений 1672—1725 гг.», где напечатано по рукописям, большей частью впервые, около 30 пьес. Работы Тихонравова по истории русского театра «первые поставили рассмотрение этой темы на вполне научную почву. Оригинален вклад Тихонравова в разработку вопроса о русском сентиментализме и романтизме, о литературной реформе Карамзина. В лекциях он высказывал мысль, что ту литературную реформу, которую приписывают Карамзину, на самом деле надо считать следствием деятельности людей из круга Новикова; Карамзин только воспользовался результатами этой реформы. «Наша историческая память, — говорит ученый,— очень слаба, так что часто бывает, что один исторический деятель заслоняет другого» В последние годы жизни Н. С. Тихонравов был занят большим, многотомным, так называемым «десятым» критическим изданием сочинений Гоголя, к которому он применил все приемы научной редакторской подготовки, известные ему по работе с плохо сохранившимися средневековыми рукописями. Н. С. Тихонравов основал целую школу исследователей, особенно в изучении древней литературы и письменности. Существенным признаком этой школы явился интерес к живой струе апокрифической и «отреченной» литературы, в которых полнее и свободнее, чем в литературе официально-церковной, чуждой житейских интересов, проявилось русское народное творчество. Прямыми учениками и слушателями университетских курсов Н. С. Тихонравова были такие крупные ученые-филологи, как П. Н. Сакулин, М. Н. Сперанский, В. М. Истрин, А. Д. Карнеев, В. Е. Якушкин, А. А. Шахматов, М. И. Соколов, С. О. Долгов, A. Д. Григорьев, историк В. О. Ключевский и др. Под влиянием его подвижнического труда многие русские ученые занялись разысканием, изданием и критическим осмыслением памятников литературы. Практическое занятие № 3 Биографический метод. Психологическая школа в литературоведении 6. Преломление психологического метода в научной деятельности Д.Н. ОвсяникоКуликовского. К началу 90-х гг. XIX в. Овсянико-Куликовский начал применять психологический метод к художественной литературе и к проблемам теории и психологии художественного творчества. В своих лекциях «Основы художественного творчества» (1907) Д. Н. ОвсяникоКуликовский пытался осмыслить основные научные понятия, относящиеся к психологии художественного творчества, и разработал классификацию изучаемого явления: «Художественное творчество классифицируется с творчеством религиозным, метафизическим, научным, научно-философским и техническим, и с языком, понимаемым как работа мысли и психическая функция, основанная на глубокой душевной потребности человека выражать себя». Стараясь определить понятие художественного творчества, он вырабатывает широкое определение искусства: «Искусство есть творческая деятельность мысли, направленная на постижение всего человеческого и имеющая целью развитие человечности, орудующая образами, как художественно-типичными, так и иными». Помимо идей психологической школы и воздействия А.А. Потебни, в основу концепции Д.Н. Овсянико-Куликовского легли мысли о неодолимости общественного прогресса, оформленные в категориях позитивистской философии. Свою исходную точку зрения он формулирует так: «Человечество вышло из зверства и, проходя через варварство, развивается в направлении к высшей человечности и красоте». При этом «о красоте объективной и речи быть не может: это миф...». Речь идет только о красоте субъективной, т.е. об ощущении, чувстве, сознании, идее красивого. В таком случае эту субъективную красоту нужно разложить на психические процессы. Эти процессы у ОвсяникоКуликовского имеют национальную и социальную форму. Национальность для него — «объединение социальных групп в более обширную группу на почве общего языка, достигшего известной высоты развития и являющегося психическим основанием для коллективной умственной деятельности, стремящейся возвыситься над тем, что непосредственно дано в языке». Авторское выделение слов «язык» и «коллективная умственная деятельность» подчеркивает основной ход мысли Д.Н. ОвсяникоКуликовского: значимость языка проявляется в творчестве, в мифе, в религии, превращающихся с языком «в психологическую форму личности» писателя. О.-К. разрабатывал теорию творческой личности, определял ее структуру и вычленял те факторы, которые на личность влияют. В качестве примера можно привести очерк «Гоголь». Ученого особенно интересует природа гениальности творца «Мертвых душ». Для ответа на поставленные вопросы вначале излагается подробная биография русского писателя, в которой выявляются его природные особенности и истоки душевной драмы: «Этот больной человек, этот невропат, меланхолик, ипохондрик и мизантроп нес великую тяготу великого призвания». К определениям «художник-мизантроп», «художникипохондрик» добавляются природные свойства лиричности и крайнего эгоцентризма: «род гипертрофии того центра психики, который называется «Я». Гоголь хотел сначала 1) нарисовать все плохое в природе русского человека; 2) обнаружить в нем затем хорошие задатки; 3) указать путь спасения России. Этот замысел Д.Н. Овсянико-Куликовский видит в «эгоистической антитезе» — «Я и Русь»; «Я и Бог». Общая трактовка замысла поэмы «Мертвые души» выводится в первую очередь из «особого психологического склада» писателя, из «интуиции гения»3. И в работе о Гоголе, и в других статьях Д.Н. Овсянико-Куликовского привлекают, помимо конкретного анализа, более общие философские проблемы — смысла и ценности жизни, природы таланта и гениальности, морали и цивилизации. Он верит, что, «становясь цивилизованнее, человечество становится человечнее», что талант рождается «из силы творчества и оригинальности», а «гениальность есть явление мысли»1. В работах «Лев Толстой как художник», «Поэзия Генриха Гейне» и особенно в очерках о Горьком и Михайловском Д.Н. Овсянико-Куликовский разрабатывает положения общественной психологии и социальной психологии. В утверждении влияния классовой идеологии на душевный мир писателя он близок к революционным демократам. Стоит упомянуть труд «История русской интеллигенции» (1906-07), в котором О-К на примере произведений изучал психологию русской интеллигенции. Ученый рассматривал литру как отражение идеалов и настроений общества и считал, что в литре сосредоточен материал, на основе которого можно проследить общественные процессы. Он изучил общественные типы в лице Чацкого, Онегина, Печорина, которые являются выразителями общественных настроений. О-К стал первым, кто изучил интеллигенцию на примере русских произведений. Так, можно сказать, что в работах О-К мы видим соединение социологического и психологического методов изучения литературы. Ученый исследует особый психологический склад творческой личности и утверждает влияние на нее общественных процессов. Литература отражает общественную психологию, а писатель поглощен созданием мысли и пишет потому, что его что-то волнует. Практическое занятие № 4 Сравнительно-исторический метод в литературоведении 3. Основные категории компаративистики (сравнение, миграция, теория «бродячих сюжетов», мотив). Диалог, «сравнение», «сопоставление» принадлежат к числу наиболее общих принципов культуры и жизни. В поздних набросках «К методологии гуманитарных наук» (1974) М.М. Бахтин отмечал, что «...текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом). Только в точке этого контакта текстов вспыхивает свет, освещающий и назад и вперед, приобщающий данный текст к диалогу» Эта «точка контакта» текстов и является главным предметом «сравнительного литературоведения». Сравнение – важнейший инструмент «понимания» как такового. Им широко пользуется герменевтика. Сам термин – «сравнительное литературоведение» (Komparatistik, Littérature Comparée, Comparative Literature) – указывает на «сравнение» как основу метода. В основе всякого «сравнения» и «сопоставления» лежат механизмы «тождества» и «различения» своего и чужого. Эти механизмы присущи как художественному творчеству, так и научному мышлению. В творчестве принцип «сравнения» ведет к появлению переносных значений, связанных, в конечном итоге, с метафоризацией и символизацией. В науке сопоставление выявляет повторяемость разных признаков и явлений, демонстрируя их существенное сходство и различие. Можно сказать, что сравнительно-исторический метод имеет общенаучное моделирующее значение, заключая в себе один из важнейших мотивов человеческого мышления вообще. Принцип сравнения широко используется для изучения социальных наук (политология, социология, педагогика, международное право), а также – культурологии, искусствознания, литературоведения и лингвистики (контрастивная лингвистика). Опираясь на сравнительно-исторический метод, можно рассматривать, например, взаимодействие различных искусств с литературой. Так, Д.С. Лихачев исследовал древнерусскую литературу «в ее отношениях к изобразительным искусствам», подчеркивая, что «...взаимопроникновение» было фактом их внутренней структуры. О «музыкальности» в литературе писал, например, А.В. Михайлов, понимая под ней тенденцию «...»компоновать» материал по закону более высокому, чем закон самого материала, – «лирически» преображать материал, поднимать его над буквальным значением на более высокую ступень...». «Диалог» искусств имеет, таким образом, различные уровни. В преображенном виде «живописность» и «музыкальность» входят в структуру литературных произведений. «Литературность», напротив, проникает в живописные и музыкальные тексты. При помощи сопоставления подобия и различия разных видов искусств выявляется их специфика, непохожесть друг на друга и одновременно – их родство. Мотив (лат. moveo – двигать) – устойчивый формально-содержательный компонент текста, способный повторяться в пределах творчества одного писателя, а также в контексте мировой литературы в целом. (пример библейские мотивы в Мастере и Маргарите. Роман Булгакова в значительной степени основан на переосмыслении евангельских и библейских идей и сюжетов. Центральные мотивы романа – это мотив свободы и смерти, страдания и прощения, казни и милосердия. Булгаковская трактовка этих мотивов весьма далека от традиционных библейских. Так, герой романа Иешуа никак не заявляет о своем мессианском предназначении, в то время как библейский Иисус говорит, например, в беседе с фарисеями, что он не просто Мессия, а еще и Сын Божий: «Я и Отец – одно») Мотивы способны повторяться. Мотив является устойчивой семиотической единицей текста и обладает исторически универсальным набором значений. Для комедии характерен мотив “quid pro quo” («кто про что»), для эпопеи – мотив странствия, для баллады – фантастический мотив (явление живого мертвеца). Мотив более чем другие компоненты художественной формы соотносится с мыслями и чувствами автора. Согласно Гаспарову, «мотив – смысловое пятно». В психологии мотив – побуждение к поступку, в теории литературы – повторяющийся элемент сюжета. Мотив как литературное понятие вывел А.Н. Веселовский в 1906 г. в своей работе «Поэтика сюжетов». Под мотивом он предполагал простейшую формулу, отвечающую на вопросы, которые природа ставит человеку, и закрепляющую особенно яркие впечатления действительности. Мотив определялся Веселовским как простейшая повествовательная единица. Признаками мотива Веселовский считал: – образность, – одночленность, – схематичность. Мотивы, по его мнению, нельзя разложить на составные элементы Комбинация мотивов образует сюжет. Таким образом, первобытное сознание продуцировало мотивы, которые образовывали сюжеты. Мотив – древнейшая, первобытная форма художественного сознания. Одни исследователи относят мотив к элементам фабулы. Такой вид мотива называют повествовательным. Но в мотиве может повторяться и какая-либо деталь. Такой мотив называют лирическим. Повествовательные мотивы имеют в своей основе какое-либо событие, они развёрнуты во времени и пространстве и предполагают наличие актантов. В лирических мотивах актуализируется не процесс действия, а его значимость для воспринимающего это событие сознания. Но оба вида мотива характеризуются повторяемостью. Важнейшей чертой мотива оказывается его способность быть полуреализованным в тексте, его загадочность, незавершённость. Сферу мотива составляют произведения, отмеченные невидимым курсивом. Внимание к структуре мотива позволяет глубже и интереснее рассмотреть содержание художественного текста. Один и тот же мотив звучит у разных авторов по-разному. Исследователи говорят о двойственной природе мотива, имея в виду, что мотив существует как инвариант (содержит устойчивое ядро, повторяющееся во многих текстах) и как индивидуальность (у каждого автора мотив свой в плане воплощения, индивидуального приращения смысла). Повторяясь в литературе, мотив способен приобретать философскую наполненность. Широкое использование мифологической школой сравнительного метода показало, что в творчестве разных народов имеются произведения со сходными сюжетами и образами. Проблемы заимствования фольклора и взаимовлияния культур разных народов привлекали, следовательно, издавна внимание исследователей. Однако в стройную концепцию, получившую название теории «бродячих сюжетов» (иначе: заимствования, миграционной), взгляды исследователей оформились только в 60-х годах XIX в. Почувствовав бессилие мифологических истолкований генезиса произведений народного творчества, ученые обратились к его истории, изображая эту историю как «странствия народных повестей, рассказов, сказок и песен». Отмечая изменение тенденций в развитии теорий, А. П. Веселовский в 1871 г. писал, что настало время, когда «мифологическая гипотеза» должна поступиться «долей своего господства историческому взгляду, останавливающемуся на раскрытии ближайших отношений и влияний, совершившихся уже в пределах истории». Веселовский называл немецкую философию Я. Гримма выражением первого направления, а работу Т. Бенфея – началом второго. Положения теории заимствования были четко сформулированы в исследовании Т. Бенфея, предваряющем издание на немецком языке сборника индусских рассказов II-VI вв. нашей эры «Панчатантра» («Пятикнижие»). Исследуя «Панчатантру», Бенфей указал на очень большое сходство включенных в нее рассказов со сказками разных европейских и неевропейских народов. Это сходство, по мнению Бенфея, было вызвано культурноисторическими связями, заимствованием одним народом произведений другого. Во второй половине XIX в. утверждение единства фольклора разных народов звучало как уравнивание культуры больших и малых народов Европы и Азии, имеющее прогрессивный характер. Этой своей стороной теория заимствования привлекла внимание ряда ученых, выступавших против расистских и националистических взглядов. Основные положения теории заимствования были следующими. 1. Родина сказок – Индия. Все произведения эпоса идут оттуда. В Европу произведения шли тремя путями: 1) с восточного побережья Средиземного моря на крайний запад в Испанию, где арабы и евреи образовали государство, создали своеобразную мавританскую культуру; 2) с востока на запад, через греческий архипелаг в Сицилию; 3) из Передней и Малой Азии через Византию на Балканский полуостров и на Русь. 2. Заимствование было особенно интенсивно в эпохи: 1) походов Александра Македонского и эллинизма (IV—II вв. до нашей еры), 2) арабских завоеваний и крестовых походов (X— XII вв. нашей эры). Теория «странствующих сюжетов» (заимствования) была воспринята с живым интересом во всех странах. В России она также получила развитие, но во многих работах имела ошибочное звучание: следуя ей, принижали все национально русское и вместе с тем преклонялись перед зарубежной культурой. Теория заимствования получила широкое распространение в академических и университетских кругах. Большинство ученых пореформенной России отдали дань этой теории, и в духе ее написали ряд исследований (Ф. И. Буслаев, В. Ф. Миллер). Особенно авторитетны в русской науке были работы А.Н.Веселовского, написанные в духе теории заимствования: «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине», «Южно-русские былины», «Разыскания в области духовного стиха». В первом исследовании А.Н. Веселовский доказывал, что русские и славянские повести и апокрифы о Соломоне восходят к древнеиидусской истории о Викрамадитьс; связывая судьбу сказаний о Соломоне с ересями средневековья, А. Н. Веселовский стремился проследить странствия изучаемых сюжетов в Восточной и Западной Европе. Исследованием, на которое опирался Веселовский в этой работе, явилось предисловие Т. Бенфея к «Паичатантре». «Южно-русские былины» посвящены сюжетам героического былевого эпоса. Веселовский в этой работе сопоставлял сюжеты былин с произведениями европейской литературы и отрицал национальное своеобразие и обусловленность русских эпических произведений конкретной историей Руси. Теми же чертами характеризуются «Разыскания в области духовного стиха». В этом обширном труде есть множество тонких и верных наблюдений над отдельными произведениями. Но, пожалуй, никакая другая работа А. Н. Веселовского не основана в такой мере на методах позитивистского анализа, как эта. Ряд глав состоит из сопоставления различных произведений, сходных по сюжетной схеме или по отдельным деталям, причем Веселовский совершенно игнорирует сходство или различие идейного содержания. Однако и эти работы А. Н. Веселовского вносили существенные коррективы в теорию заимствования. Он подчеркивал, что заимствование шло не только с востока на запад, но и с запада на восток. Происходило взаимодействие западной и восточной культур. Считая влияние восточных представлений на западную мысль общепризнанным, Веселовский писал, что этот факт не может быть объяснен до тех пор, «пока не раскрыты точнее обстоятельства, при которых совершалось это влияние, и не одна только возможность, но и пути перехода». Наиболее значительной поправкой Веселовского к теории заимствования было его утверждение, что сходство произведений у разных народов вовсе еще не означает заимствования. Веселовский писал: «Сходство двух повестей, восточной с западной, само по себе не доказательство необходимости между ними исторической связи: оно могло завязаться далеко за пределами истории, как любит доказывать мифологическая школа; оно, может быть, продукт равномерного психического развития, приводившего там и здесь к выражению в одних и тех же формах одного и того же содержания» . А. Н. Веселовский, следовательно, отводя в истории народного творчества большое место заимствованиям, считал недопустимым сведение только к ним развития фольклора. Наряду с заимствованием появление тех или других произведений у тех или иных народов могло быть результатом «мифологической экзогезы» или сходства их «психического развития». +Коррективы, вносимые А. Н. Веселовским в теорию заимствования, не изменяли самой сущности ее. И сам А. Н. Веселовский и другие ученые, разрабатывавшие ее положения на конкретном материале (А. И. Кирпичников, И. II. Жданов, М. Е. Халанский и др.)» методом сравнений и сопоставлений текстов стремились установить в схематических очертаниях общее и тем стирали национальное и историческое своеобразие произведений. В результате в работах сторонников теории заимствования народное творчество теряло свое конкретное жизненное значение. В начале XX в. теория заимствования послужила основой для новых направлений фольклористики, которые довели до крайних пределов формализм сравнений и сопоставлений сюжетов и мотивов народного творчества Таким образом, Веселовский попытался выявить основные мотивы и проследить их комбинацию в сюжеты. Учёные-компаративисты попытались проверить соотношение сюжетных схем. Заслуга Веселовского заключается в том, что он выдвинул идею «бродячих сюжетов», т.е. сюжетов, кочующих во времени и пространстве у разных народов. Это можно объяснить не только единством бытовых и психологических условий разных народов, но и заимствованиями. В литературе XIX века был распространён мотив самоустранения мужа из жизни жены. В России герой возвращался под собственным именем, инсценировав собственную смерть. Повторялся костяк мотива, который определял типологическое сходство произведений мировой литературы. (пример великие западноевропейские сказочники –братья Гримм, Шарль Перро, Андерсен-черпали вдохновение в устном народном творчестве; Пушкин позаимствовал ряд сказочных сюжетов у западных авторов:" Сказка о мёртвой царевне.." –переложение на русский язык "Белоснежки и семи гномов","Сказка о Золотом Петушке" имеет источником ""Легенду об арабском звездочёте" Вашингтона Ирвинга.) Практическое занятие № 5 Формальная школа в литературоведении 1. Формальный метод в литературоведении ХХ века как протест против принципов академической науки, его истоки, становление, особенности развития, методологические установки. «Формальный метод» — одно из самых продуктивных направлений в теории литературы XX века. Его заостренную формулу дал В.Б. Шкловский (1893—1984), утверждавший, что литературное произведение представляет собой «чистую форму», оно «...есть не вещь, не материал, а отношение материалов». Форма была понята как нечто противоположное материалу, как «отношение». Поэтому В.Б. Шкловский уравнивает «...шутливые, трагические, мировые произведения», не видит разницы в противопоставлениях мира миру или «кошки камню». Понятно, что это —эпатаж, но к «пощечине общественному вкусу» эти идеи не сводятся. Формалисты выступали не против содержания как такового, а против традиционного представления о том, что литература — это повод для изучения общественного сознания и культурно-исторической панорамы эпохи. Формалисты стремились освободить искусство от воздействия идеологии. При этом их волновал «самоцельный» «воспринимательный процесс», «...ощущение вещи как видение, а не как узнавание...». Собственно художественные особенности академическая наука воспринимала как материал для анализа душевного склада и мировоззрения художников. У представителей формальной школы подход обратный: жизнь и взгляды писателей они рассматривают как материал, необходимый для построения художественного произведения. В начале XX века в университетах Москвы и Петербурга появилась научная молодежь, протестовавшая против принципов академической науки. В Петербурге новые веяния возникли в Пушкинском семинарии профессора С.А. Венгерова, представителя «биографического метода». В его работе принимал участие и Ю.Н. Тынянов (1894—1943), интересовавшийся стилем, ритмом, мельчайшими деталями формы произведений А.С. Пушкина. Темы докладов участников семинара содержали протест против эклектики академического литературоведения, тяготевшего к изучению идеологических вопросов, биографических подробностей, смешивая их с рассмотрением образности произведений. В 1915 г. в Московском университете сложился еще один центр новой науки. Участники Московского лингвистического кружка, в том числе Р.О. Якобсон (1896—1982), Г.О. Винокур (1896—1947) и другие, занимались исследованием фольклора и языка современной поэзии. Тогда сложилась установка на то, что проблемы языка должны быть в центре внимания. Лучшие поэты, принадлежавшие к поэтическому авангарду первых десятилетий XX века, принимали участие в работе кружка. Среди них — В.В. Маяковский, О.Э. Мандельштам, Б.Л. Пастернак. Революции и войны, отменявшие вековые традиции, стремительное развитие общества, острое переживание истории, — все это повлияло на мироощущение участников ОПОЯЗа (общество изучения поэтического языка). Поэтические эксперименты футуристов, искавших «самовитое (необычное, особенное) слово», казались молодым ученым сутью поэзии. Строгие методы лингвистического анализа Р.О. Якобсон соединяет с интересом к феноменологии (Феноменология направление в философии XX в. Основной принцип феноменологии - преодолеть предрассудки, освободиться от привычных установок, отстраниться от методологических клише и обратиться к первичному опыту сознания) немецкого философа Э. Гуссерля, полагавшего, что языковой или эстетический объект исследуется не сам по себе, «...а в связи с тем, как его наблюдает и воспринимает субъект»1. Здесь заметны переклички с идеями физиков первых десятилетий XX века, выдвигавших на первый план проблему «наблюдателя». Инициатором создания ОПОЯЗа, объединившего ученых Москвы и Петербурга, выступил В.Б. Шкловский, издавший в 1914 году новаторскую книгу «Воскрешение слова». Становление ОПОЯЗа пришлось на 1915—1916 гг.; в течение 1916— 1919 гг. выходили «Сборники по теории поэтического языка». Кроме В.Б. Шкловского, в инициативную группу вошли литературовед Б.М. Эйхенбаум (1886—1959), занимавшийся проблемой «сказа» (повествование, ведущееся от лица рассказчика), лингвисты О.М. Брик (1888—1945), исследовавший ритм и синтаксис стихотворной речи, и С.И. Бернштейн (1892—1970), занимавшийся теорией декламации. Позднее в работу ОПОЯЗа активно включился Р.О. Якобсон. Ю.Н. Тынянов вступил в ОПОЯЗ несколько позднее, в 1919-м или 1920 г. Очень близки к ОПОЯЗу были литературоведы Б.В. Томашевский (1890—1957), автор «Теории литературы» (1925; 1931) и В.М. Жирмунский (1891—1971), позднее вступивший в полемику с формализмом («О формальном методе», 1923). Предшественников формализма следует искать одновременно в России и Западной Европе. В России это были символисты — В.Я. Брюсов, Вяч. Ив. Иванов и А. Белый, которые стремились ввести точные методы в литературу. Показательно, что П.Н. Медведев (а с ним вместе и М.М. Бахтин) подчеркивал типологическое родство русского формализма и общеевропейских формальных течений. Западное искусствознание в лице А. Гильдебранда, К. Фидлера, Г. Вельфлина разработало новый терминологический язык. Опиравшийся на их идеи О. Вальцель утверждал, что литературное произведение является прежде всего «конструкцией». Конструктивные особенности произведений, относящихся к разным видам искусства, можно соотносить между собой. В результате возникает эффект их «взаимного освещения». О. Вальцель сопрягает разные терминологические языки, говорит, например, об «архитектонике драм Шекспира». Большое значение для становления формального метода имела незавершенная «Поэтика сюжетов» А.Н. Веселовского. На становление формального метода повлияли определения «мотива» и «сюжета», которые даны в этой работе. Однако еще большее значение имело то, что А.Н. Веселовский рассматривает «сюжет» не как момент тематики, а как элемент композиции, т.е. художественной организации материала. Отсюда берет начало одна из центральных проблем формального метода — разграничение понятий «прием» и «материал». Применительно к сюжетному построению этот принцип предстает как противоположность «сюжета» и «фабулы». Б.В. Томашевский определяет фабулу как «...совокупность событий в их взаимной внутренней связи»1. Фабула является «...материалом для сюжетного оформления»2. Очевидно, что моменты «делания», компоновки в этих определениях выдвинуты на первый план. Это разграничение внешних моментов (материал) и моментов внутренних (форма) определяет «самоценность» литературы4. Большое значение для ОПОЯЗа имели концепции А.А. Потебни, яркого представителя психологического подхода. Он исходил из принципиальной метафоричности (символичности) слова. С этой концепцией полемизировал В.Б. Шкловский, отрицавший, что литература есть «мышление образами». По его мнению, «...образы почти неподвижны...», а работа поэтических школ «...сводится к накоплению и выявлению новых приемов расположения и обработки словесных материалов». Образы даны как материал, который подвергается художественной обработке. Возражали формалисты и Д.Н. Овсянико-Куликовскому, последователю А.А. Потебни, предлагавшему сосредоточиться на «особом психологическом складе» того или иного автора. Понятый как реальная фигура, как «автор биографический», автор не представлял интереса для формального метода. Его «личные чувства» объявлялись нерелевантными. Эйхенбаум писал, что «...душа художника как человека, переживающего те или другие настроения, всегда должна оставаться за пределами его создания». В произведении происходит «игра с реальностью», свободное разложение и перемещение элементов. Мир произведения оказывается при этом построенным «заново», а потому «...всякая мелочь может вырасти до колоссальных размеров». Так Б.М. Эйхенбаум высказывает важные мысли о семантизации мельчайших деталей произведения. В результате этой «игры с реальностью» возникает «художественный мир». Таким образом, формальная школа сложилась благодаря позиции вопреки, желанию создать новое слово. Формалисты превратили литературоведение в науку с собственными законами, отстаивали право на аполитичное искусство и сделали прием прямым объектом поэтики. Важнейшим приемом, разработанным формальной школой стал прием остранения. Практическое занятие № 6 Тартуско-московская семиотическая школа 1. Истоки и этапы развития структурализма в отечественном литературоведении. Структурализм – общее название для ряда направлений в гуманитарном познании 20 в., связанных с выявлением структуры, т.е. совокупности таких многоуровневых отношений между элементами целого, которые способны сохранять устойчивость при разнообразных изменениях и преобразованиях. Развитие структурализма включало ряд этапов: 1) становление метода – прежде всего в структурной лингвистике; 2) более широкое распространение метода; 3) размывание метода в результате включения его во вненаучные контексты; 4) критика и самокритика, переход к постструктурализму. Лишь периоды «становления» и «распространения» имеют четкую хронологическую определенность; другие этапы нередко накладываются друг на друга (как это произошло во Франции). Лингвистика первой стала искать и выявлять структуры в своем материале, что характерно для концепции Ф. де Соссюра. Методы структурного анализа складываются в 1920–40-х гг. в психологии (гештальтпсихология), в литературоведении (русская формальная школа), в языкознании (три главные структуралистские школы в лингвистике – Пражский лингвистический кружок, Копенгагенская глоссематика и Йельский дескриптивизм). Структурная лингвистика требует отказа от интроспекционизма, с одной стороны, и от позитивистского суммирования фактов – с другой. Ее программа связана с переходом от стадии эмпирического сбора фактов к стадии построения теорий; от диахронии (нанизывание фактов в цепочки) к синхронии (увязывание их в нечто целое), от отдельного и разрозненного к «инвариантному» (относительно устойчивому). Т.о., структурализм возник сначала как научная методология, отработанная в лингвистике (Р. Якобсон и Н.Трубецкой), а затем распространился на другие области: исследования культуры у Ю.М.Лотмана и в Тартуской семиотической школе, этнографию у К.ЛевиСтроса (обращение Леви-Строса в структурализм произошло под влиянием Якобсона во время их совместной работы в Нью-Йорке в 1943). Одновременно с этим Ж.Лакан (психоанализ), Р.Барт (литературоведение, массовая культура), М.Фуко (история науки) во Франции распространяют некоторые приемы лингво-семиотического анализа на другие области культуры. Перенос лингво-семиотических понятий и терминов в другие сферы гуманитарного знания не был случайностью: лингвистика в тот период была наиболее развитой областью гуманитарного знания, язык рассматривался как наиболее надежный способ фиксации человеческой мысли и опыта в любой сфере. К тому же общая тенденция всей мысли 20 в. устремлялась в сторону анализа и критики языка, а не анализа и критики сознания. Поэтому вполне понятно, что концептуальная стилистика этой развитой области заимствовалась другими областями гуманитарного познания. Однако ни у Леви-Строса, ни у Лотмана (ни, кажется, у Ю.Кристевой или Ц.Тодорова) эта лингвистическая методология не притязала быть философской и не подменяла собой философию. Так, для Лотмана главной была установка одной из его статей 1960-х гг., которая называлась «Литературоведение должно быть наукой». Постепенно этот девиз перерастает в более широкую программу. При анализе литературных произведений он занимался их системным описанием – первоначально по уровням, а затем – учитывая взаимодействие уровней. Сложные культурные объекты и явления (напр., взгляды Радищева, Карамзина или рядового просвещенного дворянина 1820-х гг.) он рассматривал как «вторичные означающие системы», старался представить их как единую систему, отыскивая объясняющие закономерности даже для, казалось бы, взаимоисключающих элементов (отрицание и утверждение бессмертия души в одном из трактатов Радищева). Подобным образом Леви-Строс использовал элементы лингвистической и лингвосемиотической методологии для исследования бессознательных культурных систем первобытных народов. Опорой метода стало вычленение т.н. бинарных оппозиций (природа – культура, растительное – животное, сырое – вареное), рассмотрение сложных явлений культуры (напр., систем родства) как пучков дифференциальных признаков (вслед за Якобсоном, который таким способом выделял фонему как мельчайшую смыслоразличающую единицу в структурной лингвистике). Все культурные системы жизни первобытных народов – правила браков, термины родства, мифы, ритуалы, маски – рассматриваются Леви-Стросом как языки, как бессознательно функционирующие означающие системы, внутри которых происходит своего рода обмен сообщениями, передача информации. Среди французских исследователей Леви-Строс был единственным, кто открыто считал себя структуралистом, соглашаясь с определением своей философско-методологической программы как «кантианства без трансцендентального субъекта». Не единство трансцендентальной апперцепции, но безличные механизмы функционирования культуры, сходные с языковыми, были основой его программы обоснования знания. Т.о., уже у Леви-Строса мы видим – на уровне философско-методологических обоснований – те основные особенности, которые с теми или иными оговорками и уточнениями можно отнести в целом к французскому структурализму как этапу развертывания структуралистской проблематики: опора на структуру в противопоставлении «истории»; опора на язык в противопоставлении субъекту; опора на бессознательное в противопоставлении сознанию. В русле общего стремления к научности в 1960-е гг. выступило и лакановское прочтение Фрейда, подававшееся как «возврат к Фрейду». В его основу Лакан кладет мысль о сходстве или аналогии между структурами языка и механизмами действия бессознательного. Развивая эти мысли, содержавшиеся уже у Фрейда, Лакан трактует бессознательное как особого рода язык (точнее – считает бессознательное структурированным, как язык) и рассматривает языковый материал, поставляемый психоаналитическим сеансом, как единственную реальность, с которой должен иметь дело психоаналитик, распутывающий конфликты в функционировании бессознательных механизмов психики и поведения человека. Барт применяет некоторые методики лингво-семиотического анализа к описанию социальных и культурных явлений современного европейского общества. Обнаружение «социологики» в явлениях современной жизни – моды, еды, структуры города, журнализма – становится целью его работ 1950–60-х гг. Это – революционный акт, срывающий с буржуазной культуры налет естественности и самоподразумеваемости, нейтральности. Первая половина 1960-х гг. – это для Барта период увлечения научной семиотикой и построение своей версии семиотики для изучения вторичных, коннотативных значений, задаваемых функционированием языка в культуре и социуме. Фуко апробирует некоторые установки структурализма на материале истории науки. Так, в «Словах и вещах» (1966) он кладет отношения знаково-семиотического типа в основу выделения «эпистем» – инвариантных структур, определяющих основные возможности мысли и познания в тот или иной культурный период. В соответствии с общим структуралистским проектом существование и познание «человека» ставится в зависимость от существования и познания «языка»: чем ярче функционирует язык, тем быстрее образ человека исчезает из современной культуры. Т.о., тенденции структурализма были междисциплинарными и международными, но осуществлялись они каждый раз в различных обстоятельствах. В СССР структурносемиотические исследования 1960-х гг. были протестом против догматизма и одновременно субъективизма официальной науки. Во Франции сложились обстоятельства, породившие благоприятный идейный климат для широкого распространения структуралистских идей. Это был протест против засилья традиционного философского субъективизма в его рационалистической (Декарт) и иррационалистической (Сартр) версиях. Экзистенциалистский импульс после 2-й мировой войны был исчерпан, пафос личного выбора в пограничной ситуации стал неактуален, тенденции научной философии и философии науки (логический позитивизм) были представлены крайне слабо, и потому средством для обозначения иной, более объективной человеческой и философской позиции стал структурализм. Симптомом важных общественных перемен стали майские события 1968 г. Тезис о том, что «структуры не выходят на улицы», должен был показать, что эпоха общественного интереса к безличному и объективному кончилась. На первый план у интеллектуалов выходит все то, что так или иначе составляет «изнанку» структуры. На баррикадах студенческих волнений «тело» и «власть» значили больше, чем «язык» и «объективность». Короткий период 1-й половины 1970-х гг. предполагал попытки групповой борьбы с глобальной властью (таковы были задачи группы информации о тюрьмах, в которой в течение нескольких лет работал Фуко). Однако общественное потрясение схлынуло и на освободившемся месте расцвели совсем другие эмоции и побуждения. Это был возврат от научного интереса к этике (но уже не экзистенциалистской), иногда микрогрупповой, но чаще – этике индивидуального ускользания от власти путем постоянных переназываний, этике вседозволенности (расцвет гедонизма, многообразие обоснований желания и наслаждения). Для всех структуралистов, за исключением Леви-Строса, характерны заметные концептуальные сдвиги, так или иначе связанные с общественными переменами на рубеже 1960–70-х гг. Барт, Лакан, Фуко воспринимались сначала как сторонники структурализма, потом как сторонники постструктурализма. Общую периодизацию условно можно представить так: 1950–60-е гг. – структурализм (иногда – предструктурализм); 1970-е гг. – сосуществование структурализма и постструктурализма; 1970–80-е гг. – постструктурализм. Итак, структурализм – не философия, а научная методология вместе с общим комплексом мировоззренческих представлений. Структурализм и постструктурализм никогда не были систематизированными доктринами. Однако для структурализма были характерны ясность и общность методологической программы, очевидная даже в процессе ее размывания, постструктурализм существовал скорее как общее пространство полемики, нежели как общность программ, и зависел от структурализма как объекта критики или отрицания. Французский структурализм занимал место отсутствующего во Франции логического позитивизма, хотя по реальной практике воплощения имел с ним мало общего. В структурализме есть проблемные переклички с неорационализмом. Структурализм содействовал видоизменению феноменологии в ее французской версии (прививка языковой проблематики на ствол феноменологии, стимул к поиску взаимодействия объясняющих стратегий с понимающими); он давал поводы (особенно вокруг работ Фуко) для достаточно плодотворной полемики с Франкфуртской школой. Практическое занятие № 7 Автор и герой в литературном произведении 3. Проблема автора в трудах М.М. Бахтина, Б.О. Кормана, Д.С. Лихачева, Р. Барта. В развитие отечественной теории Автора самый большой вклад внесли В.В. Виноградов, М.М. Бахтин, Б.О. Корман, Д.С. Лихачев и др. Виктор Владимирович Виноградов, связав категорию Автора с функциональными стилями, со словесными уровнями жанра, темы и т. д., обратил внимание на разные формы выражения авторского сознания в реализме XIX века, где голос автора утрачивает свою внешне выраженную авторитетность и литературное произведение стремится охватить жизнь в ее многоаспектности. По Виноградову, диалогические отношения входят в «образ автора» как частный случай, по Бахтину — всё наоборот. Поэтому для Бахтина сказ (повествование от лица рассказчика) насквозь диалогичен, для Виноградова же он, напротив, сильно монологизован, подчинен «устойчивым нормам лексико-синтаксических схем повествующего монолога» Бахтин считал, что автора мы находим во всяком произведении искусства. Он, как известно, создал диалогическую теорию автора, в которой различается слово автора и «чужое слово». Автор относится к герою как к самостоятельному человеку, имеющему свою позицию, как к другому субъекту, обладающему своим собственным словом. Это полифонический принцип, противоположный монологизму. В отличии от реального автора, созданный им образ автора лишен непосредственного участия в реальном диалоге, зато может участвовать в сюжете произведении и вступать в диалог с персонажами (например, в Евгении Онегине). Речь реального автора не может лежать в одной плоскости с речью персонажей. Распространены смешения понятий «образ автора» и «повествователь», «рассказчик». В научной традиции их смешивал Виноградов. Разделение всех трех типов субъекта принадлежит Бахтину. В своих трудах ученый обозначил три ипостаси автора: биографическую, первичную и вторичную. Изучением биографического автора он почти не занимался. Первичный автор, с его точки зрения, участник эстетического события, в котором встречаются в одной точке художник, независящая от него реальность и читатель, тоже функционирующий не как реальное лицо, а как внутренний объект художественного акта. Первичный автор как субъект эстетической деятельности внеоценочен и являет себя произведении в целом. Вторичный же автор — понятие иерархическое и идейно значимое. Вершину иерархии в данном случае образует авторская позиция, воплощенная в сюжетнокомпозиционной, пространственно-временной и жанровой структуре текста. В основании лежит форма повествования от автора. Авторская идея связана с этой композиционной формой факультативно: речь повествователя может быть идеологически нейтральной по отношению к авторской идее, а может быть отмечена ее присутствием. Между ними находится голос автора, идеологическое содержание авторского слова. Оно, в свою очередь, тоже иерархично, обладает своим средоточием, называемым М. М. Бахтиным «авторским центром». Именно со вторичным автором, по М. М. Бахтину, герой может находиться в определенных отношениях — выступать либо в качестве предмета изображения, либо быть полноправным участником диалога. Так герой становится соавтором, творящим собственную реальность. Истоки этого жизнетворчества М. М. Бахтин усматривал в карнавальной традиции сократического диалога и менипповой сатиры. Борис Осипович Корман утверждал, что слово «автор» употребляется в литературоведении в нескольких значениях. Прежде всего оно означает реально существовавшего человека. В других случаях оно обозначает некий взгляд на действительность, выражением которого является все произведение. Наконец, это слово употребляется для обозначения некоторых явлений, характерных для отдельных жанров и родов (автором называют рассказчика, повествователя (в эпических произведениях) либо лирического героя (в лирике)). В своих работах ученый представил убедительные образцы субъектно-речевой организации литературного произведения. В монографии «Лирика Некрасова» он выделил такие формы выражения авторского сознания в стихотворениях поэта, как собственно автор, авторповествователь, лирический герой, ролевой герой. Корман утверждал, что биография, жизнь служат для писателя исходным материалом, который подвергается переработке. В основе художественного образа автора лежат мировоззрение, идейная позиция писателя. Бахтин в своих трудах писал, что автор как таковой понимается как некая ценность, которую нельзя расщепить на атомы, отдельные части. Автору принадлежит удивительное свойство – вненаходимость, т.е. нельзя воспринимать автора как простого человека, который о чем-то думает и пишет текст. Рассмотрение образа автора у Лихачева в «Исторической поэтике русской литературы» связано с историческим процессом, с анализом развития личностного начала. «Раскрепощение личности», возрастание личностного начала в художественном творчестве ученый считал особо важной чертой прогресса искусства. От фольклора и древнерусской литературы, где индивидуальное начало выражено еще очень слабо, через классицизм, романтизм, реализм — к течениям модернистского и авангардистского типа — так прослеживал Лихачев рост личности, индивидуальности в искусстве. Вот что пишет он, например, о резком возрастании авторского стиля в русской литературе XIV и XV веков, в частности об Иване Грозном: «Это в какой-то мере первый писатель, сохраняющий неизменной свою авторскую индивидуальность независимо от того, в каком жанре он писал. Его ораторские выступления, дипломатические послания, письма, рассчитанные на многих читателей, и частная переписка с отдельными лицами всюду выявляют сильный, неизменный образ автора: властного, ядовитого, саркастически настроенного, фанатически уверенного в своей правоте». Лихачев отмечает, что высокой степени достигает индивидуализация в реализме. «Речь действующих лиц становится не только характерной для их социального положения, но и для их индивидуального характера, для их склада мышления. В реализме начинают резко различаться речь автора и речь рассказчика, которому автор передает повествование». Особое внимание обращает Д. С. Лихачев и на «увеличение сектора свободы». В частности, он пишет: «Литературное творчество сочетает необходимость и свободу. Необходимость - это закономерности историко-литературного развития, это традиционные формы, в которых это развитие совершается, - формы, определяемые литературным этикетом и выражающиеся в традиционных идеях, канонах, “окаменевших эпитетах”, “бродячих сюжетах”, традиционных темах, мотивах. Свобода же - это предоставляемые литературой возможности творческого выбора среди этих традиционных средств, тем и идей и возможности создания новых». От Средневековья к литературе Нового времени прослеживает академик расширение сферы свободного творчества, постепенное разрушение жесткой системы правил и регламентаций. В конце XX в. появляется новая точка зрения на авторство. Согласно ей, художественная деятельность изолирована от духовно-биографического опыта создателя произведения. В последние десятилетия идея дегуманизации искусства породила концепцию смерти автора. По словам французского литературоведа Ролана Барта, ныне исчезает миф о писателе как «священном носителе высших ценностей». Прибегая к метафоре, ученый называет автора Отцом текста, характеризуя его как деспотичного и самодержавного. И утверждает, что в тексте «нет записи об Отцовстве» и личность писателя лишена власти над произведением, что с волей автора считаться не надо, ее следует забыть. Провозгласив, что Отец «мертв по определению», Барт резко противопоставляет автору живой текст. Ныне, полагает он, на смену Автору пришел Скриптор (т. е. пишущий), который «несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки». Барт полагает, что автор — это некая полумнимость; его нет ни до написания текста, ни после того, как текст завершен; полноту власти над написанным имеет лишь читатель. В основе бартовской концепции — идея безграничной активности читателя, его независимости от создателя произведения. Эта идея восходит к эстетике немецкого романтизма (В. Гумбольцт) и работам А.А. Потебни. Но именно Р. Барт довел ее до крайности и противопоставил друг другу читателя и автора как не способных к общению, столкнул их лбами, поляризовал, заговорил об их чуждости друг другу. Бартовская идея смерти автора на протяжении последних лет неоднократно подвергалась серьезному критическому анализу. Так, М. Фрайзе (Германия) отмечает, что «антиавторские» тенденции современного литературоведения восходят к концепции формальной школы, рассматривавшей автора лишь как производителя текста, «орудуюшего приемами», мастера с определенными навыками. И приходит к выводу: с помощью термина «ответственность» нужно восстановить автора в качестве центра, вокруг которого кристаллизуется художественный смысл. По мысли В. Н. Топорова, без «образа автора» (как бы глубоко он ни был укрыт) текст становится «насквозь механическим» либо низводится до «игры случайностей», которая по своей сути чужда искусству. Практическое занятие № 9 Актуальные проблемы литературоведения ХХ – начала ХХI века 4. Теории, ориентированные на читателя (рецептивная эстетика и история восприятия, историко-функциональные исследования). «Рецептивная эстетика» (Rezeptionsästhetik) и «эстетика воздействия» (Wirkungsästhetik) — эстетика диалога между текстом и читателем, обусловившая смену парадигмы в теории литературы второй половины 60-х годов XX века. В основе — взаимодействие условного, вымышленного текста с реальным читателем. В. Изер писал, что лишь прочтение литературного произведения приводит к «ключевому взаимодействию между его структурой и получателем». С точки зрения системного подхода к литературе рецептивная эстетика подключает подсистему «произведение ↔ читатель», фокусируя внимание на механизме работы прямых и обратных связей. Тем самым утрачивает значимость подсистема «автор ↔ произведение». История возникновения произведения, его генезис выпадают из поля зрения. Взаимоотношение «автор ↔ традиция», столь значимое для культурно-исторического подхода и герменевтики, в определенной мере утрачивает значение. Рецептивная эстетика отказывается и от пристального изучения соотношения «автор — реальность», оставляя эту проблематику для социологического метода. Анализ подсистемы «произведение ↔ читатель» находится на пересечении герменевтики, формального, социологического и психологического подходов. Симпатии и антипатии читателей — это читательские психологические установки, выведенные вовне и явленные в серии отрицательных и положительных реакций на произведение литературы. Разрабатывая подсистему «произведение ↔ читатель», В. Изер опирается на концепции Ю.М. Лотмана и теорию систем немецкого философа и социолога Н. Лумана (Luhmann Niklas, 1927—1998), автора монографии «Социальные системы». У Ю.М. Лотмана В. Изер выделяет мысль о произведении как «живом организме», связанном с читателем механизмом обратной связи. Следуя Луману, Изер указывает на «саморегуляцию систем» как основу взаимодействия автора и читателя (110). Формулируя этот пункт, В. Изер вплотную приближается к системно-синергетическому подходу в гуманитарном знании. Прямая связь в подсистеме «произведение ↔ читатель» порождает «эстетику воздействия» (Wirkungsästhetik). В этом случае речь идет о воздействии текста на читателя. Основные положения «эстетики воздействия» разработал В. Изер. Если акцент ставится на обратной связи, то запускаются механизмы «рецептивной эстетики». Ее основные положения были разработаны Х.Р. Яуссом. «Рецептивная эстетика» и «эстетика воздействия» противостоят имманентной теории литературы. В Германии на рубеже 60—70-х годов XX века сложилась «констанцская школа» (Konstanzer Schule) рецептивной эстетики. С немецкой традицией связана и американская рецептивная критика, изучающая реакции читателя (receptive criticism, reader-response school). Констанцская школа включала в себя группу теоретиков литературы, историков и философов, объединенных вокруг университета в городе Констанц (Германия). Междисциплинарность — отличительная черта школы. Среди ее представителей литературоведы Х.Р. Яусс (Jauß, H.R., 1921—1977) и В. Изер (Iser, Wolfgang, 1926—2007), философ Х. Блюменберг (Blumenberg, Hans, 1920—1996) и др. В рамках школы была подготовлена серия публикаций «Поэтика и герменевтика» (Poetik und Hermeneutik), получившая международную известность. Идеи рецептивной эстетики возникают в англо-американском и немецком литературоведении в конце 60-х годов XX века. Рецептивная эстетика отталкивается от царивших тогда «эпохальных систем объяснения» литературы» (В. Изер). Представители «констанцской школы» отказывались видеть в произведении словесного искусства «документированное свидетельство» «духа эпохи», отражение социальных условий или выражение авторского невроза. Рецептивная эстетика складывается в притяжении и отталкивании от ОПОЯЗа, Пражского лингвистического кружка, англо-американской «Новой критики» и структурализма. Х.Р. Яусс и В. Изер дистанцируются от понимания произведения как «суммы приемов», от техники «пристального чтения» и имманентного подхода в целом. Опорой рецептивной эстетики служат философские концепции Э. Гуссерля, идеи феноменологического литературоведения Р. Ингардена, ключевые положения герменевтики. Большое значение для рецептивной эстетики имели философские идеи Г.Г. Гадамера, перенесенные на литературу. «Рецептивная эстетика» нацелена в первую очередь на изучение «литературного опыта» (Erfahrung) читателя. При этом «рецепция» произведения, его «воздействие» на публику соотносятся с литературными «ожиданиями» читателей, с их «предпониманием» жанра, формы и тематики произведения на фоне предшествующей литературной традиции. Большое значение имеет и восходящее к ОПОЯЗу восприятие поэтического языка на фоне «бытового языка» данной эпохи. Очевидно, что с герменевтикой Яусса связывают категории «предпонимания» и «ожидания». К теориям русских формалистов восходит противопоставление поэтического и бытового языка. При этом художественные свойства текста, его «литературность» (Р.О. Якобсон) изучаются не прямо, а опосредованно. Их реконструируют исходя из воздействия произведения на читателей. Ставится вопрос об изучении «социологии читательского вкуса». Труды по эстетике Р. Ингардена являются мостиком между имманентным изучением литературы и рецептивной эстетикой. Воспринимая произведение, читатель «достраивает» его. Такое смысловое «достраивание» Р. Ингарден называет «конкретизацией». Конкретизация представляет собой «...вносимое читателем и не противоречащее произведению дополнение к нему». Обусловленной структурой произведения читательское «дополнение» «...находится уже за пределами произведения...». Р. Ингардену принадлежит мысль о «множестве... обликов» одного и того же произведения, которое оно «...приобретает... при многократном его чтении» одним и тем же читателем или читателями разных эпох. Множество прочтений объясняется не только социологическими причинами, «...разнообразием способностей и вкусов читателей», а также условий, при которых совершается чтение. Потенциальное множество конкретизаций восходит к «...определенной специфике самого произведения художественной литературы». Р. Ингарден полагает, что содержанию и форме присущи неустойчивость, неполная названность (поименованность), смысловая неопределенность. В этой неустойчивости, «...в отсутствие окончательной завершенности и неподвижности...», коренится «очарование» литературы3. Мысль о «местах неполной определенности» в тексте станет одной из центральных идей рецептивной эстетики. Главным героем истории литературы становится читатель, адресат, публика как «образующая историю энергия». Х.Р. Яусс характеризует коммуникативный характер литературы как «...диалогическое и в то же время развивающееся отношение между произведением, публикой и новым произведением, которое может быть постигнуто как на уровне отношений между сообщением и воспринимающим, так и на уровне отношений между вопросом и ответом, проблемой и решением» (пер. Ю.И. Архипова). Программным текстом рецептивной школы стала вступительная лекция Х.Р. Яусса «Литература как провокация». Он прочитал ее в университете г. Констанц в 1967 г. Датировка лекции весьма примечательна. Накануне студенческой революции в Европе 1968 г. Х.Р. Яусс возражал против сведения теории литературы к «производительной и изобразительной эстетике», т.е. к эстетике творца. Творец — высший авторитет, носитель власти над созданным им миром. Доведенный до предела, такой подход игнорирует читателя как адресата, «...которому предназначено в первую очередь литературное произведение». Такой подход отрицал и привычное амплуа историка (теоретика) литературы, утратившего монопольное право на единственно верное истолкование «смысла» произведения. Категория «смысл» обрела в работах Яусса и Изера динамичность, неустойчивость, текучесть. «Констанцскую школу» интересовало становление смысла в диалоге произведения и публики. Х.Р. Яусс сформулировал новое понимание литературы в ряде основных тезисов: — значение (смысл) произведения не является постоянной, раз и навсегда данной, статичной величиной; — смысл произведения меняется в зависимости от рецепции читателей; — рецепция возникает на основе диалектических отношений между произведением и реципиентом на фоне исторического контекста; — рецепция литературного текста читателями осуществляется на основе «референциальной рамки», регулирующей акт чтения. Референциальная рамка определяется структурой «чи-тательских ожиданий» (Erwartungsstruktur). Ожидания читателей — это своего рода коллективное «предпонимание» литературы. Референциальная рамка — это «горизонт ожидания» читателя, формирующийся на основе жанровых норм эпохи, соотношения вымысла и действительности, текста и контекста в сознании читателей; — процесс рецепции представляет собой непрерывный диалог «горизонта ожидания читателя» с сигналами текста; — благодаря возможности «эстетической дистанции» (эффект «остранения») произведение высокой литературы может вызвать «изменение горизонта ожидания читателей»; — «первичная рецепция» (рецепция читателей-современников) отличается от «вторичной рецепции» позднейших читателей. В отличие от «имплицитного читателя» В. Изера Х.Р. Яусс делает акцент на эксплицитном, «историческом» читателе. Х.Р. Яусс разработал основные идеи «эстетики воздействия». В трудах В. Изера получила развитие рецептивная эстетика. Центральное положение рецептивной эстетики — рождение нового смысла в акте эстетического восприятия текста читателями. В. Изер опирается на идеи исследователя социальных систем Н. Лумана, понимавшего смысл как «...возможность определять себя через указания на иные элементы системы»3. «Иной элемент системы» литература — это публика, читатель. По утверждению В. Изера, cмысл — это всегда «воздействие» (Wirkung), впервые возникающее «в ходе чтения» (erst im Ablauf der Lektüre, 241). Литературные тексты инициируют самовозникновение смысла (Sinnvollzüge). Поэтому текст не равен авторскому созданию как конечному продукту. Литературные тексты «могут производить нечто, чем сами они не являются». Развивая идеи Х.Р. Яусса, В. Изер анализирует категории «чтение» и «читатель». Он выделяет «внутреннего», «имплицитного» читателя, укорененного в самом тексте, и читателя эксплицитного, реально-исторического. Имплицитный читатель — это теоретический конструкт, «трансцедентальная модель», при помощи которой может быть описано воздействие текста на читателя. В. Изер имеет в виду «роль читателя», закрепленную в апеллятивной структуре текста. Центральный момент рецептивной эстетики состоит в понимании текста как сети апеллятивных структур, обращенных к реципиенту. Текст возникает как результат взаимодействия, как «интеракция» с читателем. В читательском восприятии происходит «конкретизация» текста. Апеллятивная структура произведения содержит открытый смысловой горизонт, потенциал «возможных актуализаций» в процессе чтения. Рецептивная эстетика исходит из фундаментальной асимметрии текста и читателя. Развивая идеи Яусса, В. Изер выдвигает следующие понятия: структура «акта чтения», «репертуар текста», «горизонт ожидания», «места неопределенности» (Unbestimmtheitsstellen), «незаполненные позиции» («пробелы, Leerstellen). Раскрытие смыслового содержания текста при новом прочтении оказывается возможным, так как произведение, представляющее собой «обращение» (Appell) к читателю, содержит многочисленные точки неопределенности, которые читатель актуализует в прочтении1. Точки неопределенности связаны с незаполненными, пустыми, свободными местами в тексте (Leerstelle). В такой точке читатель может включаться в произведение, комбинируя различные «сегменты текста» и «перспективы повествования». У читателя возникают гипотезы о взаимоотношениях различных сегментов текста. «Незаполненные позиции», «пробелы» направляют активность читательского восприятия. Эксплицитный читатель воспринимает произведение из своего исторического и социокультурного горизонта. Прочтение произведения представляет собой его «индивидуальную конкретизацию». При этом читатель реагирует на определенный «репертуар текста» (Textrepertoire). «Репертуар текста» включает в себя «внетекстовые нормы», отобранные автором из экстратекстовой реальности и включенные в произведение, а также повторяющиеся элементы предшествующих жанровых традиций. Этот компонент М.М. Бахтин обозначал термином «жанровая память». За счет сочетания внетекстовых норм и повторяющихся элементов предшествующей литературной традиции возникают «степени определенности» (Bestimmheitsgrade) данного текста (134). В тексте намечаются контуры «горизонта ожидания» читателя, контуры диалога между читателем и текстом. От читателя зависит, как он будет реагировать на репертуар текста, заполняя «незаполненные позиции» в тексте в соответствии со своим «горизонтом ожидания». «Незаполненная позиция», «пробел» — «место неопределенности» в тексте. Потенциально именно здесь читатель мог бы подключиться к пониманию текста. Но именно здесь происходит «негация», смысловое отрицание (332). Читатель не может «войти» в текст. «Незаполненные позиции» вызывают его повышенную активность. Включается сила читательского воображения. В. Изер называет «незаполненные позиции» «элементарными матрицами» взаимодействия текста и читателя (301). В этих точках происходит «динамизация» текстовой структуры, она приобретает «открытость» (Offenheit, 315). Если текст вызывает у читателя некие ожидания, которые в дальнейшем снимаются, то это может быть результатом воздействия «незаполненных позиций». В этих точках текст «отрицает» энергию воображения читателя (340). «Негация» связана с возникновением особой «алеаторики» смысла. Алеаторика подразумевает наличие свободных, открытых, динамичных смысловых позиций, которые не предопределены, не даны заранее (355). В тексте возникает напряжение между сказанным и недосказанным, несформулированным.