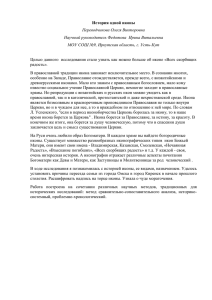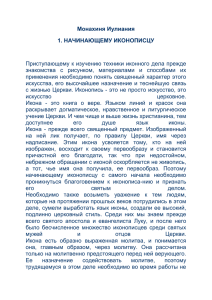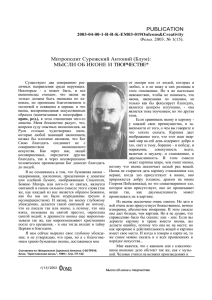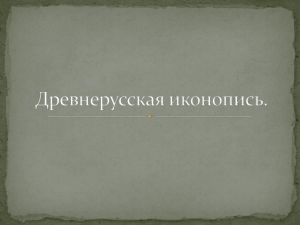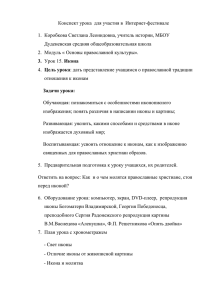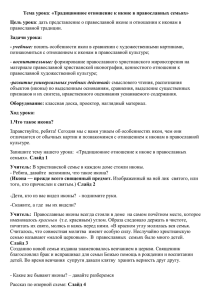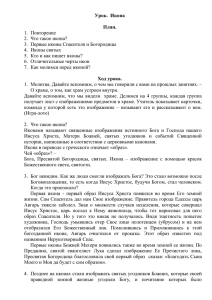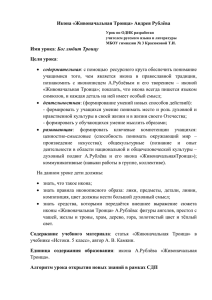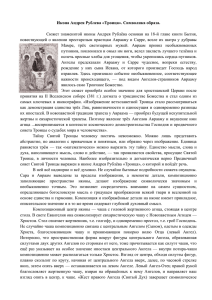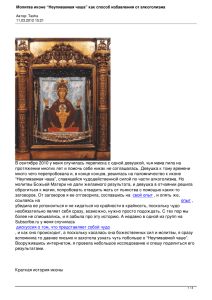ИКОНА ДРЕВНЕЙ РУСИ XI-XVI вв
реклама
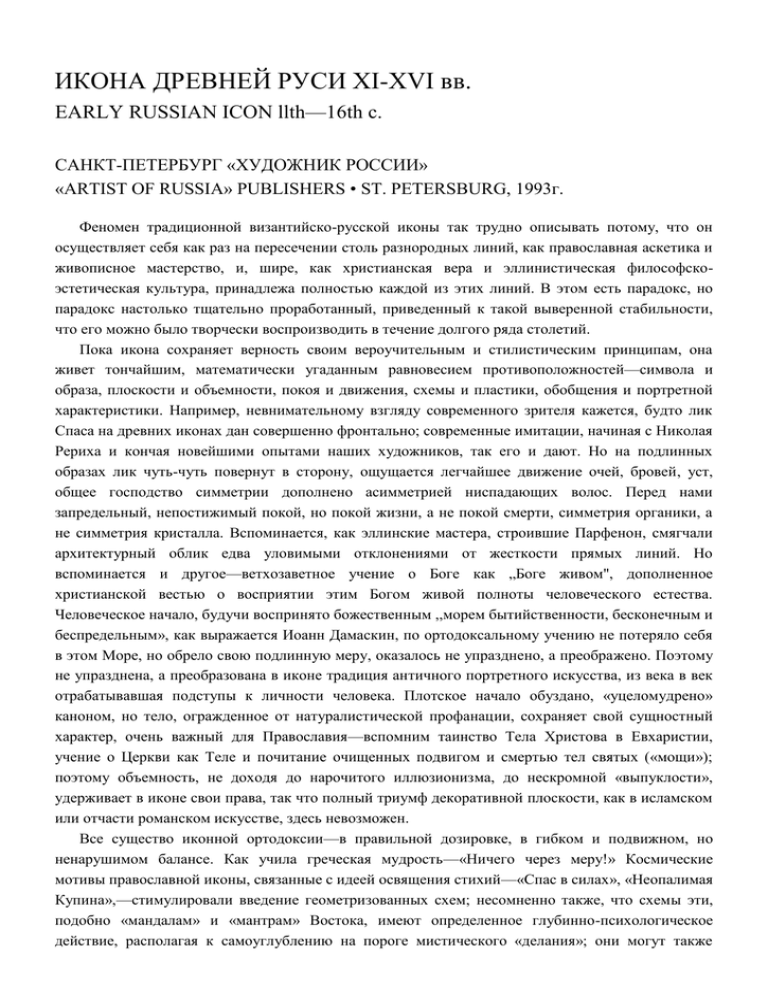
ИКОНА ДРЕВНЕЙ РУСИ XI-XVI вв. EARLY RUSSIAN ICON llth—16th c. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «ХУДОЖНИК РОССИИ» «ARTIST OF RUSSIA» PUBLISHERS • ST. PETERSBURG, 1993г. Феномен традиционной византийско-русской иконы так трудно описывать потому, что он осуществляет себя как раз на пересечении столь разнородных линий, как православная аскетика и живописное мастерство, и, шире, как христианская вера и эллинистическая философскоэстетическая культура, принадлежа полностью каждой из этих линий. В этом есть парадокс, но парадокс настолько тщательно проработанный, приведенный к такой выверенной стабильности, что его можно было творчески воспроизводить в течение долгого ряда столетий. Пока икона сохраняет верность своим вероучительным и стилистическим принципам, она живет тончайшим, математически угаданным равновесием противоположностей—символа и образа, плоскости и объемности, покоя и движения, схемы и пластики, обобщения и портретной характеристики. Например, невнимательному взгляду современного зрителя кажется, будто лик Спаса на древних иконах дан совершенно фронтально; современные имитации, начиная с Николая Рериха и кончая новейшими опытами наших художников, так его и дают. Но на подлинных образах лик чуть-чуть повернут в сторону, ощущается легчайшее движение очей, бровей, уст, общее господство симметрии дополнено асимметрией ниспадающих волос. Перед нами запредельный, непостижимый покой, но покой жизни, а не покой смерти, симметрия органики, а не симметрия кристалла. Вспоминается, как эллинские мастера, строившие Парфенон, смягчали архитектурный облик едва уловимыми отклонениями от жесткости прямых линий. Но вспоминается и другое—ветхозаветное учение о Боге как „Боге живом", дополненное христианской вестью о восприятии этим Богом живой полноты человеческого естества. Человеческое начало, будучи воспринято божественным ,,морем бытийственности, бесконечным и беспредельным», как выражается Иоанн Дамаскин, по ортодоксальному учению не потеряло себя в этом Море, но обрело свою подлинную меру, оказалось не упразднено, а преображено. Поэтому не упразднена, а преобразована в иконе традиция античного портретного искусства, из века в век отрабатывавшая подступы к личности человека. Плотское начало обуздано, «уцеломудрено» каноном, но тело, огражденное от натуралистической профанации, сохраняет свой сущностный характер, очень важный для Православия—вспомним таинство Тела Христова в Евхаристии, учение о Церкви как Теле и почитание очищенных подвигом и смертью тел святых («мощи»); поэтому объемность, не доходя до нарочитого иллюзионизма, до нескромной «выпуклости», удерживает в иконе свои права, так что полный триумф декоративной плоскости, как в исламском или отчасти романском искусстве, здесь невозможен. Все существо иконной ортодоксии—в правильной дозировке, в гибком и подвижном, но ненарушимом балансе. Как учила греческая мудрость—«Ничего через меру!» Космические мотивы православной иконы, связанные с идеей освящения стихий—«Спас в силах», «Неопалимая Купина»,—стимулировали введение геометризованных схем; несомненно также, что схемы эти, подобно «мандалам» и «мантрам» Востока, имеют определенное глубинно-психологическое действие, располагая к самоуглублению на пороге мистического «делания»; они могут также иметь дидактическую функцию на правах своего рода диаграмм смысла. Отсюда известное сходство приемов художественной условности, применяемых в иконе—и в сакральном искусстве, скажем, Тибета. Но сходство кончается там, где оно началось. В тибетском искусстве фронтальность изображения — полная, а потому фигура до конца растворяется в схеме, как один из ее элементов, хотя бы центральный. Икона делает все схематизированное лишь путем к Лику, очищенному схемой, но ей, как мы видели, неподвластному, к пей не сводимому. На уровне истории искусства это связано с неразрушимостью античных основ иконы. На уровне духовном это говорит о принципиальном различии между медитацией индуистско-буддистского типа—и православным «умным деланием»: различии, касающемся целей того и другого. Некоторое сходство в приготовительной технике ни о чем не говорит: судно отплывает от берега примерно так, как это делает другое судно, однако затем разные суда выбирают разные маршруты. Предварительная задача всякого созерцания — сосредоточиться; но все дело в том, каков предмет созерцания. Богочеловеческий Лик, несущий в Себе Свою личную, «ипостасную» тайну, как первообраз всякой человеческой личности, не может быть одним из знаков Нирваны. Не Ничто глядит с небес Из-под звездных век. На земле моей воскрес Богочеловек. Вяч. Иванов Икона, но формуле замечательного русского философа А. Ф. Лосева, есть символ, данный идеально-личностно. Подвижное и строгое, живое и точное равновесие иконы было найдено христианской культурой не сразу. Раннехристианская живопись катакомб еще не набрала достаточно сил, чтобы создать собственный стиль, преодолев возможности, предложенные современной ей языческой культурой: беглую эскизность манеры, аллегоричность подхода к духовной теме. Лишь святоотеческий философский синтез IV—VII веков, объединивший четко сформулированные догматы с платоновской, аристотелевской и неоплатонической культурой мысли, разработавший, между прочим, концепции образа («эйдос», «эйкон», «тюпос» и так далее), первообраза-архетипа и отображения-антитипа, подготовил явление иконы. Первые иконы в полном смысле этого слова относятся к эпохе, непосредственно предшествовавшей иконоборческому кризису VIII—IX веков; драгоценные образцы этой ранней иконописи, пережившие истребление, весьма немногочисленны. Вершинный расцвет иконописания в Византии, у южных славян и на Руси, относится к первой половине второго христианского тысячелетия (византийская икона, известная под именем Богоматери Владимирской, ныне в Третьяковской галерее,—XII в.; школа Андрея Рублева—начало XV в.; школа Дионисия—рубеж XV и XVI вв.). Затем происходит постепенная утрата духовного строя и эстетического уровня; равновесие между символом и образом нарушается, отчасти за счет чрезмерной повествовательности многофигурных композиций, отчасти же за счет пристрастия к замысловатым аллегориям на темы богословских абстракций, подменяющих «идеально-личностное» вещественно-эмблематическим. Бога-Отца, которого всегда совершенно обоснованно считали неизобразимым, теперь изображают в виде достойного брадатого старца. Проникновение элементов западноевропейского послевозрожденческого натурализма окончательно размывает самые основы стиля. Строгость канона дольше всего держится вдали от центров новой цивилизации: в послепетровской России—по старообрядческим скитам, у греков—в мастерских Малой Азии. Однако пассивная защита канона как замкнувшейся в себе данности приводит к его застыванию и окостеневанию. Иконопись деградирует до статуса ремесла, практикуемого в артелях «богомазов» на основе регламентированного разделения труда: «доличник» пишет фон и ризы, оставляя место для лика, потом приходит мастер высшей квалификации и пишет лик. Чисто ремесленная практика, которая, однако, в последний раз посвоему фиксировала особое положение Лика в космосе иконы... Даже в этом своем качестве народного ремесла иконопись остается хранительницей древних заветов красоты; ее место в жизни русского народа хорошо передано в рассказе Н. С. Лескова «Запечатленный Ангел» (не забудем, однако, что герои рассказа — старообрядцы). Культура «образованных сословий» полностью отучивается воспринимать икону как произведение искусства, как духовную весть на языке искусства. Поколения носителей этой культуры, сколь бы «русскими душою» и сколь бы православными они ни были, видели в потемнелых ликах лишь материальную реликвию бытовой религиозности. Они молились перед этими ликами, потому что так их научили с детства, однако идеал христианской красоты видели чаще всего, с легкой руки В. А. Жуковского, в «Сикстинской Мадонне» Рафаэля. Даже у Ф. И. Буслаева интерес к иконе направлен на сюжетную сторону и проходит мимо ее связного и неделимого духовно-художественного строя. Положение резко изменилось с начала нашего века. Новые художественные искания, оспорив принципы прямой перспективы, а вместе с ними — всю послевозрожденческую норму, заставили увидеть в иконе уже не простонародную наивность, не проявление детского неведения, а последовательную и сознательную систему художественного видения, усовершенствованную зрелым опытом веков. Работа реставраторов открыла под позднейшими наслоениями небывалую чистоту и силу контура и цвета. Все это совпало с подъемом русской религиозной философии, сделавшей выяснение смысла иконных форм одной из своих излюбленных задач (Е. Н. Трубецкой. Умозрение в красках, 1916; II. А. Флоренский. Иконостас, 1921—1922 и другие). Православная икона, высоко оцениваемая как эстетический феномен и ценителями, далекими от веры, вызывает напряженный интерес у представителей западного христианства, у молодых богоискателей в странах, не знавших православной традиции. Копии Богоматери Владимирской, рублевской Троицы и других икон появляются за католическим и англиканским богослужением. Удивляться не приходится. Современному человеку, склонному напряженно искать альтернативу сциентизму и техницизму — в практической жизни, сентиментальному морализму — в религии, эмоциональному произволу — в религиозном искусстве, икона реально предлагает эту альтернативу, не заводя, в отличие от модных систем восточной мистики, в оккультистские дебри, и не только не отчуждая от подлинной европейской традиции, но восстанавливая связь с ее основаниями, не только христианскими, но и платонико-аристотелианскими. Возможно ли возродить сегодня православную живопись — не как благообразную стилизацию, род священного рукоделия, но как живое, подлинно современное творчество? Назовем имя художника, по темпераменту смелого до дерзости и одновременно верного канону— имя инока Григория (Круга—1909— 1969). Он закончил свое профессиональное образование в Парижской академии художеств, под руководством знаменитого К. А. Сомова, и я лично уверен, что на стезе светского художника его ждала незаурядная известность; но им был избран путь инока-иконописца. Его иконы, его стенопись, к сожалению, неизвестные у нас, украшают русские православные храмы и скиты Франции. Вот уж кого послушание канону не сделало рабом — какое там! Ничего лишнего, ни миллиметра мертвой условности — угловатое, напряженное искусство, до предела обнаженное свидетельство о духовной борьбе. Если это не современно — что современно? Покойный Леонид Александрович Успенский (1902—1987), оставивший светлую память в сердцах всех, кто его знал, был сподвижником инока Григория (Круга). Он стяжал мировую известность как богослов и философ (его работы, изданные по-немецки, по-английски и пофранцузски, нашли себе многочисленных читателей); но важно помнить, что иконное дело он знал изнутри, как прекрасный иконописец-практик. Чистая радость — видеть его работы, украшающие, например, благородную нищету церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости на парижской улице Сен-Виктор. Менее дерзновенный, менее своеобычный, но более уравновешенный мастер, нежели Круг, он в совершенстве владел строгостью стиля, и вкус его был поистине безукоризненным. Л. А. Успенский обладал познаниями историка богословия, подлинной философской перспективой; недаром он мог выступать соавтором такого крупного православного мыслителя, как В. Н Лосский. Но подчеркнем еще раз: его мысль — это мысль иконописца по профессии и призванию. Например, его отношение к инославной духовности явственно окрашено специфической ревностью художника, озабоченного тем, чтобы не пустить в свое искусство— эклектики... Канон икопописания не был для него просто одним из духовных ориентиров; Леонид Александрович, каким мы его знали, жил и прожил свою праведную жизнь внутри этого затвора. Вот что может найти у него читатель: продуманный, выношенный, зрелый взгляд на икону— не извне, а изнутри. Историк искусства, даже верующий, не способен дать такой взгляд по самой сути своей профессии. Успенский вводит нас в мир иконы, как в свой собственный мир. Читатель заметит, что работа Леонида Александровича обращена к западному восприятию. Думается, однако, что у большинства представителей нашей читающей публики предварительная отчужденность от законов мира иконы—не меньше. Что нужно было сказать западному читателю, пригодится и для нас. С. С. Аверинцев