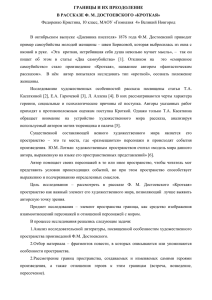Своеобразие художественности
реклама
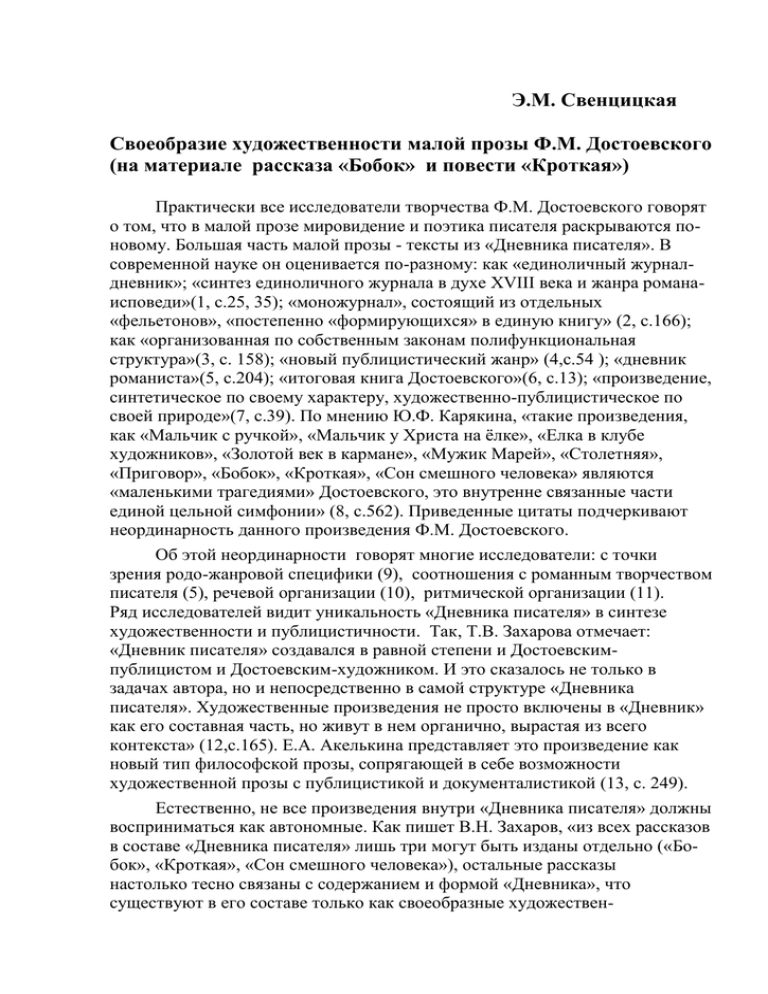
Э.М. Свенцицкая Своеобразие художественности малой прозы Ф.М. Достоевского (на материале рассказа «Бобок» и повести «Кроткая») Практически все исследователи творчества Ф.М. Достоевского говорят о том, что в малой прозе мировидение и поэтика писателя раскрываются поновому. Большая часть малой прозы - тексты из «Дневника писателя». В современной науке он оценивается по-разному: как «единоличный журналдневник»; «синтез единоличного журнала в духе XVIII века и жанра романаисповеди»(1, с.25, 35); «моножурнал», состоящий из отдельных «фельетонов», «постепенно «формирующихся» в единую книгу» (2, с.166); как «организованная по собственным законам полифункциональная структура»(3, с. 158); «новый публицистический жанр» (4,с.54 ); «дневник романиста»(5, с.204); «итоговая книга Достоевского»(6, с.13); «произведение, синтетическое по своему характеру, художественно-публицистическое по своей природе»(7, с.39). По мнению Ю.Ф. Карякина, «такие произведения, как «Мальчик с ручкой», «Мальчик у Христа на ёлке», «Елка в клубе художников», «Золотой век в кармане», «Мужик Марей», «Столетняя», «Приговор», «Бобок», «Кроткая», «Сон смешного человека» являются «маленькими трагедиями» Достоевского, это внутренне связанные части единой цельной симфонии» (8, с.562). Приведенные цитаты подчеркивают неординарность данного произведения Ф.М. Достоевского. Об этой неординарности говорят многие исследователи: с точки зрения родо-жанровой специфики (9), соотношения с романным творчеством писателя (5), речевой организации (10), ритмической организации (11). Ряд исследователей видит уникальность «Дневника писателя» в синтезе художественности и публицистичности. Так, Т.В. Захарова отмечает: «Дневник писателя» создавался в равной степени и Достоевскимпублицистом и Достоевским-художником. И это сказалось не только в задачах автора, но и непосредственно в самой структуре «Дневника писателя». Художественные произведения не просто включены в «Дневник» как его составная часть, но живут в нем органично, вырастая из всего контекста» (12,с.165). Е.А. Акелькина представляет это произведение как новый тип философской прозы, сопрягающей в себе возможности художественной прозы с публицистикой и документалистикой (13, с. 249). Естественно, не все произведения внутри «Дневника писателя» должны восприниматься как автономные. Как пишет В.Н. Захаров, «из всех рассказов в составе «Дневника писателя» лишь три могут быть изданы отдельно («Бобок», «Кроткая», «Сон смешного человека»), остальные рассказы настолько тесно связаны с содержанием и формой «Дневника», что существуют в его составе только как своеобразные художествен- ные эпизоды, но не самостоятельные произведения» (12,с. 204). В данной работе я остановлюсь на подробном анализе двух из названных В.Н. Захаровым произведений – рассказе «Бобок» и повести «Кроткая» - и постараюсь уточнить тезис о синтезе публицистичности и художественности по отношению к данным произведениям, разобраться в характере этого синтеза. Прежде всего, необходимо сказать о жанровом своеобразии этих произведений. Повесть «Кроткая» имеет авторский подзаголовок «Фантастический рассказ», а «Бобок» - «Записки одного лица». Интересно, что последнее произведение М.М. Бахтиным тоже называется «фантастическим рассказом» (14, с. 72). Возможно, это происходит не по инерции, а по действительно существенному признаку данной жанровой разновидности, которая в этом рассказе наличествует и даже подчеркивается. Это фантастичность, относимая не столько к «рассказываемому событию», сколько к самому «событию рассказывания» (15, с.236). В «Кроткой» вообще ничего фантастического нет, кроме «стенографа», о котором говорится в предисловии «От автора». Но ведь и в «Бобке» фантастика событийного ряда (говорящие мертвецы) была бы невозможна без аналогичного фантастического допущения: что это самое «одно лицо», от лица которого ведется повествование, может запомнить речи мертвецов настолько подробно, что временами создается иллюзия синхронной записи, еще и в том состоянии, в котором оно в данный момент находится. И обратим внимание, что здесь авторское предисловие, только лишь менее развернутое, чем в «Кроткой», сосредоточивает внимание на том, что данные события кто-то рассказывает, причем источник знания его об излагаемых событиях подчеркнуто проблематизируется. Этой фантастикой формы указывается на наличие подлинного автора, который здесь, буквально по М.М. Бахтину, находится «по касательной» (16, с. 406) к художественному миру произведения, и именно таковое нахождение и определяет фантастичность. По сути, подчеркивается именно художественная природа повествования. А повествователь в этих произведениях одновременно является героем, и, возможно, в целом в «Дневнике писателя» параллельно с повествованием создается образ современного публициста и его слова. Во всяком случае, в рассказе «Бобок» он обрисован очень отчетливо. Его зовут Иван Иваныч, он профессиональный литератор, достаточно образованный, читавший Вольтера, спивающийся и нуждающийся, с двумя «симметрическими бородавками» на лбу. И бахтинская характеристика героя-повествователя в этом рассказе, возможно, объясняется не только присущим меннипее стилем и тоном повествования: «Речь его внутренне диалогизована и вся пронизана полемикой. И начинается рассказ прямо с полемики с каким-то Семеном Ардалионовичем, обвинившим его в пьянстве. Полемизирует он с редакторами, которые не печатают его произведений (он непризнанный писатель), с современной публикой, не способной понимать юмор, полемизирует, в сущности, со всеми своими современниками. А затем, когда развертывается главное действие, негодующе полемизирует с «современными мертвецами»» (14, с. 74). Легко узнать в данном высказывании манеру речевого поведения героя Ф.М. Достоевского, в частности, «внутренне-полемическое слово – слово с оглядкой на враждебное чужое слово» (14, с.76), описанное в цитируемой работе на примере «Бедных людей». Собственно, может показаться, что я здесь ломлюсь в открытую дверь, но мне это показать принципиально важно, ведь если публицист – не автор, а герой, то и правда публициста – одна из возможных правд. В «Бобке» эта дистанциированность еще и подчеркивается сторонней характеристикой («У тебя…слог меняется, рубленый») и настойчивой имитацией этого слога в дальнейшем. Самое главное – публицистичность предполагает все-таки отчетливость мысли, определенность ее формулировки. Так, именно акцентирование публицистического начала мотивирует В.В. Борисову рассматривать произведения из «Дневника писателя» как своеобразные эмблемы, где изображенные события носят, по сути, иллюстративный, подчиненный характер по отношению к идее, поскольку, как говорит исследовательница, «…эмблематичность художественных текстов в данном случае коррелирует с заданной авторским контекстом однозначностью образов, с их наглядностью и дидактичностью» (16, с. 8). Эта установка на однозначный смысл, одну идею заставляет исследовательницу искать эту самую идею там, где она вряд ли может быть – в словах героя-повествователя: «Нет, этого я не могу допустить; нет, воистину нет!.. Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и - даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и... ». По сути, здесь смысл целого сводится к слову героя, а это слово признается абсолютно авторитетным, при том, что сам герой таковым не выглядит. Поэтому далее исследовательнице приходится призывать на помощь автора и констатировать, что именно здесь сказовое повествование сменяется полным слиянием голосов автора и героя. В этом отношении В.В. Борисова следует за гораздо более интересным анализом этого рассказа у М.М. Бахтина, который также не избегает однозначно-публицистического толкования его смысла: « Здесь в речь раccказчика врываются почти чистые слова и интонации совсем иного голоса, то есть авторского голоса, врываются, но тут же и обрываются на слове «и…»… И центральная образная идея здесь мистерийна (правда, в духе элевсинских мистерий): «современные мертвецы» – бесплодные зерна, брошенные в землю, но не способные ни умереть (то есть очиститься от себя, подняться над собою), ни возродиться обновленными (то есть принести плод)» (14, с. 75). Аналогичное построение мы встречаем у В.В. Борисовой: «Произведение заканчивается словами, исходящими не только от героярассказчика, в них слышится и голос автора… Мертвецы «Бобка» утратили душу еще в земной жизни, и как бы по инерции извращенное сладострастие продолжает владеть их сознанием после смерти» (16, с. 142). М.М. Бахтин, в принципе, чувствует немотивированность и внезапность слияния голосов и вытекающего отсюда однозначного толкования произведения, Не зря но употребляет слово «врываются». А для В.В. Борисовой, соотносящей свой анализ не с автором-творцом, а с автором – биографическим лицом, здесь и проблемы никакой нет. Между тем рассказ «Бобок» - не только одно из самых мистических, но и одно из самых многослойных, несмотря на краткость, произведений Ф.М. Достоевского. Прежде всего нужно остановиться на названии. Исследователи предполагали, что название мотивировано созвучием с фамилией и псевдонимом известного в ту пору писателя-«натуралиста» Боборыкина (псевдоним «Пьер Бобо»). По мнению В.П. Владимирцева, оно укоренено в народной этимологии: «Бобовое зерно, боб, бобок (просторечный вариант) – гадательный атрибут и заклинательное словечко. Гадательные обряды и слова способны открывать тайный смысл подаваемых из «иных миров» знаков»(17, с. 328). В этом плане название корреспондирует с мотивом карточной игры, который возникает в самом начале разговора мертвецов: «Вы объявили в червях, я вистую, и вдруг у вас семь в бубнах. Надо было условиться заранее насчет бубен-с». Тут же бросается в глаза звуковое созвучие повторенного дважды слова «бубны, бубен» и слова «бобок». И бобок, понятый как элемент гадания, и карточная игра (явно преферанс) отсылают к ситуации игры случая, игры с судьбой, бросания жребия. Кстати, приведенная цитата явно перекликается с пушкинскими «Сценами из Фауста»: «Что козырь? Чирва? Мне ходить? / Молчи, ты глуп и молоденек,/ Ведь мы играем не из денег, /А чтобы вечность проводить». Сразу же заметим, что последняя строка очень точно обозначает ситуацию рассказа: говорящие мертвецы именно «проводят вечность» так, как «проводят время» в жизни. И собственно, на это и указывает первый, поверхностный смысл заглавия: гадать на самом деле не о чем, выбора, в сущности, нет. Мир живых и мир мертвых с самого начала, еще до того, как появляются говорящие мертвецы, практически не отличаются друг от друга. Среди живых, например, «много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости». У мертвецов «есть выражения мягкие, есть и неприятные. Вообще улыбки не хороши, а у иных даже очень». Собственно, здесь, возможно, одно из самых важных опасений целого ряда героев Достоевского, а возможно и самого автора: что жизнь после смерти, «жизнь Вечная», в принципе, может и ничем не отличаться от нынешней жизни (вечность - «баня с пауками», как говорит Свидригайлов, рассуждения героя «Сна смешного человека, Ипполита в «Идиоте», «Приговор» в «Дневнике писателя»). Перед нами здесь – сниженное, вывернутое наизнанку, но зато совершенно буквальное евангельское «смертию смерть поправ». Еще один важный момент: сущностное соответствие мира видения и мира героя, их пограничный характер. В видении мертвые оживают («просыпаются»), но одновременно живые постепенно превращаются в мертвецов («засыпают»). С одной стороны, о мертвецах говорится: «Ну, одолжили; нечего сказать, утешили» (неживое движется к живому). С другой стороны, один из мертвецов говорит о себе: «Да ведь мы, так сказать, умерли» (живое движется к неживому). Эти процессы происходят одновременно и взаимообусловленно, что и дает возможность говорить о живом как о мертвом и о мертвом как о живом, и все видение представляет собой развертывание жизни этого нестойкого синтеза: мертвец-живой человек. Аналогичным образом и герой-повествователь в самом своем естестве есть граница - он явно находится между здравым смыслом и безумием: «Но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи». Характерно, что герой, желая развлечься, не просто идет на кладбище, но буквально заглядывает за грань, отделяющую мир живых от мира мертвых: «Заглянул в могилки - ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и... ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком». Собственно, вот что принципиально важно для понимания данного текста: состояние пограничности множится, это состояние и мира, и человека, но при этом сама граница теряется, если и возникает, то выглядит как-то обыденно, и если страшна, то именно этой обыденностью. Очень характерно, что слово «бобок» звучит и по ту, и по другую сторону границы, оно служит чем-то вроде призыва герою из другого мира, оно и мотивирует обращение к нему: «Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: "Бобок, бобок, бобок!" Какой такой бобок? Надо развлечься». Оно же является своеобразным лейтмотивом потустороннего мира: «Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: "Бобок, бобок", - но и в нем, значит, жизнь всё еще теплится незаметною искрой». И оно же остается в памяти после того, как видение исчезает: «Бобок меня не смущает (вот он, бобок-то, и оказался!)». Получается, что звеном, соединяющим человека, мир действительный и мир потусторонний оказывается … «бобок». И это снова возвращает нас к вопросу: что же значит «бобок» в самом рассказе как «новое имя для нового предмета»? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем разобраться в природе мира потустороннего. То, что эта реальность принципиально ничем не отличается от жизненной, бросается в глаза, но утверждение, что после смерти просто продолжается пошлая жизнь, лежит на поверхности. Все-таки различия есть, и они принципиальны. Прежде всего, мир потусторонний – это мир слова и только слова, то есть абсолютно все – и карточная игра в начале, и разврат а дальнейшем, и «жить без лжи», и «заголимся и обнажимся» - это все только слова, которые никак и никаким образом уже не могут перейти в дела, и герои здесь полностью живут в слове и для слова. При этом они прекрасно сознают свое состояние, предполагают, что дальше их ждет полное небытие, и не испытывают по этому поводу никакого страха. («Здесь вы сгниете в гробу, и от вас останется шесть медных пуговиц»). Говорить о цинизме современных людей – наверное, слишком просто для Достоевского. Скорее всего, когда от жизни остается слово и сознание, когда вместо жизни – рассказывание биографий, пусть даже и без всякого стыда, эта ситуация что-то неотвратимо меняет в самом человеке, что-то самое главное из него уходит. Следует отметить, что все мертвые, чья жизнь перешла полностью в слово, отличаются от других героев Ф.М. Достоевского, с которыми их исследователи сопоставляют, поразительным отсутствием того, что М.М. Бахтин называет «доминантой самосознания в построении героя» (14, с. 72), и даже того, что другие исследователи называют «человеческое в человеке», «бездны человеческой, человеческой бездонности», о которой говорит Н. Бердяев в книге «Миросозерцание Достоевского» (18, с. 45). Между тем эти качества в романах Ф.М. Достоевского присущи даже самым сомнительным в нравственном плане героям, например, Фердыщенко в «Идиоте», который устраивает похожее на то, что предлагает Клиневич, «пети-же» («Ну возможно ли, в самом деле, такого, как я, принимать? ведь я понимаю же это…»), не говоря уже о «сладострастниках» Свидригайлове или Федоре Карамазове, сходными по внутренней сути со «старцем» Тарасевичем. Возможно, это и есть «жизнь вне жизни», то, что остается от человека, когда он полностью изымается из сферы поступка и переживания. Получается, самое главное, что даже самого погибшего человека делает человеком, находится вне слова. Подобный поворот характерен и для других произведений Ф.М. Достоевского, вспомним хотя бы Раскольникова, который в конце романа молча бросается к ногам Сони, не говоря уже о молчании героев «Кроткой», к которому мы еще вернемся. То есть понятно, что отмечаемое многими героями многословие героев Ф.М. Достоевского объясняется тем, что именно в слове осуществляется рефлексия – необходимое условие самопознания и «самозавершения». Но одновременно писатель показывает, что есть аспекты реальности, в которых слово бесполезно, поскольку не способно их адекватно выразить. И главное, что именно этим многоговорением максимально усиливается потенциал того, о чем не сказано. Это невысказанное остается главным объектом постижения, и сказанное представляет собой только усилие, только попытку, бесконечно совершающуюся заново. Эта закономерность объединяет жизненную и потустороннюю реальность. Поэтому очень характерно, что покойник-генерал приветствует «новичка» такими словами: «Милости просим в нашу, так сказать, равнину Иосафатову. Люди мы добрые, узнаете и оцените». А другой покойник, только что «проснувшийся» лавочник, спрашивает: «Барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам это хожу, али что иное деется?..». Заметим, что и все видение заканчивается его же репликой с тем же содержанием, как итог всего слышанного: «Воистину душа по мытарствам ходит!». Это как раз определение изнутри ситуации, и, наверное, наиболее важное определение именно потому, что оно не акцентировано. Именно это и происходит здесь: Страшный Суд, хождение по мукам, которые заключаются именно в том, что вот это самое важное, внесловесное, тайное измерение из человека раз и навсегда вынуто, а высказываемое человеком по сравнению с тем, что не высказано, - нечто бесконечно малое, хаотическое, абсурдное. Вот, кстати, один из возможных смысловых наполнений названия рассказа – «бобок», кроме всего прочего, просто слово, выражающее эту суть высказывания по сравнению с тем, что остается внутри человека, то, к чему сводится все, о чем говорят «живые мертвецы», невнятное, отвратительное бормотание. Об этом, кстати, и реплика Клиневича: «Главное, два или три месяца жизни и в конце концов – бобок». Следует отметить, что сама по себе эта ситуация – ситуация запредельная, ситуация последнего суда и последних мук, ситуация, когда все, что можно сказать о жизни человеческой, - «бобок», - участниками ее воспринимается как абсолютно обыденная и естественная. И дело именно в том, что страшное уже никому не страшно, что выход за пределы уже никем не ощущается. Теперь мы переходим к анализу повести «Кроткая». Здесь перед нами уже нет образа героя-публициста, однако все равно нет оснований сводить смысл произведения. Сразу же хочу не согласиться с В.В. Борисовой, которая анализирует «Кроткую» как реализацию приема эмблематического контраста: «В этом произведении можно выделить две достаточно альтернативные эмблемы, которые определяют дихотомию читательского восприятия. В одном случае он однозначно позитивный, возвышающий и оправдывающий героиню. В другом случае – это трагическая ирония, поскольку никакой кротости в Кроткой нет. Может сложиться впечатление, что подобные неоднозначные толкования мотивированы именно символическим, а не эмблематическим изображением. Однако следует иметь в виду, что все элементы той или иной интерпретации в самом тексте как бы запрограммированы: если мы склоняемся к идее смирения, то реконструируется одна эмблема, если принимаем идею бунта – то другая» (16, с.23). Между тем в повести как раз нет необходимости да и возможности выбирать между двумя толкованиями, и воспринимать данное произведение так – означает, опять-таки, сводить художественность к публицистике. В принципе, давно уже было сказано Н. Бердяевым, что « для Достоевского человеческое сердце в самой первооснове своей - полярно, и эта полярность порождает огненное движение, не допускает покоя» ( 18, с.175). И в современном литературоведении существует традиция истолкования героев Ф.М. Достоевского, и Кроткой в том числе, именно как носителей разного рода полярностей, антиномий, которые в принципе не могут и не должны быть примирены, откуда, собственно, и выводится неизбывная трагичность человеческого бытия. Так, М.М. Гиршман, исследуя ритмическую организацию повести «Кроткая», пишет: «У Достоевского смысл не только последовательно развивается, сколько именно «возрастает», обнаруживается, проясняется в своем глубоком и неустранимом, с самого начала и до конца присутствующем внутренне противоречивом существе» (19, с 326). Действительно, не только на уровне ритма и синтаксиса мы встречаем эти противоречия. Прежде всего, это касается способа повествования, который особо акцентируется в авторском «Предисловии». Именно это предисловие приводит М.М. Бахтин в качестве подтверждения того, что «та «п р а в д а », к которой должен прийти и наконец действительно приходит герой, уясняя себе самому события, для Достоевского, по существу, может быть только п р а в д о й с о б с т в е н н о г о с о з н а н и я » ( 1 4 , с . 7 4 ) . И далее М. М. Бахтин пишет: «Повесть «Кроткая» построена на мотиве сознательного незнания» (14, с.175 ). Монолог героя «сводится к тому, чтобы заставить себя наконец увидеть и признать то, что, в сущности, он уже с самого начала знает и видит» (14, с.176). Действительно, в самом начале своего монолога он признается: «Расскажу, как сам понимаю. В томто и весь ужас мой, что я все понимаю». И вот парадоксальная ситуация: Достоевский, как говорит Бахтин, стремится показать своего героя в «сфере его самопознания и самовысказывания» (14, с. 76), хотя сам герой именно от этого самопознания всячески защищается. Получается, что процесс самопознания, выяснения «точки», с которой осветится, наконец, все происшедшее, внутри себя содержит стремление от этой «точки» уйти, правду не найти. Понятно, что эти две установки не просто соположены в тексте в своем кричащем противоречии, они постоянно взаимодействуют, создавая атмосферу искания «точки» правды не как какого-то готового утверждения какой-то конкретной вины, а как некоего состояния, многопланового и объемного, из которого разовьется разностороннее движение мысли. Продолжая мысли М.М. Бахтина об этом фрагменте, еще надо сказать, что эта педалируемая автором фантастика формы связана с тем, что здесь, по сути, речь устная, которая буквально на наших глазах переходит в письменную. Этот момент отрефлектирован уже в Предисловии. С одной стороны: «Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, уясняет себе его». С другой стороны: «Если б мог подслушать его и всё записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый». Отсюда возникает два очень важных следствия. Во-первых, предельная непосредственность «стенограммы» устной речи сразу же оборачивается предельной опосредованностью, обусловленной авторской волей, поскольку стенограмма остается — подчеркивает Достоевский — фикцией, и именно это подчеркивание как раз и акцентирует сам процесс перетекания жизни в литературное произведение. Во-вторых, происходит преодоление «рассказываемого события» «событием рассказывания». Все повествование, совмещающее в себе повествование от первого лица и поток сознания героя, - это постоянное и напряженное усилие переведения прошедшего времени в настоящее, и, следовательно, переведения свершившегося фанта – самоубийства Кроткой – в ощущение ее присутствия, ее оживления в слове и переживании героя. Это слово и переживание, с одной стороны, снова и снова возвращают все события жизни Кроткой, и, следовательно, представляют Кроткую как живую, но, с другой стороны, снова и снова возвращают переживание ее гибели. И вся «фантастика формы» диктуется усилием удержать жизнь перед лицом совершившейся смерти. И ужас именно в том, что, даже несмотря на возможность говорить о мертвой Кроткой как о живой, невозможно отвернуться от смерти: « О, я ведь знаю, что ее должны унести, я не безумный и не брежу вовсе, напротив, никогда еще так ум не сиял, - но как же так опять никого в доме, опять две комнаты, и опять я один». Повесть, следовательно, еще и об осознании границ художественного слова. Но в процессе этого осознания граница между жизнью и смертью преобразуется в энергию, направленную на обращение этих двух реальностей друг к другу. С многоплановостью организации повествования тесно связана временная организация произведения. О ее сложности, о соединении разных времен говорили многие исследователи. Так, М.М. Гиршман в уже цитированной статье пишет: «С одной стороны, здесь обнаруживается целый ряд переходов от «сиюминутных» высказываний героя к повествованию о прошлых событиях, а в них, в свою очередь, переход к еще более давним эпизодам из жизни героини («подноготная») и героя («случай в полку»)…» (19, с. 327).То есть, в повести, как минимум, три временных слоя: первый из них – время самого повествования, развертывания слова героя, второй – это время «рассказываемого события», которое начинается с появления Кроткой и заканчивается ее смертью, а третий – то, что по отношению к романам Ф.М. Достоевского называется «досюжетным временем», актуализируемое в рассказе прошлое героев. В повести постоянно происходят очень быстрые переходы от одного временного пласта к другому, в результате чего они оказываются объединенными напряженностью переживания, «поиском истины». И, в принципе, можно согласиться с М.М. Бахтиным, что «динамика и быстрота здесь (как, впрочем, и всюду) не торжество времени, а преодоление его, ибо быстрота – единственный способ преодолеть время во времени» (14, с. 39). Но с одним существенным уточнением: преодоление времени здесь – не отмена его движения, и даже не «отражение в повествовании временной сложности и многоплановости реального мира» (19, с. 237), а предельное слияние с его неумолимым движением к концу, к смерти, в результате которого в каждом мгновении может произойти соприкосновение с запредельным, которое эту конечность снимает. Теперь перейдем к анализу взаимоотношений героев. Общеизвестно, что они даны в произведении с несказуемой сложности, за которой, прежде всего, - неприятие «срединного пути», невозможности воспринять просто возникшую ситуацию: благородный человек спасает девушку, она отвечает ему любовью и благодарностью, и тем ограничивается. Он, если не вдумываться, и не мучает ее, а просто ведет себя с ней честно, гордо, холодно. Ясно, что герои Ф.М. Достоевского именно ограничиться, не вдумываться, не могут, их жизнь – в выходе за пределы, в додумывании до конца, а за этими пределами благородство оказывается подлостью, а благодарность оборачивается ненавистью. Но вот странность – все эти, очень далекие от обыденности отношения, буквально с самого начала развертываются в постоянном и подчеркнуто нагнетаемом сопровождении обыденных предметов. Это мотивируется, естественно, пространством, в котором происходит действие, - комната закладчика. Но ведь и знакомство героя с Кроткой, и она сама воспринимаются через вещи – камей, мундштук, жалкая заячья кацавейка. По состоянию вещей герой судит о состоянии и сущности Кроткой, делает предположения о том, что с ней происходит. И далее, их противостояние, опять-таки, проявляется через предметный мир: покупка кровати, установка ширмы. И самое главное – в финале, когда Кроткой уже нет, вещь заменяет ее присутствие: «Ботиночки ее стоят у кроватки, точно ждут ее». Можно сказать, что это создание «эффекта реальности», но это верно лишь отчасти. Закладываемые, перезакладываемые, передвигаемые, появляющиеся и исчезающие предметы порождают ощущение хаоса быта, прикрывающего бездны бытия. Особенно отчетливо это видно, когда Кроткая, после заклада сережек, колечка, мундштука, кацавейки, закладывает «…образ Богородицы. Богородица с младенцем, домашний, семейный, старинный, риза серебряная золоченая — стоит — ну, рублей шесть стоит». Цена образа определяется точно так же, как и любого другого предмета, и так икона приравнивается к обычной вещи. И проблема не только в том, что профанное приравнивается к сакральному, а в том, что дальше ведь именно с этим образом Кроткая бросится из окна. То есть, в предметах концентрируется хаотичное движение судеб героев в трагедийном мире, ведущее в неотвратимому концу. В связи с этим необходимо сказать о самоубийстве героини – и о причинах, и о значении. В «Дневнике писателя» о прототипе Кроткой сказано следующее: «Упала на землю, держа в руках образ. Этот образ в руках - странная и неслыханная в самоубийстве черта! Это уж какое-то кроткое смиренное самоубийство. Тут даже, видимо, не было никакого ропота или попрека: просто - стало нельзя жить, «Бог не захотел» и - умерла, помолившись». Но нельзя не обратить внимание, что в повести все выглядит совершенно по-другому. Несмотря на то, что Кроткая молится перед самоубийством, несмотря на то, что «что ей уж некуда было идти...», кротости и смирения в этом самоубийстве нет. О том, что сама по себе Кроткая смиренной и кроткой не является, говорили многие исследователи, это видно и в самом тексте: «Кроткая бунтует». Собственно, и бунт Кроткой, и реакция героя на него – следствие одной их общей черты, а именно этического максимализма. Он говорит о себе: «О, я всегда был горд, я всегда хотел или всего, или ничего! Вот именно потому, что я не половинщик в счастье, а всего захотел». И то же самое сказано о ней: «Не захотела обманывать полулюбовью под видом любви или четвертьлюбовью». Вот, собственно, самый главный парадокс, характеризующий героиню: соединение двойственности и максимализма, в результате которого ни одно из экстремальных действий Кроткой не является законченным. Она пытается выдавать деньги по-своему, она пытается изменить своему мужу и, опятьтаки, она пытается мужа убить. Можно, конечно, сказать, что доведению этих поступков до конца мешают различные внешние обстоятельства, или просто таким образом нагнетается мелодраматический эффект. Однако, скорее всего, дело именно в разорванности сознания героини между двумя крайностями, каждая из которых диктует ей свою линию поведения. И в этой логике самоубийство оказывается тем единственным законченным деянием, где обе линии сходятся, демонстрируя возможность своего взаимоперехода: смирение и бунт, отстаивание себя как отдельного индивидуума и любовь как растворение в целях другого. И самое главное: убивая себя и беря с собой в смерть образ, Кроткая, по сути, и Бога убивает вместе с собой. Бога именно как проявление нераздельной и всецелой любви, «синтеза», «точки», к которой стремятся мысли героя, но никак не могут проникнуть до самого последнего момента, когда «с глаз спал пелена»: «Но главное для меня было не в том, а в том, что мне всё более и неудержимее хотелось опять лежать у ее ног, и опять целовать, целовать землю, на которой стоят ее ноги, и молиться ей и "больше я ничего, ничего не спрошу у тебя, - повторял я поминутно, - не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе, и только дай из угла смотреть на тебя…». Но это именно момент, к нему человек может прорваться к идеалу ценой мучительного самопостижения между «самовосхвалением и самобичеванием». Вслед за ним неминуемо следует гибель. Обратим внимание в связи с этим, что если Кроткая просто погибает, то герой обречен на то, чтобы быть прикованным к ее мертвому телу, к воспоминаниям об ее гибели, в которых она переживается снова и снова (именно поэтому он и не отпустит Лукерью). Герой-повествователь двойственен по своей природе. Вот знаменательные параллели: отказ участвовать в дуэли и уход из полка фигурируют в романе "Братья Карамазовы" в биографии святого старца Зосимы. А с другой стороны – ночевки в доме Вяземского фигурируют в биографии Свидригайлова. Эти совпадения не случайны, так как внутреннее раздвоение постоянно осознается героем и особенно четко выражается в кризисный, переломный момент: «Падала, падала с глаз пелена! Коль запела при мне, так про меня позабыла, — вот что было ясно и страшно. Это сердце чувствовало. Но восторг сиял в душе моей и пересиливал страх. О ирония судьбы! Ведь ничего другого не было и быть не могло в моей душе всю зиму, кроме этого же восторга, но я сам-то где был всю зиму? был ли я-то при моей душе?». Тут уже явно в человеке одновременно сосуществуют его «я» и «душа», в какие-то моменты они могут достаточно далеко расходиться. И если «душа» - это именно любовь, присутствие которой герой осознает с самого начала («Разве не любил я ее даже тогда уже?»), то «я» - это не просто стремление к власти над душой другого человека, что, конечно, лежит на поверхности текста. Это даже не стремление «воспитать друга» в смысле «воспитать другого», то есть заставить его быть именно таким, как хочется «я». Главное, что характеризует «я» - то, что оно на самом деле этого другого в себе содержит и постоянно с точки зрения этого смотрит на себя и оценивает, уже никакого иного взгляда не допуская. Вот самые яркие примеры: «Я хотел, чтоб она узнала сама, без меня, но уже не по рассказам подлецов, а чтобы сама догадалась об этом человеке и постигла его!»; «Значит, есть же причины, коли великодушнейший из людей стал закладчиком»; «И вдруг эта шестнадцатилетняя нахватала обо мне потом подробностей от подлых людей и думала, что всё знает, а сокровенное между тем оставалось лишь в груди этого человека!»; «Всё было ясно, план мой был ясен как небо: "Суров, горд и в нравственных утешениях ни в чьих не нуждается, страдает молча"». Таким образом герой-повествователь, по сути дела, завершает себя сам, но это все-таки не совсем то, о чем говорит М.М. Бахтин: «сделал моментом самоопределения героя то, что было твердым и завершающим авторским определением» (14, с. 34). Именно для авторского определения все эти характеристики слишком оценочны, слишком прямы и слишком героичны, в смысле именно героизирования собственного поведения, особенно вот это: «Нет, возьмите-ка подвиг великодушия, трудный, тихий, неслышный, без блеску, с клеветой, где много жертвы и ни капли славы, - где вы, сияющий человек, пред всеми выставлены подлецом, тогда как вы честнее всех людей на земле, - ну-тка, попробуйте-ка этот подвиг, нет-с, откажетесь! А я - я только всю жизнь и делал, что носил этот подвиг». Именно это «я» параллельно с рассказом о гибели Кроткой, где происходит и исповедь, и раскаяние, хотя вряд ли установление истины как какого-то готового утверждения, развертывает повествование о себе как о герое, совершающем подвиг, обществом непонятом, обществу мстящем и в конце концов удаляющемся от него, чтобы «окончить жизнь где-нибудь в Крыму, на Южном берегу, в горах и виноградниках, в своем имении, купленном на эти тридцать тысяч, а главное, вдали от всех вас, но без злобы на вас, с идеалом в душе, с любимой у сердца женщиной, с семьей, если бог пошлет, и - помогая окрестным поселянам». Сентиментальномелодраматический тон этого высказывания и ряда других, где герой именно рисует свой образ, каким его должна представлять Кроткая, бросается в глаза, явно выбиваясь из интонации его исповеди. Это позволяет сделать вывод о том, что перед нами – произведение в произведении, что герой здесь отчасти берет на себя авторские полномочия и пытается сам создать текст своей жизни, а Кроткую – сделать героиней своего текста, перенести ее в некую литературную реальность – до того момента, как «с глаз спала пелена». Очень характерно, что пелена спадает в тот момент, когда герой слышит пение Кроткой и понимает, что она его не замечает, несмотря на то, что он находится рядом, то есть воспринимает его как человека, находящегося в другой реальности. Понятно, что это – одно из возможных пониманий поведения Кроткой, ведь повесть построена таким образом, что мы слышим только голос героя. Перед нами только его восприятие происходящих событий, ее же голос утрачен, а те реплики, которые остались в памяти героя, очень отрывисты и неясны. То, что повесть называется «Кроткая», - очень симптоматично, это имя тайны, которую можно пытаться разгадать, но никогда не разгадаешь до конца, это тайна другого, чей голос невозможно уже восстановить, даже собрав «все мысли в точку». При всех противоположностях, несмотря на «поединок роковой», есть некоторые моменты, которые героев объединяют. Прежде всего, это отмечаемое многими исследователями молчание, понимаемое и как отсутствие диалога (В.В. Николина), невозможность высказаться (В.В. Борисова). Необходимо заметить, однако, что молчание обоих героев чревато словом и может быть развернуто в слово. Особенно, конечно, это относится к герою-повествователю: «А я мастер молча говорить, я всю жизнь мою проговорил молча и прожил сам с собою целые трагедии молча». Однако ведь и молчание Кроткой тоже достаточно красноречиво, и, по сути, оно постоянно подготавливает действия, которые красноречивее слов: таково, например, молчание Кроткой между попыткой изменить мужу и попыткой его убить. Собственно это молчание, кроме всего прочего, представляет собой внутреннее говорение, знак приближения героев к границе собственного бытия. Эту мысль подтверждает то, что молчание в данном случае возникает не в результате развития их отношений, а как-то иррационально, неизвестно откуда: «Кто у нас тогда первый начал? Никто. Само началось с первого шага... Почему, почему мы с самого начала принялись молчать?». И эта соединенность молчания с границами уже всеобщего бытия проступает, конечно же, в финале повести: «Одни только люди, а кругом них молчание вот земля!». В этом плане не случаен еще один момент, объединяющий героев: оба они так или иначе переживают эту пограничную ситуацию, нахождение на грани жизни и смерти. Герой-повествователь находится на этой грани тогда, когда Кроткая прикладывает к его виску пистолет, причем в речи героя именно это нахождение на грани подчеркивается: «Тишина продолжалась, и вдруг я ощутил у виска, у волос моих, холодное прикосновение железа. Вы спросите: твердо ли я надеялся, что спасусь? Отвечу вам, как перед богом: не имел никакой надежды, кроме разве одного шанса из ста. Для чего же принимал смерть?.. Сознание, однако ж, кипело; секунды шли, тишина была мертвая; она всё стояла надо мной, - и вдруг я вздрогнул от надежды!». Аналогичным образом на грани оказывается в момент самоубийства Кроткая, однако она переступает эту грань и, опять-таки, сам момент переступания подчеркивается в произведении: « "Стоит она у стены, у самого окна, руку приложила к стене, а к руке прижала голову, стоит этак и думает. И так глубоко задумавшись стоит, что и не слыхала, как я стою и смотрю на нее из той комнаты. Вижу я, как будто она улыбается, стоит, думает и улыбается… только вдруг слышу, отворили окошко… и вдруг вижу, она стала на окно и уж вся стоит, во весь рост, в отворенном окне, ко мне спиной, в руках образ держит. Сердце у меня тут же упало, кричу: "Барыня, барыня!" Она услышала, двинулась было повернуться ко мне, да не повернулась, а шагнула, образ прижала к груди и - и бросилась из окошка!"». Собственно, и весь монолог героя не случайно развертывается перед трупом жены, и в процессе этого монолога он видит жену как живую и как с живой пытается с ней объясниться, хотя это, естественно, факта смерти не отменяет, что герой прекрасно сознает. Перед нами та ситуация, о которой говорят герои романа «Бесы», Шатов и Ставрогин: «Мы два с у щ е с т в а и сошлись в б е с п р е д е л ь н о с т и … в п о с л е д н и й р а з в м и р е » . Т о есть здесь выражается нахождение у пределов бытия, в предельном же одиночестве, где встречаются жизнь со смертью, демонстрируя свою сущностную переходность в общечеловеческом масштабе, но одновременно и необратимость для конкретной личности. Следует обратить внимание, что каждый из героев по ходу повествования одновременно пребывают в ролях мучителя и жертвы. С одной стороны, герой- повествователь говорит о Кроткой: «Измучил я ее, вот что!». Но, с другой стороны: «Эта прелесть, эта кроткая, это небо - она была тиран, нестерпимый тиран души моей и мучитель!». Тут неважно, что было вначале, а что потом, так как правда перенесенной муки ведь от осознания собственной вины не исчезает, а принципиально важно вот это столкновение противоположностей: «небо» и «тиран», «мучитель». Именно поэтому постепенно герои как бы меняются местами, происходит взаимопроникновение духовных сущностей. В начале повествования Кроткая « бросилась ко мне с любовью, встречала, когда я приезжал по вечерам, с восторгом, рассказывала своим лепетом (очаровательным лепетом невинности!) всё свое детство, младенчество, про родительский дом, про отца и мать», а герой отвечает на это молчанием, хотя и благосклонным, в дальнейшем – строгостью. В конце же повествования происходит прямо противоположное: он «вдруг пролепетал… что-то глупое», он рассказывает о своем прошлом, он целует ее, а она принимает его восторги молча и со «строгим удивлением». О чем говорят эти совпадения? Возможно, о том, что герои, только по видимости будучи индивидуумами, только по видимости находясь в состоянии борьбы, на самом деле едины в какой-то своей глубинной внутренней сущности, хотя это единство, конечно, не стирает их противоположностей, им находится место в структуре вновь создаваемого авторского целого. Так рождается многомерный трагедийный мир, где трагедийность постулирует динамическое взаимодействие внутренних противоречий. Именно они создают главную ценность в такой системе творческого мышления – энергию, которая скрепляет эти противоположности живой тканью творческого духа. По мысли В.А. Туниманова, кольцевая композиция повести означает безысходность состояния героя (23, с. 86). Однако катарсис в этой трагедии, конечно, есть, хотя, как верно пишет М.М. Бахтин, это катарсис не аристотелевский: «Тот катарсис, который завершает романы Достоевского, можно было бы – конечно, не адекватно и несколько рационалистично – выразить так: н и ч е г о о к о н ч а т е л ь н о г о в м и р е е щ е н е произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, еще все впереди и всегда будет впереди.(14, с.78). Добавлю также, что это еще и катарсис узнавания пределов и границ, существующих не где-то в м и р е , а разлитых внутри человеческой личности. И в принципе малая проза Ф.М. Достоевского отражает момент, когда человеческое сознание начинает жить в мире антиномий, которые не могут быть примирены уже никогда и нигде. Разобранные произведения постулируют два способа обращения с такими антиномиями: ощущение их взаимооборотности и возникающие отсюда творческие возможности выбора («Кроткая») и испытание реальности на прочность в постоянном и сознательном столкновении мира и человека, сакрального и профанного, эстетического и антиэстетического («Бобок»). В малой прозе Ф.М. Достоевского особенно отчетливо проявляется закономерность, высказанная Н. Бердяевым: он « раскрывает не феноменальную, а онтологическую динамику”»(18, с. 145). ЛИТЕРАТУРА 1.Дмитриева Л.С. О жанровом своеобразии «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского (К проблеме типологии журнала)// Вестник Московского университета. Серия XI: Журналистика. - 1969, № 6. - С. 24-38. 2. Туниманов В.А. Публицистика Достоевского. «Дневник писателя»//Ф.М. Достоевский – художник и мыслитель. Сборник статей. – М., 1972. - С. 165 – 209. 3. Волгин И.Л. «Дневник писателя»: текст и контекст// Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. – Т. 3. – Л., 1978. - С.151- 158. 4. Розенблюм Л.М. «Правда личная и общая». Истоки жанра «Дневника писателя»// Творческие дневники Достоевского. – М., 1981.- С. 14 - 58. 5 Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. Типология и поэтика. – Л., 1985. 6 Акелькина Е.А. Пути развития русской философской прозы конца XIX века.- Автореферат на соискание степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01.- русская литература. – Омск, 1998. 7. Денисова А.В. «Малые жанры» и жанровые лейтмотивы в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского за 1873 год // Достоевский и современность. Материалы XVII Международных Старорусских чтений за 2002 г. – Великий Новгород, 2003.-С. 35 - 48. 8.Карякин Ю.Ф. Достоевский и Апокалипсис // Ф. М.Достоевский. Собрание соч.: В 7 т. – М.: Лексика, 1996. Т. 7. С. 561 - 567. 9.Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. Типология и поэтика. – Л., 1985. 10. Бакирова Л.Р. Малая проза в "Дневнике писателя" Ф.М. Достоевского: особенности жанровой природы и речевой организации.- Автореферат диссертации на соискание степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература. – Магнитогорск, 2010. 11. Хажиева Г.Ф. Ритм прозы Ф.М. Достоевского: на примере "фантастического рассказа" "Сон смешного человека" // Автореферат диссертации на соискание степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература. - Бирск, 2009. 12. Захарова Т.В. К вопросу о жанровой природе «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского // Жанровое новаторство русской литературы конца ХVШХ1Х вв.: Сборник научных работ. - Л.: ЛГПИ, 1974. - С. 163-177. 13. Акелькина Е.А. Формирование философской прозы Ф.М. Достоевского («Дневник писателя». Повествовательный аспект) // Творчество Ф.М. Достоевского: Искусство синтеза. - Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1991. - С. 224 – 251. 14. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - М.: Художественная литература, 1972. 15. Бахтин М.М.Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Художественная литература, 1975. — С.234-407. 16. Борисова В.В. Малая проза Ф.М. Достоевского: принцип эмблемы. Уфа: БГПУ, 2011. 17. Владимирцев В.П. Достоевский народный. – Иркутск. 2007. 18. Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского.- М.: Издательство «Захаров», 2001. 19. Гиршман М.М. Трагическое совмещение противоположностей («Кроткая», «Сон смешного человека» Достоевского) // Гиршман М.М. Литературное произведение. Теория художественной целостности. – М.: Языки славянской культуры, 2007. – С.321 - 341. 20. Гиршман М.М. Трагическое совмещение несовместимых противоположностей // Гиршман М.М. Литературное произведение. Теория и практика анализа. – М.: Высшая школа.1991. – С.119 – 136. 21.Туниманов В.А. «Кроткая» Достоевского и «Крейцерова соната» Толстого // Русская литература. 1999. № 1. С. 53-88. 22. Николина Н.А. Филологический анализ текста. – М.: Академия, 2007.