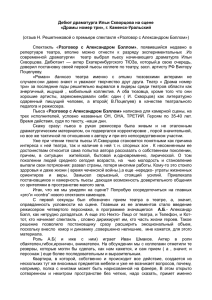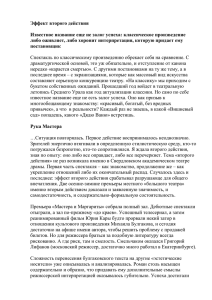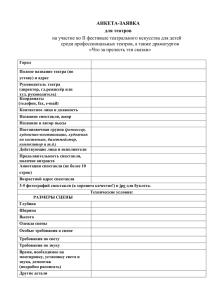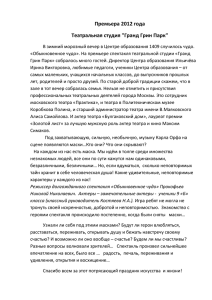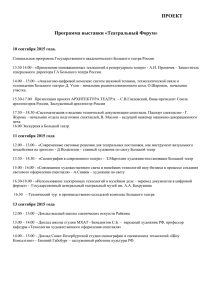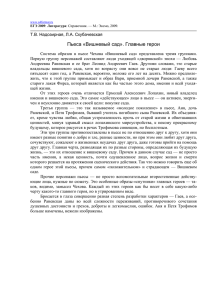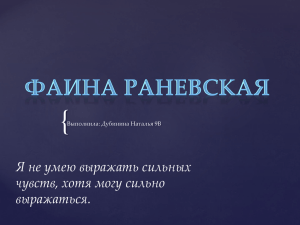другой» чехов
реклама
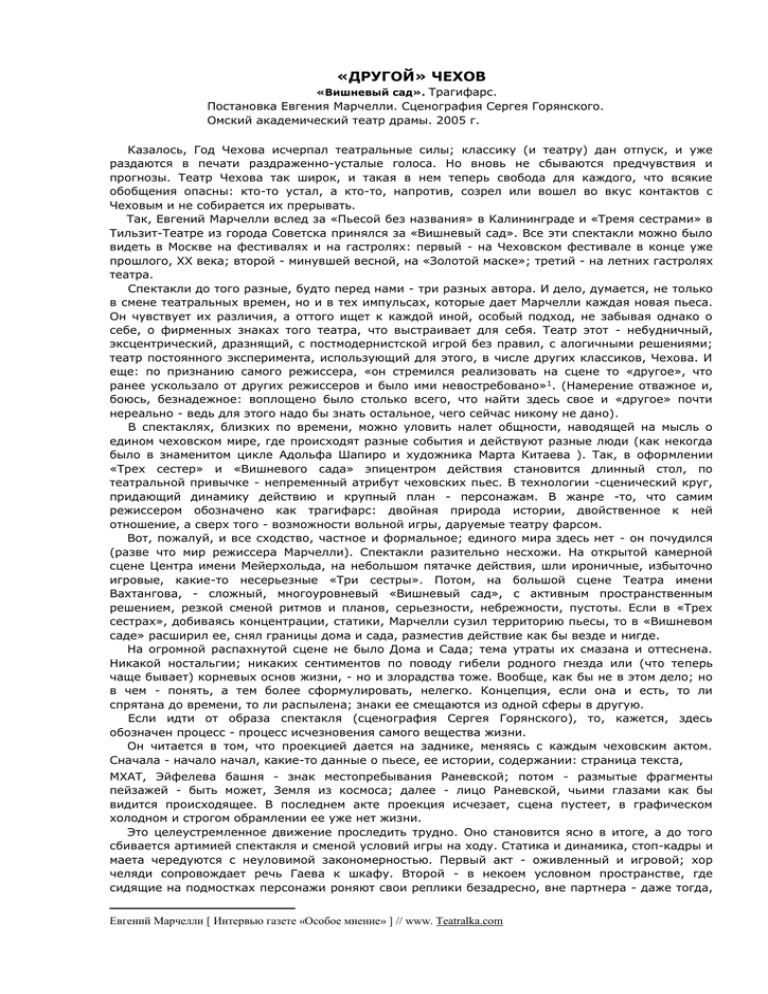
«ДРУГОЙ» ЧЕХОВ «Вишневый сад». Трагифарс. Постановка Евгения Марчелли. Сценография Сергея Горянского. Омский академический театр драмы. 2005 г. Казалось, Год Чехова исчерпал театральные силы; классику (и театру) дан отпуск, и уже раздаются в печати раздраженно-усталые голоса. Но вновь не сбываются предчувствия и прогнозы. Театр Чехова так широк, и такая в нем теперь свобода для каждого, что всякие обобщения опасны: кто-то устал, а кто-то, напротив, созрел или вошел во вкус контактов с Чеховым и не собирается их прерывать. Так, Евгений Марчелли вслед за «Пьесой без названия» в Калининграде и «Тремя сестрами» в Тильзит-Театре из города Советска принялся за «Вишневый сад». Все эти спектакли можно было видеть в Москве на фестивалях и на гастролях: первый - на Чеховском фестивале в конце уже прошлого, ХХ века; второй - минувшей весной, на «Золотой маске»; третий - на летних гастролях театра. Спектакли до того разные, будто перед нами - три разных автора. И дело, думается, не только в смене театральных времен, но и в тех импульсах, которые дает Марчелли каждая новая пьеса. Он чувствует их различия, а оттого ищет к каждой иной, особый подход, не забывая однако о себе, о фирменных знаках того театра, что выстраивает для себя. Театр этот - небудничный, эксцентрический, дразнящий, с постмодернистской игрой без правил, с алогичными решениями; театр постоянного эксперимента, использующий для этого, в числе других классиков, Чехова. И еще: по признанию самого режиссера, «он стремился реализовать на сцене то «другое», что ранее ускользало от других режиссеров и было ими невостребовано»1. (Намерение отважное и, боюсь, безнадежное: воплощено было столько всего, что найти здесь свое и «другое» почти нереально - ведь для этого надо бы знать остальное, чего сейчас никому не дано). В спектаклях, близких по времени, можно уловить налет общности, наводящей на мысль о едином чеховском мире, где происходят разные события и действуют разные люди (как некогда было в знаменитом цикле Адольфа Шапиро и художника Марта Китаева ). Так, в оформлении «Трех сестер» и «Вишневого сада» эпицентром действия становится длинный стол, по театральной привычке - непременный атрибут чеховских пьес. В технологии -сценический круг, придающий динамику действию и крупный план - персонажам. В жанре -то, что самим режиссером обозначено как трагифарс: двойная природа истории, двойственное к ней отношение, а сверх того - возможности вольной игры, даруемые театру фарсом. Вот, пожалуй, и все сходство, частное и формальное; единого мира здесь нет - он почудился (разве что мир режиссера Марчелли). Спектакли разительно несхожи. На открытой камерной сцене Центра имени Мейерхольда, на небольшом пятачке действия, шли ироничные, избыточно игровые, какие-то несерьезные «Три сестры». Потом, на большой сцене Театра имени Вахтангова, - сложный, многоуровневый «Вишневый сад», с активным пространственным решением, резкой сменой ритмов и планов, серьезности, небрежности, пустоты. Если в «Трех сестрах», добиваясь концентрации, статики, Марчелли сузил территорию пьесы, то в «Вишневом саде» расширил ее, снял границы дома и сада, разместив действие как бы везде и нигде. На огромной распахнутой сцене не было Дома и Сада; тема утраты их смазана и оттеснена. Никакой ностальгии; никаких сентиментов по поводу гибели родного гнезда или (что теперь чаще бывает) корневых основ жизни, - но и злорадства тоже. Вообще, как бы не в этом дело; но в чем - понять, а тем более сформулировать, нелегко. Концепция, если она и есть, то ли спрятана до времени, то ли распылена; знаки ее смещаются из одной сферы в другую. Если идти от образа спектакля (сценография Сергея Горянского), то, кажется, здесь обозначен процесс - процесс исчезновения самого вещества жизни. Он читается в том, что проекцией дается на заднике, меняясь с каждым чеховским актом. Сначала - начало начал, какие-то данные о пьесе, ее истории, содержании: страница текста, МХАТ, Эйфелева башня - знак местопребывания Раневской; потом - размытые фрагменты пейзажей - быть может, Земля из космоса; далее - лицо Раневской, чьими глазами как бы видится происходящее. В последнем акте проекция исчезает, сцена пустеет, в графическом холодном и строгом обрамлении ее уже нет жизни. Это целеустремленное движение проследить трудно. Оно становится ясно в итоге, а до того сбивается артимией спектакля и сменой условий игры на ходу. Статика и динамика, стоп-кадры и маета чередуются с неуловимой закономерностью. Первый акт - оживленный и игровой; хор челяди сопровождает речь Гаева к шкафу. Второй - в некоем условном пространстве, где сидящие на подмостках персонажи роняют свои реплики безадресно, вне партнера - даже тогда, Евгений Марчелли [ Интервью газете «Особое мнение» ] // www. Teatralka.com когда между ними идет перепалка. Этакий абсурдистский театр в театре, что, как ни странно, ложится на чеховский текст (и повторится в финале). А может быть, и не странно; ведь эти монологи и диалоги, брошенные в пустоту, есть мощное преддверие абсурдизма. Но после такой отстраненной читки вдруг следует карнавальный выход Прохожего (Владимир Майзингер) в парике и костюме XVIII века, смеясь читающего стихи. Момент веселой провокации, постмодернистской игры, напомнившей мистификации Петра Лебла. (Этот карнавальный субъект, как отмечено в критике, "проходит" из спектакля в спектакль: "Такая улыбка театра, подмигивание автора зрителям"2. Не автора, точнее, а режиссера...) Марчелли, вообще, как кажется, настроенный на поиски стиля, спонтанно реагирует на разные предложения Чехова, на полистилистику пьесы. Но если у автора эта полистилистика представляет собой некий сплав, целостную систему, как бы программу развития театра ХХ века в разных его течениях, то, бессистемно употребляемая, она оборачивается эклектикой (что, впрочем, для современного искусства, взлелеянного постмодернизмом, не есть порок -просто отличительная черта). Видимо, природа театральности «Вишневого сада» была первостепенной для режиссера. Поэтому отошли на задний план философские темы пьесы и никто из героев не стал носителем концепции, истинным протагонистом. В многофигурной композиции пьесы, в мелькании лиц и эпизодов то одно, то другое попадало в центр внимания, не задерживаясь, однако. Мало того: к ним прибавилась Дашенька (Екатерина Потапова), персонаж у Чехова внесценический, образованная дочка Пищика, здесь постоянно, как некий остраняющий элемент, присутствующая на сцене. На всех Марчелли, согласно автору, взирает с иронией, но - в отличие от автора - без личного чувства. Есть интерес, но нет ощутимой симпатии, сочувствия, принятия позиции какой-либо из сторон. Старый болтун Гаев (Валерий Алексеев) и крикливый Трофимов (Олег Теплоухов), которому, как видно, в его филиппиках и проповедях не слишком верят, а потому вычеркивают его дуэтную сцену с Аней из финала второго акта. Деловой (хотя, по мысли режиссера, не хищный) Лопахин (Михаил Окунев), чью душевную драму не воспринимают всерьез - быть может, в нее и не верят; во всяком случае, не хотят вникать. Живее и ярче других женщины Шарлотта (Татьяна Филоненко) и, наконец, Раневская (Ирина Герасимова), современных манер и обличья, резкая, острая. До поры она не слишком выделена из массы прочих, других, но постепенно их оттесняет, чтобы стать на время в центре спектакля - не как носитель идеи Дома и Сада (таковой нет); или отказа от них, от всей «старой жизни»; или распада времен и связей, как некий «цветок между двух бездн». Вряд ли здесь была важна какая-то «общая идея» режиссера интересовал характер Раневской (своеобразно трактованный) и женская ее судьба. «Судя по поступкам, Раневская - человек сильный, мощный, волевой, и совершает всё очень осмысленно. Причем действует она не от внутренней пассивности, сгоряча, так сказать, лишь бы что-то сделать, а совершает обдуманные ходы достаточно отчаянно, я бы сказал. . Мне ...кажется, что Раневская - человек разумный, эдакий homo sapiens с холодной и мощной волей. Потому актриса на эту роль должна быть не экзальтированно чувственная, а трезвая, холодная, обаятельная, ну и, в общем, красивая. Одним словом, такая, как актриса Омского театра драмы Ирина Герасимова»3. По свидетельству критика, Марчелли замышлял дилогию: «Фрекен Жюли» Стриндберга и «Вишневый сад»4. Первый спектакль появился раньше и, видимо, бросил свои отсветы на второй. Другой критик, знающий склонность Марчелли к постоянным или переходящим мотивам, отмечает: «. вроде бы всегда было ясно, что есть какие-то параллели с «Вишневым садом»: лакей Жан - явно старший брат («Фрекен Жюли» написана на полтора десятилетия раньше) чеховского Яши. Но фрекен Жюли и Раневская? А между тем ощущение некоей пропасти, над которой стоит героиня Стриндберга, отчаяние последнего шага, предпринятого с четким знанием его обреченности, рождали именно эту ассоциацию»5. В «Вишневом саде» обреченность ясна изначально. Нас не готовят к ней - просто дают ощутить, как данность, при этом - не нагнетая ни трагизма, ни даже предчувствия катастрофы. То, что обычно рождает такое предчувствие, исключено из спектакля. Есть некая охлаждающая дистанция между режиссером и пьесой, спектаклем и нами; дистанция жесткой оценки. Слово «холод», дважды повторенное Марчелли, сказано не случайно. Таков этот спектакль, неровный, с проблесками неразвитых, незакрепленных находок, где целое ускользает, а в память врезаются отдельные моменты и сцены, - и все же врезаются, не давая покоя. Ирина Холмогорова [Беседа с Екатериной Дмитриевской] // Экран и сцена, № 19-20, сентябрь 2005 года. Евгений Марчелли. Цит. интервью. Екатерина Дмитриевская. Цит. беседа. Ирина Холмогорова. Там же. «Другой» ли это Чехов? - Возможно, но не в том плане, как думал Марчелли. Не то чтобы новый, впервые таким увиденный, - и отсветы абсурдизма, и переклички с иными драматургами в чеховском театре бывали. «Другой» в каждый новый момент, переменчивый, сложный, не равный себе - таков здесь Чехов в призме «Вишневого сада». Марчелли разъял эту сложность и предъявил по частям, -но предъявил как бы в развернутом виде. Целостность не стала его задачей; быть может, она для него - впереди. Татьяна Шах-Азизова