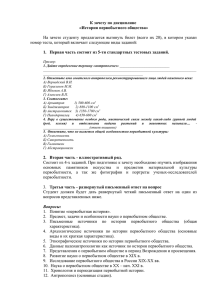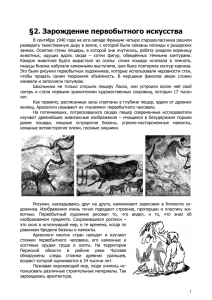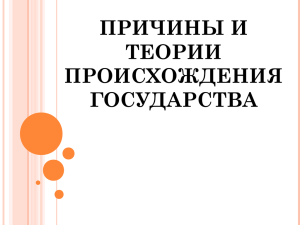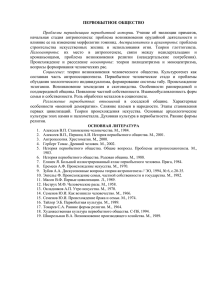Язык поэзии и первобытно-образная речь С. Д.Кацнельсон
реклама
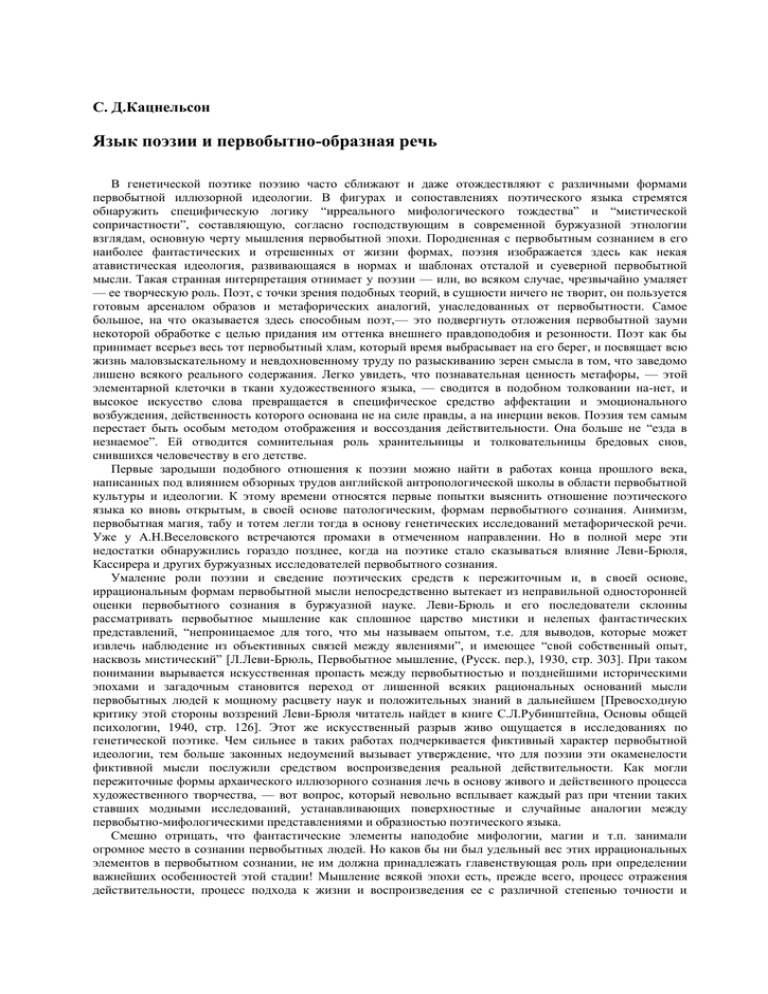
С. Д.Кацнельсон Язык поэзии и первобытно-образная речь В генетической поэтике поэзию часто сближают и даже отождествляют с различными формами первобытной иллюзорной идеологии. В фигурах и сопоставлениях поэтического языка стремятся обнаружить специфическую логику “ирреального мифологического тождества” и “мистической сопричастности”, составляющую, согласно господствующим в современной буржуазной этнологии взглядам, основную черту мышления первобытной эпохи. Породненная с первобытным сознанием в его наиболее фантастических и отрешенных от жизни формах, поэзия изображается здесь как некая атавистическая идеология, развивающаяся в нормах и шаблонах отсталой и суеверной первобытной мысли. Такая странная интерпретация отнимает у поэзии — или, во всяком случае, чрезвычайно умаляет — ее творческую роль. Поэт, с точки зрения подобных теорий, в сущности ничего не творит, он пользуется готовым арсеналом образов и метафорических аналогий, унаследованных от первобытности. Самое большое, на что оказывается здесь способным поэт,— это подвергнуть отложения первобытной зауми некоторой обработке с целью придания им оттенка внешнего правдоподобия и резонности. Поэт как бы принимает всерьез весь тот первобытный хлам, который время выбрасывает на его берег, и посвящает всю жизнь маловзыскательному и невдохновенному труду по разыскиванию зерен смысла в том, что заведомо лишено всякого реального содержания. Легко увидеть, что познавательная ценность метафоры, — этой элементарной клеточки в ткани художественного языка, — сводится в подобном толковании на-нет, и высокое искусство слова превращается в специфическое средство аффектации и эмоционального возбуждения, действенность которого основана не на силе правды, а на инерции веков. Поэзия тем самым перестает быть особым методом отображения и воссоздания действительности. Она больше не “езда в незнаемое”. Ей отводится сомнительная роль хранительницы и толковательницы бредовых снов, снившихся человечеству в его детстве. Первые зародыши подобного отношения к поэзии можно найти в работах конца прошлого века, написанных под влиянием обзорных трудов английской антропологической школы в области первобытной культуры и идеологии. К этому времени относятся первые попытки выяснить отношение поэтического языка ко вновь открытым, в своей основе патологическим, формам первобытного сознания. Анимизм, первобытная магия, табу и тотем легли тогда в основу генетических исследований метафорической речи. Уже у А.Н.Веселовского встречаются промахи в отмеченном направлении. Но в полной мере эти недостатки обнаружились гораздо позднее, когда на поэтике стало сказываться влияние Леви-Брюля, Кассирера и других буржуазных исследователей первобытного сознания. Умаление роли поэзии и сведение поэтических средств к пережиточным и, в своей основе, иррациональным формам первобытной мысли непосредственно вытекает из неправильной односторонней оценки первобытного сознания в буржуазной науке. Леви-Брюль и его последователи склонны рассматривать первобытное мышление как сплошное царство мистики и нелепых фантастических представлений, “непроницаемое для того, что мы называем опытом, т.е. для выводов, которые может извлечь наблюдение из объективных связей между явлениями”, и имеющее “свой собственный опыт, насквозь мистический” [Л.Леви-Брюль, Первобытное мышление, (Русск. пер.), 1930, стр. 303]. При таком понимании вырывается искусственная пропасть между первобытностью и позднейшими историческими эпохами и загадочным становится переход от лишенной всяких рациональных оснований мысли первобытных людей к мощному расцвету наук и положительных знаний в дальнейшем [Превосходную критику этой стороны воззрений Леви-Брюля читатель найдет в книге С.Л.Рубинштейна, Основы общей психологии, 1940, стр. 126]. Этот же искусственный разрыв живо ощущается в исследованиях по генетической поэтике. Чем сильнее в таких работах подчеркивается фиктивный характер первобытной идеологии, тем больше законных недоумений вызывает утверждение, что для поэзии эти окаменелости фиктивной мысли послужили средством воспроизведения реальной действительности. Как могли пережиточные формы архаического иллюзорного сознания лечь в основу живого и действенного процесса художественного творчества, — вот вопрос, который невольно всплывает каждый раз при чтении таких ставших модными исследований, устанавливающих поверхностные и случайные аналогии между первобытно-мифологическими представлениями и образностью поэтического языка. Смешно отрицать, что фантастические элементы наподобие мифологии, магии и т.п. занимали огромное место в сознании первобытных людей. Но каков бы ни был удельный вес этих иррациональных элементов в первобытном сознании, не им должна принадлежать главенствующая роль при определении важнейших особенностей этой стадии! Мышление всякой эпохи есть, прежде всего, процесс отражения действительности, процесс подхода к жизни и воспроизведения ее с различной степенью точности и приближения. Понять мышление какой-либо эпохи значит, прежде, всего, раскрыть отношение этого мышления к действительности. Если при этом окажется, что в сознании данной эпохи много всяких бредней и извращения действительности, то исследователь обязан проследить, на чем именно свихнулась человеческая мысль, в чем ее слабость, какие стороны в рациональном сознании данной эпохи оказались настолько недостаточными, что появилась сама возможность падения мысли. Ибо, как это прекрасно вскрыл Ленин в своих замечательных “Философских тетрадях”, возможность отхода сознания от действительности не есть ни самодовлеющий факт, ни простая случайность. Эта возможность имеет гносеологические корни, она коренится в природе мышления как своеобразного и противоречивого отражения действительности, она заложена в природе абстракции и дана в любом, даже простейшем обобщении, в простейшем имени и предложении. “Раздвоение познания человека, — подчеркивал Ленин, — и возможность идеализма ( = религии) даны уже в первой элементарной абстракции (“дом” вообще и отдельные домы). Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка (= понятия) с нее не есть простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни; мало того: возможность превращения (и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения) абстрактного понятия, идеи в фантазию (в последнем счете = бога). Ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее (“стол” вообще) есть известный кусочек “фантазии” [В.И.Ленин, Философские тетради, Изд. ЦК ВКП (б), 1934, стр. 335—336]. Для того, чтобы понять особенности первобытного сознания нужно, следовательно, прежде всего обратиться не к нелепым и вздорным утверждениям дикарей, не к иллюзорным элементам в первобытной идеологии, а к тем золотым крупинкам положительной, объективной и плодотворной мысли, которые в рамках древнейшей эпохи явились подготовкой рационального мышления будущих эпох. В наиболее полном и непосредственном виде рациональное содержание первобытной мысли обнаруживается в фактах первобытного языка, как практического сознания этой эпохи. Задача такого исследования заключается в том, чтобы раскрыть рациональное ядро первобытной идеологии и вместе с тем установить, в каких пределах первобытная мысль сохраняла свое объективное значение, выявить всю узость и ограниченность рациональной мысли дикаря. В рамках одной статьи было бы невозможно дать всесторонний анализ первобытной речи. Ограничимся здесь рассматриванием лишь тех сторон, которые особенно важны для понимания метафорического языка поэзии. Обращаясь к данным первобытных языков под этим углом зрения, можно заметить, что ограниченность первобытной мысли проявляется в такой элементарной логической сфере, как область взаимоотношения предметов и их качеств. Мы с вами, с детства обученные языкам, в которых необходимые категории давно выработаны и дифференцированы в виде имен существительных, прилагательных и т.д., не испытываем существенных затруднений в этой области, тогда как в первобытных языках, где аналогичные категории отсутствуют, можно заметить следы тяжелой борьбы человеческого ума и неумения совладать с объективной диалектикой предметов и их качеств. В плане грамматическом эта особенность первобытного мышления проявляется прежде всего в наличии единого недифференцированного образного имени, заменяющего в таких языках как имена существительные, так и прилагательные. В дальнейшем для иллюстрации этих положений я буду преимущественно пользоваться данными языка австралийского племени аранта, лучше других исследованного в этом плане. Рассматривая материалы языка аранта, легко заметить, что какое-нибудь inta значит в этом языке “камень” и одновременно “лежачий”, alkira — “небо” и “ясный, голубой”, ipita — “яма” и “глубокий”, а в некоторых случаях и “высокий” (ср. лат. altus), arilpa — “наконечник копья, острие” и “острый”, inka — “ступня, след ноги” и “крутой” (об утесе или горной тропе), ljaua — “мясистые листья деревьев определенной породы” и “мягкий, топкий” (о дне высыхающей реки), knara — “отец” и “большой” и т.д. Лексическая нерасчлененность предметных и качественных обозначений — черта, пронизывающая весь строй имени в аранта. Но что скрывается за единством предметного и качественного именования в языках подобной формации? Есть ли встреча различных значений в одном слове явление чисто внешнего и, так сказать, формально-технического порядка, своего рода омонимия, предполагающая существование раздельных и четких понятий в мысли при слитности их звукового выражения, или же тождество звуков означает нечто большее и должно расцениваться как свидетельство о слитности и диффузности мысли, остающейся как бы равнодушной к различию предмета и качества? Мы увидим, что на деле нет ни того, ни другого. На деле австралийцы-аранта вовсе не блуждают в потемках “абсолютного тождества”, когда все предметы кажутся одинаково серыми. Напротив того, легко убедиться, что в предметах окружающей действительности они выделяют тончайшие нюансы качеств и имеют весьма богатый и разработанный словарь для обозначения предметов, которые отличаются друг от друга подчас лишь незначительными и малозаметными признаками. С другой стороны, нет, однако, оснований и для того, чтобы, игнорируя различия в структуре слов, попросту отождествить категории такого языка с соответствующими категориями в языках позднейших стадий. Хотя ряд моментов в таких языках (как общий речевой контекст, внешняя обстановка, в которой протекает речь, и некоторые формальные особенности грамматического строя) и позволяет каждый раз сравнительно легко угадать, какое из значений имени, — предметное или качественное, — имеется в данном случае в виду и таким образом разграничить слитые в одном имени значения, тем не менее первобытный язык продолжает оставаться непохожим на современные языки. Все дело здесь в том, что предметные и качественные значения первобытных имен по своему содержанию глубоко отличаются от аналогичных значений позднейших слов. Трудность анализа фактов первобытной речи во многом заключается в том, чтобы понять, что значение слова есть исторически развивающаяся категория и что столь привычным для нас и столь, казалось бы, простым и естественным лексическим значениям необходимо предшествовали значения иного склада, отражавшие меньшую степень проникновения в действительность, менее глубокий уровень познания мира. Что может быть проще понятия об отдельном качестве для современного ума? Такие качественные обозначения, как твердый или мягкий, сухой и влажный, прямой и кривой, белый и черный кажутся нам предельно элементарными. В наивной психологии сенсуализма идеи цвета, вкуса, запаха, формы, мягкости и твердости, теплоты и холода так и рассматриваются как простейшие категории сознания и попросту отождествляются с ощущениями. Отец современной психологии Джон Локк утверждал: “Холод и твердость, которые человек ощущает в куске льда, такие же раздельные идеи в душе, как запах и белизна лилии или вкус сахара и запах розы. Для человека ничто не может быть очевиднее ясного и раздельного восприятия таких простых идей” [Джон Локк, Опыт о человеческом разуме, русск. пер., М. 1898, стр. 94]. Будто возможно непосредственное восприятие идей и будто идеи простейших качеств с самого начала возникают как “раздельные идеи в душе”! Что до истории языка, то она убедительно опровергает этот упрощенный взгляд. В действительности, человечество весьма поздно приходит к “простым” и “раздельным” идеям качеств. В языках первобытной формации мы не находим прежде всего той “раздельности” качественных значений, о которой говорил Локк. Качественные значения здесь всегда соединены и сцеплены между собой, вследствие чего каждое имя выражает, как правило, не одно, а несколько качественных значений. Эту особенность первобытного имени, которую можно обозначить как его многокачественность или, иначе, качественный полисемантизм, предугадал еще А.А.Потебня, выводивший позднейшие прилагательные из “первообразных существительных” в атрибутивном употреблении. “В предполагаемом на основании многих аналогий сочетании ‘вода малина’, — писал Потебня, — основанием сближения мог бы служить цвет ягоды, вкус ягоды, происхождение из них (водица, приготовленная из ягод), близость к воде малинника (как у Тургенева “Малиновая вода”)” [А.А.Потебня, Из записок по русской грамматике, т. III, стр. 82]. Гениальная догадка Потебни находит блестящее подтверждение в современных данных о первобытных языках. Так, в аранта taltja в качественном употреблении означает не только “серый, зеленый”, но также и “мягкий, упругий” и еще “незрелый, несъедобный”. Когда К.Штрелов в примечании к тексту [С.Strehlow, Die Aranda- und Loritja-Stamme in Zentral-Australien, III (1910), стр. 64] поясняет, что taltja “мягкий” в данном случае, в приложении к глазам, значит “серые”, то это нелепость лишь с точки зрения позднейших языковых норм, но совершенно в духе архаического словоупотребления. В таком совмещении столь разных и друг от друга далеких значений нет ничего сверхестественного и мистического. Как раз наоборот, здесь в полной мере раскрывается предметная основа мысли, поскольку все разнородные качественные значения этого имени вытекают из его предметного значения “плод определенного дерева”. Различные качественные значения выступают здесь во взаимосвязи, как разные качественные аспекты одного предмета. Сходным образом iloara означает в этом языке “белый” и “вязкий, густой”, что хорошо вяжется с предметным значением слова “корка соли на дне высыхающего соляного озера”... Слово benta — с предметным значением “невысыхающий источник соленой воды”, в качественном употреблении значит “постоянный, непрекращающийся” и “соленый”. Ltarba значит “печальный” и “лишенный растительности, голый” в соответствии со своим предметным значением “пустыня, край, лишенный растительности”. Ilbala значит “овальный”, “ворсистый, волосистый” и “стоящий торчком” по разным качествам предмета “перо птицы”, обозначаемого тем же словом. Интересный пример качественного полисемантизма из одного .языка Южной Австралии (Adelaide) приводит А.П.Элькин [Studies in Australian Linguistics, ed. by A.P.Elkin, стр. 13]. Слово “turla” употребляется здесь в значениях “огромный”, “серьезный” и “гневный”, а также в значении “драка”. Связь этих значений объясняется тем, что для туземца “становиться большим, увеличиваться в размерах” и “драться” близкие понятия. В основе значений лежит образ змеи, поднимающейся над землей, чтобы укусить, или ящерицы особой разновидности, которая, будучи разгневанной, распускает свои складки и тянется вверх. Подражая этому, австралиец, когда он хочет дать знать, что рассержен не на шутку и готов драться, начинает громко кричать, отчаянно жестикулировать оружием и подпрыгивать вверх, чтобы казаться более высоким и грозным. “Огромный”, “несклонный шутить” и “гневный, готовый драться” обнаруживаются здесь как различные качественные аспекты единой ситуации. Такое многокачественное слово архаического языка может быть пущено в ход и в таких случаях, когда налицо лишь одно из качеств, а другие отсутствуют. Например, в приложении к пище turla значит огромная, т.е. обильная еда. Качественный полисемантизм первобытного имени особенно рельефно выступает в случаях, когда разные значения одного и того же слова относятся к одной области чувственных восприятий, скажем, к области цветовых восприятий. Так, ulpa “красная и желтая охра”, как качественное слово, значит “рыхлый”, а в области цветовых значений может обозначать как красный, так и желтый цвет. Совпадение значений объясняется здесь не “синкретизмом чувственного восприятия”, о котором говорят иногда в этнопсихологии, а единством предметной основы этих разных качеств. Сходные примеры можно привести из других языков. Так, в языке племени буин (о. Буганвиль из числа Соломоновых островов) слово munkać значит и “синий” и “фиолетовый”, а другое слово tanai значит “сернисто-желтый” и “мшисто-зеленый”. Отмечая этот своеобразный полисемантизм, исследователь этого языка пишет: “В обозначении tanai основной интерес сосредоточен на растении, цвета являются случайными акциденциями, в голову приходит то цвет клубней таро, то листья наземной части растения”... “Различное объединение цветовых нюансов в одном слове в языках меланезийского островного мира обусловлено тем, что проводится связь с различными предметами внешнего мира и что ближайшим образом речь вовсе не идет ни о цветовых свойствах предмета, отдельно взятых, ни о других его формах. Цвет как таковой является во многих случаях не настолько значимым, чтобы быть выделенным из остального облика предмета и изолированно “предстать пред глазами” [R.Thurnwald, Ethnopsychologische Studien an Siidseevolkern auf dem Bismark-Archipel und den Salomo-Inseln, 1913, стр. 14—15]. Непосредственная связь качественных значений с предметными отражается и в другой особенности первобытных качественных значении. Помимо многокачественности, о которой только что шла речь, эти значения обнаруживают еще непривычную для нас дробность и специализацию. Вместо привычных нам обобщенных качественных слов, типа белый (вообще), кривой (вообще) и т.п., мы находим в первобытном языке большое количество специализированных конкретных именований. Так, в аранта при отсутствии общего слова в значении “белый”, для обозначения различных оттенков белизны используются слова: iloara — “соляное озеро, корка соли на дне высыхающего соляного озера”, lulkara — “густая пена на поверхности соляного озера”, nkuna — “белый каладу”, wortja — “белые цветы”, tjurunkura — “белая глина”, tjulka — “кора определенного дерева” и др. Равным образом, для разных оттенков красного цвета: njaua — “комок свернувшейся крови”, ulpa — “красная (и желтая) охра”, mbanga — “красная охра, полученная путем обжига желтой”, tataka — “багровый закат солнца” и др.; для оттенков черного цвета: barka — “уголь”, lera — “разновидность птицы”, ulbura — “кусты с иссиня-черными ягодами” и т.д. Аналогично этому для обозначений других качеств в том же языке находим: для “кривого” — mbara “колено”, inkuta — “кусты определенного рода”, terka — “род дерева”, luda-luda, в неясном предметном значении; для “круглого” и “овального” — kanta “круглый лист растения”, ilbala — “перо птицы, продолговатые листья деревьев”, kwata — “яйцо, клубы дыма”; для “постоянного” и “непрерывного”, benta — “невысыхающий источник соленой воды”, elkua — “сок дерева, непрерывно набухающий и стекающий”, kuta или в удвоении kuta-kuta — “адамово яблоко, пульс” и др. Уже приведенные здесь немногие примеры, количество которых можно было бы легко умножить, показывают, что обе стороны первобытного качественного именования, — как его многокачественность, так и необычайная конкретность и дробность, одинаково обусловлены предметным значением имени. Качество берется на этой ступени в непосредственной связи с конкретными предметами, оно выступает, так сказать, в предметно связанном виде. В конкретном предмете одно качество всегда тесно переплетается с другими качествами и отличается конкретными оттенками от сходных качеств многих других предметов. Качественное значение первобытного имени воспроизводит, следовательно, качества, как они даны в наглядно-чувственном образе конкретных предметов. Обратимся теперь к предметному значению первобытных имен, которые и с этой стороны выявляют не менее яркие особенности. Полисемантизму качественных значений сопутствует, как явствует из наблюдений, характерный полисемантизм предметных значений. Эта сторона семантики первобытного имени была впервые вскрыта и подчеркнута Н.Я.Марром. Семантические “пучки”, “ряды” и “гнезда”, найденные Н.Я.Марром в путях лингвистической палеонтологии, прекрасно подтверждаются данными языков первобытных племен. Вот примеры таких “пучков” из аранта. Упоминавшееся уже раньше ilbala значит не только “перо птицы”, но и “крыло птицы”, “плавник рыбы”, “овальный лист дерева”, “кусты чайного дерева с игольчатыми листьями, растущие на побережьи рек”. Упоминавшееся kanta значит не только “круглый лист растения”, но и “головной убор культового назначения”, и “круглая подстилка из травы”, “находящееся вблизи озеро, по временам замерзающее”, и “холод”; iltja значит “пальцы” и “кисть руки в целом”, “сноп лучей восходящего солнца” и “густой, медленно стекающий жир”; mbara значит “колено”, “кривая кость”, “извилистая река” и “мясные черви”; ilba — “ухо”, “чрево”, “пуповина” и “песчаный холм”; tjora — “голень”, “разновидность ядовитых змей”, “маленькие красные муравьи”, “разновидность кустов”; pmoara “тыловая часть цветка, по которой стекает сок”, “разновидность гусениц с пестрым узором на спинке”, “рисунок на спине у посвящаемого юноши”, “юноша в определенный период инициации”, “старик, под попечением которого совершается данный обряд”, в некоторых диалектах также “сок из цветов жимолости” и “сладкий напиток, изготовляемый из цветов пробкового дерева”; kula — “волосы (на голове)”, “водоем с водой на горе”, “яблоковидные плоды определенного дерева”, “мускулистые утолщения на руке и на ноге”; kwatja — “дождевая туча”, “дождь”, “естественный водоем с водой”, “вода”; ingfua — “ночь”, “спящий человек”, “водяные лилии и их скрытые под водой корни, идущие в пищу”; patta — “гора”, “толпа людей”, “массив, ком”, “густая масса, каша”; amba — “живот, чрево, нутро”, “дети по отношению к матери” (отец в этом языке называет детей иным словом), “сок ягод”; ibarkna — “плевра”, “свисающая листва бобового дерева”; torra — “гребень горы”, “птица с гребешком”; altanta — “белые полупрозрачные камни”, “капельки росы”; ultamba — “разновидность медоносных цветов”, “маленькие пчелы без жала” и “мед” и т.д. По какому принципу объединяются столь различные значения в каждом отдельном слове? Эти основания в разных словах различны, что позволяет выделить разные типы предметного полисемантизма. В одних случаях все входящие в один комплекс предметы объединены единством формы (таков, например, пучок “колено — кривая кость — изгиб реки — мясной червь”) или причинно-временной связью (пучок “дождевая туча — дождь — водоем с водой — вода”). Это примеры так называемых “стержневых комплексов”, внутренняя логика которых весьма прозрачна и ближе всего нам по духу. Несколько более сложными по своей внутренней структуре являются пучки, в которых к одному, центральному, значению примыкает несколько периферийных (ср. пучок pmoara, где от центрального значения “тыловая сторона цветка, по которой стекает сок” радиусами в разные стороны расходятся значения “сок из цветков жимолости”, “сладкий напиток из цветов пробкового дерева”, “гусеница с пестрым узором на спинке”, “юноша с ритуальным рисунком на спине” и “старик, на обязанности которого лежит исполнение ритуального рисунка и наблюдение за юношей во время данного периода инициации”). Такие “концентрические” комплексы значений весьма часты в аранта и, насколько можно судить, составляют преобладающий в этом языке семантический тип. Изредка в аранта встречаются “ситуативные” комплексы, охватывающие разные предметы, обычно встречающиеся в природе рядом (таков, например, пучок ultamba “разновидность медоносных цветов — маленькие пчелы без жала”; возможно, что в этом же роде и приведенный выше пучок tjora “род ядовитых змей — красные муравьи — разновидность кустов”). Но сколь бы разнообразными не были эти типы предметного полисемантизма, все они предполагают наличие реальных, хотя нередко второстепенных и случайных, связей между объединяемыми в один пучок предметами. Во всех случаях, когда нам достаточно ясны реалии, мы без большого труда можем раскрыть объективные основания такого общего обозначения. Предметный полисемантизм первобытного имени тесно связан с другой особенностью его семантики, которую можно назвать дробностью и конкретностью предметных значений. Эта черта словаря прежде всего бросилась в глаза этнографам, занимавшимся исследованием первобытных языков. Многочисленные высказывания этого рода сведены в упомянутой работе Леви-Брюля (стр. 112 слл.). Этнографы неоднократно отмечали, что в первобытных языках нет родовых наименований, как дерево, рыба, птица и т.д., и что вместо таких обобщенных слов там имеется богатое число выражений для конкретных разновидностей деревьев, рыб, птиц и т.д. Сопоставляя слова первобытного языка с нашими, мы сплошь и рядом, действительно, находим, что одному какому-либо слову нашего языка в таком языке соответствует ряд специализированных обозначений. Так, в аранта нашему слову “листья” соответствуют слова kanta — “круглые листья”, ilbala — “овальные и ворсистые листья”, 1jаuа — “мясистые листья”. Нашему слову “волосы” в аранта противостоят kula — “волосы (на голове”), alta — “волосы и шерсть”, panga — “длинные волосы”, pantja — “длинные свисающие волосы”, aratja — “прямые волосы, стоящие торчком”. Слову “огонь” там противостоят ura (в иных диалектах matja) — “огонь, костер”, alknanta — “багровый огонь”, altara — “ярко-белый огонь” и т.д. Опираясь на факты этого рода, исследователи нередко приходят к тому выводу, к которому некогда пришел Гэтчет на материале американских языков. “Мы, — утверждал Гэтчет, — стремимся выражаться точно, индеец стремится говорить картинно, мы классифицируем, он индивидуализирует” [Леви-Брюль, там же, стр. 111]. Такой вывод явно ошибочен и покоится на одностороннем освещении фактов. В реальности классифицируют и первобытные люди, хотя классифицируют они и не так как мы, по нормам иного, менее развитого мышления. Когда мы в языке архаического строя ищем соответствий для слов современного языка и находим ряд частных обозначений вместо ожидаемого единого родового слова, то это еще не значит, что в таком языке отсутствуют обобщения. Пока мы исследуем такой язык с точки зрения того, что в нем соответствует единому слову нашего языка, исследование поневоле останется односторонним и неполным. Для полноты картины следует посмотреть, что в наших языках соответствует единому слову архаического языка. При такого рода проверке оказалось бы, что значению единого первобытного слова соответствует ряд значений в современном языке, т.е. открылось бы то самое явление, которое выше было отмечено под названием “предметного полисемантизма” первобытного имени. Если одному нашему слову “листья” соответствует в аранта ряд слов, kanta, ilbala, ljaua и др., то с другой стороны, каждому из этих слов языка аранта в наших языках соответствует также не одно слово, а ряд слов. Kanta, как мы видели, значит в этом языке не только “круглые листья”, но и “круглая подстилка из травы”, “головной убор”, “определенное озеро”; ilbala значит не только “овальный или угольчатый лист дерева”, но и “перо птицы”, и “крыло птицы”, и “рыбный плавник” и т.д.; ljaua не только “мясистые листья”, но и “вязкое дно высохшей реки”. Если, аналогичным образом, рассмотреть значения тех слов, которые были приведены как эквиваленты нашего “огня”, то окажется, что matja значит не только “огонь”, но и “сухие щепки”” alknanta — не только “багровое пламя”, но и “кровожадный человек” и “орбита глаза”, altara — не только “яркий огонь”, но и “ярко-белая кора определенного дерева”. Для эквивалентов понятия “волосы” мы соответственно, найдем, что kula, как уже указывалось, значит не только “волосы на голове”, но и “водоем на горе” и др.; alta — не только “волосы”, но и “лучи солнца”, и “ясный день”, panga — не только “длинные волосы”, но и “камыши над водой”, “заросли деревьев при входе в пещеру” и “затмение солнца (по поверью, происходящее от того, что солнышко — красная девица закрывает себе лицо покрывалом из волос)”; pantja — не только “длинные, свисающие волосы”, но и “черная ночь” и “пучина морская”, aratja.— не только “прямые волосы торчком”, но и “прямая дорога”. Обобщая, мы можем сказать, что как одному слову наших языков соответствует ряд частных обозначений в аранта, так и одному слову аранта соответствует в наших языках ряд слов, представляющихся синонимами с точки зрения аранта. Но из этого следует, что и аранта классифицируют, объединяя разнородные предметы в одно предметное понятие. Только классифицируют они по-своему: обобщения аранта это не родовые понятия, отражающие существенные отношения между вещами, а специфические понятия первобытно-образного мышления, основанные на внешних и поверхностных связях вещей. К характеристике первобытно-образного имени, как единого предметно-качественного обозначения, в ходе анализа присоединились, таким образом, некоторые добавочные определения. Мы видели, что взятое со стороны своего качественного значения первобытное имя обнаруживает многокачественность, или своеобразный качественный полисемантизм, а также необычайную дробность и дифференцированность качественных значений. Параллельно этому, в сфере предметных значений имени наблюдается многопредметность или предметный полисемантизм и специфическая дробность предметных значений. Чисто количественные определения, — многозначность и дробность, — с разных сторон отмечают качественное своеобразие первобытной речи. Значение слова, само по себе, есть всегда (если отвлечься от случайной омонимии и синонимии) нечто целостное, и это положение остается в силе и для древней эпохи. Раздельность предметных и качественных значений, как и их “частичность”, “дробность”, еще не осознается в эту пору. То, что современный ум автоматически и безошибочно определяет как различные, друг с другом несовместимые значения, то неискушенному и слабому первобытному уму представлялось в виде частных реализаций единого образного понятия. Это, конечно, не означает, что первобытный человек практически путал перо птицы, плавник рыбы и овальный лист дерева, называя все эти разные предметы одним словом. Он столь же мало смешивал эти вещи, как не смешиваем мы одноэтажный деревянный дом, многоэтажный каменный дом и т.д., называя их одним и тем же словом “дом”. Это значит лишь, что внешнее сходство предметов, в данном примере — сходство формы, представлялось ему столь же важным, как нам связь между разного рода домами. Элемент абстракции дан уже и в таком весьма примитивном слове. Если первобытный человек называет овальный и остроконечный лист дерева тем же словом, что и птичье перо, то тем самым он отвлекается от зеленого цвета листа и некоторых других признаков и выделяет сходство формы как основу для отнесения предмета к определенному классу вещей. В другом случае, например, называя соляное озеро и белую ящерицу одним словом, он отвлекается от конфигурации предметов, величины и т.д. и выделяет сходство цвета в качестве основы обобщения. В таких обобщениях много субъективного и случайного, ибо в реальности все такие признаки как бы лежат в одной плоскости и каждый из них, сам по себе взятый, ничуть не важнее остальных. В момент возникновения названия тот или иной признак мог получить временное преобладание в сознании над другими, — потребовалось, скажем, отличить овальный лист от листьев иной формы или белую ящерицу от других, в силу чего в одном случае бросилось в глаза сходство с пером, а в другом — цветовое сходство с солью, но наименование закрепляется за предметом, несмотря на то, что актуальность признака может исчезнуть и не ощущаться больше. Это происходит неизбежно, так как предмет в раздельности своих существенных и несущественных признаков еще совсем не выделен в сознании на этой ступени развития и освященное традицией слово кажется первобытному человеку всегда чем-то большим, чем простое обозначение. В итоге многозначность первобытного имени оказывается весьма устойчивой и стабильной. Так как в первобытных обобщениях много случайного и несущественного, то в разных языках первобытные “семантические пучки” окажутся “укомплектованными” по-разному, хотя предметные границы имени будут очерчены каждый раз довольно строго. Эта стабильность составляет одно из наиболее заметных отличий первобытных имен от современных метафор. Переносное употребление слова в современных языках в принципе ничем не ограничено. Еще античная реторика отмечала, что в “окружающей природе нет такого предмета, обозначением и именем которого мы не могли бы воспользоваться для какого-либо понятия из другой области” [Цицерон, Об ораторе. Хрест. “Античные теории языка и стиля”, под ред. О.М.Фрейденберг, Л. 1936, стр. 217]. Если бы кто-либо назвал при нас какую-то конкретную разновидность змей словом “огонь”, то мы в таком необычном для нас названии не нашли бы ничего принципиально порочного и стали бы только доискиваться оснований этого обозначения. Между тем для австралийца, имеющего иное обозначение для данной породы змей, это чудовищное и недопустимое смешение понятий. Известный австраловед Хоуитт рассказывает, что австралийцы из племени янтрувунта издеваются над соседним племенем и считают его глупым только потому, что оно называет ковровую змею словом turo, что на языке янтрувунта означает “огонь” [A.W.Ноwitt, The Native Tribes of South-East Australia, 1904, стр. 49]. Переступать семантические границы первобытного имени, без риска прослыть невеждой и глупым, нельзя, сколь случайными не казались бы нам эти границы. Относительная неподвижность и устойчивость имени проливает свет и на состав тайных языков, встречающихся у первобытных племен. Словарь тайного языка нередко состоит из слов, которые производят на нас впечатление чрезвычайно прозрачных и легко раскрываемых метафор. Так, в тайном языке неофитов у аранта, слово arilpa, в обычном употреблении означающее “острие копья”, используется для обозначения каменного топора, слово kuta-kuta, обычно означающее “пульс”, используется здесь в значении “кровь”, слово waramba, в повседневном употреблении означающее “шалаш роженицы”, употребляется в значении жилого шалаша и т.д. Такая конспирация кажется нам весьма сомнительной и не достигающей цели, тем более, что и обычные слова этого языка мы склонны рассматривать как более или менее смелые метафоры. Но иначе реагируют на такие слова австралийцы. Описывая тайный язык новичков, Штрелов говорит: “Такого рода неточный способ выражения приводит, без сомнения, ко многим недоразумениям, дающим желанный повод для смеха, ибо не только неточно, но и смехотворно звучит, когда новичок называет шалаши своих соплеменников “шалашами рожениц”, когда одежду он обозначает словом, означающим ряску, пленку зеленого ила на поверхности воды, когда летучую мышь он называет бабочкой, змею — волокном и т.д.” [С.Strehlow, ук. соч., т. IV, стр. 32] Но если метафорический перенос значений является достаточным средством затемнения значений и создания языка, непонятного для непосвященных и способного вызывать чувство смеха у посвященных, то мы вправе заключить, что метафора еще совершенно чужда этой эпохе. Такое заключение может казаться парадоксальным. Образность первобытного слова, основанная на чувственных и наглядных связях вещей, еще полностью исключает образность другого, метафорического плана. Где же кроется причина глубокого расхождения первобытной псевдометафорической речи и позднейшего языка поэзии? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо несколько подробнее остановиться на вопросе о логическом содержании первобытного имени, на его, если можно так выразиться, гносеологическом потенциале. Мы видели, что первобытная мысль соотносит и группирует в едином понятии разные предметы по их отдельным, случайно выхваченным качествам. Но разве единичного, в той или иной степени случайного признака недостаточно порой для выделения какого-либо предмета из числа прочих? Разве, например, признака белизны и сходства белой ящерицы с солью недостаточно, чтобы узнать или отличить ее? Разве сходства игольчатых листьев с птичьими перьями недостаточно для того, чтобы с помощью ссылки на такое сходство при случае распознать и выделить дерево с такими листьями? А если такие качества могут служить отличительными признаками предметов, то чем же тогда неудовлетворительны слова первобытного языка, выделяющие предметы по такого рода качествам? — Назвать предмет и тем самым выделить его из множества других предметов можно, лишь опираясь на те реальные свойства и качества, которыми данный предмет отличается от других и противопоставлен им. Но каждое из качеств и внешних признаков предмета, выделяя данный предмет из множества других предметов, в то же самое время связывает и объединяет его со множеством других предметов. Свойство качества выступать в роли отличительного признака зависит, таким образом, от того, в сопоставлении с какими предметами выступает данный предмет. Отличительный признак предмета — это его определенное отношение к другим предметам. То, что в отношении к предметам одного ряда может служить отличительным признаком, то в отношении к другому ряду предметов теряет всякое дифференцирующее значение. Что такое белое вообще? Качество белизны, важное для отличия, скажем зайца-беляка от русака, или белка от желтка в яйце, или белил от всякой другой краски, само по себе не может служить опорой для выделения предмета. Вот почему современный язык не ограничивается в таких случаях простой ссылкой на качество; с помощью суффиксального оформления или других вспомогательных средств мы, говоря на таком языке, каждый раз отчетливо выделяем тот круг предметов, в пределах которого действительно данное противопоставление по признаку белизны. Строй современного языка отражает наличие сознания того, что каждое качество предмета, взятое изолированно от других качеств, и достаточно и недостаточно для выделения предмета, что у каждого качества имеются как бы два измерения: будучи достаточным для выделения предмета в пределах одного вида или рода предметов, такой признак теряет силу за пределами данного рода. Между тем первобытное мышление еще далеко от сознания этой двойственности отношений. Отношения качества к предмету мыслятся первобытным человеком как бы в одном измерении, они представляются ему неподвижными, однозначными и неизменными. Выделив однажды предмет по какому-нибудь внешнему признаку, первобытные люди продолжают опираться на такой признак и тогда, когда он теряет всякую актуальность. В языке аранта мы находим несколько слов для обозначения разных разновидностей туч. Белые, рассеивающееся стайкой облака обозначаются здесь словом “eroanba”, которым обозначаются и белые журавли. Грозовая туча зовется здесь ankala, что значит “говорящая, поющая”,— слово, которым обозначается всякое “говорящее” или “поющее” животное. Случайное сходство облаков по конфигурации и цвету с журавлями, или признак “разговаривания” служат здесь достаточными основаниями для разграничения разных видов туч. Но каждый из таких признаков перестает быть действенным и повисает в воздухе, коль скоро остается неизвестным, о каком разряде предметов идет речь. Ведь само по себе слово eroanba означает не только разновидность туч, но и птиц определенного рода, ankala — не только громовую тучу, но всякую подающую голос тварь, и, следовательно, каждое из таких слов само по себе нуждается в добавочном уточнении, для того чтобы быть понятым верно. Так как родовые слова в таком языке отсутствуют, то для уточнения смысла там могут служить лишь косвенные намеки, содержащиеся в контексте речи, если только общая ситуация в момент высказывания не делает такие пояснения излишними. Невысокий логический уровень словесных обобщений в аранта отражается в несравненно большей зависимости такого языка от внешней ситуации. Словесный контекст на этой ступени еще весьма и весьма неразвит. “Ситуативная связанность” речи здесь настолько велика, что сколько-нибудь значительные тексты не могут быть воспроизведены без искусственного воссоздания ситуации с помощью драматической инсценировки. Сопровождение жеста также содействует усилению выразительности первобытного языка. Расплывчатое и маловыразительное первобытное слово не содержит в себе ничего мистического и иррационального, так как поверхностные и случайные аналогии, лежащие в основе примитивных абстракций, не лишены реальности. Отход от действительности и всякая мистика в мышлении и поведении первобытных людей начинаются лишь тогда, когда переступаются естественные границы аналогии. Когда, например, настаивая на аналогии между красной охрой и кровью и не отдавая себе отчета в степени ее достоверности, австралийцы утверждают, что охра это действительная кровь, оставшаяся с мифических времен от их предков, полулюдей-полуживотных, то перед нами типичный образчик первобытного домысла к природе вещей. Другим примером такой мистификации и искажения реальности может послужить убеждение аранта, что окрашенный охрой камень целиком превращается в охру, уподобляясь последней не только по цвету, но и по мягкости. Такое представление достигает вершин нелепости тогда, когда подобным “превращенным в охру” камнем австралийцы неистово колотят друг друга по животу, надеясь, что в результате такой операции их нрав, локализуемый наряду со многими переживаниями в животе, станет менее “жестким” и “смягчится” [В.Spencer, a. F.J.Gi1len, The Arunta, 1927, стр. 142—143]. Логика подобных операций основана на убеждении, что предмет одинаково необходимо предполагает разные свои качества, что, передавая другому предмету одно из своих качеств, такой предмет необходимо передает ему и все остальные. Первобытный ум не вникает в сущность вещей, не отделяет существенные связи от поверхностных и случайных, не замечает градаций в отношении предмета к своим качествам, принимая то и дело внешнее сходство за существенное совпадение. Неизбежным следствием таких поверхностных суждений являются многочисленные ошибки и промахи, из нагромождения и систематизации которых вырастают первобытная магия, миф и зачатки религии и культа. Обратимся теперь к рассмотрению поэтической метафоры. Общие условия ее возникновения таятся в тех процессах решительной ломки строя языка и мышления, которые имели место при выходе из первобытности, — под воздействием усложнившейся общественной практической деятельности и, в первую очередь, появления таких новых отраслей общественного производства как скотоводство и земледелие. Не имея здесь возможности останавливаться на деталях и различных стадиях этого процесса, сопоставим готовые результаты переворота с исходным этапом. В итоге гигантского прогресса языка и мысли на смену единому предметно-качественному имени первобытности приходят обособленные имена существительные и имена прилагательные. Реальному единству предметов и их качеств теперь противостоят два раздельных и внешне независимых класса слов, из которых одни выражают родовые понятия предметов, в отрыве от их внешних качеств, а другие — обобщенные понятия качеств в отрыве от предметных субстратов. Имя существительное (дом, например), как выражение родового понятия, остается как бы нейтральным к многообразию противоположных внешних признаков (дом деревянный и каменный, большой и маленький, одноэтажный и многоэтажный, различной окраски и т.д.), которые могут быть “включены” в такое понятие. С другой стороны, и какое-нибудь прилагательное (“красный”, например) предполагает понятие отвлеченного качества вне обязательной связи с определенной конкретной разновидностью предметов и независимо от реально существующих оттенков данного качества. В итоге, следовательно, голова у нас оказывается “набитой абстракциями” родовых понятий и качеств. Разрывая единое первобытно-образное понятие на односторонние обобщенные предметные и качественные значения, язык и мышление позднейших эпох как бы отходят от непосредственности бытия, но это — отход, знаменующий большую степень приближения к объекту. В своей оторванности друг от друга эти категории развитого языка являются однобокими и неполными определениями предметов, но в живом контексте речи они позволяют воссоздать несравненно более глубокий и точный образ вещи. Разрыв образного понятия и выделение абстрактных категорий отражает некий реальный момент действительности, а именно: относительную независимость предметов от ряда внешних и случайных качеств. Получилось так, как если бы целостные и грубые образные имена первобытного человека оказались раздробленными на куски, с тем, чтобы из мозаики таких фрагментарных осколков составилась теперь более полная и отчетливая картина мира. Перед нами пример того, как, говоря словами Ленина, “мышление, восходя от конкретного к абстрактному, не отходит (если оно правильное (NB)... от истины, а подходит к ней” [Ленин, Философские тетради, стр. 166]. В плане интересующей нас проблемы образности коренное отличие от первобытности заключается теперь в том, что слово само по себе лишается элементов образности. Раньше печать образности лежала на каждом имени. Каждое полнозначное слово содержало в себе изобразительный момент и отражало предмет в живом сочетании форм и красок. Оборотной стороной этой примитивной образности был, как мы видели, низкий логический потенциал языка, низкий уровень его выразительных возможностей. Теперь с распадом структуры нерасчлененного первобытного имени язык выигрывает в силе выражения, становится орудием более мощной и гибкой мысли. Но этот выигрыш покупается ценой отказа от образности отдельного слова. Слово само по себе больше не выступает в качестве самостоятельного носителя образного начала в языке. Непосредственным носителем образности становится теперь контекст. То, что утрачено в слове, может теперь быть воссоздано с большим успехом, но лишь в рамках развернутого контекста. Реконструкция образа в контексте современной речи может, как известно, протекать двумя различными путями: путем прозаического описания и с помощью приемов метафорической речи. Каждый из этих методов воспроизведения живого образа имеет свои особенности, свои достоинства и свои недостатки, но оба метода одинаково основываются на современной структуре слова и одинаково предполагают необходимость разворачивания контекста. Поэтическое слово, метафора, на первый взгляд обладает самостоятельной образностью, но в действительности она не в меньшей степени нуждается в поддержке контекста, чем прозаическое описание. Отличие языка поэзии от образности прозаического языка заключается не в степени зависимости от контекста, а в различной роли и различном характере контекста в каждом случае. Прозаическое описание складывается в результате прямого и непосредственного взаимодействия так называемых прямых и собственных значений слов в речевом контексте. Поэтическая же речь, прежде чем быть понятой, нуждается в предварительной работе мысли по переосмыслению ряда слов и замене их прямого значения переносным. В первом случае контекст — это непосредственная цель изложения, во втором — контекст несет на себе двойную нагрузку, выступая не только как цель, но и как средство к достижению цели. Непосредственно данный в поэтическом изложении контекст это прежде всего средство для выработки иного, подразумеваемого контекста. Необычным и с виду бессмысленным подбором слов такой контекст прежде всего сигнализирует нам о необходимости переосмыслить некоторые слова и дает указания, в каком направлении должно совершаться это переосмысление. Контрастирующий со словом контекст как бы “взводит” слово, создает в нем напряжение между обычным, в данном случае явно неподходящим (“прямым”) значением слова и искомым, подразумеваемым (“переносным”). Лишь после того, как выполнена эта предварительная задача и добыты новые семантические элементы, становится возможным нормальное функционирование контекста и слияние наличных в нем значений в единый образ. Из этого особого отношения контекста к метафорическому слову вытекает ряд существенных свойств метафорического изложения, обычно отмечаемых в любом руководстве по поэтике. Метафора лаконична. Так как количество скрытых в метафоре подразумеваемых и допускаемых данным контекстом реальных значений может быть весьма велико, то поэтическое описание, как правило, короче прозаического и достигает своей цели несравненно более скупыми языковыми средствами. Метафора не столь педантична и назойлива как прозаическое описание. Метафора не ограничивает вас и не столь точно предписывает вам, в каких пределах требуется восстановить реальный образ. В сочетании “многорукое дерево” аналогия может быть найдена в сходстве распростертых рук и ветвей дерева, она может быть продолжена дальше в сопоставлении пальцев руки с побегами веток, живое воображение может к этому прибавить сходство почек с ногтями, — словом, аналогий может быть каждый раз столько, сколько реальных аналогий в сопоставляемых предметах сможет открыть ваше живое воображение. Метафора — знак доверия говорящего к слушателю, поэта к своей аудитории. Не говоря напрямик, выражаясь загадками и обиняком, поэт как бы призывает вас самостоятельно проделать тот ход мысли, который проделал он сам, и полагается на вашу способность выполнить это. Тем самым вы как бы становитесь соучастником процесса поэтического творчества. Самостоятельная работа мысли по воссозданию образа заставляет вас сильнее вживаться в этот образ, полнее представлять его себе. Метафора — эмоциональнее прозаического описания. Исчезающее в результате метафорического переосмысления основное значение слова никогда не исчезает полностью и, как правило, оставляет за собой некие смутные эмоции и чувства, не имеющие прямого отношения к исходному образу, но заметно содействующие созданию общего эмоционального фона вокруг образа. Метафора, наконец, по самой природе своей кратковременна и недолговечна. Нуждаясь в определенном контексте, как средстве возбуждения переносного значения в слове, метафора живет лишь до тех пор, пока живет сознание контраста между контекстом и прямым значением слова. Там, где вследствие частого употребления напряжение ослабло и осознание контраста притупилось, там поэтической метафоры уже нет, там перед нами эксметафора, слово, метафоричность которого больше не сознается, метафора по происхождению, а не по функции. Именно, такого рода эксметафорами являются так называемые “языковые метафоры”, которыми изобилуют наши языки. В таких выражениях, как ножка стола, спинка стула, дверная ручка, самопишущее перо и т.д. образность называния уже больше не сознается. Требуется некоторое усилие для того, чтобы восстановить образность даже менее часто употребляемых слов (как, барашки на воде, или журавль у колодца и т.п.). Но, продолжая жить в языке рядом со словами в исходном значении, “языковая метафора” все еще нуждается в поддержке текста, который нужен теперь не для того, чтобы метафорически переосмыслить слово, а для того, чтобы в слове, которое стало омонимическим, вследствие того, что одно из его переносных значений превратилось в прямое, — отделить производное прямое значение от исходного. Мы видели, что как прозаическое, так и поэтическое изложение предполагает наличие слов с прямым значением. Но что такое прямое значение слова, непосредственно используемое в языке прозы и служащее трамплином для семантических новообразований в языке поэзии? Если исходить от обычного определения метафоры, как переноса имени с одного предмета на другой и как отклонения слова от прямого значения, то прежде всего должно быть определено, что такое прямое значение слова [Ср. peц. Erik Rooth’a на книгу С.F.Stutterheim, Het begrip metaphoor, een taalkundig en wijsgerig onderzoek, 1941, в шведском журнале “Theoria”, V II, 1942, стр. 188—190; “Коль скоро,— замечает рецензент, — автор исходит из обычного в языкознании определения метафоры, как переноса слова с одного значения (или вещи) на другое значение (или вещь), то необходимо прежде всего разъяснить понятия ‘значение’ и ‘слово’”. Рецензент упрекает автора рецензируемого труда в том, что он не выполнил этого требования и тем самым сделал свой труд безрезультатным]. Прямое или собственное значение слова есть лишь парафраз, другое наименование для обобщенного родового понятия предмета или качества. Поскольку первобытный язык не знал таких понятий, поскольку в ту пору не существовало еще и прямых значений в отличие от переносных. Возможная только на базе родового понятия метафора сводится к специфическому использованию семантики родового слова. Так, в сочетании “весна его жизни” мы не считаемся со всей совокупностью существенных признаков, входящих в состав понятия весны, и, перебирая в сознании отдельные составные признаки, отбрасываем одни признаки (возвращение перелетных птиц, таяние снега, вскрытие рек и т.д.) в сторону, как неподходящие и отбираем другие (золотые солнечные дни, свежесть молодых всходов и т.п.) как согласующиеся с искомым образом. Внешне дело обстоит так, как если бы возродился “полисемантизм” первобытного слова и сближение различных предметов по случайным и внешним признакам стало возможным вновь. В действительности, однако, обстоятельства переменились в корне. В случае поэтической метафоры имеется, во-первых, четкое сознание того, что предполагаемое контекстом значение (в нашем примере “юность, счастливое детство”) и непосредственно наличное (“весна”) принадлежат к разным сферам бытия и не могут быть прямо совмещены. Во-вторых, наличествует знание того, какие существенные признаки и свойства предполагаются каждым из этих понятий в отдельности, чем они различаются между собой и в каких отношениях они могут быть сопоставлены. Имеется, наконец, достаточное знание реальности, чтобы судить о том, в какой степени реальны и правомерны проводимые в данном случае аналогии между данными и искомым значением. Но как раз всего этого, как мы видели, на первобытной ступени развития еще нет. То, что в первобытном имени было следствием бессознательного оперирования подобиями и внешними аналогиями, становится на более поздней ступени, вместе с дифференциацией отношений, качеств и свойств к предмету и выработкой абстрактных понятий предметов и качеств, продуктом зрелой и сознательной мысли. Метафора в первобытном языке это, так сказать, метафора в себе. В первобытном сознании природа и общество переработаны “бессознательно художественным образом” [К.Маркс, К критике политической экономии, Партиздат, 1933, стр. 36], но такое “бессознательно-художественное” первобытно-образное отражение природы является необходимой подготовкой для позднейшей сознательно-художественной переработки бытия. То, что в первобытную эпоху было метафорой в себе, то позднее, в сознательном поэтическом творчестве становится метафорой для нас [Эту разницу между первобытно-образным словом и позднейшей поэтической метафорой отчетливо видел Потебня, писавший по атому поводу: “И мы, как и древний человек, можем назвать мелкие, белые тучи барашками, другого рода облака — тканью, душу и жизнь — паром, но для нас это только сравнения, а для человека в мифическом периоде сознания — это полные истины до тех пор, пока между сравниваемыми предметами он признает только несущественные разницы, пока, например, тучи он считает, хотя и небесными, божественными, светлыми, но все же барашками, пока пар в смысле жизни, есть все-таки, несмотря на различные функции, тот же пар, в который превращается вода”. (Из записок по теории словесности, 1906, стр. 590). Только Потебня переоценивает здесь сверхъестественный, мифологический момент в первобытном сознании. Своеобразие первобытных образных имен заключалось, как мы пытались показать, не в их мифологичности, а в недостаточной глубине обобщающей мысли в древнюю пору. Сама возможность мифологической интерпретации образа, отнюдь не всегда обязательная и необходимая, как это полагает Потебня, является следствием ограниченности и расплывчатости первобытных абстракций, охватывающих и резюмирующих лишь то, что лежит на поверхности явлений, как и невысокий уровень обобщающей способности в свою очередь, объясняется невысоким уровнем развития общественной производственной деятельности и крайне ограниченным использованием сил природы]. Сходство между метафорой и архаическим образным именем раскрывается, таким образом, как чисто формальное повторение и воспроизведение некоторых черт изжитой эпохи при новых, существенно видоизменившихся обстоятельствах. Развитие мышления, это, говоря словами Ленина, “бесконечный процесс углубления познания человеком вещи, явлений, процессов и т.д. от явлений к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности” [Ленин, Философские тетради, стр. 212]. Первобытное мышление путается и тонет в противоречивых взаимоотношениях вещей и их качеств, оно с трудом преодолевает простейшую диалектику явлений, объективность этого мышления не идет дальше наглядно воспринимаемых связей и отношений между предметами природы. С раздвижением рамок практической деятельности и вовлечением новых более сложных предметов в орбиту общественного производства, ум человека открывает в синкретическом отношении качеств к предмету известные градации и расхождения, отделяет случайные для предмета признаки от необходимых, существенные от несущественных, являющиеся внешние признаки от внутренних потенций. Вследствие такого размежевания и расчленения мысли первобытно-образные понятия уступают место обобщенным родовым понятиям предметов и их свойств. Размежевание понятий о предметном субстрате и о внешних признаках и свойствах предметов и обособление соответствующих категорий в языке является необходимым результатом умственного прогресса. Для того, чтобы на этой более высокой ступени развития восстановить реальный образ вещи, необходимо к понятию предмета добавить ряд черт, которые отняты у него нивеллирующей силой понятийного мышления. Одним из средств такого более сложного и гораздо более точного воссоздания образа является поэтическая речь с присущими ей специфическими приемами метафорического переосмысления слова. Если метафора и напоминает некоторыми своими особенностями первобытное образное слово, то в целом, всем своим содержанием, всеми своими связями в живом контексте поэтической речи она знаменует собой кардинальные сдвиги в развитии языка и мышления и углубление познания вещей. Текст дается по изданию: Известия АН СССР, Отделение литературы и языка, 1947, т. 6, № 4, 301-316