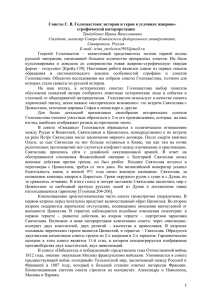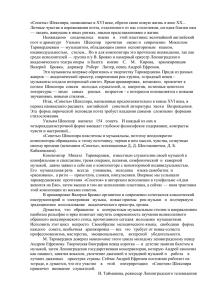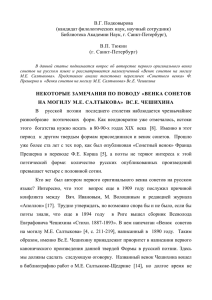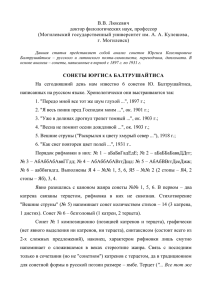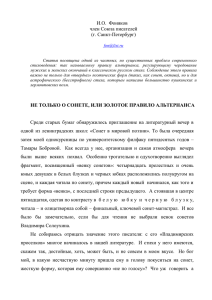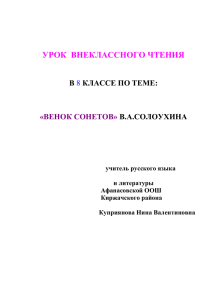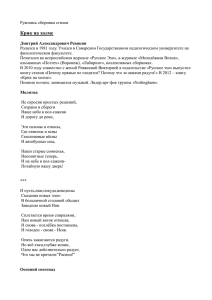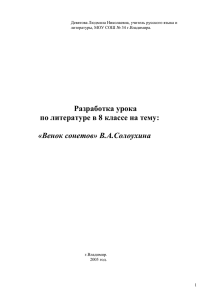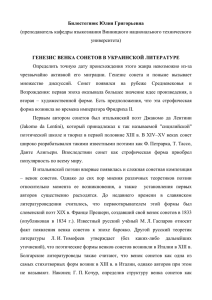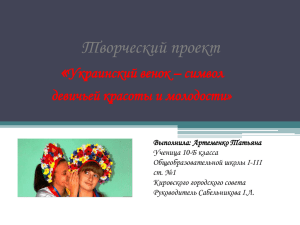Р.Б. Евдокимов Литературное имя (псевдоним): Ростислав Евдокимов-Вогак.
реклама
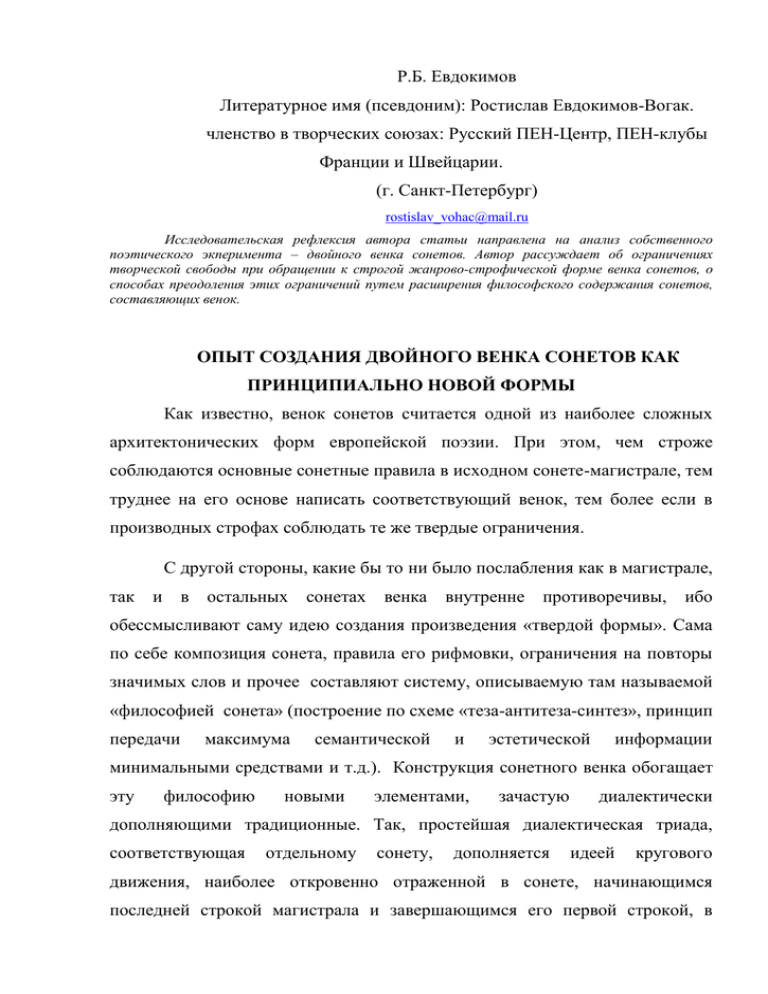
Р.Б. Евдокимов Литературное имя (псевдоним): Ростислав Евдокимов-Вогак. членство в творческих союзах: Русский ПЕН-Центр, ПЕН-клубы Франции и Швейцарии. (г. Санкт-Петербург) rostislav_vohac@mail.ru Исследовательская рефлексия автора статьи направлена на анализ собственного поэтического экперимента – двойного венка сонетов. Автор рассуждает об ограничениях творческой свободы при обращении к строгой жанрово-строфической форме венка сонетов, о способах преодоления этих ограничений путем расширения философского содержания сонетов, составляющих венок. ОПЫТ СОЗДАНИЯ ДВОЙНОГО ВЕНКА СОНЕТОВ КАК ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЙ ФОРМЫ Как известно, венок сонетов считается одной из наиболее сложных архитектонических форм европейской поэзии. При этом, чем строже соблюдаются основные сонетные правила в исходном сонете-магистрале, тем труднее на его основе написать соответствующий венок, тем более если в производных строфах соблюдать те же твердые ограничения. С другой стороны, какие бы то ни было послабления как в магистрале, так и в остальных сонетах венка внутренне противоречивы, ибо обессмысливают саму идею создания произведения «твердой формы». Сама по себе композиция сонета, правила его рифмовки, ограничения на повторы значимых слов и прочее составляют систему, описываемую там называемой «философией сонета» (построение по схеме «теза-антитеза-синтез», принцип передачи максимума семантической и эстетической информации минимальными средствами и т.д.). Конструкция сонетного венка обогащает эту философию новыми элементами, зачастую диалектически дополняющими традиционные. Так, простейшая диалектическая триада, соответствующая отдельному сонету, дополняется идеей кругового движения, наиболее откровенно отраженной в сонете, начинающимся последней строкой магистрала и завершающимся его первой строкой, в результате чего возникает как бы новое качество: развитие по спирали, объем вместо плоскости. Запрет на повтор значимых слов внутри отдельного сонета (кроме анафор) вступает в видимое противоречие с подхватом заключительной строки каждого сонета в первой строке следующего. Но это должно быть осмыслено как попытка осветить образ, явление, идею с разных сторон и противопоставить экономной самодостаточности элементов на уровне отдельного четырнадцатистишия щедрую взаимосвязь явлений поэтического мира на уровне более сложной системы. Нечто подобное мы видим в современной физике в принципе дополнительности двух, казалось бы взаимоисключающих, понятий: частицы, корпускулы – и волны... С точки зрения психологии творчества, на наш взгляд, продуктивно следование наиболее жестким правилам. Если признать, что форма и содержание взаимосвязаны, то преодоление формальных препятствий едва ли не автоматически приводит к выявлению автором в своем замысле новых подтекстов. Так, скульптор наиболее совершенные статуи создает не из пластилина, а из мрамора, ибо резец художника как бы следует за скрытыми в неподатливом материале возможностями. Об этом неоднократно говорили мастера разных эпох. Но при всем при том нельзя не признать, что форма венка сонетов несвободна и от некоторых недостатков, в известном смысле вытекающих из ее же достоинств. Как ни осмыслять повторение целых строк, оно создает ощущение некоторой монотонности, подчеркиваемой ритмическим однообразием. Если остановиться на наиболее «совершенном» варианте опоясывающих рифм в катренах («AbbA AbbA»), система рифмовки терцетов по формальным основаниям будет либо «ccD cDc», либо «cDc DcD» или «ccD cDD» (ограничиться одной лишь первой терцетной схемой попросту невозможно; сонеты, построенные на строках магистрала со смежными рифмами, обязаны иметь равновеликую – мужскую или женскую – эпикрузу; и наоборот: в сонетах, чьи первые строки неравносложны с последними, вынужденно используется единственно возможная схема «ccD cDc»). Жесткая заданность двух вариантов рифмовки терцетов производных сонетов в зависимости от вида рифм в соответствующих строках магистрала возникает и при выборе перекрестного оформления катренов («АвАв АвАв – CCd CCd или CdC ddC»). Но тогда затея одолеть форму окончательно грозит обернуться попаданием к ней в кабалу, сводя творчество к выбору одной из пяти строго детерминированных схем. Творец, хозяин рискует превратиться в раба. Где же выход? На возможный вариант решения этой задачи меня натолкнула одна особенность русской сонетной традиции: итальянскому одиннадцатисложнику у нас соответствует как пяти-, так и шестистопный ямб. Очевидно, что это обстоятельство само по себе уже допускает возможность определенной вариантности. Но как такую возможность реализовать, не нарушая требования равностопности строк в каждом отдельном сонете? На ответ натолкнула идея дуальности, заложенная в существовании двух допустимых размеров. Надо написать два венка, а точнее – один ДВОЙНОЙ ВЕНОК. В принципе, двойные венки уже существовали. Вот, к примеру, Corona astral is и Lunaria, объединенные Максимилианом Волошиным в «Ивернях» под заголовком «Двойной венок»... Но в том-то и дело, что это, в сущности, два совершенно разных венка. Они написаны в разные годы (август 1909 и июль 1913), первоначально вошли в разные поэтические сборники и соединены в одно целое в общем-то механически – на основании ассоциаций и общих для них антропософских штейнерианских настроений. Структурного единства они не представляют. Тоже можно сказать и об иных попытках создания «двойных венков». Но можно и нужно было попытаться писать такую сонетную поэму сразу как «двойной венок». Из такой позиции оказалось возможным извлечь массу преимуществ. Прежде всего (после возникновения общего замысла и составления примерного плана работы) были написаны два сонетамагистрала о двух рифмах в терцетах. Но один из них написан пятистопным, другой – шестистопным ямбом. Один имеет опоясанные, другой – перекрестные рифмы в катренах. Один начинается и заканчивается строкой с двусложной эпикрузой, другой начинается строкой с «женским» окончанием, но заканчивается «мужской» рифмой. В дальнейшем сонеты писались поочередно; первый сонет создавался на основе шестистопного магистрала, второй был пятистопным, и так далее. Таким образом, все нечетные сонеты имеют одну ритмическую структуру, все четные – другую. «Подхваты» строк оказались разделены сонетами, принадлежащими структурно иному венку, но при этом удалось сохранить общую цельность композиции, единство произведения. Были введены и дополнительные ограничения. Так, если в одном из магистралов рифмуется «расстрелы – Растрелли – стрелы – карусели», то во всех соответствующих производных сонетах жестко применялись рифмы на «л» твердое для одной группы и на «л» мягкое – для другой. Это было особенно важно для сонета, начинавшегося строкой на «Растрелли» и оканчиваюшегося на «стрелы»: указанный прием позволял искусственно создать иллюзию противопоставления «мягким» рифмам катренов – «твердых» рифм в терцетах. Аналогичным образом рифма «на заре – Назарет» в другом магистрале осмыслялась как рифма на открытый слог в первой группе производных сонетов и на закрытый – во второй. Ни одна из рифм производных сонетов, не обусловленных рифмами магистралов, ни разу не повторяется. В каждом из двух структурных венков применены все пять классических вариантов рифмовки терцетов, что в сумме дает уже десять достаточно строгих модификаций. Варианты с тремя рифмами в терцетах были исключены изначально. Оба магистрала представляют себою сонеты-акростихи: по именам лирическим героини и героя (№ 23 – «Ростислав Вогак» и № 30 – «Цовинар Бекарян»). Единственный на тридцать сонетов случай повторения значимого слова внутри одного четырнадцатистишия (№ 27) тут же оговаривается и обыгрывается: Любовь ли умерла? Да здравствует любовь! (Когда зовет она, я повторяюсь смело…) Само собой разумеется, что двойственность, заложенная в самой форме, с неизбежностью должна была привести – и привела – к сознательной дуальности содержания. Впрочем, так и было задумано с самого начала. Дуализм этот выражается в противопоставлении мужского и женского начал, личного и общественного, высокого и низкого, Петербурга и далекого «медвежьего угла», Европы, Запада (Растрелли) и Востока (Руставели) и т.п. Подчеркивается эта оппозиция и двумя эпиграфами, отражающими эти две группы представлений и взятыми у поэта-женщины и у поэта-мужчины. Однако «чистый» дуализм, без его диалектического преодоления всегда был чужд мировоззрению автора. Поэтому появилась необходимость завершить поэму послесловием, кодой, снимающей противопоставление того, что сейчас стало модно обозначать по-китайски как «Ян» и «Инь». Внутренняя связь между содержанием и формой не позволяет сделать это послесловие сонетом: ведь такой сонет с неизбежностью примкнул бы к одному из двух состязающихся вариантов. Для эстетического выражения истинного синтеза необходим взгляд как бы со стороны, а следовательно – выход за пределы использовавшейся до этого момента формы. Поэтому послесловие написано в виде пяти обычных четверостиший. В целом, как мне кажется, мы имеем здесь дело с воплощением диалектики в поэтической форме и попыткой завершения разработки «философии сонета» на качественно новом уровне. Если один отдельно взятый сонетный венок, как уже отмечалось, соответствует идее развития по спирали, то предлагаемая форма оказывается двумя спиралями, закрученными друг на друга, что, продолжая естественнонаучные аналогии, можно уподобить дезоксирибонуклеиновой кислоте, ДНК, молекуле жизни, где роль геномов будут играть отдельные сонеты. В конце концов, если исходить из представлений о фундаментальном единстве мироздания, о всеобъемлющем соответствии микрокосма – макрокосму, такие структурные сближения могут считаться достаточно естественными. Возьмем, к примеру, обрамленную повесть. Классический образчик – сказки «Тысячи и одной ночи». Отношения Шахерезады и халифа характеризуются драматическим сочетанием двух мощных противоборствующих сил: отталкивания (Шахерезаде грозит смерть!) и притяжения, оказывающегося все же сильнее. Но это вполне соответствует поведению двух протонов в атомном ядре, сохраняющих стабильность в значительной мере благодаря влиянию противоположно заряженных облачков из новелл-злектронов. Остается заметить, что ежели первоначальный импульс к разработке описанной идеи был получен от наличия двух вариантов сонетного размера в одной национальной поэтике, то итоговое построение от этой частной особенности почти не зависит. Большинство эффектов новой архитектонической форме можно сохранить и в рамках иных языковых традиций: одиннадцатисложника, александрийского стиха, современных финно-угорских аналогов метрическому античному стихосложению или попыток Вэнь И-до писать сонеты по-китайски. Если уж предлагаемую литературную форму можно рассматривать в качестве частного случая, отражения некоего космического архетипа, задающего структуру бытия на уровнях от молекулы до галактик, то вполне очевидно, что любой человеческий язык сам будет не более, чем силовым полем, в пространстве которого резонируют Слова, рожденные Богом.