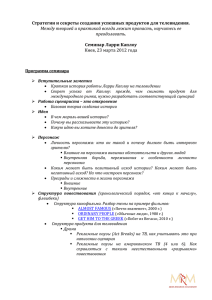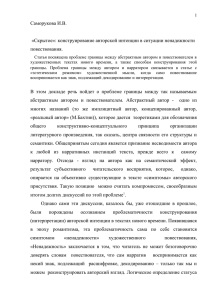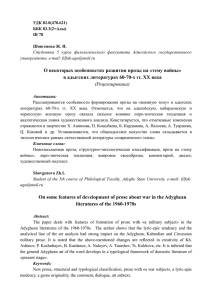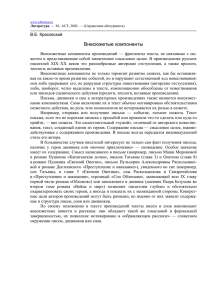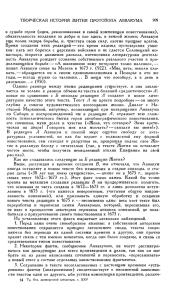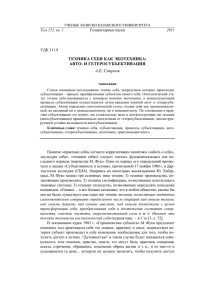Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»
реклама

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 660095, г. Красноярск, ул. Коммунальная,12 факс (8-391) 201-19-01 Исследовательская работа на тему: «Язык В.П.Астафьева. Приемы субъективации авторского повествования в «Затесях» В. П. Астафьева». В рамках конкурса «Душа Сибири». Выполнила: учитель русского языка и литературы Жульянова Наталья Викторовна Красноярск 2012 Введение. Актуальность темы данной работы проявляется в двух планах. Вопервых, в плане лингвистического анализа художественного текста как единого целого. Во-вторых, в плане конкретного исследования одной из важнейших, но очень мало изученных произведений В.П.Астафьева – субъективация авторского повествования, то есть смещения с помощью определенных языковых средств точки видения из авторской сферы в сферу персонажа, субъекта. О языке и стиле художественных произведений написано множество литературоведческих и лингвистических работ. Исследованиями в этой области занимались В.В.Виноградов, такие ученые-филологи, Б.В.Томашевский, как Г.О.Винокур, Л.В.Щерба, Б.А.Ларин, А.М.Пешковский, Г.А.Гуковский, Л.С.Выготский, М.М.Бахтин и многие другие. В данной работе будем опираться на учение академика В.В.Виноградова: «Стилистика.Теория поэтической речи. Поэтика», «О языке художественной литературы», «О теории художественной речи», «К построению теории поэтического языка», который выдвинул категорию текста «образ автора». Привлекает внимание ученых-филологов проблема субъективации авторского повествования как элемента языковой композиции художественного текста, основные контуры этой проблемы были намечены еще в книге В.В.Одинцова «Стилистика текста», вышедшей в свет в 1980 году. Поэтому есть основание считать, что разработка общих вопросов лингвистического анализа и исследование конкретных текстов на основе изучения языкового воплощения таких категорий, как образ автора, словесная композиция произведения, словесные и композиционные приемы субъективации авторского повествования и т.п., - является в настоящее время одной из самых актуальных задач отечественной лингвистики. При этом языковой аспект субъективации повествования выступает едва ли ни как самый актуальный в ряду перечисленных проблем. Поскольку общее движение русской повествовательной прозы от «объективированного авторского» к субъективированному, «перемещенному» в сферу сознания персонажей или изображаемой сферы изложению очевидно. В этой связи представляется вполне правомерным обращение к творчеству В.П.Астафьева. Широта и богатство идейного содержания, глубокое авторское проникновение в мир персонажей, яркий и точный язык повествования, позволяют видеть в произведениях автора не только материал для конкретного изучения языка, но и материал для общего изучения категории текста художественного произведения. Объектом исследования в данной работе являются приемы субъективации авторского повествования, их значение и функции в художественных произведениях В.П.Астафьева. Предмет исследования - выявить и проанализировать основные приемы субъективации авторского повествования в тексте «Затеси» В.П.Астафьева. Источник – текст В.П.Астафьева «Затеси». Цель исследования – рассмотреть основные приемы субъективации авторского повествования в тексте «Затеси». Задачи: 1. Рассмотреть основную категорию текста – образ автора, как организующее начало текста. 2. Рассмотреть субъективацию на уровне авторского повествования и на уровне повествования рассказчика. 3. Найти основные приемы субъективации повествования в тексте, дать объяснение художественного применения. 4. Выявить роль субъективации повествования в композиционной организации современного текста. Структура работы. Данное исследование состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. В.П.Астафьеву принадлежит немало произведений, требующих изучения со стороны стилистики текста. А также и в необходимом историческом аспекте, так как его проза есть явление употребления языка на современном этапе его развития. Практическое значение работы – данное исследование может служить опорным и методическим материалом студентам и учителям, занимающихся, проблемой субъективации авторского повествования как элемента языковой композиции художественного текста. Глава 1. 1.1 Вопрос изучения образа автора в филологии 20-го столетия В 20- е годы 20 столетия в русской филологии активно и плодотворно разрабатывались проблемы стилистики художественных произведений, в частности, проблемы композиции, монолога и диалога, сказа. Статьи и книги В.В.Виноградова тех лет - «О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума», «Гоголь и натуральная школа», «О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски)», «Этюды о стиле Гоголя», «Проблемы сказа в стилистике», «О теории литературных стилей», «К построению теории поэтического языка», «Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский», «О художественной прозе»- не только отразили актуальную и важную филологическую проблематику своего времени, но и оказали значительное влияние на ее последующую разработку. А введенное Виноградовым понятие образа автора явилось, несомненно, наиболее существенным вкладом в филологическую науку 20 века. Как истинный филолог, В.В.Виноградов, несмотря на очевидную склонность и способность к научным обобщениям, никогда не отрывался от «исходной реальности филологии»- текста. А его изучение показывало, что текст организован монологически, что диалог, если он включается в текст, подчинен монологу. В.В.Виноградова занимала, прежде всего, монологическая организация текста. Об этом очень хорошо сказал А.П.Чудаков: «Остро ощущая в слове то, что Бахтин называл диалогичностью, Виноградов не менее остро ощущал, что в конкретности речи это выражено все-таки в монологической форме, а отойти от формальной воплощенности он не мог ни на миг»[7]. Он прекрасно понимал, что изучение художественного (как, впрочем, и всякого другого) текста возможно только в рамках особых категорий - не тех, которыми оперируют ученые при изучении строя языка. Отсюда выдвижение на первый план проблемы языковой композиции текста и компонентов этой композиции – словесных рядов, образуемых языковыми единицами разных ярусов. В концепции академика Виноградова выстраивалась стройная иерархия: языковые единицы - словесные ряды - словесная композиция. Это – «живая данность языка» на уровне текста. Но чисто эмпирический подход к этой данности не давал ответа на важные вопросы. Чем определяется та или иная композиция, та или иная система развертывания словесных рядов? Что связывает воедино все стороны содержания текста и его языкового выражения? Такая связующая, объединяющая, организующая текст категория – не оторванная от реальности языкового употребления и в то же время представляющая собой высокую степень научного обобщения – была определена В.В.Виноградовым как образ автора. Ученый писал: « Образ автора – это та цементирующая сила, которая связывает все стилевые средства в цельную словесно – художественную систему. Образ автора – это внутренний стержень, вокруг которого группируется вся стилистическая система произведения» [6]. Учение об образе автора возникло, было теоретически разработано и стало применяться в практике стилистического анализа, разумеется, не в одночасье. Филологи двадцатых годов, в том числе и академик Виноградов, часто говорили и писали об «авторе», а в связи с проблемой сказа – и о «рассказчике». Но слова «автор» и «рассказчик» не могли стать специальными терминами филологии. Выступая как обозначения создателей текста, они тем самым обозначали, прежде всего, конкретных людей, остающихся вне текста со всем своим многочисленным разнообразным набором личных человеческих качеств, социальных связей, субъективных привычек, симпатий и антипатий и т.п., свойственных им в жизни. Было очевидно, что определенное отражение личности автора в тексте нельзя смешивать с самой личностью, с живым человеком – автором во плоти и крови. Надо было искать категорию текста, которая выступает как его (текста) организующее начало. И В.В.Виноградов такую категорию нашел. В статье «К построению теории поэтического языка» (опубликована в 1927г.) появляются термины «образ автора - рассказчика», «образ писателя». Позже часть этой статьи В.В.Виноградов перенес в книгу «О художественной прозе» (опубликована в 1930г.). Здесь уже вполне терминологически четко обозначаются «образ автора» и «образ рассказчика». Так в филологии наряду со словами «автор» и «рассказчик», несущими в себе неустранимый комплекс житейских представлений, появились строгие термины «образ автора» и «образ рассказчика». Это было событие, равное которому в истории филологической науки 20 века найти вряд ли можно. Виноградов пишет пока еще об «образе писателя»(а не об образе автора) и связывает с ним ряд вопросов, ряд важнейших признаков образа автора и путей и задач его анализа обозначен вполне четко. Во-первых, образ автора есть в художественном произведении всегда. Во-вторых, образ автора не лицо «реального», житейского писателя, а его своеобразный «актерский» лик. В-третьих, в связи с этим решительно отметаются всякие биографические сведения. В-четвертых, образ автора реконструируется на основе его произведений. В-пятых, выдвигается вопрос о способах этой реконструкции. Начиная с книги «О художественной прозе», В.В.Виноградов в своих печатных и устных выступлениях неоднократно говорил о проблеме образа автора как центральной проблеме стилистики и поэтики, о необходимости посвятить исследованию образа автора специальную книгу. Такую обобщающую книгу он, к сожалению, так и не завершил. Но в его работах 50-х – 60-х годов, особенно в книгах «О языке художественной литературы» (1959) и «О теории художественной речи» (1971), учение об образе автора в главных чертах было изложено. Разрабатывая теорию образа автора, академик Виноградов не мог оставить без внимания расхождение между языкознанием и литературоведением. В связи с этим расхождением он отмечал, что «проблема образа автора, являющаяся организационным центром или стержнем композиции художественного произведения, играющая огромную роль в системе как индивидуального стиля, так и стиля целых литературных направлений, может изучаться и освещаться в плане литературоведения и эстетики, с одной стороны, и в плане науки о языке художественной литературы, с другой», и выражал надежду, что «оба эти разных подхода, разных метода исследования одной и той же проблемы, одного и того же предмета будут обогащать и углублять друг друга»[4]. Вряд ли различные отправные точки в трактовке образа автора можно считать равно приемлемыми для достижения положительного конечного результата. Понимание образа автора как категории текста предполагает путь «от анализа словесной ткани». Вероятно, не будет ошибочным утверждение, что учение В.В.Виноградова об образе автора не является ни в узком смысле лингвистическим, ни в узком смысле литературоведческим, а образец филологического подхода к изучению главнейшей организующей категории текста. В многочисленных подчеркивается связь высказываниях образа автора с лингвиста композицией Виноградова текста и его объединяющая, организующая роль. Подчеркивается природа образа автора как категории реконструируемой и в то же время конструирующей: «Образ автора – это не простой субъект речи, чаще всего он даже не назван в структуре художественного произведения. Это – концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повествователем рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно – стилистическим средоточием, фокусом целого»[5]. Обязательно надо отметить, что соотношение «образ автора – образ рассказчика» может сознательно изменяться автором в пределах одного произведения. В частности, возможны различные формы перехода от изложения «объективного» (от 3-го лица) к изложению «субъективному» (от 1-го лица), и наоборот. Образ автора не просматривается в тексте подобно образам персонажей. В отличие от них «образ автора может быть скрыт в глубинах композиции и стиля». Но как бы и где бы ни был скрыт образ автора, он всегда есть в тексте: «Образ автора, изъятый из мира повествования как действующее лицо, как форма его экспрессивно – смыслового освещения, все же не перестает мыслиться и присутствовать в художественном произведении, в его стиле»[4]. Отсутствуя в тексте как «простой субъект речи», как «действующее лицо», образ автора обнаруживается в особенностях словесного построения произведения, В.В.Виноградов которые им же, образом указал ряд таких автора, особенностей, и определяются. дающих ключ к стилистическому анализу текста: «В образе автора», в его речевой структуре объединяются все качества и особенности стиля художественного произведения: распределение света и тени при помощи выразительных речевых средств, переходы от одного стиля изложения к другому»[4]. В произведениях словесности языковые средства служат одновременно и созданию, и выражению образа автора. Для этого используются все языковые средства, все формы словесного выражения, все приемы композиционного развертывания словесных рядов. Но особенно важна заключенная в языковых средствах о ц е н о ч н о с т ь, которая обусловливает «распределение света и тени», «переходы от одного стиля изложения к другому». То очевидное положение, что в термине «образ автора» «автор» не тождествен «реальному», житейскому автору, конкретному физическому лицу, вызывает естественный вопрос: а о чьем же о б р а з е идет тогда речь? Ответ можно найти в таких, например, высказываниях Виноградова: «Художественная деятельность по приемам своей организации узнается как форма творчества того или иного писателя»[4]; «Распределение света и тени при помощи выразительных речевых средств, переходы от одного стиля изложения к другому, переливы и сочетания словесных красок, характер оценок, выражаемых посредством подбора и смены слов и фраз, синтаксическое движение повествования – создают целостное представление об идейной сущности, о вкусах и внутреннем единстве творческой личности художника, определяющей стиль художественного произведения и в нем находящей свое выражение»[4]; «Образ автора – это образ, складывающийся или созданный из основных черт творчества поэта. Он воплощает в себе иногда также и элементы художественно преобразованной его биографии»[5]. Итак, «форма творчества», «творческая личность художника», «основные черты творчества» - вот что лежит в основе образа автора. Образ автора – не образ конкретного лица, но обобщенный образ творчества, творческого начала личности. Упоминание элементов художественно преобразованной биографии писателя не противоречит решительному заявлению В.В.Виноградова, сделанному им в 20-х годах: «Всякие биографические сведения я решительно отметаю». Ведь в связи с образом автора речь идет не о биографических сведениях, а о художественно преобразованных элементах биографии, которые опосредованно могут в образе автора отразиться. Образ автора не тождествен личности писателя, но не оторван от нее. 1.2 Вопрос об образе автора в работах М.М.Бахтина. Рассмотрим коротко суждения М.М.Бахтина об образе автора, содержащиеся в его заметках 1959 – 1961 и 1970 – 1971 годов. Суждения эти со всей очевидностью соотносятся с высказываниями академика Виноградова и представляют собой их критическое переосмысление. Для М.М.Бахтина на первое место выдвигается вопрос о соотношении реальной личности творца и сотворенного им «образа автора» в произведении искусства: «Проблема автора и форм его выраженности в произведении. В какой мере можно говорить об «образе» автора? Автора мы находим (воспринимаем, понимаем, ощущаем, чувствуем) во всяком произведении искусства. Например, в живописном произведении мы всегда чувствуем автора его (художника), но мы никогда не видим его так, как видим изображенные им образы. Мы чувствуем его во всем как чистое изображающее начало (изображающий субъект), а не как изображенный (видимый) образ. И в автопортрете мы не видим, конечно, изображающего его автора, а только изображение художника. Строго говоря, образ автора – это противоречие между определяемым словом и определением, внутреннее противоречие. Так называемый образ автора – это, правда, образ особого типа, отличный от других образов произведения, но это образ, а он имеет своего автора, создавшего его. Образ рассказчика от образа я, образ героя автобиографических произведений (автобиографии, исповеди, дневники, мемуары и др.), но все они – изображенные образы, имеющие своего автора, носителя чисто изображающего начала. Мы можем говорить о чистом авторе в отличие от автора частично изображенного, показанного, входящего в произведении как часть его». Если В.В.Виноградов к категории образа автора идет от текста, то М.М.Бахтин – от понятий эстетики и философии, стремясь привязать их к образу автора. Этот подход особенно наглядно выступает во фрагменте, где М.М.Бахтин применяет к образу автора понятия модусов бытия, которые предложил раннесредневековый философ Иоанн Скот Эриугена в труде «О разделении природы»: «Проблема образа автора. Первичный (не созданный) и вторичный автор (образ автора, созданный первичным автором). Первичный автор – natura create que creat (природа несотворенная и творящая); вторичный автор – natura creata que creat (природа сотворенная и творящая). Образ героя – natura creata que non creat (природа сотворенная и нетворящая). Первичный автор не может быть образом: он ускользает от всякого образного представления. Когда мы стараемся образно представить себе первичного автора, то мы сами создаем его образ, то есть сами становимся первичным автором этого образа. Создающий образ (то есть первичный автор) никогда не может войти ни в какой созданный им образ»[1]. Внутреннее сопротивление виноградовской концепции образа автора, которое ощущается в высказываниях философа и мыслителя Бахтина, объясняется не только разницей в филологическом и философском подходах к проблеме, но и всецело владевшей М.М.Бахтиным идеей диалога, «чужого слова» в словесном произведении. Основополагающий тезис В.В.Виноградова, что в образе автора объединяются и образом автора определяются состав и организация всех языковых средств в тексте, представлялся М.М.Бахтину утверждением «одноголосого слова» в произведении, и он разговор об образе автора поворачивал в сторону проблемы «своего» и «чужого» слова. При этом М.М.Бахтин высказывал суждения, которые можно толковать как непрямую полемику с В.В.Виноградовым: «В какой мере в литературе возможны чистые безобъективные, одноголосые слова? Может ли слово, в котором автор не слышит чужого голоса, в котором только он и он весь, стать строительным материалом литературного произведения? Не является ли какая-то степень объектности необходимым условием всякого стиля? Не стоит ли автор всегда вне языка как материала для художественного произведения? Не является ли всякий писатель (даже чистый лирик) всегда «драматургом» в том смысле, что все слова он раздает чужим голосам, в том числе и образу автора (и другим авторским маскам)? Может быть, всякое безобъектное, одноголосое слово является наивным и негодным для подлинного творчества»[1]. И еще: «Слово первичного автора не может быть собственным словом: оно нуждается в освящении чем-то высшим и безличным (научными аргументами, экспериментом, объектными данными, вдохновением, наитием, властью и т.п.). Первичный автор, если он выступает с прямым словом, не может быть просто писателем: от лица писателя ничего нельзя сказать (писатель превращается в публициста, моралиста, ученого и т.п.), поэтому первичный автор облекается в молчание. Но это молчание может принимать различные формы выражения, различные формы редуцированного смеха (ирония), иносказания и др.»[1]. В этих высказываниях образ автора оттесняется на периферию вопроса, а в центр выдвигается писатель как конкретное физическое лицо. Но кто же будет спорить, что «реальный», житейский писатель стоит вне языка и вне текста?! Его место – в жизни, а в тексте присутствует не автор, а образ автора. К тому же виноградовский образ автора отнюдь не «одноголос». Он не нивелирует, а объединяет разные «голоса», разные языковые средства, разные стили и т.п. в произведении. Высказывания М.М.Бахтина свидетельствуют, что к проблеме образа автора можно подойти не только с позиций языкознания и литературоведения (которые, несмотря на различие между ними, вписываются в рамки филологии), но и с позиций общей теории искусств, эстетики и философии. Такой подход не ставит под сомнение существование образа автора, но, наоборот, подтверждает его. Сам по себе философский подход к образу автора, конечно, интересен. Но мы-то занимаемся филологической наукой – стилистикой и потому в трактовке образа автора будем придерживаться филологической концепции В.В.Виноградова. 1.3 Основные категории образа автора. «Авторское Я». В специальной литературе можно встретить выражение «авторское я». В связи с этим необходимо сказать, что «я» как н е п о с р е д с т в е н н о е выражение авторской личности может употребляться, например, в письме, в официальной, прилагаемой к анкете автобиографии, в объяснительной записке, в заявлении и подобных текстах. В художественных текстах такого «я» быть не может, потому что «всякое «я» художественного произведения – образ»[5]. «Сотворенное я», будучи образом, тем не менее не тождественно образу автора. Виноградов обращал на это особое внимание: «От структуры образа автора следует отличать структурные формы образа я в разных жанрах литературы. Повествовательное я в новелле, повести и романе со всеми относящимися к нему формами выражения – совсем иной структуры, чем я лирического произведения. Повествовательное я однозначно указывает на образ рассказчика, о котором пойдет речь в следующей главе»[6]. «Лирическое я»- образ, не менее важный и интересный, чем образ автора эпических произведений. Ученый писал, что анализ лирики «остается стилистическим – до той предельной черты, за которой он превращается в свободное нанизывание собственных идей литературного философа, или метафизическую реконструкцию «души поэта» (его мироощущения), или в игру механической прицепкой биографических эпизодов. Лирическое «Я» не раскрывается подписью автора. И это утверждение сохраняет силу даже в тех случаях, когда поэт, играя обывательской привычкой – видеть в нем откровенного человека, раскрывающего перед публикой свое личное «Я», даже как бы идя навстречу ей, свое имя переносит в композицию стиха, героя лирики делает своим однофальцем»[7]. Образ «лирического я» сейчас часто называют образом лирического героя, или просто л и р и ч е с к и м г е р о е м. Этот образ, как показывает его название, специфичен для лирики, но если сопоставить лирику с эпосом, то образ лирического героя займет промежуточное положение между образом рассказчика(потому что, как правило, обозначен местоимением «я» или формами 1-го лица глагола) и образом автора (потому что в тексте лирического произведения является «идейно – стилистическим средоточием, фокусом целого», подобно образу автора в тексте повествовательного произведения). В силу своей организующей сущности образ лирического героя, несмотря на неизбежно в какой-то мере конкретизирующее его «я», все же ближе к образу автора, чем к образу рассказчика. (Наверно, даже не будет большой ошибкой сказать, что образ лирического героя в лирике – это то же или почти то же, что образ автора в эпосе). 1.4 Образ рассказчика в его отношении к образу автора в языковой композиции текст. В трудах В.В.Виноградова практически одновременно с термином «образ автора» появляется «образ рассказчика». Это естественно, так как образ автора и образ рассказчика соотносительны. Образ рассказчика появляется в повествовательных текстах в тех случаях, когда рассказ ведется не «от автора», а передается какому-либо лицу – рассказчику. Начиная со второй половины 18 века этот прием построения повествования в русской литературе применяется очень широко. Петр Андреевич Гринев «Капитанской дочке» А.С.Пушкина, пасичник Рудый Панько в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя, Андрей Соколов в «Судьбе человека» М.Шолохова и многие другие – все это созданные писателями образы рассказчиков. В соотношении «образ автора – образ рассказчика», можно выделить четыре главных композиционных типа: 1) Образ рассказчика отсутствует. В тексте представлено «авторское повествование» от 3-го лица, которое называют «объективным» или «объективированным». 2) Рассказчик обозначен с помощью местоимений 1-го лица и форм 1-го лица глаголов, но выделяется стилистически, с помощью характерологических языковых средств, не выделяется. В этом случае образ рассказчика сближается с образом автора. 3) Рассказчик НЕ обозначен с помощью местоимений 1-го лица и форм 1-го лица глаголов, но выделяется стилистически, с помощью просторечнодиалектных или, «книжных» языковых средств. 4) Рассказчик обозначен с помощью местоимений 1-го лица и форм 1-го лица форм глаголов, и с помощью характерологических языковых средств, и с помощью точки видения[22]. В связи с композиционными типами повествования, определяемыми соотношением «образ автора – образ рассказчика», следует упомянуть и «рассказ в рассказе». Довольно распространенной композиционной формой являются «рассказы (повести) о детстве», написанные от 1-го лица. В них рассказчик выступает в двух лицах: как ребенок, подросток, юноша во время описываемых событий и как взрослый, зрелый человек во время их описывания. Глава 2. 2.1 Понятие субъективации повествования. Основные приемы. С образом автора связываются важные композиционные понятия всеведения и объективности. И хотя оба эти понятия условны, а их конкретные реализации относительны, «авторское повествование» от 3-го лица обычно рассматривается как «объективное», или «объективированное». При этом такое наименование присваивается «авторскому повествованию» не столько по тому, что оно «объективно» («непогрешимо») в смысле отношения к изображаемой действительности, сколько по тому, что его конкретный субъект (то есть тот, кто повествует) не обозначен. В случае передачи повествованию рассказчику такой субъект появляется, тем самым повествование субъективируется. Субъективируется оно, и когда говорят (или пишут) персонажи. В.В. Одинцов так оценивает соотношение между языковыми сферами автора, рассказчика и персонажей: «Сфера автора – повествование, ориентированное на нормы литературного языка; сфера персонажа – диалог (прямая речь), свободно включающий разговорно-просторечные элементы. Сфера рассказчика располагается в этом диапазоне и может полностью или частично совпадать с одной из указанных выше»[22]. Такая трактовка справедлива во многих случаях, однако, не всегда. Главное, что определяет различия между языковыми сферами автора, рассказчика и персонажей, - это точка видения, которая обусловливает и композиционные особенности развертывания, и состав словесных рядов, образующих эти соотнесенные и взаимодействующие сферы. Передача повествования рассказчику – не единственно возможный случай субъективации. Она возможна и в пределах «авторского повествования». Выражается это в том, что точка видения в «авторском повествовании» не остается постоянно «бессубъектной», не находится все время над изображаемой действительностью, а может смещаться в сферу сознания кого-либо из персонажей, затем опять становиться «авторской», «бессубъектной» или переходить к другому персонажу и т.д. Смещение точки видения из «авторской» сферы в сферу персонажа, субъекта – это и есть субъективация «авторского повествования». Соотношение «объективного» и «субъективного» начал в «авторском повествовании» зависит от многих факторов, таких, как литературное направление, к которому принадлежит автор, род, вид и жанр произведения словесности, индивидуальная манера писателя, его замысел, особенности изображаемой сцены и т.д. Однако можно сказать, что субъективированное изображение представляется многим писателям более достоверным, более убеждающим читателя, чем «объективированное» изображение с «авторской» точки видения. Так, А.Битов в «Пушкинском доме» пишет: «Рассказ от «я» в этом смысле самый безупречный – у нас нет сомнений в том, что «я» мог видеть то, что описывает. Так же не вызывает особых подозрений сцена, решенная через одного из героев, пусть и в третьем лице, но одним лишь его зрением, чувствованием и осмыслением, где, только по одному видимому поведению и произнесенных вслух словам других героев, можно строить предположения о том, что они думают, чувствуют, имеют в виду и т.д.» В сценах, решенных через одного из героев, но в 3-м лице, субъективация «авторского повествования» может быть малозаметной и выражаться лишь в наличии отдельных слов-«сигналов» или только в значении и расположении некоторых слов композиционного отрезка. «Сигналы» перемещения точки видения в сферу сознания персонажа могут быть и менее заметными. Например, в таком отрывке из затеси «Знаток»: «Ни житье в столице, ни вечное требование прилично вести себя на стадионах на этого человека не повлияли, язык его, характер, манеры поведения все те же, что он вывез из таежной деревни…» «Он везде был и есть свой парень, всюду слышен, убеждений не менял и не меняет». О том, что описание дается через восприятие героя, сигнализируют слова, указывающие на его воспоминания: вечное требование, все те же, был и есть, не менял и не меняет. Некоторые отрезки «авторского повествования» выступают как отражение восприятия и оценки событий жителями города. Делается это с помощью вводных слов, вопросов и выражений, характерных для разговора. Пример, «Слезы тигра»: «Местное пожарное снаряжение давно не проверялось и не работало, городские пожарные пока приехали, не зная, как подступиться к такому вот горящему объекту, толкались подле зоопарка, обзванивая руководящие конторы и службы. А в клетках в это время ревели заживо сгорающие животные. На волю их выпустить невозможно, они, с древности боящиеся огня, все почти ошалели, сдвинулись со своего нехитрого ума и сделались опасны для людей города. Город, проснувшись от неслыханного рева, съежился, ужался в себе, бежали толпы к зоопарку, и люди тоже что-то кричали. - Мама! Мама! Тигр плачет. Да, плакал тигр, и медведь плакал, схватившись за раскаленные прутья решетки, рассказывал мне потом пожарный, слезы по морде текут…» Такие слова как: не зная, ошалели, съежился, ужался, что-то кричали, указывают на восприятие ситуации жителями, их переживания. Крик ребенка: тигр плачет. Понятие субъективации применяется, естественно, по отношению к «объективированному авторскому повествованию». Но в некоторых случаях оно применимо и к повествованию от лица рассказчика. Хотя такое повествование уже по самой своей природе субъективировано, поскольку передано конкретному объекту, те или иные приемы могут подчеркивать субъективный характер повествования от лица рассказчика, восприятие и оценку действительности с позиций конкретного лица. Субъективация повествования осуществляется с помощью определенной организации языковых средств, иначе говоря, с помощью определенных приемов языкового выражения. Эти приемы многообразны и не всегда поддаются конкретному определению, но часть из них достаточно четко отработана в писательской практике и может быть классифицирована. В.В.Одинцов в «Стилистике текста» предложил разделить приемы, или, как он пишет, формы субъективации повествования, на речевые, к которым отнес прямую речь, внутреннюю речь и несобственно-прямую речь, и конструктивные, к которым отнес формы представления, изобразительные формы и монтажные формы. Мы будем опираться на эту классификацию, но внесем в нее некоторые уточнения. Прежде всего, представляется не вполне удачным термин «формы субъективации». Больше соответствует сути дела термин «приемы субъективации». Предложенное В.В.Одинцовым деление приемов субъективации на речевые и конструктивные будем понимать в том смысле, что, хотя субъективация всегда определяется перемещением точки видения, в случаях использования прямой речи (диалога), несобственно-прямой и внутренней речи на первый план выдвигается изображение чужой (не авторской) речи, чужого слова, а в случаях использования приемов представления, изобразительных и монтажных на первый план выдвигается композиционная ориентация на чужую (не авторскую) точку видения. Поэтому приемы, названные В.В.Одицовым речевыми и конструктивными, мы будем называть словесными (так как они ориентированы на изображение чужого слова) и композиционными (так как они отражают прежде всего композиционно важное перемещение точки видения). Между этими приемами нет и не может быть резкой границы, так как словесные приемы существенны для композиции произведения, а композиционные неизбежно имеют словесное выражение. 2.2 Словесные приемы субъективации. Отнесем к этим приемам, вслед за В.В.Одинцовым, прямую речь, несобственно-прямую и внутреннюю речь. Прямая речь – это наиболее ясно выраженный прием 2.2.1 субъективации, но в строгом смысле его нельзя считать приемом субъективации «авторского повествования», потому что в сущности это прием открытой, специально графически обозначенной передачи речи от автора персонажу. Прямая речь – подчеркнуто «не авторская» речь. Это прием субъективации изложения в словесном произведении, но не прием субъективации «авторской речи». Особенно это заметно, когда в произведении изображается разговор. В этих случаях представлен переход от одной формы словесного выражения – повествования (описания или рассуждения) – к другой – диалогу или полилогу (значительно реже – к монологу одного персонажа). К примеру, «Испанский гриб»: «Появился еще один повод выпить – за Россию! И тут подала голос Вера. Она поднялась с рюмкой, наполненной холодными искрами стреляющей водкой, и вызывающе громко произнесла: - Я хочу выпить за единственную страну, которую люблю всем сердцем. За Россию! – и хлопнула водку до дна. Хозяева протянула: - В-е-ера! смешались, установились в стол, лишь бабушка - Что Вера, что Вера?! – вскинулась девушка. – Пусть сеньоры гости знают, что я была и осталась русской. - Но как же ты русская, когда родители твои – испанцы? – опять же бабушка вступила в разговор. - Ну и что? Родилась-то я в России! – и вдруг Вера, бурно зарыдав, зажала лицо руками и убежала из-за стола». Явный переход от повествования: она поднялась с рюмкой, к диалогу с бабушкой: В-е-ера!...- Что Вера, что Вера?! «Костер возле речки»: — Видал чокнутых? — почему-то со злобой воскликнул шофер-таксист, везший меня в Москву. Я поглядел на него вопросительно. — Академик с бабой своей. Дача у них тут недалеко. Как идут на прогулку, прихватывают с собой мешки и лопату. Какой мусор приберут, так сожгут возле речки, чё где выправят, чё где закопают. Цветки рвать не дают, прямо за грудки берут, и-иы-ди-и-о-оты-ы. Да разве за нами, за поганцами, все приберешь? И-и-ы-ы-ди-и-о-о-оты-ы-ы!..» Здесь используется особенный вид прямой речи – монолог. Такой вид имеет особые отличительные черты, такие как вопросы: -Видал чокнутых?; да разве за нами, за поганцами, все приберешь?, на которые не последовало ответа. Помогите, мужики! — машут они руками. И мы подворачиваем, скованно отшучиваясь, берем косы и, стараясь не посрамить мужской род, спешим заделать прокос пошире. И у кого-то уж лучиной хрустнуло литовище — больно размашисто всадил литовку в проволокой свитый клевер. — Такой клевер надо брить узко, плавно, — учат нас женщины и понарошку сокрушаются: — Ах ты, беда! Литовище нарушили! Кто нам его изладит? Один у нас мужик на всю артель, да и тот три дня уж с повети не слезает — после именин… И тут же принимаются утешать сконфуженного косца, уверяя, что литовище было надломлено и они, бабы, для потехи его подсунули. — Заезжайте ввечеру! — приглашают они. — Вместе литовище ремонтировать станем! — хохочут озорницы, как в молодости, и цветастой цепочкой вытягиваются по клевеpy, роняя малиново-зеленые валы его к ногам. По традициям прямая речь определяется как способ передачи чужой речи, при котором она вводится в текст словами автора и воспроизводит высказывание или мысль, от того лица, которому оно принадлежит, с сохранением лексико-фразеологических, грамматических и интонационных особенностей его собственной речи. Очень разнообразны слова с семантикой говорения в составе слов автора, которыми вводится прямая речь. Особенно это касается глаголов. В данном отрывке использованы глаголы телодвижений («машут»), речи («учат»), конкретных действий («приглашают»), что характерно для слов автора. Слова же говорящих передают индивидуальный стиль каждого лица, которому принадлежит высказывание («ввечеру», «клевер надо брить узко»). «Источник»: — Не помню сейчас, к какому празднику готовилась наша семья, — хрипловатым басом повествовал профессор, — жарили барана во дворе. Дом наш стоял у самой речки и мимо каменной ограды пролегала дорога в горы. По ней часто ездили и ходили русские господа, с любопытством глядели на нас, а мы — на них. Мать накрывала праздничный стол под старым ореховым деревом. Отец и мы, дети, помогали ей, как вдруг раздался взволнованный голос отца: — Царь! Царь! На колени!. Велите всем встать с колен и поприветствуйте их, — сказал он чернявому офицеру. — Я понимаю по-русски, ваше величество, — сказал отец, поднимаясь с колен. — Приветствую вас, желаю вам долгого здравия и приглашаю быть гостем на нашем празднике. — Так вы готовитесь к празднику?! — удивился царь. — То-то вокруг вкусные запахи! — И, сморщив рот, улыбнулся, втягивая маленьким курносым носом воздух. — К сожалению, дорогой хозяин, нас очень много, да и не волен я собой распоряжаться. — Царь с усмешкой глянул на компанию, сопровождавшую его, и дамы угодливо заулыбались ему в ответ, а офицеры опустили глаза. — Желаю вам, супруге вашей и детям здоровья и радостного праздника! Надеюсь, вы еще не разучились веселиться? — Он грустно и, как мне показалось, потерянно улыбнулся, затем неуверенно добавил: — Салям алейкум! — Слегка поклонившись, царь тронул лошадь. — Копили деньги, вносили их, по-русски выражаясь, на богадельни. У кого денег не было, те занимались подручными делами: мостили дороги, садили деревья, истребляли змей и вредных насекомых, лечили болезни. Знаете, какая тьма была зубодеров?! Самый доступный вид благотворительности! За голенищем сапога носили зубодерку. Гонялись за теми, у кого болели зубы. Не успеешь и рта раскрыть, как тебе, во имя аллаха, зуб, а то и два выдерут… Прямая речь может состоять как из одного предложения, так и из нескольких предложений, которые могут быть различными по структуре, по цели высказывания и т.д.: «Я понимаю по-русски, ваше величество», — сказал отец, поднимаясь с колен. «Копили деньги, вносили их, по-русски выражаясь, на богадельни. У кого денег не было, те занимались подручными делами: мостили дороги, садили деревья, истребляли змей и вредных насекомых, лечили болезни». Интонация предложений прямой речи самостоятельна, независима, так как говорящий употребляет не только повествовательные предложения. А авторские предложения обычно являются повествовательными: «Царь! Царь! На колени!..» «Велите всем встать с колен и поприветствуйте их, — сказал он чернявому офицеру». « Одинокий парус»: Войди же, войди! — послышалось из палатки. Согнувшись и уронив плащ, он вошел в палатку. Жесткие, мускулистые и в то же время по-женски легкие руки легли ему на плечи. — Я так долго ждала тебя, — услышал он. — Так долго… Я не устала бы ждать до самой смерти. — Она, словно слепая, трогала его впалые щеки, его волосы, лоб, глаза. И чтобы успокоить ее, он сложил ее руки вместе, ладонь к ладони, и прижал их щекою на своем плече. — Скажи мне чтонибудь. Он ничего не говорил, и она почувствовала, что без слов лучше, спокойней. — Ах! — встрепенулась она. — Я в таком виде. Я сейчас! Сейчас! — И, осторожно отняв у него руки, бросилась за гамак и зашуршала одеждой, зазвенела серебром… — Ты так и не можешь отыграть свое детство, отпраздновать свое девичество! — Он дотронулся до сухо шелестящего, колючего цветка. — А я все не могу понять, зачем я тебе, такой усталый, изношенный в походах, небритый, искусанный москитами?.. — Молчи! Зачем ты мне всякий раз это говоришь? Тебе тоже хочется играть в застенчивого юношу? — Он махнул рукою, засмеялся, и она прижалась к нему, стала слушать сердце. — Я узнаю все-все, что ты хочешь сказать! Там! — потрогала она ладонью грудь генерала. — Там нет генерала, там бьется простое человеческое сердце. Я знаю — беззащитное. — Отчего так сладки твои руки? — Это… Это… О-о! — вспыхнула она и закрыла лицо передником, испачканным вареньем. — Я не могу ничего с собою поделать. Я — сладкоежка! — Ты говорила, что все знаешь обо мне, — по-прежнему пряча улыбку, сказал генерал. — Но разве ты забыла, что я тоже когда-то был мальчишкой? Может, ты впустишь меня в дом и побалуешь сладким? — Ты смеешься надо мной! — Она тут же встрепенулась, забегала по комнате, хлопая в ладоши: — Он был мальчишкой! Он любил варенье! — И приостановилась в недоумении: — Вот уж никогда не думала! В голову даже не приходило. Слова автора чаще всего представляют собой двусоставное предложение с подлежащим, указывающим лицо, которому принадлежит прямая речь, и сказуемым, выраженным глаголом со значением речи или мысли: «Войди же, войди! — послышалось из палатки». Слова автора в конструкции с прямой речью могут занимать любое место: могут располагаться до прямой речи, после прямой речи, а могут её разрывать: «Ты смеешься надо мной! — Она тут же встрепенулась, забегала по комнате, хлопая в ладоши: — Он был мальчишкой! Он любил варенье! — И приостановилась в недоумении: — Вот уж никогда не думала! В голову даже не приходило». «Божий промысел»: — Скажите, отец Ириней, — обратился я к моему постоянному спутнику, — вот это дивное море, монастырь этот, празднование нешумное и великое, мое почти случайное присутствие здесь и совершенно случайная, но необходимая встреча с вами — что это? — Ничего случайного, — не сразу отозвался отец Ириней, тоже неотрывно глядевший на море, — на все воля Божья, Божий промысел. В данном отрывке использованы глаголы речи «отозвался», «обратился», глаголы восприятия «глядевший» – это указывает на наличие слов автора. Также можно заметить наличие обращения «Скажите, отец Ириней», что характерно для прямой речи. «Никто нас не слышит»: Наконец, изнемогши, старший смены устало сказал: — Сэр! Передайте наши извинения русскому гостю и от нас поздравьте его со столь для него знаменательной датой. Мы сделали все, сэр. Мы дозвонились до Красноярска, но нам сказали, что дома никто не подходит к телефону. — Старший смены помолчал и добавил: — Да, сэр, везде в этой стране почему-то не берут трубку, когда мы, наконец, дозваниваемся до домашнего телефона…» В этом отрывке, как и в предыдущем, использованы слова обращения «Сэр!» говорящего к собеседнику и глаголы мысли и речи «помолчал», «добавил», что, как мы уже говорили, характерно для наличия прямой речи со словами автора. «Непонятная жизнь»: — Я помню, точно помню — селедка на постаменте еще в прошлом году была целая! И когда он ее съел?.. — Подумал, подумал и грустно добавил: — Ночью, наверное, когда все утихает, он ее грызет, каменную, твердую, без любимого грузинского вина…» В основу характеристики способов передачи чужой речи с точки зрения системного подхода к изучаемым объектам целесообразно положить критерий соотнесения в тексте «двух величин - передаваемой («чужой») и передающей («авторской») речи». В форме прямой речи чужая речь передаётся с точки зрения говорящего с сохранением особенностей передаваемой речи: «Подумал, подумал и грустно добавил: — Ночью, наверное, когда все утихает, он ее грызет, каменную, твердую, без любимого грузинского вина…» «Пойти к Жуковскому»: — Граждане-товарищи, — говорит он народу. — Зря сидите. Домой идите. Будет разгрузка, распаковка товаров, занос их в магазин, раскладка, то да се, да и мне надо пообедать — с утра, как юшковский кобель, — голодный. Так что откроюсь не раньше трех-четырех. — Да ничё, Кузьмич, ничё, подождем — время у нас цело беремя. Может, помочь?» В прямой речи часто используются эмоционально-окрашенные предложения, в данном отрывке мы можем видеть совет, который дается одним из участников речи другим: «Граждане-товарищи, — говорит он народу. — Зря сидите. Домой идите». «Старая, старая история»: — Еще одна девичья душа отлетела, — длинно и шумно вздохнула сторожиха, — бабой-страдалицей больше на свете стало…» Здесь мы снова наблюдаем передачу чужой речи с точки зрения говорящего с сохранением особенностей передаваемой речи. «Белое и черное»: — Вот! — бросила к ногам мужа мертвую зверушку Митряшиха и прикрикнула на Зуба, который вдруг загавкал, запричитал в голос. — Голова дадена человеку соображать, а не токо шапку носить! — взяв щипцы и прикуривая из горна, гордо заявила она мужу. — Сатана ты! Сатана! — Митряха долго возился в огне, грел плоскую железку и, не оборачиваясь, сказал устало: — Уходи! Чтоб глаза мои тебя не видели!..» Для прямой речи характерно независимое употребление форм лица, т.е. с точки зрения самого говорящего: 1-е лицо обозначает говорящего, 2-е лицо собеседника или слушателя, 3-е лицо обозначает лиц, не принимающих участия в разговоре или предметы. В словах же автора формы лица употребляются с точки зрения автора: «Уходи! Чтоб глаза мои тебя не видели!..» Таким образом, местоимение МОИ имеет разное значение: в словах автора оно обозначает героя повествования, а в прямой речи - другое лицо. «Старое кино»: — А я и не играла, — почти спокойно, с глубоким достоинством произнесла актриса и потупилась, чтоб я не заметил дрогнувших губ. Муж ее бросил в мою сторону встревоженный взгляд. Мне стало неловко — я коснулся какой-то запретной темы, сделав им обоим больно. — Ничего-ничего, — сдавленным голосом проговорила она и, незаметным движением обмахнув глаза, слабо и ободряюще улыбнулась мне: — Вы и не представляете, какая мне награда ваш рассказ за ту мою работу…» — Ничего, ничего, хлопцы, скоро моя командировочка копится. Я денег подзаработаю, и поедем мы жить на Кавказ либо в Молдавию. Там тепло и фрукты дешевые. Яблоки — рупь ведро, а что сливы и виноград — так совсем задарма. Ух, и заживем мы… Здесь использованы глаголы речи «произнесла», «проговорила», что указывает на наличие слов автора, стоящих после прямой речи, а также можно заметить передачу чужой речи с точки зрения говорящего с сохранением особенностей передаваемой речи: «Яблоки — рупь ведро, а что сливы и виноград — так совсем задарма. Ух, и заживем мы…». «Медвидевы»: — Отпустите папку, дяденька, отпустите! Он не в командировочке. Я все бумажки прочитала. Он… он хороший будет. Он… он исправится! Отпустите, дяденька! Плохо нам жить… Для способов передачи чужой речи возможны использования повелительного наклонения и обращений: «Отпустите папку, дяденька, отпустите!» «Большой стратег»: — А-а! — согласились девицы и обмякли. Благодушие, наигранная леность, самодовольство занимали свое место на их лицах. Лишь какое-то время спустя до одной, под мужика стриженной и под шамана крашенной, девицы дошло: — Гражданин! — зыкнула она ломающимся басом. — Если выпили, так не вяжитесь к людям! Пошли отсюда, девочки! — И, уходя, обрушила на меня тяжелый взгляд сытых глаз: — Бр-родят тут всякие! З-заразы!..» В отрывке из «Большого стратега» автор прибегает к передачи чужой речи с точки зрения говорящего с сохранением особенностей передаваемой речи: «А-а!», с довольно подробным комментарием, вложенным в слова автора: «согласились девицы и обмякли. Благодушие, наигранная леность, самодовольство занимали свое место на их лицах. Лишь какое-то время спустя до одной, под мужика стриженной и под шамана крашенной, девицы дошло…» «Жучина»: — У меня сердце чуяло! — встрянула в разговор Устинья, обихаживая скотину во дворе. — Не послушает, не послушает большеносай! Додоила коров и бегом на Ельцовку. Гляжу: матушки вы мои — деревяшка из леду торчит, а хозяина нет! Я и грянула караул. Набросили веревки на деревягу, вытащили паразита на берег, а он и не шушукает уж, токо глазьми, как параличный, водит из стороны в сторону! Я ему на пузо-то коленкой. Кэ-эк хлынуло из него! Какое вино и брагу за жись выжрал — разом выполоскало… — Учись, пока я живой! — гордо заявил он, бухнув себя в грудь кулаком. — Я вон Штрауса, не выходя из двора добыл. — Какого Штрауса? — Всамделишного! Вышел утресь побрызгать, глядь — а он по огороду ходит на долгих ногах, че-то там в траве имат и меня не видит. Хлобысь его из ружья первым номером — он и лапы кверху! И нету ваших!.. — И вовсе это не Штраус, — тут же заспорила Устинья. — Штраусы в Расее не водятся. Штраусы в жарких странах живут и яйца по пуду носют — учила я в школе, помню… — К-кто же это? — Журавель. — Хрен с им! Пусть журавель. Все одно на Штрауса похожий, — возразил Ванька и радостно потряс головой, — поморговала, лягушками, говорит, штраус твой питается! Ну его! Поросенку отдала. А тому чё? Ссопёел! Свинья и есть свинья, хоть чё ссопёет… — Ружье-то пошто взял? — окликнула Ваньку с берега встревоженная Устинья. — Как же — мужик и без ружья! Штраус попадется опять или кто… — Штра-аус!.. Знаю я этих Штраусов! Не связывайся с рыбнадзором, обормот. Арестуют!.. — Еэсь, гражданин начальник! — уже издали, чуть внятно откликнулся Ванька. В этом отрывке мы можем наблюдать наличие диалога. Диалог (от греч. dialogos - беседа, разговор двоих)- прямая речь, которая представляет собой разговор двух или нескольких лиц. Реплики диалога могут вводится словами авторами, но слов автора может и не быть: — К-кто же это? — Журавель. — Хрен с им! Пусть журавель. Все одно на Штрауса похожий, — возразил Ванька и радостно потряс головой, — поморговала, лягушками, говорит, штраус твой питается! Ну его! Поросенку отдала. А тому чё? Ссопёел! Свинья и есть свинья, хоть чё ссопёет… «Бесплатный спектакль»: — Ты смотри, с-сэка, чё делат? — сурово заметил муж Липки. — Пр-ри народи!.. — Да ты чё? Ты чё? — оторвавшись от меня, возмутилась Липка. — Это ж наша гордость! Пи-исарь! — И откуда-то, показалось мне из-за лифа, извлекла бутылку. — И не стало у нее никакой груди. — Пей! — совала она мне бутылку. Я пятился, даже в отдалении чуя согретую слабым теплом, взболтанную самогонку в нечистой посудине. — Пей! Чё ты?! Угошшаю! Выскочила мать друга, закричала: — Не трогайте человека, срамцы этакие! — бесцеремонно оттолкнула Липку и поскорее пустила меня во двор. — Под-думаешь, пи-исарь! С народом выпить не хочет! Из горла брезгует! Я ж его об кофту вытерла! Вот! — И, потыкав себя в то место, где быть надобно груди, запрокинулась и начала пить из горла. — Надо идти добивать! — И, распаляя себя, рванул галстук, бросил его в палисадник, сжал кулаки, трясущийся и воистину страшный, медленно двинулся к воротам. — Р-разорву! Н-на части! Н-на куски! Сырое мясо жрать буду! Вот этим вот хавалом! — Он ударил себя кулаком по рту, в кровь разбил губу. — Что ты смыслишь в любви? В искусстви? — Пойдем, пойдем! Нашто нам эта любовь? Это искусство? Мать его растуды! Пущай имя всякие писаря займаются. А мы люди хорошие. Мы еще выпьем. Я припрятала! Я хитрая. 0-ох, хит-рая!.. — Вот за чьто я тебя, с-сэку, не бросаю! — громко и патетично воскликнул артист. За этим последовали объятие и страстный поцелуй. Наступил привычный, благополучный финал бесплатного спектакля. А еще говорят, что на селе скучно жить!.. Очень хорошо показана речь в разговорном стиле: «с-сэка че делает?»; «Угошшаю!»; «Что ты смыслишь в любви? В искусстви?» - с сохранением лексико-фразеологических, грамматических и интонационных особенностей речи героев. «С кусоцкём»: — А был этта масленой завод, — рассказывала мне словоохотливая жительница деревушки Сиблы. Она, как и все здешние женщины, выглядела намного старше своего возраста. — Завод-то… какой завод? — поправилась она. — Так, маслобойка, но все наши ребятишки выросли коло нее… Хозяинто маслобойки смурной экой был, сердитый на вид, одежка на ем липка, фартук шебаршит… А робятишки-то стайкой придут, у каждой девчонки, парнишки ли кусоцёк… Подолгу ковды с кусоцькём-то стоят — переступают… Хозяин-то вроде их не видит… Ну, ковды цё подать, подсобить — парнишки со всех ног. Потом хозяин-то глянет эдак вот, изпод бровей, ровно огнем ожгет, а жалко, видать, и ему ребятишек, не удержится, масла льняного — давил-то завсегда льняное семя — линет в стару треснуту цяшку и сольцы сыпнет. Цяшка-то у ево ишшо до переворота велась, с ей и в ссылку хозяин-то съездил, с ей из ссылки воротился, в колхоз вступил, и опять тем же делом занялся — масло давить. Облепят это робятишки цяшку, кусоцькём мачут да наворачивают за обе шшоки. Экое лакомство! Экая благодать! В войну дак ей, маслобойкой, дети и выжили. Мой Колька, старшой-то, што на железнойто дороге в Семигородной ноне робит, и вырос коло той маслобойки. Цють шчо: «Мама, дай кусоцёк…» — и уташшится туды, ковды там и поспит на траве…» В данном примере сохраняются индивидуальные стилистические черты, диалекты, относящиеся к определенному слою населения: «А был этта масленой завод», «выросли коло нее», «смурной экой был», «одежка на ем липка, фартук шебаршит», «кусоцек» и т.п. «Если это любовь»: — Да ложись ты, ради Бога, ложись! Что ты возишься? — строго молвила дама, и супруг ее снова заизвинялся, заспешил». Воспроизводится высказывание героя, восклицание, с повтором, что свойственно прямой речи: «Да ложись ты, ради Бога, ложись! Что ты возишься?». «Шуточка»: — Вас слушает Барклай-де-Толли. — Простите, — сразу вдруг заездившимся голосом, но все еще с игривыми нотами в нем сказал поэт Коротаев. — Вы не родственник ли тому самому Барклаю-де-Толли? И голос, полный достоинства, внятно ответствовал: — Да, я — правнук великого русского полководца, генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. Диалогические отношения возможны только между завершенными высказываниями различающихся говорящих субъектов, это еще раз доказывает, что перед нами прямая речь. «Бедный зверь»: — Лучше целься, не промажь, — сказал Василий Васильевич, и в голосе его смех послышался, но не обратил на это внимание племянник. Он еще плотнее прижал ружье к плечу и ба-бах! Побежал к пихте, а Василий Васильевич в лог, к воде. — Оснимаем, командиру батареи шкуру отдадим. — Ему только медвежьей шкуры до полного счастья и не хватает! — глядя, как серым слепнем шевелится и пожужживает в траве газетный окурок, заговорил наконец Кушаков. — А так уж все есть: на груди ордена, в паху осколки, полсотни гавриков-потешников на шее и в придачу взводный, который за год учебы в артполку так и не запомнил, с какого конца пушку заряжают… — Не осымывать так не осымывать. Я ведь так это. У него все одно шкура с мясом состылась, не отодрать. — На ем сала, как на борове! Состылась… — И сало не лишнее. Пользительное… Чего это ты сердишься-то? — Да не сержусь я, — дождавшись, как отшипел в траве окурок и синяя ниточка дыма сплелась с травкой, тоже осипевшей от ожегшего ее инея, глухо произнес Кушаков. — Зверя мне жалко. Бедный зверь! И ему спасенья нету…» Представляя собой открытый прием передачи высказывания персонажу и , следовательно, переходу на его точку видения, прямая речь требует для своего изображения соответствующих субъекту языковых средств. Дифференциация языка персонажей – азбучное правило создания реалистических произведений словесности. Однако не все здесь просто. Проблема изображения языка каждого персонажа пересекается с проблемой соотношения языка персонажей и «авторского языка». На это обращали внимание многие мастера слова. Так, В.Белов писал: «Мне думается, что существует некая тонкая, неуловимо зыбкая и имеющая право на существование линия соприкосновения авторского языка и языка изображаемого персонажа. Грубое, очень конкретное разделение этих двух категорий так же неприятно, как и полное их слияние». Сколько бы ни насыщалась прямая речь персонажей разного рода характерологическими компонентами, сколько бы ни приближалась к «образцам» реальной действительности, она всегда остается созданием писателя. В истинно художественном произведении словесности прямая речь персонажей не может представлять собой натуралистическую копию языка изображаемой среды. Художественная целостность произведения, обязательное «соприкосновение» языка персонажей с «авторским языком» не допускают этого. 2.2.2 Несобственно-прямая речь, в отличии от прямой речи, с полным правом может рассматриваться как прием субъективации «авторского повествования». Местоимения и формы лица глаголов в несобственно-прямой речи соответствуют «авторскому повествованию», но в нее вводятся лексические и синтаксические особенности языка персонажа и, конечно, в сферу персонажа перемещается точка видения. Пример, «Голос мальчика»: «Явилась в моряцкий поселок свекровь с подкреплением, чтобы отнять «загробные» деньги у невестки, хамски заявляя, что у моряков никаких жен не бывает, а бывают только шлюхи, которые только и ждут, когда мужики отчалят от берега, чтобы им изменить». В данном примере повествование ведется от лица автора, как передача слов, мыслей, чувств персонажа. Мнение автора выражается в слове хамски – дает оценку поведению героя. Имеется несобственно-прямая речь и в затеси «Показуха»: «Я спросил у спутника, как он чувствует себя, видя такую картину. Он не сразу и как-то затуманено ответил, что ничего, привлекает, в общем-то, и возбуждает желания». Здесь явно виден ответ персонажа: ничего, привлекает, в общем-то, и возбуждает желания, причем передача текста повествователя не маркируется ни графическими знаками, ни вводными словами. То же наблюдается в затеси «Жизнь необорима»: «…а мне с грустью сообщили, что дуб тот отшумел, отвековал и засох от старости. Но радостно встрепенулись работницы заповедника и сообщили – у дуба появился наследник иль сынок – взошел из его кореньев». Несобственно-прямая речь на синтаксическом уровне не выделяется из авторской, союз иль указывает на стилистическую особенность речи говорящего. «Заклятье»: И теперь уже никто не возьмет, думала Одарка, потому что срок вяжется к сроку, смерть к смерти. И когда кому минет восемь посмертных лет, она уже не помнила. Все перепуталось в ее памяти. Она чувствовала только одно: жизнь ее — сплошное заклятье. Пример синтаксической разновидности несобственно-прямой речи. «Все перепуталось в ее памяти. Она чувствовала только одно: жизнь ее – сплошное заклятье» - передача автором целого высказывания с помощью синтаксической конструкции. «Кружево»: «… как утверждает районная газета, — плетут незатейливые кружева древние плетеи, а видится явственно — отсюда исток, отсюда льется, течет белая реченька к тому дивному, бесценному кружеву, отсюда отчалила и плывет в вечность легкая, сказочная лодья и, не истаивая на лету, накрывает землю тихой белизной легкокрылая снежинка». Нередко общий смысл или содержание чужой речи передается в предложениях вводными словами, которые указывают на факт чужой речи, на ее источники: «как утверждает районная газета». 2.2.3 Внутренняя речь. Этот прием не всегда обособляется от несобственно-прямой речи, а иногда его относят к «внутреннему монологу», то есть к прямой речи. Между тем он несомненно представляет большой интерес как самостоятельное явление. Между тем и понятие внутренней речи, и само словосочетание «внутренняя речь», и описания этого явления появились в специальной литературе гораздо раньше. Наглядный пример, «Мелодия Чайковского»: «Павлуша смолк, не знает, чего сказать, чем меня приободрить, виноватым себя чувствует за то, что так благополучен, а мы вот подыхаем тут в грязи, во вшах, под гнилым, милости не знающем небом» «Павлуша обезоружено и обескуражено умолк…» В.В.Виноградов в своей работе «Стиль «Пиковой дамы»» писал: «Прием выражения чувств при посредстве непрямой речи применяется, преимущественно, к образу персонажа. Иногда формы непрямой речи сводятся к психологическому самоанализу. Стоит только заменить местоимения 3-го лица формами 1-го лица, и рассказ превратится в прямое эмоциональное выражение самого персонажа. Пример, «Стынь»: «Их держало на взводе неделю. Они молились дружно, милосердия у Бога и пресвятой Матери Богородицы просили, прикидывали, что могут сжечь, - в бане две истопли дров, нары, стол, скамейки – все это ветошь, все это не больше чем на полночи хватит, пилить же навес или баню нет возможности, древние поперечные пилы изжиты, ножовкой чего напилишь, бензопила, если ее даже согреть, через пять минут на таком морозище полетит». Академиком Виноградовым сформулирован основной признак внутренней речи: возможность замены форм 3-го лица формами 1-го лица с переходом к «прямому эмоциональному выражению» персонажа и, добавим, к прямому выражению точки видения персонажа. О внутренней речи как разновидности несобственно-прямой речи писал М.М.Бахтин в работе «Слово в романе»: «Наконец, приведем примеры вторжения в синтаксическую систему авторской речи экспрессивных моментов чужой речи (многоточий, вопросов, восклицаний). Пример, «Заматерелое зло»: «Но ни на суде, ни до суда ни в чем они не раскаялись, ничего особенного не переживали, угрызений совести не испытывали. Да и о чем переживать-то? Наоборот, внутреннее торжество испытывали – не когонибудь, но писателя угрохали, не каждому солдату так повезет». Пример, «Сладкие воспоминания»: «Бьется он, бьется, чтоб вылезть, выкарабкаться из прошлого и никак не может себя преодолеть…» «Он, я думаю, и за рабочим письменным столом иль во поле, среди толчей людской, в праздники и будни постоянно слышит: - Как я тебя ненавижу!» Здесь перед нами, в сущности, форма несобственно-прямой речи героя. По своим синтаксическим признакам это – авторская речь. Это – внутренняя речь героя, но в упорядоченной авторской передаче, провоцирующими вопросами от автора и иронически-разоблачающими оговорками («Да и о чем переживать-то?»; «он, я думаю…»; «Как я тебя ненавижу!»), однако с сохранением экспрессивной окраски героя. «Страх»: «И подумал я: «Разве это страх, мой милый мальчик, моя живая кровиночка? Самые добрые из добрых дяди-ученые и политики на каждую живую душу и на твое еще крохотное телишко заготовили тысячи тонн взрывчатки». «Кружева»: «И еще думается о тех старушках, что сидят зимами одиноко по одичавшим деревням, у одиноко светящегося окна, в натопленной избе и по заказу местных кружевных объединений плетут то узенькую прошвочку к постельному белью, то стеариново-желтенькую «дорожецьку» к подшторникам, то увязанные тонко меж собою, соединенные остриями звездочек «снежиноцьки», из которых однажды вынула затейница одну лишь летучую снежинку-звездочку и сотворила чудо, которому не пять тысяч рублей цена, а нет ему цены, как не бывает у чуда, у сказки, у выдумки…» «Домский собор»: «Она очищается, душа-то, и чудится мне, весь мир затаил дыхание, задумался этот клокочущий, грозный наш мир, готовый вместе со мною пасть на колени, покаяться, припасть иссохшим ртом к святому роднику добра…» 2.3 Композиционные приемы субъективации. Рассмотрим приемы представления, изобразительные приемы и монтажные приемы. Приемы представления основаны на том, что в результате 2.3.1 перемещения точки видения в сферу сознания персонажа предметы, явления, события изображаются такими, какими они ему представляются, а не такими, какими они являются «на самом деле». Для приемов представления характерно смысловое движение от неизвестного к известному. Первоначально представление персонажа о чемнибудь как о неизвестном, необычном выражается двумя главными способами. 1. Употреблением неопределенных местоимений (что-то, кто-то и т.п.) и вообще слов с «неопределенным» значением (например, предмет – неизвестно, что; фигура – неизвестно, кто именно и т.п.). Пример, «Потерянный»: «Иду во втором часу ночи, точнее, бреду устало и сонно, вижу впереди на пути, чуть освещенном, что-то лежит. Пригляделся внимательней – сапоги. Резиновые». Движение от неизвестного к известному: что-то – сапоги. Еще пример, «Мелодия Чайковского»: «А музыку Павлуша нашел, нащупал для меня в пространстве, и он не знал, какую, чью, и я тогда тоже не знал, откуда, чья она? Чайковского Петра Ильича была та музыка, впоследствии узнал я, финал первого действия «Лебединого озера»». Движение от неизвестного к известному: какую, откуда, чья музыка – Чайковского Петра Ильича была та музыка. «Современные украшения»: «Вечерело уже, когда мы возвращались с рыбалки через широкое озеро и на снегу вдруг что-то засверкало, запереливалось разноцветными блестками. Когда мы сделали привал, я нагнулся и со снега поднял несколько серебристых ленточек, похожих на фольгу, и вспомнил, что днем в воздухе кружилось, сверкая, какое-то вроде бы елочное украшение и на меня опустилось несколько таких вот ленточек. Я еще подумал: «Откуда принесло их на озеро? На озере-то безветрие и тишина…» Мне, технически безграмотному и темному, пояснили, что это проделки военных или наших идейных охранителей — ежедневно с большой высоты, с самолетов выбрасывается тоннами эта вот специальная фольга, дабы делать радиопомехи, дабы не слушали мы вражеские голоса и морально не разлагались». 2. Необычным, «сдвинутым» изображением объекта наблюдения, соответствующим точке видения персонажа. И этот случай может быть проиллюстрирован отрывком из затеси «Чудо»: «Вот когда началась уборка, я и влез по углу на баню и обнаружил там три агромадных желтых плода, да еще мелких мячиков много, и за рукав бабушку, и к бане. - Баба! Баба! Посмотри, че у нас выросло-то? Бабушка приставила лестницу к бане, взобралась наверх и давай креститься: - Свят! Свят! Свят! Это какая же такая хрукта? Ой, однако не к добру это, робяты, - и мне приказала: - Ты вот больно прыткай да глазастай у нас, и кати эти чуды домой» «Вот с тех пор и ведется в нашем селе тыква». Сравним: в представлении мальчика – три агромадных желтых плода, да еще мелких мячиков много, у бабушки – хрукта, чуды, в действительности – тыква. Затесь «Кружево»: Огромная, в простенок величиной, снежинка в хрустальной изморози — тронь: рассыплется! «Пять тысяч рублей стоит!» — почтительным шепотом говорит кто-то из посетителей выставки, говорит шепотом не потому, что дорого, боится, чтоб не облетело, не рассыпалось от громкого голоса кружево, точно снежный куржак с ветвей дерева. «Песнопевица»: «Вечер казался Галке дедом, тихим, бородатым и молчаливым, он курил трубку за горой, и оттого небо было там красное. Он шевелил бородой, почесывался, и оттого колыхались тени скал в воде и шелестел осинник по горам. Деду было холодно в горах, и он с вершины сухой лиственницы голосом филина просил шубу. Дед кряхтел и ворочался в лесу, укладываясь спать, и выколачивал трубку о старый сухой пень, будто черный большой дятел стучал по дереву. Дед долго засыпал и успокаивался. Гасла его трубка — и остывало небо за горой. Дед дышал ноздрями распадков — и на реку медленно наползали легкие полосы тумана. Они качались над водой и оседали в тальниках Заячьего острова. Дед закрывал наконец-то глаза, не ворочался больше, не кряхтел — и все кругом переставало шевелиться, стучать, и даже листья не хлопали ладошками, чтобы не беспокоить деда, потому что он, хотя и тихий дед, все же сумрачный, угрюмо молчаливый, и что у него на уме — никто не знает». «Зеленые звезды»: «Но что это? Перед нами огромные зеленые звезды. Такие звезды возможно увидеть только в лесу и только после ранней выпадки снега. И еще такие звезды можно увидеть в мороз на окне, сказочные звезды папоротника, только звезды те меньше и белые они. А здесь они раскидистые, зеленые. Рос папоротник развалистым пучком. Пал на резные листья тяжелый снег, приклеил их к земле. Распростерлись зубчатые, огромные звезды таинственного, сказочного папоротника. Я как-то слышал, еще в детстве: если найти цвет папоротника и взять в руку — станешь невидимкой. Сейчас, глядя на волшебные звезды, я верю этому. Я верю всему, что связано с лесом». «Марьины коренья»: «Пройдут годы, и плеснут на осыпи всполохи ярких, багровых цветов. А пока их здесь всего три, мужественных, непокорных цветка, и в них залог будущей красоты. Я верю, что они выживут и уронят крепкие семена свои в ручейки, а те занесут их меж камней и найдут им щелку… Первые солдаты тайги, согнутые, но непокоренные, иссушенные голодом и мертвящим дыханием скал, принимающие на свою грудь всю лютость севера ради лесов, что идут за ними, — низкий поклон им от бывшего солдата российского, который знает, как трудно быть первым». Первыми солдатами тайги называет Виктор Петрович поросли цветов, трав, зелени, сравнивает рост зелени в скудных и суровых местностях с подвигом воина. Указание на представление персонажа может выражаться и употреблением вводных слов вероятно, видимо и т.п., и неполных безличных предложений типа казалось, показалось, будто, словно, представлялось и т.п. в этих случаях движение от неизвестного к известному может быть не выражено, но перемещение точки видения в сферу представлений персонажа выступает достаточно очевидно. Пример, «Больной человек»: «…только глаза на сморенном лице горят приближенно и ярко, кажется, последним накалом горят». Пример, «Без покаяния»: «…главный маршал артиллерии Воронов, командующий военноморским флотом, образованнейший человек своего времени Кузнецов и, конечно же, то приближаемый, то в пекло военное засовываемый маршал Жуков, видимо, подставляемый под смерть». Пример, «Скорбь»: «Но, может, погода была милостива к войску…» «Да в кинохронику-то попал скорей всего один, свежий, стрелковый батальон». Пример, «Прихлебатели»: «Но на «кукурузнике» - то был еще и летчик, опытный, видать». Пример, «Стынь»: «Лес мохнат, недвижен, в себя погружен, ни шороха в нем, ни шевеления, туман или уже сумерки незаметно сгущались, без торопливости, уверенно и властно заполняя мертвой бледностью, всеобъятной тишиной все зримое, земное. В избушке тоже тишь и тоже вроде бы мохнатая, только печка живет, бодряще потрескивая». Пример, «Первовестник»: «Ветреницей лечат суставы — много сил набирает из земли корень ветреницы, будто знает, что ждут его люди не только с радостью, но и с надеждой на выздоровление». Пример, «Падение листа»: «Осторожно прижав выветренный лист к губам, я пошел в глубь леса. Мне было грустно, очень грустно, хотелось улететь куда-то. Показалось даже, что у меня за спиной крылья и я хочу взмахнуть ими, подняться над землею». 3. Приемы представления близости к остраннению (от слова странный – изображение знакомого, обычного предмета, явления как странного, необычного). По разъяснению В.Б.Шкловского, предложившего этот термин, остраннение – это показ предмета вне ряда привычного, рассказ о явлении новыми словами, привлеченными из другого круга к нему отношений. Теоретически остраннение может отражать и авторскую точку видения, но практически чаще отражает восприятие персонажа. 2.3.2 Изобразительные приемы сходны с приемами представления, но кроме свойственных последним особенностей характеризуются дополнительно применением средств художественной изобразительности, мотивированных восприятием персонажа. Пример из затеси «Стынь»: «Когда были на реке, что-то звенело над ней туго натянутой струной, может, прорубь льдом схватывало, может, ледяную броню на реке резало, может, густо искрящие снега, в золу обращаясь, от стужи стонали, или уж воздух, раскаленный до бела, предсмертно звучал. Порой струны со щелком рвало, и тогда злой, больно стрельнув в зубы людей, звук иглою пронзал рабски сжавшееся земное пространство, уносился неизвестно куда, скорее всего возносился к звездам, к невидимому и даже неощутимому в тумане мирозданию. Если выразить этот звук словесно, он будет приблизительно таким: «Сты-ы-ы-ы-нн-н-нн-нь-нь»». Еще образ, возникающий в сознании героя: «Хрястнула от мороза дверь, ворвался в избушку ворох морозного пара, похожий на спутанную больничную вату». Используется олицетворение: «мороз ворвался», метафора: «ворох морозного пара, похожий на спутанную больничную вату». «Дождик»: «Снова зной. Снова зажило все разомлелой, заторможенной жизнью, и только листья на яблоне все дрожали, и сама, кривая, растопорщенная, яблоня напоминала брошенного, обманутого ребенка». «Предчувствие осени»: «Речка Быковка стала еще светлей и мельче. Она как бы оробела немножко и чуть-чуть шумит перекатами, словно боится нарушить зарождающуюся грусть, стряхнуть поседелость на кустах, висящих над нею». «Весенний остров»: «Остров зарябил птичьим косяком, задрожал в солнечном блике, свалился на ребро и затонул вдали». «Марьины коренья»: «До чего же мудра жизнь! Венцы цветов прикрыты, и желтых зрачков не видать. Цветы стоят, как детишки в ярких шапочках с завязанными ушами, и не дают холоду сжечь семена. И лепестки у цветов с проседью, и мясисты они, толсты. Вся сила этого цвета идет на то, чтобы сберечь семена, и они не откроются во всю ширь, не зазеваются на приветливо сияющее солнце. Они не доверяют этому солнцу. Они слишком много перенесли, прежде чем пробудились от зябкого сна среди голых, прокаленных стужею камней». «Первовестник»: «Маленькая звездочка на длинной цветоножке, белые, нежно пахнущие лепестки с розовинкой — это лесная ветреница — первовестница весны». «Маленькая звездочка» - метафора. «Синий свет»: «Синий свет небес. Синий дым над горами. Перетомленная в летнем зное, дышит миротворно земля спелостью трав и лесов, дышит, будто сдобный каравай, вынутый из русской печи». «Как лечили богиню»: «При обстреле усадьбы пострадали не только дом и деревья, по и боги с богинями. Особенно досталось одной богине. Она стояла в углублении парка, над каменной беседкой, увитой плющом. Посреди беседки был фонтанчик, и в нем росли лилии, плавали пестрые рыбки. Но что-то повредилось в фонтанчике, вода перестала течь, лилии сжались, листья завяли, и рыбки умерли без воды, стали гнить и пахнуть. Беззрачными глазами глядела белая богиня на ржавеющий фонтанчик, стыдливо прикрывая грех тонкопалою рукою. Она уже вся была издолблена осколками, а грудь одну у нее отшибло. Под грудью обнажились серое пятно и проволока, которая от сырости начала ржаветь. Богиня казалась раненной в живое тело, и ровно бы сочилась из нее кровь». В представлении героя статуя жива, она прикрывается рукой. Такое восприятие картины передается персонажем. «Заклятие»: «Саженец был крохотный. Одарка несла его, будто худенького цыпленка, и слышала, как царапались корешки об ладони». В представлении девочки Одарки саженец – это цыпленок, а корешки царапались как острые коготки. Из той же затеси, внутри деда, кажется девочке, горит костер: «Когда ямка сделалась Одарке до колен, он сполз с завалинки, приосел, и заговорили в нем все его кости и косточки, ровно бы внутри деда потрескивал догорающий хворост». И представление уже пожилой Одарки: «Бессонными ночами, прижимая к себе теплого внука, Одарка слышала, как крупными слезами плакала под окном черешня, и казалось ей — кровяные эти слезы жгли землю». 2.3.3 Монтажные приемы наиболее интересны. Термин «монтажные» заимствован из кинематографии, но приемы, о которых идет речь, были разработаны в художественной словесности задолго до изобретения кинематографа. Разумеется, их тогда не называли монтажными, да и вообще как специальные приемы их выделили и заговорили о них относительно недавно. Суть «монтажного» изображения состоит в том, что оно строится не только в полном соответствии со взглядом персонажа, но и в движении. Причем может быть отражено как движение, изменение изображаемой сцены, так и движение самого персонажа, точка видения которого перемещается в пространстве. Отсюда смена, «монтаж» планов изображения (общего, среднего, крупного). Вот пример «монтажного письма» есть в затеси «Испанский гриб»: «Вот древний замок короля Филиппа. Все в нем цело, кирпич и камень…В замке – музей, по огромному замковому бассейну разгуливают громадные рыбы». «А в горах совсем нас доконал современный храм, вытесанный в камнях. И над цельно вытесанным в камне святым местом стопятидесятиметровый крест, вознесшийся ввысь. А в храме примирения шла служба, едва слышно звучала торжественная месса. В огромном каменном зале, почти в середине его, могила Каудильо Франко» «Слева от него камень поскромнее». «Нам предложили искупаться в бассейне, расположенном посреди двора. Рядом с бассейном длинный тент, под тентом столики, на столиках пиво, соки, вода». В этом отрывке четко воспроизведен взгляд героя, изменяющееся поле его зрения. Сначала он видит бассейн, затем тент, под ним столики, на которых пиво. Затесь «Раньше здесь звонил колокол»: «Итак, Полярная звезда, Малая Медведица… Все это прекрасно — и Полярная, и Малая, но ведь я могу уйти в обратную сторону. Я же плохо знаю звездную карту, и все-таки, все-таки это надежней, чем идти вслепую. Итак, Полярная звезда, Малая и Большая Медведицы…» Посмотрев на небо, автор видит звезды: Полярную и Малую медведицу. Рассуждает, что он может дойти по ним и вновь переносит взгляд на звездное небо, видит те же звезды. Монтажное представление так же мы видим в затеси «Гимн жизни», где описывается видение планетария главной героиней. Обзор его дан в движении, в перемещении внимания и мыслей от звездного неба к рассуждениям и вновь на звездное небо. «На небе планетария появились кинокадры: представление древних людей о строении мира, портреты Галилея, Джордано Бруно, фигура церковника, преградившего путь науке и познанию. И здесь, как в театре, как в кино, как в Третьяковке, показывалось все то же: за смелость, за то, что люди не хотели подчиняться законам и говорили то, что они думали, их сжигали на огне, ломали им ребра, бросали в темницы. Властители никогда не терпели тех, кто был умнее и смелее их. Они придумали слово: выродки. И вместо того, чтобы бороться против войн, страданий, болезней, люди сами плодили смерть, тысячелетиями насильственно умертвляли друг друга. В Америке — у нас-то ничего не рвется! — взорвалась головка водородной бомбы. Хорошо только головка. А если бы бомба? Она взорвала бы другие бомбы — и Нью-Йорка, этого самого крупного в мире города, не стало бы. Возможно, это было бы началом самой страшной войны, и все-все: звери на воле и в клетках, змеи в стеклянных коробках, властители и простые люди, царь, убивший сына, дети, спешно долизывающие мороженое, всЕ-всЕ может умереть, исчезнуть. Куда? Никто на это ответить не может и не хочет. Люди любят смотреть на смерть, но не любят о ней думать. А по небу планетария летело небесное светило — солнце. Солнце, дающее всему жизнь. Оно проходило по игрушечному небу, над игрушечной Москвой, и само солнце было игрушечным. Оно закатилось за зубцы домов, зал погрузился в темноту. Было жарко. Лина махала газетой возле лица, думала о том, как долго еще находиться ей в этом душном зале?» И вдруг купол над ней зацвел звездами. Такими же звездами, какие она привыкла видеть с тех пор, как научилась видеть. И откуда-то с высот, нарастая, ширясь и крепчая, полилась музыка. Затесь «Старая, старая история»: «В гостиничном ресторане, зал которого виден из моего окна, ударила музыка, слегка интимная, слегка развязная, и штангисты, съехавшиеся в этот город на всесоюзные соревнования, обняв дам, запереступали осторожно, боясь их кружить и прижимать. Дам они сыскали себе подобных — с лошадиной статью и пудовыми бюстами. Это была, слава Богу, заключительная музыка и последний танец. Официантки напоминающе мигали люстрами, затем и вовсе погасили их, оставив лишь несколько настольных светильников для произведения расчетов с клиентами. Те, как водится, не хотели уходить. Их, как водится, в конце концов выдворили. По коридору грузно прошли штангисты с дамами, принужденно смеющимися и чего-то негромко, чуть встревоженно напевающими». Автор наблюдает в ресторане штангистов, съехавшихся на соревнования с дамами, затем внимание его на мгновение переноситься на ресторанную суету, официанток и вновь на штангистов с дамами. Таким образом мы наблюдаем как бы переходы взгляда с одного места на другое: с штангистов на официанток и обратно. 2.4 Связь и взаимодействие приемов субъективации. Субъективация повествования настолько обычна для повествовательной прозы, что в пределах небольшого отрезка текста могут употребляться, сменяя друг друга, различные приемы перемещения точки видения в сферу сознания персонажа. Несобственно-прямая речь нередко переходит во внутреннюю. Субъективированные отрезки повествования могут заключать в себе признаки различных приемов субъективации. Примером может служить такой отрывок из затеси «Стынь»: «Вечером зарычало, потом захрустело за избушкой, на взвозе собаки, разнежившиеся подле порога избушки, головы подняли, с лаем ломанулись под яр по кустам, на кого-то резво кинулись. - Ну, уймитесь, уймитесь, - слышен голос Федора, соседа по дому в поселке. – Уймитесь, говорю, мать вашу! – Федор с лицензией на лося пришел и никак ту лицензию реализовать не может. Ушел зверь в теплый урем, скрылся. Федор в одной из дальних избушек ночевал, да вот соскучился, видать, по опчеству, иль мороз его выгнал из таежных дебрей. Избушка там недавно Митреем срублена, не осела еще на мох, пазы промерзают, да и печка там большая, прожженная, запас дров в обрез, на несколько ночевок». Здесь налицо признаки приема представления: смысловое движение от неизвестного к известному, неопределенное обозначение на кого-то, которое конкретизируется как Федор. Но есть признаки и «монтажного письма»: изменяющееся поле зрения героя, зрительное восприятие, изменение планов изображения от общего (избушка) к крупному (запас дров). соскучился, Прием представления: видать. Так же есть вечером прямая зарычало, захрустело; речь (- Ну, уймитесь, уймитесь…Уймитесь, говорю, мать вашу!). Еще один пример из затеси «Хвостик»: Хохочет мальчик на берегу. Увидел что-то не просто смешное, а потешное, вот и хохочет. Подхожу, обнаруживаю: возле вчерашнего, воскресного кострища, средь объедков и битого стекла, стоит узкая консервная баночка, а из нее торчит хвостик суслика, и скрюченные задние лапки. И не просто так стоит банка с наклейкой, на которой красуется слово «Мясо», на газете стоит, и не просто на газете, а на развороте ее, где крупно, во всю полосу нарисована художником шапка: «В защиту природы…» Шапка подчеркнута не то красным ломаным карандашом, не то губной помадой, через всю полосу шатающиеся, промоклые красные буквы, из них составлено слово: «Отклик». — Что же ты смеешься, мальчик?! — Хво… хво… хвостик! Мальчик увидел что-то смешное, при дальнейшем прочтении это что-то оказывается хвостом суслика, торчащим из банки. Широкое многообразие повествования в языке приемов произведений и способов В.П.Астафьева, субъективации его авторская многоликость и мастерство заставляет нас сделать вывод о необходимости дальнейших исследований приемов и способов субъективации авторского повествования в художественных текстах. Варианты классификации приемов субъективации не могут быть исчерпывающими. Многообразие их различных форм и типов дает возможность говорить о значении и функционировании данного феномена композиции художественного текста в языке художественной литературы. В этой связи непосредственное обращение к анализу конкретного художественного произведения может дать ответы на многие, возникающие у филолога вопросы, связанные с субъективацией повествования. Для прозы любого автора характерен особый арсенал приемов субъективации, которым каждый писатель пользуется по-своему. Например, там, где у одного автора будут преобладать словесные приемы — у другого большое место займут композиционные, третий пользуется всеми вышеназванными приемами количественно в разной степени. С другой стороны, у каждого писателя при внимательном изучении текстов его произведений могут обнаружиться свойственные только ему, исключительные и особые способы субъективации повествования, которых у других авторов мы можем и не найти. Как в нашем языке появляется новое слово, также появляется и новый прием субъективации, новый ее способ, как элемент композиции художественного произведения. Отсюда можно сделать вывод, что приемов субъективации существует достаточно много, но чтобы уяснить себе их многообразие, необходимо приступать к анализу творчества различных современных авторов. Таким образом, нам будет легче понять и изучить язык каждого из них в отдельности, а также язык и направления современной отечественной литературы. В таком анализе мы сумеем выявить то своеобразие творчества отечественных прозаиков, которое позволяет нам называть их талантливыми писателями и мастерами русского слова. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Исследование произведений лингвистического анализа текста В.П.Астафьева и, в частности, в аспекте анализа приемов субъективации авторского повествования, позволяет сделать вывод, что такой подход к изучению языка произведений конкретного автора весьма перспективен. Изучение композиционных способов видоизменения авторского повествования, авторской многоликости позволяет глубже понять и приблизиться к тончайшим стилистическим инструментам писателя. Язык произведений В. П.Астафьева в плане видоизменений авторского повествования являет собой прекрасный материал для изучения. В.П.Астафьеву свойственны такие способы авторского перевоплощения, которые, наряду с уже известными способами, описанными филологами, еще не были достаточно изучены в плане лингвостилистического анализа композиции художественного текста. К таким способам авторской многоликости мы относим случаи, когда в авторском повествовании, при его субъективации, точка видения может перемещаться в сферу сознания не только одного персонажа, но и двоих, троих и более. В таких случаях мы говорим о коллективной точке видения с набором языковых средств, характеризующих не только конкретных персонажей, но и группы персонажей. Еще одним феноменом авторского повествования В.П.Астафьева является возможность сосуществования точек видения автора и персонажа. Таким образом, напрашивается вывод о том, что субъективация авторского повествования есть не только в конкретных известных приемах, но и во многих случаях проявления авторской многоликости. В первой главе исследовательской работы было рассмотрено понятие «образ автора» как организующее начало текста. Здесь мы опираемся на труды ученого В.В.Виноградова – именно он ввел термин «образ автора». «Образ автора» связывает художественную все систему, стилевые вокруг средства образа в автора цельную словесно- группируется вся стилистическая система произведения. Также на эту тему коротко рассмотрим суждения М.М.Бахтина. Рассмотрели соотношение образ «я» и лирический герой; соотношение «образ автора – образ рассказчика». Представленное в первой главе разделение конкретных приемов субъективации авторского повествования на словесные и композиционные раскрывает картину уже известной классификации. Однако изучение языка произведений В.П.Астафьева позволило найти и описать такие способы видоизменения авторского повествования, которые не подпадают ни под один из известных приемов. Изучение таких, еще не классифицированных способов видоизменений авторского повествования, может дать новые импульсы для классификации и систематизации существующих приемов субъективации авторского повествования. Во второй главе (теоретической), используя текст цикла рассказов «Затеси», раскрыли понятие «субъективация повествования», как смещение точки видения из «авторской» сферы в сферу персонажа, субъекта. Подробно разбрали классификацию приемов субъективации повествования: 1. Словесные приемы а) прямая речь; б) несобственно-прямая речь; в) внутренняя речь. 2. Композиционные приемы а) приемы представления; б) изобразительные приемы; в) монтажные приемы, Во второй главе работы описываются уже известные приемы субъективации авторского повествования: словесные и композиционные в произведениях В.П.Астафьева. Особое внимание уделяется прямой речи, как одному из способов изменения авторского изложения. В.П.Астафьев пользуется известными приемами субъективации авторского повествования достаточно широко, но особых приоритетов в использовании этих приемов у писателя нет, за исключением прямой речи. Автор использует для передачи чувств и переживаний своих персонажей и иные способы субъективации. В отличие от объективированного повествования, субъективированное представляет собой такое же целостное явление как, скажем, прямая речь является одним из словесных приемов субъективации авторского повествования. При анализе субъективированного повествования его необходимо рассматривать как часть единого повествовательного пространства рассказа или повести. Выявление в процессе изучения видоизменений авторского повествования тех или способов субъективации позволит приблизиться к более четкому пониманию определенных составляющих стиля конкретного писателя. Список использованной литературы: 1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 3. Виктор Астафьев. Пролетный гусь: рассказы, затеси, воспоминания. К., 2001. 4. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М., 1959. 5. Виноградов В.В. О языке художественной речи. М., 1971 г. 6. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. 7. Виноградов В.В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 1980. 8. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка 1819х веков. Изд. 3-е. М.,1982. 9. Винокур Г.О. Об изучении языка литературных произведений// Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. 10.Гаспаров Б.А. Язык, стиль, образ: Лингвистика языкового существования. М., 1996. 11.Гореликова М.И., Магомедова Д.Н. Лингвистический анализ художественного текста. М., 1989. 12.Горшков А.И. Русская словесность: от слова к словесности. Уч.Пособие для 10 – 11 кл. М.: Дрофа, 2000. 13.Горшков А.И. Русская стилистика: уч.Пособие/А.И.Горшков. М.: ООО Астрель; ОООАСТ, 2001. 14.Кожевникова Н.А. О соотношении речи автора и персонажа// Языковые процессы современной русской художественной литературы: 1. Проза. М., 1977. 15.Кожина М.П. Стилистика русского языка. М., 1983. 16.Курбатов В.Я. Мир и вечность. Размышление о творчестве В.П.Астафьева. Красноярск, 1983. 17.Лапин Б.П. Воспоминание о В.П.Астафьеве. М.: Папирус, 2002. 18.Ларин Б.А. О разновидностях художественной речи: Семантические этюды// Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974. 19.Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. 20.Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа. М., 1999. 21.Одинцов В.В. О языке художественной прозы: Повествование и диалог. М., 1973. 22.Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1980. 23.Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Л.И.Скворцова, 24-е издание, исправленное. М.: Оникс 21 век, 2004. 24.Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Л.И.Скворцова, 24-е издание, исправленное. М.: Оникс 21 век, 2004. 25.Толстой Н..И. Труды В.В.Виноградова по истории русского литературного языка. М., 1978. 26.Успенский Б.А. Поэтика композиций. М., 2000. 27.Ширяев Е.Н. Несобственно-прямая речь// Русский язык: энциклопедия. М., 1979. 28.Шкловский В.Б. Собрание сочинений. В 3-х томах. Том 1. М., 1973 .