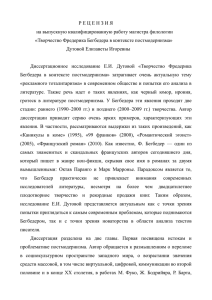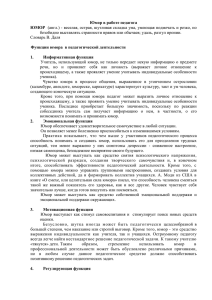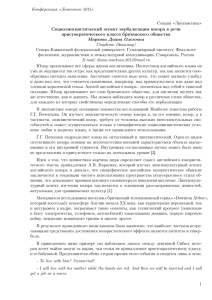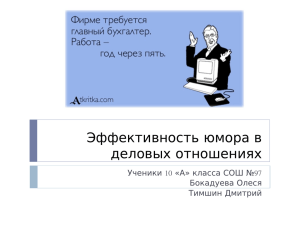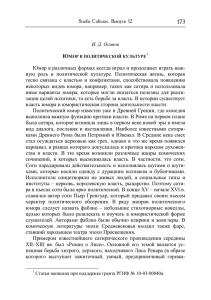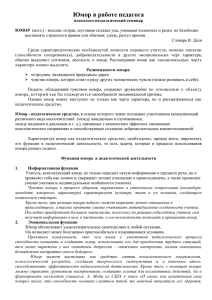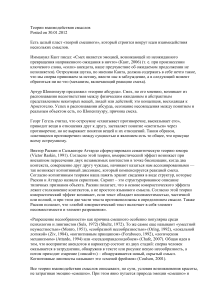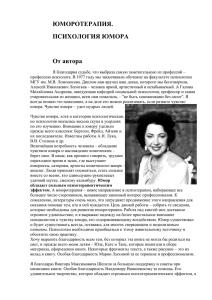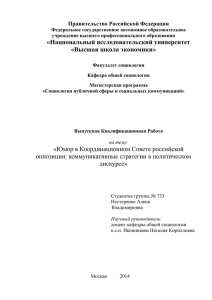ИРОНИЯ, ЮМОР, ЯЗЫК: ЭВОЛЮЦИОННАЯ ГИПОТЕЗА*
реклама
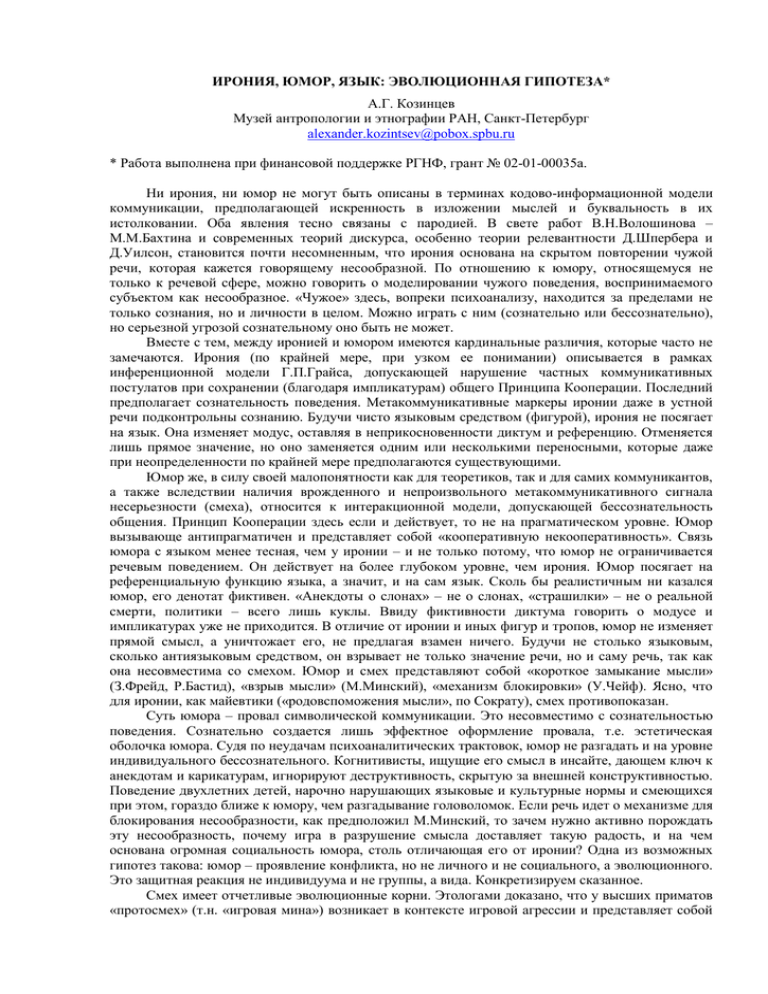
ИРОНИЯ, ЮМОР, ЯЗЫК: ЭВОЛЮЦИОННАЯ ГИПОТЕЗА* А.Г. Козинцев Музей антропологии и этнографии РАН, Санкт-Петербург alexander.kozintsev@pobox.spbu.ru * Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 02-01-00035а. Ни ирония, ни юмор не могут быть описаны в терминах кодово-информационной модели коммуникации, предполагающей искренность в изложении мыслей и буквальность в их истолковании. Оба явления тесно связаны с пародией. В свете работ В.Н.Волошинова – М.М.Бахтина и современных теорий дискурса, особенно теории релевантности Д.Шпербера и Д.Уилсон, становится почти несомненным, что ирония основана на скрытом повторении чужой речи, которая кажется говорящему несообразной. По отношению к юмору, относящемуся не только к речевой сфере, можно говорить о моделировании чужого поведения, воспринимаемого субъектом как несообразное. «Чужое» здесь, вопреки психоанализу, находится за пределами не только сознания, но и личности в целом. Можно играть с ним (сознательно или бессознательно), но серьезной угрозой сознательному оно быть не может. Вместе с тем, между иронией и юмором имеются кардинальные различия, которые часто не замечаются. Ирония (по крайней мере, при узком ее понимании) описывается в рамках инференционной модели Г.П.Грайса, допускающей нарушение частных коммуникативных постулатов при сохранении (благодаря импликатурам) общего Принципа Кооперации. Последний предполагает сознательность поведения. Метакоммуникативные маркеры иронии даже в устной речи подконтрольны сознанию. Будучи чисто языковым средством (фигурой), ирония не посягает на язык. Она изменяет модус, оставляя в неприкосновенности диктум и референцию. Отменяется лишь прямое значение, но оно заменяется одним или несколькими переносными, которые даже при неопределенности по крайней мере предполагаются существующими. Юмор же, в силу своей малопонятности как для теоретиков, так и для самих коммуникантов, а также вследствии наличия врожденного и непроизвольного метакоммуникативного сигнала несерьезности (смеха), относится к интеракционной модели, допускающей бессознательность общения. Принцип Кооперации здесь если и действует, то не на прагматическом уровне. Юмор вызывающе антипрагматичен и представляет собой «кооперативную некооперативность». Связь юмора с языком менее тесная, чем у иронии – и не только потому, что юмор не ограничивается речевым поведением. Он действует на более глубоком уровне, чем ирония. Юмор посягает на референциальную функцию языка, а значит, и на сам язык. Сколь бы реалистичным ни казался юмор, его денотат фиктивен. «Анекдоты о слонах» – не о слонах, «страшилки» – не о реальной смерти, политики – всего лишь куклы. Ввиду фиктивности диктума говорить о модусе и импликатурах уже не приходится. В отличие от иронии и иных фигур и тропов, юмор не изменяет прямой смысл, а уничтожает его, не предлагая взамен ничего. Будучи не столько языковым, сколько антиязыковым средством, он взрывает не только значение речи, но и саму речь, так как она несовместима со смехом. Юмор и смех представляют собой «короткое замыкание мысли» (З.Фрейд, Р.Бастид), «взрыв мысли» (М.Минский), «механизм блокировки» (У.Чейф). Ясно, что для иронии, как майевтики («родовспоможения мысли», по Сократу), смех противопоказан. Суть юмора – провал символической коммуникации. Это несовместимо с сознательностью поведения. Сознательно создается лишь эффектное оформление провала, т.е. эстетическая оболочка юмора. Судя по неудачам психоаналитических трактовок, юмор не разгадать и на уровне индивидуального бессознательного. Когнитивисты, ищущие его смысл в инсайте, дающем ключ к анекдотам и карикатурам, игнорируют деструктивность, скрытую за внешней конструктивностью. Поведение двухлетних детей, нарочно нарушающих языковые и культурные нормы и смеющихся при этом, гораздо ближе к юмору, чем разгадывание головоломок. Если речь идет о механизме для блокирования несообразности, как предположил М.Минский, то зачем нужно активно порождать эту несообразность, почему игра в разрушение смысла доставляет такую радость, и на чем основана огромная социальность юмора, столь отличающая его от иронии? Одна из возможных гипотез такова: юмор – проявление конфликта, но не личного и не социального, а эволюционного. Это защитная реакция не индивидуума и не группы, а вида. Конкретизируем сказанное. Смех имеет отчетливые эволюционные корни. Этологами доказано, что у высших приматов «протосмех» (т.н. «игровая мина») возникает в контексте игровой агрессии и представляет собой ритуализованный укус – знак несерьезности нападения. Бессознательное метакоммуникативное значение смеха осталось тем же: «Это шутка, не принимай ее всерьез» (отсюда внутренняя противоречивость сатиры и ее неизбежные провалы). Звуки смеха, по предположения Р.Провайна, возникли путем ритуализации тяжелого дыхания, сопровождающего шутливые потасовки у приматов. Игровая борьба, практикуемая детьми, довольно сходна с обезьяньей и сопровождается смехом, а потому преемственность здесь несомненна. Отсюда – прямой путь к игровой словесной агрессии, при которой дети также смеются, а от нее – к карнавальной «брани-хвале» (М.М.Бахтин), «отношениям подшучивания» (А.Рэдклифф-Браун) и прочим видам шутливой агрессии, предотвращающим реальные конфликты. Игровая агрессия – один из компонентов юмора, связывающий его с досимволической стадией (подробнее см. в нашем сборнике «Смех: Истоки и функции. СПб: Наука, 2002). Вопреки З.Фрейду, агрессивность юмора – фасад, а не содержание. Никаких намеков на символическую коммуникацию у обезьян, даже высших, в природе не отмечается. Возникновение языка было «революцией в эволюции» и означало переход из природы в культуру. Адаптивная ценность этого новоприобретения очевидна, но революции редко бывают безболезненными. Параллель между культурой и неволей проводилась неоднократно, но в символизации, которая служит предпосылкой культуры, мы привыкли видеть только выгоду. На чем основана эта вера – неясно. Трудно, не прибегая к телеологии, объяснить, почему наши общеприматные когнитивные и коммуникативные предрасположенности должны находиться в полной гармонии с радикально новой системой передачи и накопления информации. Если нейролингвист Т.Дикон прав, называя язык «колонизатором» и даже «паразитом» мозга, то основа эволюционного конфликта понятна. Проявлением этого конфликта, возможно, и является юмор с его антиязыковой и антикультурной направленностью. Его называют семиотической игрой, но играм не свойственна такая взрывчатость. Человеческий смех несопоставим с обезьяньим протосмехом по своей энергии. Наслаждение от юмора нельзя объяснить ничем иным, кроме как прорывом наружу подспудного протеста человеческой натуры против семиозиса, бессознательно ощущаемого, как нечто навязанное. Юмор – это кратковременный бунт против означивания. Конфликт тут гораздо более глубокого уровня, чем в иронии, что особенно заметно в поведении маленьких детей, хохочущих от преднамеренного и грубого нарушения только что усвоенных ими языковых и культурных норм. Во взрослом же юморе, особенно современном, с его реализмом и структурностью, частные конфликты (личные и социальные) полностью заслоняют от нас главный конфликт – эволюционный. Между тем, анекдоты возникли на основе мифов о трикстерах, поведение которых было откровенно безумным и бесструктурным. Моделирование чужого поведения, воспринимаемого как несообразное, свойственно только человеку, ибо оно невозможно без символизации. В иронии это происходит на сознательном и в основном словесном уровне, т.е. язык используется по прямому назначению. Ирония – побочный продукт языка. В отличие от юмора, она не имеет эволюционных корней. В онтогенезе она также появляется гораздо позже юмора. Юмор же включает бессознательный компонент и не ограничивается речевым поведением. Язык здесь направлен против самого себя. Заразительность смеха создает теснейшую интерперсональность, не свойственную иронии. Это понятно: ирония служит размежеванию людей и групп, тогда как юмор (если отвлечься от его частных значений и различий в восприятии) выражает единство человечества как вида, перед лицом той уникальной проблемы, с которой этот вид столкнулся.