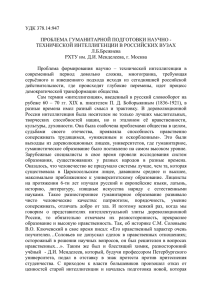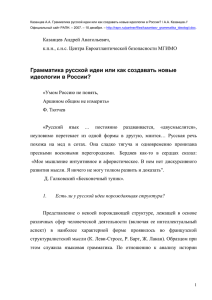Анатолий УТКИН
реклама
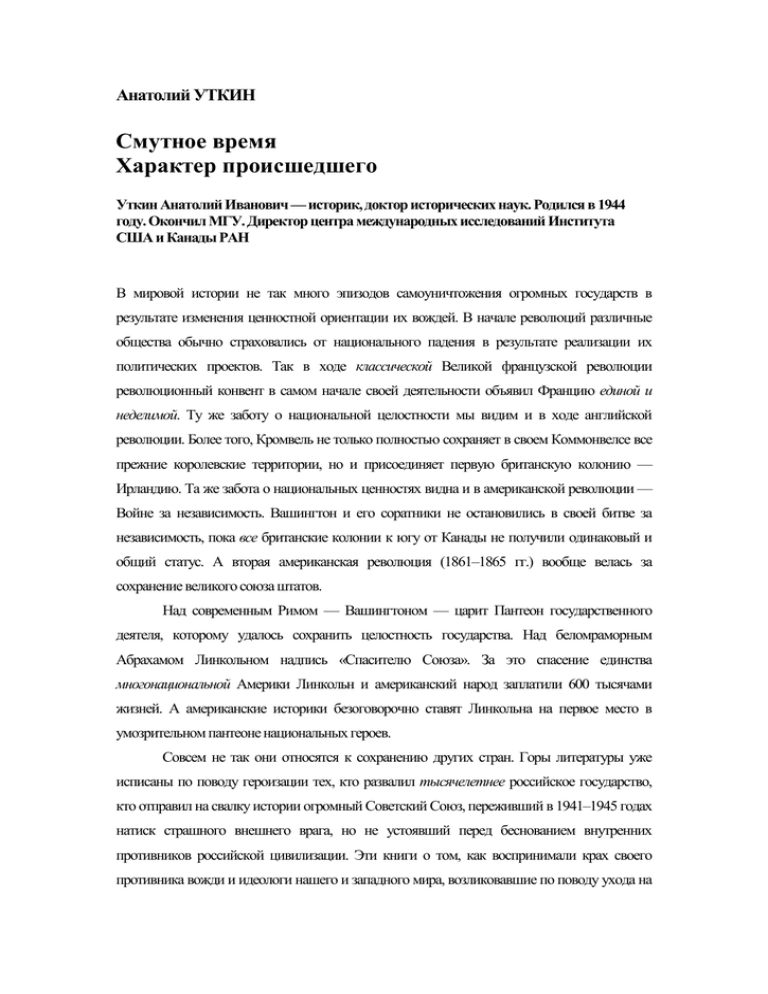
Анатолий УТКИН Смутное время Характер происшедшего Уткин Анатолий Иванович — историк, доктор исторических наук. Родился в 1944 году. Окончил МГУ. Директор центра международных исследований Института США и Канады РАН В мировой истории не так много эпизодов самоуничтожения огромных государств в результате изменения ценностной ориентации их вождей. В начале революций различные общества обычно страховались от национального падения в результате реализации их политических проектов. Так в ходе классической Великой французской революции революционный конвент в самом начале своей деятельности объявил Францию единой и неделимой. Ту же заботу о национальной целостности мы видим и в ходе английской революции. Более того, Кромвель не только полностью сохраняет в своем Коммонвелсе все прежние королевские территории, но и присоединяет первую британскую колонию — Ирландию. Та же забота о национальных ценностях видна и в американской революции — Войне за независимость. Вашингтон и его соратники не остановились в своей битве за независимость, пока все британские колонии к югу от Канады не получили одинаковый и общий статус. А вторая американская революция (1861–1865 гг.) вообще велась за сохранение великого союза штатов. Над современным Римом — Вашингтоном — царит Пантеон государственного деятеля, которому удалось сохранить целостность государства. Над беломраморным Абрахамом Линкольном надпись «Спасителю Союза». За это спасение единства многонациональной Америки Линкольн и американский народ заплатили 600 тысячами жизней. А американские историки безоговорочно ставят Линкольна на первое место в умозрительном пантеоне национальных героев. Совсем не так они относятся к сохранению других стран. Горы литературы уже исписаны по поводу героизации тех, кто развалил тысячелетнее российское государство, кто отправил на свалку истории огромный Советский Союз, переживший в 1941–1945 годах натиск страшного внешнего врага, но не устоявший перед беснованием внутренних противников российской цивилизации. Эти книги о том, как воспринимали крах своего противника вожди и идеологи нашего и западного мира, возликовавшие по поводу ухода на исторические глубины величайшей Атлантиды наших дней — Союза Советских Социалистических республик. С середины ХХ века на мировом горизонте Америке был неподвластен только коммунистический Восток, с которым Вашингтон собирался соперничать долгие десятилетия. Изумление от добровольного ухода Советского Союза сохранилось в США и ныне, два десятилетия спустя. Как оказалось, незападные цивилизации если и могли держаться, то в условиях раскола внутри Запада, союза с одной из западных сил. Совокупной же мощи Запада противостоять было трудно, если не невозможно. Изоляция от Запада действовала как самое мощное разрушительное средство. При попытках опоры на собственные силы живительный климат Запада (идеи, разумная энергия, наука, технологические новации) оказался скрытым от населения, традиции общения с Западом в XVIII–XIX вв. были забыты. В СССР произошла определенная деградация умственной жизни, наступила эра вымученных посредственностей, эра холуйства вместо лояльности, смешения всего вместо ясно очерченной цели, время серости, самодовольства, примитивного потребительства, всего того, что вело не к Западу, а в третий мир. Внутри страны основной слабостью стало даже не репрессивное поведение правящей партии, потерявшей свою жизненную силу, внутреннюю устремленность, а утрата механизма приспособления к современному миру. Порок однопартийной системы в конечном счете стал сказываться в одеревенении ее структур, взявших на себя ни более ни менее как цивилизационное руководство обществом. Покорные партийные «колесики и винтики» почти полностью преградили выделение наверх лучших национальных сил, постыдно занизили уровень национального самосознания, примитивизировали организацию современного общества, осложнили реализацию глубинных человеческих чаяний как в сфере социальной справедливости, так и в достижении высоких целей самореализации. Все это дало невероятный шанс Соединенным Штатам. Американцы в конце 1980-х годов отказывались верить в свое счастье. В мемуарах президента Буша, государственных секретарей Шульца и Бейкера можно прочесть, с каким изумлением официальный Вашингтон воспринял нисхождение своего глобального контрпартнера на путь, который в конечном счете довел его до распада и бессилия. Совершаемого Горбачевым переворота политической и социальной структуры своей страны в Вашингтоне не ожидал никто. В результате победы в «холодной войне» ведомый Соединенными Штатами Североатлантический союз стал доминировать на северо-западе евразийского континента. Между классическим Западом и СНГ Америка начала излучать влияние на девять прежних союзников СССР и на тринадцать бывших республик почившего Союза. В самой России опасность сепаратизма вышла на первый план, за нею следует демонтаж экономики, распад общества, деморализация народа, утрата самоидентичности. Безусловный американский триумф 1991 года дал Вашингтону шанс — при умелой стратегии на долгие годы сохранить столь благоприятный для заокеанской республики статус кво американского единовластия. Не без ликования пишет американский посол в Москве этих дней Джек Мэтлок, что «холодная война закончилась на условиях, выдвинутых Соединенными Штатами». И еще: «Холодная война закончилась ввиду совпадения двух условий: 1) западная политика сочетала силу и твердость с желанием честных переговоров; 2) советские лидеры были убеждены в том, что страна не может идти прежним путем, что она должна измениться внутренне… И Соединенные Штаты стали главным фактором осуществления этого»1 . Обращаясь к недавнему прошлому, зададимся вопросом: почему Соединенные Штаты возглавили поход Запада против Большой России? Что здесь было наиболее важным — идеология или геополитика? Есть все основания утверждать, что основным критерием был геополитический. В рамках якобы «всеобъясняющего» идеологического конфликта США и СССР участвовали в «холодной войне» как в геополитической схватке, основанной на реалистическом и традиционном балансе сил, а вовсе не на классовой борьбе. Если бы идеология была единственной движущей силой сверхдержав в «холодной войне», то возникает вопрос: почему глобальный по охвату конфликт начался не со времен Великой Октябрьской революции, а с триумфальных салютов победного 1945 года? Ответ напрашивается: в 1917 году и на протяжении следующей четверти века Советский Союз был относительно слаб и был лишь одним из нескольких мировых центров в многополярном мире. С геополитической точки зрения это все объяснимо: в 1917 г. и на протяжении еще двадцати пяти лет Советский Союз был относительно слаб и являл собой одну из нескольких великих держав тогдашнего многополярного мира. Но с крушением Германии и Японии, с ослаблением Британии, Франции и Китая усилившийся Советский Союз стал единственным потенциальным конкурентом Соединенных Штатов. И прав Гартхоф, замечающий, что Запад обрел «манихейскую антикоммунистическую точку зрения, в то время как каждая сторона шла за реализацией либо своих амбиций, либо своей исторической судьбы, что и обеспечило долговременный характер конфликта — но и в этом случае стороны руководствовались прагматичными курсами, они основывались на соображениях риска, стоимости, возможных приобретений, опасностях неверного рассчета — на рациональных основаниях, а не идеологической ослепленности»2 . Конфликт был основан на реалистическом и традиционном балансе мощи, а не на неких соображениях мировой классовой борьбы. В противном случае, если бы идеология правила бал, было бы непонятно, почему «холодная война» вступила в критическую фазу в 1945 году, а не в 1917-м. Западу помогла его консолидация. Как признают сейчас американские стратеги, «советская мощь была важным, но второстепенным — если сравнивать ее с германской и японской мощью — вызовом для американской стратегии. В условиях, когда вся Япония и большая часть Германии с середины 50-х годов находились в зоне влияния США, баланс сил был настолько против Советского Союза, что Москва имела очень малые шансы выиграть холодную войну... Теперь, оглядываясь назад, мы видим, насколько сложным было положение Москвы; Запад должен был действительно играть бездарно, чтобы с такими картами не выиграть»3 . Сейчас, по прошествии десятилетий, даже самым ярым противникам советского коммунизма ясно, что преобладавшая долгое время на Западе точка зрения — и даже непререкаемая вера — относительно того, что коммунистическая идеология заставляет советских лидеров расширять сферу своего влияния, что в Кремле существует некий «мастер-план», некая схема завоевания Запада, является бредом воспаленных умов. Такая вера предполагала способность коммунистического Востока с легкостью сокрушить капиталистический Запад, предполагала убежденность советского руководства в военную мощь как решающий и окончательный инструмент внешней политики. Между тем Запад имел возможность много раз — в Бресте, Рапалло, Москве, Тегеране, Ялте, Потсдаме, Женеве, Вашингтоне, Хельсинки, Вене, Париже и многих других местах — видеть и понимание советским руководством ограниченности своих возможностей, и неприятие применения военной мощи как «финального решения» спора между Востоком и Западом4 . Обратимся к американскому дипломату и ученому, посвятившему жизнь практике и теории «холодной войны»: «Запад допускал ошибку, веря в то, что советские лидеры были привержены исторически якобы неизбежной борьбе между двумя мирами до тех пор, пока, в конце концов, не достигнут своего триумфа. Другие мотивации и интересы, включающие в себя национальные цели, институциональные интересы и даже личные персональные особенности, играли свою роль»5 . Весь шум по поводу потенциально владеющей всей Европой Советской России несерьезен. Пугало в виде огромной евразийской державы было безусловно необходимо Соединенным Штатам для оправдания своего стояния и доминирования в долине Рейна и на Японском архипелаге. А если бы это было не так, то американские вооруженные силы сразу же после окончания противостояния с организацией Варшавского Договора покинули бы дальние пределы и возвратились, по крайней мере, в свое полушарие. Но они, эти американские войска, стоят и не думают покидать 120 стран мира, четыре океана и весь «приземный» космос. Они стоят в восьми из пятнадцати бывших советских республиках, они контролируют безусловно большую территорию Земли. Это самая большая империя в мировой истории. Планам этой величайшей империи между 1945–1991 гг. препятствовала огромная евразийская держава, Советский Союз, исходящий из национального инстинкта сохранения суверенитета. На третьем десятилетии противостояния американское руководство стало активно искать способ раскола своего геополитического противника. При этом Америка обратилась прежде всего к симпатизирующей Западу части советского населения. Наша и «эта» страна Встретившись при Петре с Западом, российское общество породило удивительную поросль — российскую интеллигенцию («люди чужой культуры в своей стране», как говорил русский философ Г.Федотов). С некоторых пор само понятие «интеллигенция» во всех основных энциклопедиях мира характеризуется как особое явление России. Стандартное определение: образованный класс с русской душой. Как писал философ С.Булгаков, «ей, этой горсти, принадлежит монополия европейской образованности и просвещения в России, она есть главный его (Запада.— А.У.) проводник в толщу стомиллионного народа, и если Россия не может обойтись без этого просвещения под угрозой политической и национальной смерти, то как высоко и значительно это историческое призвание интеллигенции, сколь устрашающе огромна ее историческая ответственность перед будущим нашей страны». Российская интеллигенция стала подлинным властителем сложившегося в стране общественного мнения в ходе и после реформ 60-х годов XIX века. С этого времени в сознании жителей огромной страны кристаллизуются вопросы геополитического значения: чем является Россия по отношению к Западу — подчиненной или просто более молодой отраслью индоевропейского древа, представителем все той же христианской — общеевропейской — культуры или особой, восточноевропейской цивилизации, а возможно, провозвестником некой новой культурной волны. От ответа на этот вопрос зависел выбор пути: стремиться к максимальному заимствованию, сближению, вступлению буквально на любых условиях в Запад или, ощутив наличие противоречий, историко-культурное различие, несходство духовно-интеллектуального стереотипа, обратиться к собственным историческим канонам развития, не претендуя на место одного из хозяев в холодном западном доме. Где место России в открывшемся цивилизационном многообразии мира? Российская интеллигенция безусловно тяготеет к определенному ответу: на Западе, в Европе, нашем общем доме, откуда в Россию пришли культура, религия, письменность, наука, важнейшие идеи. Этой дорогой страна идет начиная с Петра I. Главным смыслом происшедшего в 1991 году, как и последующих попыток реформ в России, было нежелание народа жить в изоляции, признание привлекательности западных ценностей, отношение к Западу как носителю «секретов» производства, ведущего к благополучию, близких идеалов и многих завидных качеств. Но опыт 90-х годов никак не однозначен. И снова внимание обращено к российской интеллигенции. Может ли она помочь России избежать участи оказаться во «второсортной Европе», избежать опасности ощутить себя чуждой латиногерманской основе Запада, опасности быть вытесненной политически и культурно к вечной мерзлоте северо-востока Евразии? Дважды в критические периоды своей истории российская интеллигенция пыталась оценить опыт служения своей стране. Первый раз — в «Вехах» (1908) и во второй раз — в сборнике «Из глубины» (1918) лучшие и наиболее ответственные, наиболее далекие от авантюризма попытались понять, как откликалась «душа интеллигенции, этого создания Петрова — ключ к грядущим судьбам русской государственности» (С.Булгаков) на катаклизмы, катастрофы русской истории. Третья такая попытка должна быть предпринята сейчас. Провозвестником и творцом феноменальных перемен 1988–1991 годов, коренным образом изменивших судьбу страны, стала наша интеллигенция, которая исполняла свое предназначение и долг так, как она его понимала. Характер русской-советской интеллигенции сложился под воздействием двух обстоятельств — внешнего и внутреннего. Внешним было давление государственного пресса периода насильственной модернизации, жестокой внутренней регламентации и ГУЛАГа. Это обстоятельство предопределило органический антикоммунизм ушедшей в метафорическое и буквальное подполье интеллигенции, в продолжение исконных традиций недоверия к властям, борьбы с ними, закрепления психологии подполья. Бессильная ярость многих десятков лет молчания 20–70-х гг. заставила русскую интеллигенцию (как прежде ее предшественников в царской России) дать «Ганнибалову клятву» неприятия тупого государственного насилия, неприятия коммунизма и борьбы с ним. Отсутствие шансов на допуск к национальной сцене, ограничение пользования печатным станком, фактическое неучастие в определении судьбы народа не могли не вызвать пароксизма отчаянной неприязни к партократии. Однако не на истовых коммунистов обрушился гнев интеллигенции в тот день, когда ослабли запреты. Что толку в ненависти к амебообразным коммунистам 80-х годов? Истовые уже ушли естественной дорогой. Единственным оправданием обладания властью коммунистами, потерявшими революционность, стал патриотизм. Драмой поколения стало то, что праведный гнев российской интеллигенции обрушился именно на это главное самооправдание однопартийной диктатуры, на патриотизм. Второе — внутреннее — обстоятельство проистекало из черт мученичества, внутреннего чувства обиды в свете нереализации таланта, нежелание вести серое существование. Беспросветность вела к ожиданию шанса, случая, которым следовало воспользоваться в полной мере. Нечто новое для прежде стоически настроенной интеллигенции — готовность к авантюре (оборотная сторона страха прозябания). Десять лет назад интеллигенция получила свой шанс, ощутила простор для политического маневра и самореализации. Немощные партократы, которые в своих кабинетах на Старой площади не могли родить ничего вдохновляющего, стали свидетелями того, как можно взволновать народ. Эти семьдесят лет Среди части интеллигенции, вошедшей на протяжении ХIX — в начале ХХ века в тесный контакт с Западом и при этом сохранившей свои социальные идеалы, вызрело течение гиперкритичности в отношении общественного строя, культивируемого Западом и проектируемого на не западные регионы, — движение противников капитализма. Этот слой антизападных западников сыграл колоссальную роль в истории России после 1917 года. То тщание, с которым российские сторонники коммунизма изучали Запад и спешили приложить его «передовой» опыт к России, явилось феноменом эпохальных пропорций. Коммунисты, особенно большевики, напряженно искали именно в западном идейном наследии теоретический компас. Социальные теоретики от Локка и Гоббса, социалутописты от Роджера Бекона и Кампанеллы — вот кто дал Востоку идейное основание для битвы с Западом. Восторг этих идеалистов (оказавшихся впоследствии суровыми практиками) перед расколом западной мысли был просто огромным. С презрением отвергая позитивные западные теории, не обращая ни малейшего внимания на уникальность западного опыта, они бросились к «светочам сомнений», восхитительным критикам западного общественного опыта, ни секунды ни сомневаясь во всемирной приложимости их ультразападных идей. Русские автохтоны (народники) отдали знамя революции этим особым антизападникам, которые откровенно декларировали, что стремятся к овладению государственной властью именно для реализации западных идей на незападной почве. Коммунисты пришли к власти в России в период военных поражений, в годину национального унижения и обиды крестьянской России на тех, кто бездумно бросил страну в войну. Царьград был нужен семнадцати миллионам крестьянских сыновей в той же мере, в какой он был ему неизвестен. Это сейчас, читая легкую прозу Черчилля, можно рассуждать, что «Россия рухнула на расстоянии протянутой руки от победы». Кровь лилась обильным потоком от августовского Танненберга 1914 года до натужного наступления Керенского в июле 1917 года. Конфиденты французского посла Палеолога и английского Бьюкенена уверяли в один голос, что Россия не может тянуть союзническую лямку. Это говорили союзным послам не записные марксисты, а самые добропорядочные капиталисты вроде Путилова. Россия уже не могла нести прежние жертвы, она была обескровлена и деморализована. (Позже такие лидеры Антанты, как Ллойд Джордж, по зрелом размышлении признают это.) Любой, кто осмелился бы (даже вопреки клятве на Казанской иконе Божией Матери, вопреки твердому обещанию, данному Западу) выйти из превратившейся в национальную Голгофу войны, получил бы шанс на правление. Напомним, что на выборах в избранное всеобщим, равным и тайным голосованием Учредительное собрание социалисты всех мастей получили три четверти голосов. В час унижения, когда стало ясно, что муки и трансформации эпохальных размеров, произведенные со времен Петра Великого, все же не обеспечили входа России в западный мир рациональной эффективности, к власти пришла относительно небольшая партия, словесно обличавшая как ад капиталистический мир Запада. Не счесть числа тех, кто обвинял большевиков в обрыве петровской традиции, в том, что они повернули Россию к пригожей Европе «азиатской рожей», тех, кто увидел в Октябре 1917 года фиаско западного приобщения России. А в реальности к власти пришла партия ультразападного приобщения. Большевики и не скрывали, что ждут экспертизы и управления от социал-демократии феноменально эффективной Германии. Только после провала похода через Польшу на Берлин и центральноевропейских восстаний 1918–1924 годов большевики — антизападные западники перестали подавать свои взгляды как стремление ввести свою страну в лоно Запада. Теперь, в евразийском одиночестве, это убило бы их социальный и государствостроительный пафос. Стремясь избежать обвинений в западничестве, в заклании своей страны на алтарь западной теории, русские революционеры выступили яростными критиками Запада. Эта критика имела две стороны. Во-первых, нетрудно было заимствовать аргументы у западных обличителей западных порядков — в них на Западе никогда не было недостатка. Во-вторых, антизападные западники обыграли всю гамму чувств о противоборстве ума и сердца, черствого умного Запада и наивного, но доброго Востока. Вариациям на эту тему в русской политологии и литературе несть числа. Мотив моральной чистоты и морального превосходства был объективно нужен русской интеллигенции и русским революционерам. Без этого мотива король был голым, русские просвещенные люди выглядели бы примитивными имитаторами. Гораздо проще (а попросту необходимо) было претендовать на вселенский синтез ума и сердца, на универсальность своих взглядов. Это придавало силы, позволяло сохранять самоуважение. Более того, вело к феноменальной интеллектуальной гордыне, примеров которой в русской политике и культуре ХХ века просто не счесть. Претензии на истину, на глобальный синтез, на вселенскость и уж, «как минимум», на будущее выдвигались русской интеллигенцией, жившей в стране, где половина населения не умела читать, не имела гарантий от прихотей природы. Таков был революционный подход к проблеме сближения с Западом. Принципиально он не отличался от порыва гандистов, кемалистов, сторонников Сунь Ятсена (им тоже, по их словам, принадлежало будущее) и от прочих пророков незападного мира. Различие пряталось в двух обстоятельствах: 1) Россия уже имела квазизападную систему как наследие романовского западничества; 2) российские интеллектуалы не сомневались в судьбе России, они знали ее размеры и жертвенность населения. Первое (ленинское) поколение большевиков обладало серьезными западными свойствами — огромной волей, способностью к организации, безусловным реализмом, пониманием творимого, реалистической оценкой населения, втягиваемого в гигантскую стройку нового мира. Внутренняя деградация, насилие термидора (убиение своих) произойдет позже, а пока, неожиданно для Запада, на его восточных границах Россия бросила самый серьезный за четыреста лет вызов западному всевластию. Русифицированная форма марксизма стала идеологией соревнующегося с Западом класса, сознательно воспринимающего все западные достижения, сознательно ломающего свой психоэмоциональный стереотип, чтобы выйти на западный технологический уровень. Идеология оказалась сильным инструментом, но она имела по меньшей мере одно слабое место — она конструировала нереальный мир, искажала реальность, создавала фальшивую картину. Это и была плата за первоначальную эффективность. Стремиться к конкретному, добиваться успехов и при этом нарисовать (в сознании миллионов) искаженный мир — это было опасно для самого учения (что с полной очевидностью показала гибель коммунизма в 1991 году, когда практически ни один из членов 20миллионной партии не подал голос в защиту «единственно верного» учения). Такова была плата за искажение реальности. Равно как и за неправедное насилие. И второе: ни ожесточенное отчаяние, ни триумфальная экзальтация не могут противостоять одному — времени. Коммунизм как насильственная модернизация и рекультуризация огромной страны вступил в конфликт с естественными инстинктами и рефлексами человека. Энтузиазм и страх уступили место — и должны были уступить в любом случае — обыденной драме человеческого существования. Грубо ошибаются те, кто полагает, что «коммунисты одинаковы всегда и всюду— от Кубы до Кампучии». На самом деле коммунисты — одно из самых пестрых течений двадцатого века. Ленин, Сталин, Троцкий, Хрущев, Брежнев, Горбачев — есть ли более гетерогенное в политическом плане сообщество? Если судить реалистически, то уже Хрущев, демонизированный на Западе, не имел не только коммунистического, но никакого (кроме прагматических приемов) мировоззрения. Собственный взгляд на мир — большое понятие. Даже стараясь не оглуплять наших коммунистических лидеров 1953–1991 годов, признаемся все же, что философский взгляд на мир, вера в «законы истории», осознанное восприятие роли насилия в модернизации было чуждо череде доморощенных вождей — истинных автохтонов — от Маленкова до Горбачева, не имевших мировоззрения, не знавших внешнего мира и его идей. Люди организации, жертвы догм и форм, руководствовавшиеся всей гаммой обыденного сознания (от жесткого самоутверждения до праведного смирения), все эти «коммунисты» являлись своего рода заложниками бюрократической машины, созданной Сталиным в 30-х годах. Ни одна страна мира не может жить поколение за поколением в атмосфере экзальтации, гражданского раздора, узаконенного насилия и неиссякаемого энтузиазма. После провала «реформы» Косыгина–Либермана в середине 60-х годов представление о марксизме как о руководящем учении покинуло не только прагматиков-практиков русского коммунизма, но и догматиков-идеологов. Словосочетание «пещерный марксизм» в высоких кабинетах стало применяться уже не к платоновским комячейкам, но и ко всякому невольному поклону в сторону «объективных законов истории». Переход начался при Хрущеве, а завершился при Горбачеве. Последние тридцать лет понятие «социальная справедливость» могло обсуждаться и обыгрываться кем угодно в мире, но не руководителями парткомов, ставших жрецами распределителей. Коммунист Горбачев очень отличался не только от Пол Пота и Кастро, но и от своих университетских учителей. Все это доказывает только одно: гражданская война в России окончилась в 1953 году, тремя годами позже — на ХХ съезде КПСС — был подписан общий мир. Сознательное забвение опустилось над той исторической полосой, где брат убивал брата за мировоззрение, где уничтожали классы и прослойки в слепой ли ярости, в ожидании чуда нового мира, в покорности вождю. Когда Горбачев и Шеварднадзе, словно новые Герцен и Огарев, бродили по Москве, говоря друг другу «так дальше жить нельзя», они фиксировали уже свершившийся факт гибели старых богов. Коммунизм проиграл историческое состязание не тогда, когда военные программы Рейгана начали напрягать военную экономику Советского Союза (тот спор можно было вести еще сто лет, помешать ему могла лишь экология, но не истощение одной из сторон). И не тогда, когда школьный учитель не смог объяснить несоответствие теории с практикой. И не тогда, когда коммунист Иванов заснул на партсобрании. Коммунизм как явление стал терять свои позиции с изменением в 50-х годах шкалы общественных ценностей. Шесть соток приусадебного участка, личная библиотека, маленький «Москвич», отдых у моря и, новое, — шанс увидеть внешний мир. Коммунизм с горящими глазами, религиозное рвение прозелитов, жертвенный пафос социальной справедливости просто ушли из жизни и сознания ощетинившейся против всего мира страны, побитые не напряжением соревнования в высоких технологиях, а зевком собеседника, спешащего в отдельный рай хрущевской пятиэтажки. Отныне только манихейцы от либерализма могли демонизировать Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева. Если это не так, то пусть кто-нибудь объяснит, почему представители российского коммунизма пальцем не шевельнули 19 августа 1991 года, почему крупнейшая в мире политическая партия безропотно пошла не на баррикады, а на заклание. Неужели среди семнадцати тысяч сотрудников Центрального Комитета КПСС не нашлось ни одной заблудшей жертвы простодушия? Ни одного верующего в «новый мир», в пролетариат, в бесклассовое общество, в «солидарность работников всемирной великой армии труда»? Редчайшее по чистоте доказательство давнего внутреннего краха учения. Россия вышла к другим берегам. Во второй половине 80-х годов наступила пора определить новый путь. Такую задачу не могли решить партийные бонзы, что и предопределило наступление звездного часа советской интеллигенции. Три миража Впервые за семьдесят лет всемогущие цари коммунистической Московии начали искать совета у интеллигенции. Да, и Хрущев был не против прочитать написанное Варгой, и Брежнев расширял штаты консультантов, и Андропов мог обсуждать проблему с приглянувшимся помощником, но только Михаил Горбачев привел «прослойку» на капитанский мостик государственного корабля и ткнул пальцем в карту: куда плыть? Азимут нашего времени определили три императива, владевшие думами интеллигенции, которая начала в толстых журналах дискуссию, итогом которой должен был стать новый курс. Первый императив — как можно скорее достичь точки необратимости. Наиболее прямым путем покинуть сталинские волны черного террора. Ход размышлений был довольно пессимистичен: это уже третья попытка. Первую «оттепель» заморозило подавление восстания в Венгрии, очевидная ограниченность еще всевластной хрущевской номенклатуры, малообразованных сталинских выдвиженцев, которые в каждом просветленном слове видели происки. Вторую («малая оттепель» середины 60-х годов) попытку укротил пражский август 1968 года. Легкость всевластного запрета, покорность и безучастность огромного населения — все это порождало лишь одно стремление: при первой же возможности как можно быстрее преодолеть гравитацию партийного магнитного поля, вырваться за пределы заколдованного круга, заплатить любую цену за более гуманный общественный порядок. Представителям этой волны не приходит в голову, что они бьются с фантомами, что новый Сталин при растущем среднем классе, всем очевидном крахе идеологии и неприятии персонального диктата номенклатурой, был уже невозможен. Для восхождениям к диктаторским полномочиям необходимы были два условия: согласие масс на тотальную мобилизацию (его можно получить лишь после грандиозных потрясений) и наличие идеологии, убедительно обещающей благо после мобилизационных сверхусилий. Будем реалистами, в 60–80-е годы такое сочетание было уже немыслимо. На дворе царил «застой», но антисталинисты считали его не нормой, а временной передышкой. Это была «идеология консультантов», которые в подъездах Старой площади объективно гуманизировали партийный аппарат, но опасались реакции: их знаменем было добиться необратимости гуманистической эволюции правящей верхушки. Второй императив российской интеллигенции кануна великих потрясений: мы должны стать нормальной страной. Удивительно, что никто в те годы и не пытался определить критерии нормальности, задаться вопросом, почему нормальной считается социальная практика счастливой десятой части мира — Северной Атлантики, а не девяти десятых, находящихся либо в процессе догоняющей Запад модернизации, либо погрязшей в трайбализме и национализме. Неповторим тот пафос, то катарсическое значение, которое придавалось слову «нормальный» как синониму «идущий вровень с Западом, разделяющий его стандарты, уровень жизни и достоинства демократического общества». Словно девять десятых населения Земли сознательно жили ненормальной жизнью, словно подъем Запада в XVI веке не был уникальным чудом, величественным, благодатным (наука, литература, гуманизм) и опасным — колонизация, неизбежная (при движении вдогонку) болезненная рекультуризация. В будущем об этом напишут детальнее. Но и сейчас хочется спросить ревнителей нормальности: была ли нормальной жизнь большинства их соотечественников, если последний массовый голод отстоял уже сравнительно далеко (1944 г.), если в течение жизни двух поколений две трети страны стали жить отдельно от скотины, пользоваться проточной водой, получили гарантию жизнедеятельности — свою и жизни грядущих поколений. Эти шаги к нормальности вовсе не гарантировали уровня Запада. Интеллектуальным убожеством веяло от выборов ориентира «нормальности» — США, Швеция, Швейцария или Германия. Интеллигенция потеряла нить истории собственной страны, соревнуясь в обличении ненормальностей — словно сумма исторических и ментальных особенностей не составляла историко-цивилизационную основу того, что называлось советским народом. Тезис о нормальности стал могущественным орудием интеллигенции. На уровне национального сознания стало едва ли не преступлением говорить, что Россия не скоро еще по уровню жизни будет равной начавшей якобы с той же стартовой полосы Финляндии, что нельзя смотреть лишь на счастливые (по стечению исторических обстоятельств) исключения, что феномен Запада в определенном смысле уникален. Форсированное движение к «нормальности» требовало определения ненормальности, и таковой стало считаться все незападное — смешное и грустное утрирование вопроса, вставшего перед Россией со времен Аристотеля Фиорованти. Словно не было жестокой полемики и практики решения этого вопроса со времен Лжедмитрия, Петра, славянофилов-западников и пр. Требование «сейчас и немедленно стать нормальными» лучше всего выразил двумя столетиями ранее генерал Салтыков, заявивший, что дело лишь в том, чтобы «надеть вместо кафтанов камзолы». Отказ видеть в модернизации крупнейшую проблему человечества и России, в частности фетишизация иной цивилизации, подмена тяжелейшей проблемы легким выбором «умный–глупый», беспардонная примитивизация процесса обсуждения общественных вопросов — от демократии до экономической политики — вот чем поплатилась страна за недалекость своих интеллигентных детей, не знающих истории и решивших одним махом поставить на «нормальность». Заметим, это был не временный фетиш, то было кредо: «нормальность» вместо критического анализа и исторического чутья. Жрецы нормальности на практике безжалостно крушили «административно-командную систему» и совершенно серьезно, прилюдно, печатно, массово требовали денационализации и дефедерализации. Как было ясно многим сразу, а остальным потом, они требовали дестабилизации и деградации. (Не говоря уже о том, что столь легкое определение «нормы», так жестоко ломающее ментальный, психологический стереотип огромного народа неизбежно таило в себе жестокую автохтонную реакцию.) Третья черта российской интеллигенции эпохи «перестройки» — вера в существование чего-то большего, чем здравый смысл (и это не успев еще остыть от марксистских законов стадиального развития). Воистину, свято место пусто не бывает. Интеллигенция позднесоветского периода попросту отказалась верить, что помимо серой действительности ничего нет. Крушение прежних схем в данном случае ничему не научило. Данная черта — родимое пятно российской интеллигенции, она родилась с этим знаком. Когда семнадцать отроков были посланы в начале XVI века в лучшие университеты Запада, то никто из новоявленных студентов не удосужился приобщиться к неким прикладным, общеполезным дисциплинам. Видимо, пресная проза постепеновщины противна русской душе. Все семнадцать российских протоинтеллигентов избрали одну из двух дисциплин — алхимию или астрологию, чтобы добиться успеха одним ударом, овладеть корневыми законами мироздания, одним махом разрубить гордиев узел жизни, по особому компасу найти сразу верный ответ — вера в миг, удачу, случай, тайную тропу истории, а не в каждодневные планомерные усилия. Российская интеллигенция всегда упорно искала универсальный ответ, и их внимание привлекали те из титанов западной мысли, следование учению которых обещало быстрое успешное переустройство общества. Кумирами думающей России последовательно были Адам Смит, Вольтер, Дидро, Руссо, И.Кант, Фурье, Гегель, Сен-Симон, Л.Фейербах, Прудон, К.Маркс (на его учении Россия задержалась с примечательной интенсивностью). От алхимии и астрологии дело явно двигалось в сторону социально-экономических концепций. В годы Михаила Горбачева интеллигенция демонстративно отринула марксизм и тут же, руководимая все той же неистребимой верой в последнее слово западной (в данном случае экономической) науки, обратилась к фетишу «свободного рынка». Именно он, рынок все расставит по своим местам. Рынок воздаст всем по заслугам, рынок вознаградит труд и уменье, накажет нерадивого. Он сокрушит нелепое стремление Центра контролировать все и вся, вызовет к жизни сонную провинцию, энергизирует людей, превратит «винтики и колесики» в грюндеров и менеджеров. Позволим себе следующее отступление. В западной экономической теории свободный рынок, старый добрый laisse faire, периодически был то в загоне, то в фаворе. Певцы свободного рынка от Адама Смита до Милтона Фридмена не более знамениты, чем идеологи государственного вмешательства от Тюрго до Джона Мейнарда Кейнса. В 60–70-е годы на Западе правил бал тезис об умеренно регулируемой экономике. Но во времена президента Рейгана вперед вышли идеи «освобождения» рынка от опеки, и «чикагская школа» стала авангардом западной экономической мысли. Нужно ли напоминать, что именно российская интеллигенция, стремясь не отстать, первой в мире переводила «Капитал» К.Маркса. Она же первой уверовала в созданную для западного мира теорию высвобождения рыночных сил. Именно она была взята на вооружение в стране монопольных производителей, в стране, в экономике которой требуются дисциплина, взаимодействие и порядок, а не раскрепощение ради менеджеристских чудес конкурентных чемпионов. Песня рынку как всеобщему справедливому уравнителю, как создателю творческого производства прозвучала в стране совершенно отличной от западной трудовой культуры. Гимн индивидуализму в глубинно коллективистской стране, призыв копить и бороться за качество на просторах, где основными производителями были мобилизованные поколение назад крестьяне и их дети, разумеется, не несшие в генах ничего похожего на протестантскую этику индивида. Накопленное по крохам в 1929–1988 годах подверглось воздействию экспериментов типа «Закона о предприятии». Всеобщее требование регионального хозрасчета было уже за пределами здравого смысла. Удивительная вера коммунистических вождей в способности буржуазной экономической науки — эскиз в безумии сам по себе. Партийный пролетарский прозелитизм трансформировался номенклатурным поколением в свою противоположность. Что толку теперь предъявлять счет выпускникам этих своего рода церковно-приходских школ — партийных учебных заведений? Страна и история еще долго будут недоуменно смотреть на лучших, на образованных, на тех, кто имел идеалы, кто любил свою страну и желал ее обновления, но слишком усердно поверил в догму, противоположную собственным лекционным курсам. Не слишком ли большую цену заплатила страна за их спонтанность, чувство непогрешимости, заносчивость до пределов преступной гордыни, легкость в обращении с судьбой страны, черствость в отношении старших поколений? Гимн свободному рынку явился апологией искаженного мировоззрения. Англосаксонский мир вместе с Дж. М.Кейнсом и Ф.Рузвельтом отошел от него в 30-е годы. Прочий же мир, то есть девяносто пять процентов мирового населения, не знал экономического развития на основе свободного рынка никогда. И то, что западный мир знает о свободном рынке, не внушает ему иллюзий. Скажем, известный в России филантроп Дж. Сорос написал недавно в журнале «Атлантик мансли», что дисциплина рынков свободной торговли может быть такой же тиранической, как фашизм и коммунизм. А американский журнал «Бизнес уик» сообщил в номере от 24 февраля 1997 года, что, «если корпоративная Европа, с ее многовековой традицией социального обеспечения, устремится к англосаксонскому образцу, то их открытая борьба лишь усилится». Но не ведающая сомнений российская интеллигенция отставила роскошь сомнения. Понятно, что страна (совсем не та, что в 1917 году, гораздо более в своей массе образованная и восприимчивая) ждала от своих интеллектуальных лидеров объяснения материальных успехов одних стран и очевидных неудач других. Окружавшие Горбачева политологи и экономисты несомненно следили за господствующими на Западе теоретическими тенденциями. Они никогда не пришли бы к воспеванию рынка, скажем, в 1960-е или 70-е годы, когда на Западе, даже в англосаксонском мире, царил совсем другой стереотип. Но в атмосфере временной победы неолибералов-рыночников чикагской школы лучшие умы России привычно поверили в «последнее слово». Так прежде верили в деятелей Просвещения, в Фурье, Прудона, Бланки, анархизм, марксизм, ницшеанство. Сработал рефлекс. В конце 80-х годов ХХ века следовало было верить в певца свободного рынка Милтона Фридмена (хотя, к чести Фридмена, нужно упомянуть о специально написанной им работе, посвященной идее принципиальной неприложимости его идей к русской действительности). В результате доморощенные пересказы созданных для специфических условий макроэкономических постулатов, принадлежащих последней череде Нобелевских лауреатов (разумеется, американцев; разумеется, рыночников) затмили самоосмысление и собственный упорный, планомерный труд. Не будем идеалистами: конечно же, самонадеянные советские экономисты не могли в скромные краткие годы проделать труд Кальвина, Лютера и Конфуция, не могли «внедрить» трудовую аскезу своей многомиллионной, зачитывавшейся их статьями пастве. По многие причинам. Субъективным — не было прозелитической революционнорелигиозной внутренней убежденности. Ее заменял яркий скепсис, набор средней убедительности логических канонов. Объективная причина — коллективистское сознание так или иначе отвергало курс на приоритет самореализации индивида, противилось появлению полюсов кричащего богатства и молчащей бедности. Нам в данном случае важно не то, что в принципе могло (или не могло) реализоваться, а то, в каком направлении призванная номенклатурой советская экономическая наука повела готовый к переменам (как к традиционному еще одному испытанию) народ в сюрреалистической обстановке 1998– 1991 годов, когда все прежде невозможное стало казаться возможным за несколько месяцев, за 500 дней, до ближайшей осени. Российская интеллигенция совершила «грех нетерпения и неуемной гордыни», она подавила в себе свое главное родовое качество — разумное сомнение — и бросилась в новый социальный эксперимент с не меньшей страстью, чем революционеры 1905 и 1917 годов. Святое и естественное прибежище Дело не в естественной профессиональной гордости, не в не менее естественном праве на ошибку и уж, конечно, не в предпочтении пассивной бездеятельности. Дело в исконной, не требующей деклараций, органичной любви к своей стране, которая не позволяет делать ее объектом эксперимента, не исключающего опасные последствия. Увы, среди нашей интеллигенции возобладали те, кто непривычно для образованного уха стал называть свою страну «этой» страной. Можно понять этимологию данного оборота, английского словосочетания, в котором «эта» (this) — фактически синоним русского «наша». Но будучи переведенным на русский язык в другом своем значении — «эта», данное местоимение стало тем, чем оно и является — символом отстраненности, указанием на «одну из» стран. Но «эта наша» страна дана нам в тот миг вечности, на который простирается наша жизнь. Сказанное здесь понятно тем, кто думает подобным же образом. Для тех же, кто живет в «этой» стране, мои слова наивны, если патриотизм воспринимать как атавизм традиционного общества. Из этой этимологии прямо выводится негативный знак патриотизма. У такого суждения есть и исторические основания. Кто станет отрицать, что патриотизм часто служил в России щитом против критики внутреннего (не)устройства, оправданием смирения с низким уровнем жизни, примитивными условиями бытия. Патриотизм действительно может быть «последним прибежищем негодяев». Часто цитированные в России, эти слова Сэмюэля Джонсона относятся ко времени феноменальной солидарности его соотечественников-англичан, именно в те годы, в конце XVII века заложивших основы своего мирового влияния на всех пяти континентах. Как раз твердость патриотического чувства позволила Джонсону спокойно произнести свой парадокс. Когда же слова англичанина произносятся как символ веры, то следует усомниться в национальном здоровье. Как справедливо указал почти столетие тому назад С.Булгаков, «европейская цивилизация имеет не только разнообразные плоды и многочисленные ветви, но и корни, питающие дерево и, до известной степени, обезвреживающие своими здоровыми соками многие ядовитые плоды. Поэтому даже и отрицательные учения на своей родине, в ряду других могучих духовных течений, им противоборствующих, имеют совершенно другое психологическое и историческое значение, нежели когда они появляются в культурной пустыне и притязают стать единственным фундаментом русского просвещения и цивилизации». Патриотизм — то общественное чувство, которое на современном языке может быть определено как гражданская идентичность или ощущение принадлежности своей стране. Сегодня, в условиях плюрализма идентичностей, можно ощутить себя главой семьи, группы, класса, жителем региона или членом профессиональной группы, но связать все это воедино может лишь гражданская идентичность, на уровне чувств предстающая как патриотизм. «Помимо прочего, патриотизм, — писал Г.Бокль, — служит борьбе с суеверием: чем более мы преданы нашей стране, тем менее мы преданы нашей секте». Строго говоря, патриотизм — это не более чем чувство коллективной ответственности. Те, кто, ссылаясь на этимологию, видит в патриотизме реликт патриархального общества, плохо знает Запад — проявления национальных чувств и патриотизма французов, неистребимая верность англичан своей стране, стойкая направленность немецкого сознания на защиту национальных интересов, впечатляющая испанская гордость, повсеместная итальянская солидарность и наиболее впечатляющий —американский опыт: вывешивание государственного знамени на своих домах, пение государственного гимна перед началом сакрального действа в любом молитвенном доме, в церкви любого вероисповедания и т.п. Всюду в мире как непреложные условия жизнедеятельности существуют общественное проявление любви к стране своего языка, неба, хлеба и детства. И российская интеллигенция всегда соединяла в себе два начала — знание Запада и любовь к своему отечеству. Наверное, незнание простительно, ошибаться свойственно человеку. Но если ослаб второй элемент, нужно говорить о кризисе российской интеллигенции. Когда часть интеллигенции сказала себе, что «их» страна — это «эта» страна? Наверное, когда оказались неосуществимыми идеалы, казавшиеся столь очевидно привлекательными, когда эти идеалы столкнулись с сопротивлением и непониманием, с косностью населения. Когда формула «хотели как лучше, а получилось как всегда» подчеркнула заколдованность российского круга модернизации, и цели реформаторов существенно сдвинулись в сторону личных. Может ли характеристика «эта» возобладать над определением «наша»? Видимо, может. Для этого должна быть разрушена связь между людьми (главная характеристика коллективистской страны) — чтобы исчезли мы, а утвердилось множественное «я». Чтобы выветрилась под напором цинизма коллективная память, «любовь к отеческим гробам», чтобы окружающим стало совсем неловко от признания в любви к многострадальной отчизне с ее гипсовыми постаментами и фанерными звездами. Бесстрастно завершена люмпенизация населения, перевод его в режим естественного выживания, войны всех против всех. Но тогда, пожалуй, не будет не только нашей, но и этой страны. 1 Matlock J. Autopsy on an Empire. The American Ambassador’s Account of the Collapse of the Soviet Union. New York: Random House, 1995. P. 669. 2 Garthoff R. The Gtreat Transition. American-Soviet Relations and the Cold War. Washington: The Brookings Institution, 1994. P. 752. 3 Odom W. Russia’s several seats at the table // International Affairs. 1998. № 4. P. 809–910. 4 Обращаю внимание на свою книгу: Уткин А.И. Мировая холодная война. М.: АлгоритмЭКСМО, 2005. 5 Garthoff R. The Gtreat Transition. American-Soviet Relations and the Cold War. Washington: The Brookings Institution, 1994. P. 752.