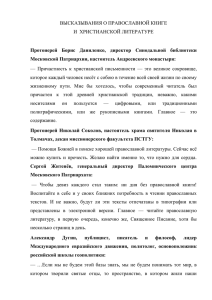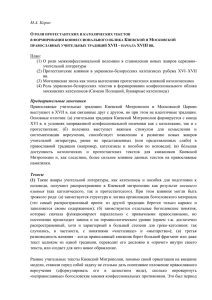Техники перевода и адаптации иноконфессиональных памятников
реклама

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР СЕКТОРА ЭТИКИ 15 марта 2011 – 15:00 М. Корзо Техники перевода и адаптации иноконфессиональных памятников в киевской и московской книжности XVII в. Текст доклада Главная задача доклада – показать, как православные книжники XVII в. работали с текстами, созданными в рамках иных конфессиональных традиций. Речь не идет о заимствовании отдельных идей или концепций, но о ситуациях, когда с помощью определенных техник и приемов «чужой» текст переводился / переделывался / адаптировался таким образом, чтобы он мог стать частью своей традиции. В большинстве случаев работа эта осуществлялась сознательно: она была необходима в силу догматических различий, использования зачастую иного понятийного аппарата и принципиального иного способа выстраивать богословское рассуждение у представителей Западного и Восточного Христианства. Для православной киевской традиции XVII в. данное явление очень распространенное; униаты того времени пошли по линии прямого «присвоения» чужих текстов, кторые подвергались лишь переводу и незначительной языковой адаптации. Таким образом можно говорить о том, что «внешние» по отношению к Православию памятники сыграли значительную роль в становлении православной конфессиональной идентичности в XVII в. В связи с этим могут возникнуть следующие вопросы: Почему возникла необходимость такого массового усвоения «чужой» традиции? Для киевской традиции может быть несколько объяснений: (1) православные всегда существовали в иноконфессиональном окружении, всегда были условия для проникновения заимствований (примеры Львова и Вильнюса как мультиконфессиональных сообществ; для православного в таких контактных зонах католик не был настолько чужд, как для московских православных); (2) с середины XVI в. на Западе идут процессы конфессионализации, частью которых была индоктринация верных; (3) для противостояния внешним влияниям и для формирования собственной идентичности у православных нет соответствующего инструментария: в частности, нет текстов, которые были бы пригодны в целях индоктринации – отдельных жанров религиозной книжности в православной письменности предшествующей эпохи не существовали совершенно. Данные жанры (например, катехизис) получают распространение в киевской традиции как результат внешнего влияния (как протестантского, так и католического). Усвоенные Киевом, они посредством киевских книжников попадают в Москву. При массовости усвоения чужого корпуса письменности нельзя говорить о том, что она усваивалась книжниками некритично. Книжники, с одной стороны, понимали, что это не «свое» и нуждается в определенной (а иногда – и значительной) адаптации, но сложность состояла в том, что в то время не существовало единого эталона, с помощью которого частное богословское мнение могло быть квалифицировано как каноническое или неканоническое. В то время как западные конфессии на протяжении второй половины XVI – первой половины XVII вв. кодифицировали свое вероучение в виде законченных догматических корпусов (католики – Тридент, 1545–1563; лютеране – «Книга Согласия», 1580 г.; кальвинисты – Дортрехтский синод, 1618 г.), Православные Церкви (греческая, киевская, московская) не располагали даже символическими книгами или соборно утвержденными сводами своего вероучения. Православные книжники соотносили с греческой патристикой/традицией. Но при этом необходимо учитывать тот факт, что корпус циркулировавших текстов был разный (в Киеве читали не совсем то же, что и в Москве; примером могут послужить «прения» Лаврентия Зизания с московскими справщиками); какие-то греческие тексты попадали к православным через «латинские» руки (например, отдельные греческие авторы цитировались по «Сумме Теологии» Фомы Аквинского); в XVII в. православные начинают пользоваться латиноязычными изданиями греческой патристики в «подпорченном» виде (например, с filioque в символе веры). Православных книжников той эпохи характеризовало двойственное отношение к иным традициям: с одной стороны они с ними активно полемизируют полемизируют, осуждают и даже запрещают (кампания с книгами «литовской печати» в Московском государстве), с другой – переводят (даже в Москве), попадают под сильное влияние и многое заимствуют. Иноконфессиональные влияния в книжном материале могли быть троякого рода: во-первых, когда заимствуется структура и логика организации богословского материала (и это самый распространенный прием: из другой традиции берется только каркасс, который заполняется своим содержанием); во-вторых, заимствуются отдельные богословские понятия, которые сначала функционируют параллельно с привычными православными, но постепенно происходит их замена и на терминологическом уровне (этот прием т.ж. достаточно распространенный, хотя и характерный в бóльшей степени для униатов XVII в.: так случилось, в частности, с понятиями «чистилище» и «мытарства»); третья разновидность заимствований – когда православный книжник берет большой фрагмент или даже целиком текст из другой традиции, совершает с ним некоторые манипуляции и прячет внутри своего текста, или создает для него новое обрамление. Именно этот третий случай я и имею главным образом в виду, когда рассуждаю о техниках адаптации или «одомашнивания» иноконфессиональных текстов. Если попытаться схематически представить историю иноконфессиональных влияний на православную книжность Киевской митрополии, то в очень грубом упрощении мы получим следующую картину. Вторая половина XVI в. – это период, когда преимущественно протестантские традиции выступают своего рода внешним интеллектуально-раздражающим фактором. Так, первые катехизисы, созданные представителями братского движения в Речи Посполитой, полемизируют преимущественно с положениями протестантского вероучения. Если взглянуть на Греческую Церковь этого периода, то все попытки во второй половине XVI в. оформить свою богословскую позицию в более или менее целостном виде т.ж. были инспирированы интеллектуальными контактами с представителями евангелических Церквей. Примером может послужить известная дискуссия Константинопольского патриарха Иеремии II Траноса с богословами из Тюбингена, которая велась вокруг Augustany. Книжники Киевской митрополии были хорошо осведомлены об этом дискуссии (митрополит Петр Могила, в частности, цитирует письма Иеремии). Известно о существовании целого ряда протестантствующих греческих богословов, из среды которых вышли, в частности, первые греческие катехизисы, построенные по традиционной для Западных Церквей модели. Несмотря на то, что православные с протестантизмом полемизируют (при этом речь идет не только об антитринитаризме, который подвергался нападкам со всех стороны, но и о других протестантских конфессиях), православные книжники попадают одновременно под влияние протестантизма. Обвинения подобного рода раздавались в первой половины XVII в. из уст католиков и униатов. Отдельные православные книжники признавали справедливость данных упреков: так, Мелетий Смотрицкий уже после перехода в унию в письме к Константинопольскому патриарху в 1627 г. признается, что его «Фринос» (Вильно 1610) имеет привкус лютеранизма. Именно обвинения подобного рода вынудили Киевского митрополита Сильвестра Коссова написать «Exegesis» (Киев, 1635) и доказывать, что в Киево-Могилянской коллегии никто не пропагандирует социнианских идей. Примером такого «тихого» проникновения протестантских заимствований может послужить «Большой Катехизис» Лаврентия Зизания. Лаврентий заимствует как отдельные структурно-организующие элементы, так и вставляет в свое сочинение пространные фрагменты из ряда протестантских памятников. Так, в «Большой катехизис» попали рассуждения о символах веры и толкование отдельных артикулов Credo из катехизиса 1562 г. Симона Будного, который первоначально симпатизировал кальвинизму, а после 1562 г. переходит на позиции антитринитаризма. Пространные выдержки из Будного попали т.ж. в конспект лекций по богословию, который был составлен предположительно в Виленском православном братстве. Лаврентий обращается т.ж. еще к одному популярному кальвинистскому катехизису, который публиковался в составе песенников с середины XVI вплоть до XVIII в. Основной прием работы с иноконфессиональными памятниками этого периода – это дословный перевод больших фрагментов, из которых как из мозаики собирается текст; сложно говорить о какой-то рационально продуманной технике работы. В середине XVII в. меняется ситуация в православной книжности Киевской митрополии: постепенно изживают себя протестантские влияния и не в последнюю очередь благодаря сознательным усилиям православной элиты Могилянского круга. Парадокс состоит в том, что это изживание осуществляется в значительной степени с помощью католической традиции, которая в этот период становится основным источником вдохновения для православных книжников Киевской митрополии (подавляющее большинство из них имели опыт обучения в иезуитских коллегиях, свободное знание латыни и почти нулевое – греческого, свободно ориентировались в схоластической литературе; богословский курс читается в Киево-Могилянской коллегии по Фоме и Суаресу). Именно об этом периоде о. Г. Флоровский и говорит как о начале «псевдоморфозы» Православия. Стоит сделать небольшое отступление и отметить, что католическая традиция сыграла т.ж. особую роль в формировании конфессионального облика униатской письменности. Но техники адаптации иноконфессиональных памятников у православных и униатов были разные. Последние пошли по линии буквального перевода и усвоения в полном объеме католических текстов, не делая попыток какой-либо их адаптации. Сошлюсь на два примера. Катехетическая традиция XVII в. представлена у униатов изложением вероучения, которое приписывается Иосафату Кунцевичу, и уневским изданием 1685 г. Оба текста суть дословное переложение, соответственно, катехизиса испанского иезуита Якуба Ледесмы и компендиума бельгийского моралиста Жана Маршана. Если мы обратимся к рукописным униатским катехизисам уже XVIII в. (их сохранилось, правда, не так и много), то все они являются переводом популярных катехизисов иезуитов рубежа XVI–XVII вв. Возвращаясь к роли католических влияний в развитии православной книжности, отметим, что латинизированная система образования Могилянки повлияла в том числе и на появление целого ряда новых для православной традиции жанров (например, мануале по моральной теологии (или нравственному богословию) и пособие для исповедников). Известно, что на Западе моральная теология формируется во второй половине XVI в. именно как школьная дисциплина для подготовки духовенства к отправлению таинства покаяния. В Могилянской Академии эта дисциплина вводится ближе к концу XVII в., но уже во второй половине столетия в Киевской митрополии создаются памятники, выдержанные в соответствии с каноном данного жанра. Все эти первые попытки суть примеры более или менее удачной адаптации католических текстов. Можно подметить такую закономерность: если православный автор брался за создание катехизиса, то он в подавляющем большинстве случаев использовал для перевода или переделки текст иезуита (не умаляя заслуг других школ католической духовности в посттридентской Церкви, справедливости ради стоит отметить, что именно Общество Иисуса задавало основные тренды в развитии катехетической литературы); если же православный автор компоновал, например, пособие для исповедников, то образцом для подражания выступал для него, как правило, труд доминиканца. Каким образом православные книжники с этими иноконфессиональными памятниками работали? Я считаю, что не было элемента случайности в выборе католического источника: выбирались, как правило, тексты авторитетные, рекомендованные, например, синодами Краковского диоцеза или широко распространенные в коллегиях иезуитов. А благодаря тому, что эти тексты были включены в Curriculum иезуитов, они были известны и тем представителям киевского духовенства, которые прошли через систему коллегий Общества. В большинстве известных мне случаев православный автор переводил с латыни. Хотя – и это важно отметить – на выбор конкретного католического источника могло повлиять и то обстоятельство, что уже существовал его перевод или переработка на польском языке. При переводе с латыни использовался целый ряд техник и приемов, которые помогали из этого «чужого» текста сделать «свой» и вписать его в православную традицию. Показательным в этом отношении примером будет, во-первых, сочинение архимандрита Киево-Печерской Лавры Иннокентия Гизеля «Мир с Богом» (Киев, 1669), и, во-вторых, «Венец веры» Симеона Полоцкого, составленный в 1670 г., то есть уже после переезда книжника в Москву. Гизель взял за основу 3 сочинения краковского доминиканца начала XVII в. Миколая Мосчиского; Симеон – компендиум «Hortus pastorum» своего старшего современника, бельгийского моралиста Жана Маршана. В обоих случаях католический источник был переведен почти в полном объеме; у Симеона материал был лишь немного перекомпонован. Оба автора солидно разбавили использованные ими тексты библейскими цитатами. При этом Симеон, например, в отдельных случаях приводит выдержки из Священного Писания по латинской Вульгате (есть основания предполагать, что латинский и польский текст Писания знал лучше церковнославянского); а иногда сравнивает версию Вульгаты с церковнославянской, если они имели какие-то принципиальные расхождения. Оба православных книжника сохраняют в процессе перевода цитаты из сочинений современных им католических схоластов и представителей более ранней католической традиции, не упоминая при этом их имен. Так Симеон, в частности, во всех подобных случаях вставляет безличные обороты: «неции глаголят», «мнози непщуют», «глаголет един от оучителей» и т.п. Могла сохраниться ссылка на автора (если это был Августин, Иероним и т.п.), но могла быть изменена цитата (на более подходящую для православного уха). В отдельных случаях цитата из сочинения западного богослова заменяется на совершенно аналогичную в содержательном отношении, но принадлежащую греческому отцу. Любопытно, что и целый ряд выдержек из восточных отцов был позаимствован православными книжниками из того католического источника, с которым они работали. Цитирование святоотеческого наследия по вторичным (западным!) источникам было распространенным явлением в Киевской книжности. В процессе переложения и Иннокентий Гизель, и Симеон Полоцкий немного «почистили» текст терминологически, сделав ряд лексических замен (например, вместо «чистилища» используется «мытарства»; молитва к Деве Марии rosarium заменена на Акафист и Параксис); были изъяты положения о filioque (хотя у Симеона оно в одном месте по недосмотру сохранилось, что и было подмечено Евфимием Чудовским). Оба книжника в какой-то степени пересматривают иллюстративный материал выбранных ими источников и делают ряд замен. Например, вместо канонических запретов из буллы «Coena Domini» приводятся каноны из «Правил» Василия Великого и Кормчей. Вместо примеров из «Житий» польского иезуита Петра Скарги вставлены фрагменты из Киевского Патерика. Расширяется иллюстративный материал, авторы «избавляются» от Exempla, а на их место вставляют фрагменты апокрифических памятников (использование апокрифов не есть что-то уникальное для православной письменности) и даже астрологические сюжеты. То есть помещают чужой текст в привычное для православного иллюстративное обрамление. Как мне кажется, есть все основания считать, что православные книжники в рассмотренных мною случаях совершенно сознательно использовали целый арсенал методов, чтобы скрыть источники своих заимствований, а при этом адаптировать выбранный ими текст к православной традиции. Хотя, как свидетельствует критический разбор «Венца веры» Евфимием Чудовским, московские поборники греческой учености могли не только маркировать отдельные идеи как католические или протестантские заимствования, но иногда и безошибочно угадать источник этих заимствований. То есть какие-то достижения латинской учености и им были не чужды. Но несмотря на прозвучавшую критику упомянутые мной памятники весьма органично вписались в православную традицию. Открытый вопрос: является ли подобная зависимость от «внешних» традиций свидетельством слабости Православия? Скорее нет: свободное использование «внешних» для православия источников отнюдь не означает, что сама православная традиция той эпохи была лишена внутреннего потенциала, обречена на слепое подражание чужим образцам. Может быть наоборот, это есть свидетельство определенной открытости, того, что киевское (в бóльшей мере) и московское (в меньшей степени) православие XVII века находилось в стадии поиска своего конфессионального облика. И этот облик сформировался в результате творческого диалога с иными конфессиональными традициями.