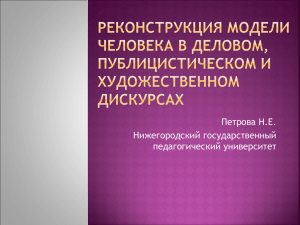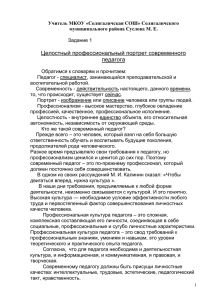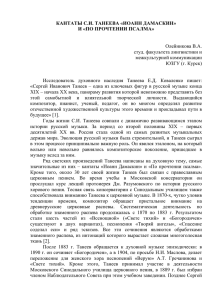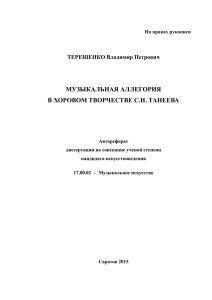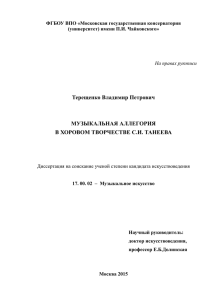Глава 2: Жив ли язык Палестрины?
реклама
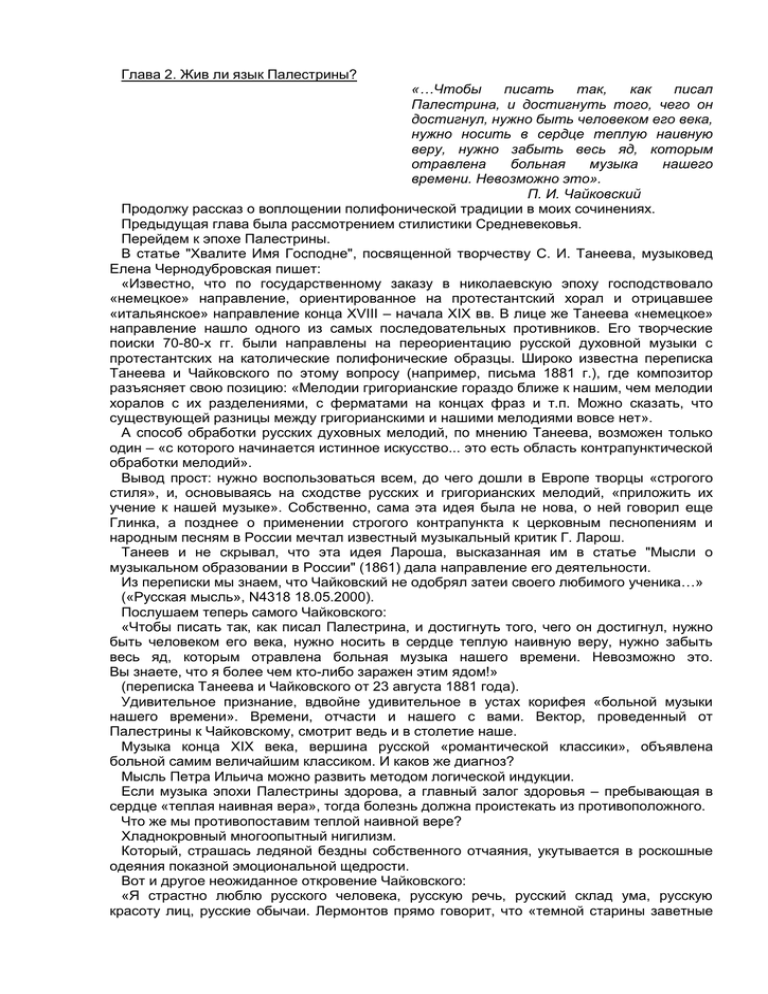
Глава 2. Жив ли язык Палестрины? «…Чтобы писать так, как писал Палестрина, и достигнуть того, чего он достигнул, нужно быть человеком его века, нужно носить в сердце теплую наивную веру, нужно забыть весь яд, которым отравлена больная музыка нашего времени. Невозможно это». П. И. Чайковский Продолжу рассказ о воплощении полифонической традиции в моих сочинениях. Предыдущая глава была рассмотрением стилистики Средневековья. Перейдем к эпохе Палестрины. В статье "Хвалите Имя Господне", посвященной творчеству С. И. Танеева, музыковед Елена Чернодубровская пишет: «Известно, что по государственному заказу в николаевскую эпоху господствовало «немецкое» направление, ориентированное на протестантский хорал и отрицавшее «итальянское» направление конца XVIII – начала XIX вв. В лице же Танеева «немецкое» направление нашло одного из самых последовательных противников. Его творческие поиски 70-80-х гг. были направлены на переориентацию русской духовной музыки с протестантских на католические полифонические образцы. Широко известна переписка Танеева и Чайковского по этому вопросу (например, письма 1881 г.), где композитор разъясняет свою позицию: «Мелодии григорианские гораздо ближе к нашим, чем мелодии хоралов с их разделениями, с ферматами на концах фраз и т.п. Можно сказать, что существующей разницы между григорианскими и нашими мелодиями вовсе нет». А способ обработки русских духовных мелодий, по мнению Танеева, возможен только один – «с которого начинается истинное искусство... это есть область контрапунктической обработки мелодий». Вывод прост: нужно воспользоваться всем, до чего дошли в Европе творцы «строгого стиля», и, основываясь на сходстве русских и григорианских мелодий, «приложить их учение к нашей музыке». Собственно, сама эта идея была не нова, о ней говорил еще Глинка, а позднее о применении строгого контрапункта к церковным песнопениям и народным песням в России мечтал известный музыкальный критик Г. Ларош. Танеев и не скрывал, что эта идея Лароша, высказанная им в статье "Мысли о музыкальном образовании в России" (1861) дала направление его деятельности. Из переписки мы знаем, что Чайковский не одобрял затеи своего любимого ученика…» («Русская мысль», N4318 18.05.2000). Послушаем теперь самого Чайковского: «Чтобы писать так, как писал Палестрина, и достигнуть того, чего он достигнул, нужно быть человеком его века, нужно носить в сердце теплую наивную веру, нужно забыть весь яд, которым отравлена больная музыка нашего времени. Невозможно это. Вы знаете, что я более чем кто-либо заражен этим ядом!» (переписка Танеева и Чайковского от 23 августа 1881 года). Удивительное признание, вдвойне удивительное в устах корифея «больной музыки нашего времени». Времени, отчасти и нашего с вами. Вектор, проведенный от Палестрины к Чайковскому, смотрит ведь и в столетие наше. Музыка конца XIX века, вершина русской «романтической классики», объявлена больной самим величайшим классиком. И каков же диагноз? Мысль Петра Ильича можно развить методом логической индукции. Если музыка эпохи Палестрины здорова, а главный залог здоровья – пребывающая в сердце «теплая наивная вера», тогда болезнь должна проистекать из противоположного. Что же мы противопоставим теплой наивной вере? Хладнокровный многоопытный нигилизм. Который, страшась ледяной бездны собственного отчаяния, укутывается в роскошные одеяния показной эмоциональной щедрости. Вот и другое неожиданное откровение Чайковского: «Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи. Лермонтов прямо говорит, что «темной старины заветные преданья» не шевелят души его. А я даже и это люблю. Я думаю, что мои симпатии к православию, теоретическая сторона которого давно во мне подвергнута убийственной для него критике, находятся в прямой зависимости от врожденной в меня влюбленности в русский элемент вообще…» (Переписка Чайковский – Мекк, Флоренция, 9/21 февраля 1878). Признание откровенное, спокойное – и страшное. И это в ту пору, когда трудился Петр Ильич над Литургией (1878) и Всенощной (1881)! Веры лишились, а чувства религиозные пытаемся изображать впечатляюще. Вот он, диагноз болезни, поразившей искусство мятежных столетий. Не этим ли объясняется столь навязчивое пристрастие к гармоническим, ритмическим и темброво-колористическим изыскам в духовной музыке веков XIX, XX, XXI? Это как попытка пресытившегося гурмана освежить вкусовое восприятие. Или как изобретение понятия «секс» поколениями, утратившими благодатное осенение брачного ложа. Теряя способность переживаний глубинных, мы бежим в интенсивность ощущений поверхностных. Не сберегая теплоту сердца – заполняем вакуум игрой и ласками. Музыка нашего времени отравлена. И на флакончике с ядом написано: «рефлексия». «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» Рефлектирующий художник одним глазком тайно поглядывает в зеркало самооценки. Как выглядит изображенное мною, и каков я как творец. Изобразить, выразить, отразить, поразить, сразить… Воздействовать на слушателя-зрителя, привлечь внимание к своему драгоценному «я», его страстным конвульсиям, патетическим позам, экстравагантным ужимкам. Вот что утратило искусство на рубеже эпох – Божественную непосредственность, чистоту передачи надличностных смыслов без искажения призмой «эго». Здоровое духовное искусство подобно совершенной линзе, концентрирующей лучи умопостигаемого Солнца. А мастер – всего лишь скромный стеклодув. В центре внимания искусства больного – болящая личность. Композитора, исполнителя, художника, поэта, актера. И такие термины, как «гений» и «талант» – это тоже порождение эго-центрированной клинической эпохи. При Палестрине их не ведали за ненадобностью. Здоровая эпоха знала понятия «мастер», «ученик», «школа». Что такое школа полифоническая? Как комбинировать и переставлять голоса, высчитывать интервалы, как сделать фактуру вашего сочинения соответствующей строгим нормам – вам скрупулезно расскажет любой учебник. А вот как вдохнуть в нее жизнь? Как сообщить голосоведению плавность, упругость, текучесть? Какие мотивы хорошо ведут себя в имитациях с той или иной плотностью, какие рисунки сохраняют узнаваемость при различных трансформациях? Как разрешения диссонансов делают мелодию скользящей легко и непринужденно? Каков духовно-символический подтекст контрапункта, что делает эту музыку глубокой, объемной, светоносной, устремленной ввысь, подобно средневековым соборам? Как координируются пики асинхронных волн и центры разномасштабных фигур вращения? Как достигается таинственный эффект обратной перспективы, роднящий сакральную полифонию с иконописью? Это в консерваториях не проходят. Нужно стоять рядом с мастером и смотреть через его плечо. Так учились поколения от Перотина до Баха – по принципу «делай как я». И начинать лучше с самого Баха, идя его же путем: сперва – упражнения в свободном стиле баховской эпохи, и очень-очень не скоро – строгий стиль Палестрины, не говоря уже о нидерландцах. А нашим студентам сервируют стол в порядке обратном, да еще и с огромными упрощениями и пробелами историческими. Отсюда – результаты… «…Чтобы писать так, как писал Палестрина, и достигнуть того, чего он достигнул, нужно быть человеком его века, нужно носить в сердце теплую наивную веру, нужно забыть весь яд, которым отравлена больная музыка нашего времени. Невозможно это». Как же невозможно, Петр Ильич? Очень даже возможно. И не надо для этого быть ни человеком XVI века, ни «гением». Ключик здесь принципиально иной. Теплая вера наивной выглядит лишь в глазах прожженных нигилистов. И не ушла она с эпохами минувшими, живет в сердцах современников, только тайно до поры. А когда пробуждается – ищет быть высказанной языком мудрым и безхитростным. В музыке это язык строгой полифонии, язык Палестрины. Или, вернее, – стоящей за ним традиции. Чтобы писать, как Палестрина, нужно, как и он, сделаться учеником школы. Сдержать свою буйную фантазию и вникнуть в преемственность, восходящую к истокам франко-фламандской и английской контрапунктической звукописи. Испить из прозрачных ручейков Дюфаи и Данстейбла. Окунуться в щедрые разливы Окегема, Обрехта и Агриколы. Замереть от касания мимолетных созвучий Бюнуа, Финка и Адама фон Фульды. Воспарить к слоистым облакам Пьера де Ла Рю и Антуана Брюмеля. Выйти в океанский простор англичан Брауна, Шеппарда, Таллиса, Астона. Ослепнуть в головокружительном сиянии хрустальных сфер «Qui habitat» Жоскена. И осознать: смерти нет, «несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание – но жизнь безконечная», внимая светоносному Реквиему его верного ученика Ришафора. Учеником можно быть и самостоятельно, и заочно, как убедительно показал Бах, возродивший в своем зрелом и позднем творчестве архитектуру «стариков» (Лейпцигские хоралы, Месса h-moll, «Искусство фуги»). И это на закате эпохи Барокко, посреди суеты всеобщего увлечения новомодными «вкусностями». Что же мешает поступать так композитору современному? Думается, не столько недостаток веры, сколько давление авторитетных предубеждений. Вот они: 1. Язык старых мастеров исчерпан, ими все сказано, попытка сочинять в строгом стиле даст лишь бессмысленное повторение. 2. Образная сфера и эмоциональный строй ушедших эпох нам чужды. 3. Религиозные чувства современного человека требуют непременно современных же способов выражения. 4. Полифоническая математика – абстрактное умствование, излишнее для музыки. 5. Красота и сила шедевров старинной полифонии – плод особой гениальности их авторов. Первые четыре пункта – продукт поверхностного знания истории религии и искусств. А заблуждение пятое – естественное следствие четвертого. Теперь приведу примеры из моих сочинений, показывающие, что русская напевность и строгий стиль могут быть влиты друг в друга, как конь и всадник. В Херувимской № 4 Старосимоновский напев дается как cantus firmus: В первых проведениях – в основном виде, а в третьем (такты 21 – 32) – в увеличенном, разделенном паузами и колорированном. Увеличенному проведению, как и полагается, предшествуют имитации в трех сопровождающих голосах, которые своими контурами обыгрывают заглавный мотив. Имитации образуют легко читаемый рисунок асинхронного наложения крупных волн и малых всплесков в прямом и зеркальном виде. И далее ткань плетется по тому же принципу. Комплементарная передача кинетического импульса из голоса в голос ориентирует внимание по фактурной диагонали, что усиливает ощущение пространственной глубины. Панорама расширяется контрастом замедленного cantus firmus и безостановочного течения свободных голосов. Тактовые черты сглаживаются продлением движения со слабых долей на опорные. Пластичность фактуры достигается и сквозной перевязанностью разрешениями приготовленных задержаний. В мотивах прорисованы фигуры вращения. Диспозиция их центров образует «структуру второго плана» – объемный архитектурный каркас. «Изюминка» найденного здесь стилистического подхода – сочетание кристаллической ясности строгой структуры и мягкой напевности славянских мелодических оборотов. Полифония открывается слушателю, как искренняя, сердечная речь, передающая аскетично-собранное, трезвенное благоговение перед Таинством. Херувимская может служить также примером неразрушительного обращения контрапунктической мысли с напевом исходно данным (cantus prius factus). Сопровождающие голоса бережно несут cantus «на руках», не затеняя, а подсвечивая его контуры. Полагаю, что свобода, чуткость и пластика окружения напева – преимущества полифонического стиля обработки перед гомофонно-гармоническим. Мне очень хотелось бы, чтобы прецедент этот вдохновил молодых композиторов. Тогда русский обиход церковного пения обретет новую глубину и свежесть. Теперь рассмотрим фрагмент из «Милость мира» № 6: Здесь мы видим свойства Барокко: четкий модуляционный план (d – g – c – g – d) и остро диссонирующие неполные уменьшенные септаккорды на фоне органного пункта (первые доли тактов 23, 25, 27). Их задача – передать состояние трепета души перед внезапно распахнутой космической бездной, пронизанной величием Божественного присутствия. А голосоведение выдержано в стиле строгом. Набегающие друг на друга волны, цепочки задержаний-разрешений, переливы проходящих созвучий… Слушатель оказывается внутри радужной сферы, концентрирующей сознание в предельной чистоте и ясности (эффект прозрачного купола, небесного свода). Имитации выстроены так, что не заслоняют текст, а наоборот, подсвечивают произношение слоистым эхо. Характерны перекрещивания голосов при плотном имитировании ниспадающих участков волнового рисунка (такты 31, 37, 38). В тактах 37 – 38 тенор поднимается даже выше сопрано. Этот прием сообщает фактуре дополнительную упругость пульса и глубину дыхания. Соединение барочной компактности и ренессансной пластической архитектуры было характерным для почерка позднего Баха и явилось результатом глубокого штудирования нидерландцев и Палестрины. Но ученики и сыновья его пошли иным путем, соблазнившись блестящими игрушками моды галантного классицизма. Думается, Иоганн Себастьянович немало бы утешился, глядя на скромные, но искренние попытки современных учеников продолжить им начатое. Приглашаю желающих изучать эту технику… И еще один пример – из «Милость мира» № 8: Здесь мы можем пронаблюдать образование эффекта обратной пространственной перспективы, какой применяли традиционные иконописцы. Что дает перспектива обратная? Увеличение предметов с их удалением. Тема фугато, представляющая собою символ излучения света глубинным источником, запевается басами и затем имитируется с расширением масштаба. Первая имитация (такт 13) – альты в неизменном виде. Вторая (такт 14) – тенора в двукратном увеличении. Третья (такт 16) – басы в четырехкратном увеличении и зеркальном отражении. Имитации перекрывают друг друга, создавая ясно читаемый канон. Он совмещается с вложенной канонической структурой – проведениями темы сопрано (такт 15), альтами (такт 17) и зеркально – сопрано (такт 19). Подобные многоуровневые комбинации употреблялись мастерами Нидерландской школы для формирования геометрии сакрального акустического пространства, замедления восприятия времени, погружения слушателя в пакибытие вечности. Иоганн Себастьян Бах воскресил этот подход в последнем труде – «Искусстве фуги». Награвированные листы которого были проданы на металлолом и уцелели чудом. Но это уже другая история… И несколько слов о колорите гармоническом. Однажды по Интернету певчие прислали мне такой отзыв: «Владимир Михайлович, благодарим вас за музыку, содержащую современные гармонии». И очень удивились, когда в ответ я разъяснил, что нет на моей композиторской кухне ничего современного – ни приправ, ни концентратов, ни соусов! Они просто расслышали то, что в музыке старинной мы обычно пропускаем мимо ушей. Полифонисты эпох Ренессанса и Барокко знали эмоциональные краски, изобретение которых приписывается гениям XIX-XX столетий. Многотерцовые и нетерцовые созвучия, необычные сопоставления ступеней, хроматические ходы и смещения… Все это давалось, но – в «гомеопатических дозах». В светских мадригалах позволяли себе и круто «приколоться» (см. примеры из Джезуальдо и Орландо Лассо в моем «Экскурсе»). В мессах же и духовных мотетах мастера неукоснительно держались благородной чистоты и созерцательной трезвенности. Романтики и модернисты ничего не открыли, они в виде «пакетов» стали употреблять то, что в старину вводилось мимолетным касанием. Гармонию XIX-XX вв. можно представить себе как «консервированный продукт»: вкусные аккорды – застывшие вертикальные срезы живой полифонической ткани. Аналогия не совсем точная, но все же… Слух современного человека, привыкший к концентратам, не успевает распробовать вкус гармонии полифонической – там ведь иные наложения живут доли секунды! А простота созвучий опорных и их соотношений у невнимательного слушателя рождает иллюзию скучной монотонности. Но кому все же достанет терпеливого внимания и чуткости – того ждет сюрприз. Казавшийся сухим язык строгого стиля расцветет поэзией. И оживет в сердце «теплая наивная вера». И исцелится «больная музыка нашего времени». Возможно это. Возможно. Уважаемый читатель! Скачать ноты и прослушать музыкальные иллюстрации моих сочинений Вы можете, посетив авторский сайт fainer.com.ua Очень рад буду отзывам, замечаниям и пожеланиям.