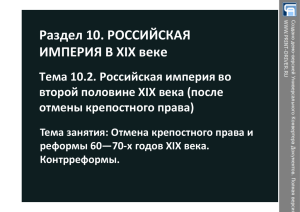И.А. Христофоров Крымская война и Великие реформы
реклама
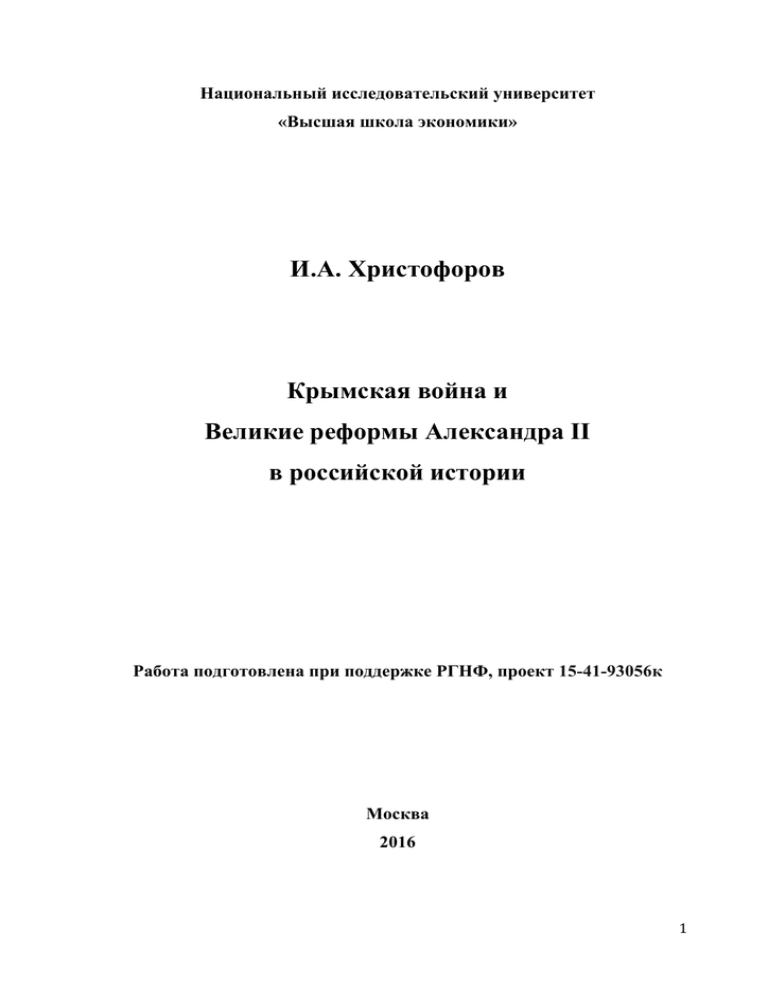
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» И.А. Христофоров Крымская война и Великие реформы Александра II в российской истории Работа подготовлена при поддержке РГНФ, проект 15-41-93056к Москва 2016 1 Оглавление Великие реформы в панораме российской истории Немного теории: как современная наука объясняет реформы? «Мрачное семилетие» Крымская война: истоки, контекст, результаты Откуда взялись и как пришли к власти реформаторы? Реформы и контрреформы: периодизация и терминология Лаборатории реформаторской мысли Чего хотел Александр II? Были ли реформы вынужденными? На пороге Отмена крепостного права и ее последствия Земская реформа и становление местного самоуправления Новый суд Альтернативные концепции преобразований В поисках политической свободы: конституционалисты эпохи реформ Империя Перелом Вторая война Кризис Была ли «развилка»? Уроки 2 Великие реформы в панораме российской истории В российской исторической памяти и в науке Великие реформы 1860-1870-х годов оцениваются позитивно. Можно даже утверждать, что в длинной череде реформ XVIII-XX веков они выделяются как наиболее бесспорные и успешные. Причины такой высокой оценки вроде бы очевидны: Великие реформы воспринимались и их современниками и потомками как давно назревшие и абсолютно неизбежные. Это означало, что они не были «проектом» одного человека или группы людей, которые, как это часто бывало в нашей истории, пытались «создать другую страну». Уже поэтому, в отличие от многих преобразований, они сопровождались не усилением давления государства на общество, а наоборот, ощутимой либерализацией и гуманизацией жизни в стране. Реформы не вызвали ни резкого обострения социальной напряженности, ни общего падения благосостояния, ни системного политического кризиса. Трудно также сомневаться, что их авторы, в том числе император Александр II, были людьми просвещенными и искренне желавшими блага своему Отечеству. Однако есть и иная традиция восприятия Великих реформ. Оценивая события середины XIX века сквозь призму катастроф века XXго, неизбежно возникает вопрос об исторических истоках революций, о том, действительно ли, как писал вождь большевиков В.И. Ленин, «1861 год породил 1905-й» (а затем, добавим, и 1917-й)? Дело не в том, чтобы искать в эпохе реформ предпосылки революции, тем самым навязывая историческому процессу линейность и жесткий детерминизм, чем грешили многие поколения историков. Скорее понять истоки той грандиозной трансформации, которая началась в России задолго до 1861 года и не закончилась в 1917-м. Реформы Александра II были хотя, 3 несомненно, и важным, но лишь одним из этапов этой трансформации и оценивать их необходимо в неразрывной связи с предыдущими и последующими событиями. Необходимо понять, как Российская империя «вошла» в стадию преобразований и чем эти преобразования закончились, разобраться в том. Чего хотели добиться реформаторы, что им удалось, а что нет, выяснить, почему реформы завершились откатом назад и – в конце концов – ответить на вопрос: «А могло ли быть иначе»? Реформы 1860-1870-х годов отделили прежнюю, крепостническую Россию от "новой". С другой стороны, - они привели не к радикальному разрыву, а к осторожной и ограниченной модернизации страны при сохранении многих прежних особенностей ее развития: авторитарной власти, слабости публичных институтов, жесткого контроля государства за экономикой, патримониального строя в деревне, культурного и экономического разрыва между элитой и массами. Итак, были ли реформы успешными или в долгосрочной перспективе провалились? Существовали ли в середине XIX века иные варианты развития и если да, то по каким причинам они не реализовались? Эти вопросы являются основополагающими для историков, занимающихся Российской империей. Но не менее важны и интересны они и для общественного сознания, которое после распада СССР так озабочено проблемами "цены" реформ, преемственности и "разрыва" с прошлым. Не менее актуален он и для науки, и для общества вопрос о том, что именно «запускает» реформы: войны, массовые настроения и ожидания, позиция элит, экономические трудности или все это вместе взятое? Немного теории: как современная наука объясняет реформы? Одной из наиболее известных концепций, объясняющих реформы в XVIII-XIX веках не только в Европе, но и, скажем, в Японии или Османской империи, является теория модернизации. Основные ее 4 положения были сформулированы еще конце XIX и начале XX в. классиками социологии Фердинандом Теннисом, Георгом Зиммелем, Эмилем Дюркгеймом и особенно Максом Вебером. Эта теория описывает переход от традиционного аграрного к «современному» индустриальному типу общества и те изменения в экономике, культуре, социальной стратификации, политическом устройстве, которые стали симптомами этого перехода. Фактически она построена на нескольких базовых противопоставлениях: деревня противопоставляется городу, сельское хозяйство - промышленности, неподвижность - мобильности, традиционная власть – рациональной, система личных связей – формальным сетям и правилам, религиозное восприятие мира светскому, и т.д. Уязвимым местом теории модернизации всегда был вопрос о ее движущих силах. Абстрактное понятие «прогресс», как многократно отмечали критики, имеет не научный, а сугубо идеологический характер и к тому же просто тавтологично по отношению к понятию «модернизация», то есть на самом деле не объясняет этот процесс, а просто по другому его называет. Для марксистов двигателем модернизации является экономика, развитие капиталистического способа производства. Однако сводить сложные общественные и культурные процессы к экономике (такой подход часто именуется «экономическим детерминизмом») многим ученым кажется упрощением. Немецкий социолог Макс Вебер (1864-1920) считал ключевыми аспектами модернизации как раз ментальные и культурные сдвиги, которые он описывал как «расколдовывание» мира, его рационализацию. Он также много писал о становлении новой, рациональной бюрократии, которая была продуктом и одновременно одной из главных действующих сил 5 перемен (в политологии такие силы называют акторами)1. В отличие от марксистов, Вебер рассматривал процесс становления современного общества в переплетении и взаимовлиянии его социокультурных (в том числе религиозных), политических и экономических сторон. С этой точки зрения очень важна позиция не только бюрократии, но и вообще элит, которые, собственно, и проводят модернизацию посредством реформ. Однако после Второй мировой войны, в период осмысления трагического опыта тоталитаризма и одновременно бурного развития экономической науки, в объяснении модернизации произошел новый поворот в сторону экономики. Он ознаменовался появлением влиятельных (хотя и остро критикуемых до сих пор) работ американских экономистов, выходцев из Российской империи Уолта Ростоу, Александра Гершенкрона и Саймона Кузнеца. Авторы этих работ считали ядром, сутью модернизации индустриализацию, то есть переход к современной рыночной экономике, главной отраслью которой является промышленность (так же как главной отраслью экономики традиционной является сельское хозяйство). Индустриализация – это не только распространение машин (например, паровых двигателей), но и кардинальные перемены в организации рынков труда и капитала, урбанизация, современная финансовая система и многое другое. Ростоу в своих «Стадиях экономического роста» (книге с характерным подзаголовком “A non-communist manifesto”) сформулировал универсальную, как ему казалось, схему экономического перехода к современному обществу массового потребления. Ключевое понятие, предложенное Ростоу – «взлет» (take off), т.е. резкое ускорение экономического развития, которое якобы наступает в ходе индустриальной революции при наличии соответствующих предпосылок 1 См., например, современную интерпретацию веберовской модели: Max Weber, democracy and modernization / edited by Ralph Schroeder. N.Y., 1998. 6 (в Англии, согласно Ростоу, «взлет» наступил в 1780-90-х гг.). Пафос этой схемы заключался в ее прикладном характере: Ростоу предлагал создавать в развивающихся странах необходимые для «взлета» условия, тем самым лишая почвы «коммунистическую экспансию»2. Неудивительно, что академическая репутация концепции Ростоу оказалось сильно подмоченной из-за ее явной идеологической ангажированности. К тому же благодаря усилиям многочисленных экономических историков, сейчас уже ясно, что ни в Британии, ни в других странах не было в XVIII-XIX вв. никакого революционного экономического «взлета», а индустриальная экономика появлялась и росла благодаря медленным структурным переменам. В современной науке само понятие «промышленная революция» поэтому считается не совсем правильным. По иному смотрел на индустриализацию крупнейший экономический историк XX века Александр Гершенкрон, который разработал 1960-х гг. достаточно стройную концепцию, объяснявшую не столько «прорыв» лидера модернизационного процесса (Британии), сколько успехи и неудачи «догонявших» лидера стран, в том числе России3. Гершенкрон ввел в оборот понятие «относительной отсталости» (relative backwardness), которое, в частности, позволило ему «встроить» российский исторический процесс в общемировой. Дело в том, что на Западе в 1940-1950-х гг. были широко распространены представления о какой-то принципиальной «инаковости» России по отношению к демократическому миру, которая объяснялась господством у нас в стране (как и в Германии) особой, склонной к тоталитаризму и рабству 2 См.: Pearce K.Ch. Rostow, Kennedy, and the rhetoric of foreign aid. East Lansing, 2001. 3 Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. New York, 1965; idem. Agrarian Policies and Industrialization: Russia, 18611917 // Cambridge Economic History of Europe. Cambridge, 1966. Vol. 6. Part 2. 7 «политической культуры». Гершенкрона такая «сегрегация» не устраивала. В «догоняющих» странах, в том числе в России, писал он, просто отсутствовали или недостаточно сформировались объективные предпосылки для модернизационного рывка и в дело вступали их «заменители». Так, в Германии, где промышленная революция (Гершенкрон писал в то время, когда правомерность самого этого термина еще не была поставлена под сомнение) проходила с 1840-50-х гг., решающую роль в развитии новых отраслей промышленности сыграли не отдельные предприниматели со своим независимым капиталом, как в Британии, а особый тип инвестиционных, как бы сейчас сказали, банков. У России же по неразвитости банковского капитала не было и такой возможности, а потому инициативу подталкивания индустриализации взяло на себя государство. Делалось это, считал Гершенкрон, и с помощью прямых субсидий промышленности, и посредством размещения казенных заказов (особенно связанных с железнодорожным строительством), и поощрением иностранных инвестиций и технических заимствований, а также через механизмы налогового «перекачивания» денег из сельского хозяйства в индустриальный сектор. Ценой такого развития стали застой, а потом и кризис в деревне. Он еще более усилился благодаря отрицательной роли крестьянской общины. Община стесняла инициативу крестьян, периодические переделы земли крайне затрудняли агротехнический прогресс, а круговая порука вела к росту паразитизма «безбилетников» (крестьян, полагавшихся на то, что их часть фискального бремени возьмут на себя другие). Итогом стало падение потребления крестьян и рост недоимок. Таким образом, сельское хозяйство, с одной стороны, питало индустриализацию, а с другой – сдерживало ее. В частности, недостаток 8 рабочих рук, по Гершенкрону, требовал для ускорения промышленного производства больших капиталов, чем в той же Британии, где на рубеже XVII-XVIII веков благодаря огораживаниям общинных полей крестьяне массово лишались земли и стоимость рабочей силы упала. Лишь после начала столыпинской реформы в 1906 году положение в сельском хозяйстве начало меняться, однако времени для развертывания позитивных тенденций стране просто не хватило. В промышленности же решающий рывок пришелся на конец 1880-х и 1990-е гг. Таким образом, Гершенкрон подчеркивал резкий дисбаланс в развитии пореформенной российской экономики и фактически возводил его к порокам государственной политики. С другой стороны, выходило, что правительство действовало в жестких рамках объективных ограничений (необходимости быстрого роста в условиях недостатка внутренних ресурсов) и фактически было лишено свободы маневра. Еще раз подчеркну: экономической Гершенкрона истории и 1960-х Ростоу гг. объединяло представление общее о для взрывном, революционном характере индустриализации, которое сейчас считается в мировой науке устаревшим. Хотя большинство отдельных положений гершенкроновской концепции были в дальнейшем опровергнуты или по крайней мере поставлены под сомнение (в частности, в работах Ольги Крисп, Аркадиуса Кэхена, Пола Грегори, Питера Гэтрелла и других историковэкономистов4), сама его парадигма оказалась и живучей, и влиятельной. Причина этого, на мой взгляд, заключается в том, что Гершенкрон опирался на очень давние и устойчивые, так сказать, «архетипические» представления о российской действительности. Инициативная роль 4 См. подробно: Поткина И.В. Индустриальное развитие дореволюционной России. Концепции, проблемы, дискуссии в американской и английской историографии. М., 1994. 9 государства, «выкачивание» денег из аграрного сектора (отношение к деревне как к своего рода «внутренней колонии»), община как главный враг прогресса и т.п. – все эти идеи активно муссировались общественной мыслью разных направлений уже в XIX веке. Соответствуют они, как ни странно, и современным массовым представлениям об «особом пути» России, в околонаучной, а порой и в научной литературе5. Подчеркну, что дело не в том, что что они неверны: просто каждое из них нуждается в проверке объективными данными и далеко не все они такую проверку выдерживают. Вместе с тем, в подходе Гершенкрона заключалось очень важное рациональное зерно, а именно признание решающей роли социальнополитических институтов в экономическом развитии России. Его подход в этом смысле во многом перекликается с так называемой неоинституциональной теорией экономического развития, которая сейчас очень популярна в мировой науке. В соответствии с ней, важнейшее значение в экономическом развитии играют правовые институты и поддержание государством благоприятных условий, которые облегчали бы функционирование рынка и снижали «транзакционные издержки», то есть расходы, которые несут участники рыночного обмена6. В «мостик» институциональном от сферы подходе политики к нетрудно увидеть фундаментальным обратный проблемам экономического развития. В отличие от ортодоксального марксизма, 5 См. очень авторитетные труды одного из основоположников современного “крестьяноведения” Теодора Шанина: Shanin T. The Awkward Class: Political Sociology of Peasantry in a Developing Society: Russia, 1910-1925. Oxford, 1972; idem. Russia as a "Developing Society". Houndmills; Basingstoke, 1985; idem. Russia, 1905-1907: Revolution as a Moment of Truth. New Haven, 1986. Критику концепции Шанина см.: Confino M. Agrarian crisis, urbanization and the Russian peasants at the end of the Old Regime, 1880s-1920s // Confino M. Russia before the “Radiant future”… P. 164-167. 6 North D.C. Structure and Change in Economic History, New York, 1981. 10 согласно этому взгляду, любые реформы не столько были следствием развития экономики и производственных отношений («базиса»), сколько создавали предпосылки, институциональную «рамку» для экономического роста. Понятно, что реформы никогда не конструировали институтов «с чистого листа». Даже в случае радикальных преобразований, демонстративно порывавших с прошлым, «новое» всегда зависело от существующего институционального ландшафта. Эту зависимость описывает концепция «эффекта колеи» или «зависимости от пройденного пути» (path dependence) 7 . И здесь, в отличие от марксистского представления о «классовой природе» государства, и соответственно, априорной ограниченности проводимых им реформ, ключевое роль играют различные институты, которые и создают «колею», направляющую развитие в определенное русло. Разумеется, эта зависимость не имеет абсолютного характера: по формулировке известного политолога Питера Холла, «сказать, что принимаемые политические решения зависят от пройденного пути – значит всего лишь признать, что они определяются прошлым опытом, а не то, что они ничего не могут изменить»8. Российские реформы второй половины XIX века редко рассматриваются с этой перспективы. Речь, повторю, не об их «классовой ограниченности», а о том, как именно сложившиеся к началу реформ условия и институты (социальные, правовые, административные, политические, культурные) влияли на их содержание и проведение. Так, если говорить о влиянии реформ на экономику, то с конца 1850-х годов правовые условия и система государственного регулирования рынка в 7 Evolution and path dependence in economic ideas: past and present / Ed. by Pierre Garrouste, Stavros Ioannides. Cheltenham, 2001. 8 Hall P. Foreword // Elites, ideas, and the evolution of public policy. N.Y., 2008. P. xiv. 11 России претерпевала очень существенные изменения. Но возникает вопрос о том, какая модель государственной политики в наибольшей степени отвечала курсу на догоняющее, ускоренное экономическое развитие: более либеральная ставка на свободный рынок и самоорганизацию экономики, провозглашенная в начале эпохи Великих реформ, или же протекционистская политика активного контроля над экономикой, которая ассоциируется с царствованием Александра III? Каковы были сравнительные преимущества и издержки той и другой? Много вопросов возникает и в связи с крестьянской реформой 1861 г. и ее влиянием на социально-экономическое развитие страны. Прав ли был Гершенкрон, говоря о том, что условия отмены крепостного права (прежде всего сохранение крестьянской общины) были ключевым препятствием для экономического роста? Центральным из институтов (точнее, их совокупностью) было, конечно, само российское государство, инициировавшее и проводившее реформы. Что нового способны дать современные социальные науки для понимания роли государственной власти в проведении преобразований? В последние десятилетия в мировой науке наблюдается настоящий взрыв интереса к современному государству, его становлению, устройству и влиянию на социальное и экономическое развитие в прошлом и настоящем9. Современные социальные науки (прежде всего политология и экономическая теория) активно используют для оценки сравнительной эффективности (capacity) государственной власти категории «сильного» 9 См. несколько не связанных друг с другом концептуально, но знаковых и до сих очень влиятельных книг, которые чаще всего цитируются в этой связи: Bringing the state back in / edited by Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer, Theda Skocpol. Cambride, 1985; The Foucault effect: studies in governmentality / edited by Graham Burchill, Colin Gordon and Peter Miller. L., 1991; Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990-1992 гг. М., 2009. 12 или «слабого» государства (strong / weak state)10. Под «силой» в данном случае имеется в виду не военная или полицейская мощь государства, а его способность проникать в ткань социальных отношений и регулировать их, извлекать и максимально эффективно использовать ресурсы. В чем-то понятие «сильное государство» близко к концепции «инфраструктурной власти» известного социолога Майкла Манна. В противоположность «деспотической власти», такая власть, по Манну, основана на проникновении государства в повседневную социальную жизнь людей и в обеспечении новых стандартов контроля и доступа к «общественным благам» (common goods)11. Очень часто употребляется и прочно вошло в политический словарь и понятие «несостоявшееся государство» (failed state). С этой точки зрения, Великие реформы, несомненно, были решающим, переломным этапом становления в Российской империи нового, близкого к современному типа власти и нового типа взаимоотношений государства и общества. Сколь бы «просвещенными» не были идеи Петра I, Екатерины II или Александра I, нельзя не признать, что в XVIII и первой четверти XIX веков в стране просто не существовало объективных условий для глубокой реорганизации государственной власти и проникновения ее в социальную ткань. Сама эта власть, независимо от намерений правительства, во многом строилась на традиционных, архаичных принципах. Каковы были эти принципы, которым предстояло если не исчезнуть, то сильно потесниться в ходе реформ? 1. клановость, то есть сложная система «патрон-клиентских» социальных связей, 10 Migdal J. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, Princeton, 1988. 11 Mann M. The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms, and Results// Archives européenes de sociologie. Vol. 25. 1984. P. 185-213. 13 2. огромная роль придворных группировок («теневой политики») в формировании правительственного курса, 3. коррумпированность всех эшелонов власти (не только в узком смысле взяточничества, но и в более широком смысле восприятия чиновниками государства как своеобразного «домена», нормального источника для извлечения доходов (ренты). Конечно, все эти явления никуда не делись и в любом современном обществе. Однако они все же дали дорогу новым, рациональным основам организации политического пространства: публичности, верховенству права, меритократии. Можно сказать, что чем сильнее в том или ином обществе новые принципы потеснили старые, тем более современным является это общество. В истории Российской империи заметный перелом в сторону «современности» («модерна», как часто говорят сейчас ученые) произошел именно в эпоху Великих реформ. Конечно, этот перелом произошел не в одночасье и увязывать его исключительно с Великими реформами нет оснований. В конце концов, преобразования 1850-70-х гг. проводили люди, сформировавшиеся и прошедшие значительную часть жизненного пути в николаевское царствование (некоторые – еще раньше). Хотя они получили такую возможность реализоваться, какой до того у них не было и быть не могло, сама эпоха преобразований может быть понята только в контексте их длительной подготовки в первой половине века. Как показывают новейшие исследования правительственной политики и социально-экономического развития России 1820-40-х гг., ни конец александровского, ни николаевское царствования не были для страны “безвременьем”, периодом летаргического сна или чем-то подобным. Движение вперед было зигзагообразным, но даже в самые глухие времена происходило (во “реакции” многом, (1815-1825, быть 1848-1855 может, годы) вопреки все же намерениям 14 правительства) подспудное развитие не только новых социальноэкономических реалий, но и права, новых технологий и практик управления и стандартов общественной жизни. С другой стороны, длительное вызревание Великих реформ все же не должно отодвигать в тень то обстоятельство, что «предпосылки» стали реальностью именно в 1860-70-х гг. И в восприятии современников той эпохи страна в это время действительно радикально изменилась. Не замечать рубежа, который пришелся на конец 1850-х гг., подчеркивать исключительно преемственность в развитии России до степени «полной неразличимости» двух эпох «до» и «после», чем, к сожалению, порой грешат современные работы о николаевском царствовании, было бы большой ошибкой. «Мрачное семилетие» Говоря о царствовании Николая I, нужно иметь в виду, что само оно как бы распадается на несколько очень непохожих друг на друга отрезков. Непосредственно Великим реформам предшествовало так называемое «мрачное семилетие» 1848-1855 годов. В это время власть как никогда раньше замкнулась в себе и отказалась от каких-либо серьезных перемен. Через тайную политическую полицию (знаменитое III отделение императорской канцелярии) «верхи» вроде бы получали информацию о слухах и толках в кружках и салонах, о настроениях в самых разных сегментах общества, включая крепостных крестьян. Однако на действия самой власти все это влияло очень слабо. Остались позади времена, когда Николай I, потрясенный восстанием декабристов, был всерьез озабочен разнообразными «усовершенствованиями» существующих порядков (пусть и косметическими). Конечно, правительство по прежнему обсуждало различные меры, например, как бы получше устроить отношения крестьян с помещиками и с казной, или как организовать 15 муниципальное хозяйство, или как поднять образовательный уровень чиновников. Но называть все это реформами или даже попытками реформ я бы не стал: никакой общей программы преобразований не было и быть не могло. Ведь, по хорошо известным словам главы III Отделения А.Х. Бенкендорфа, «прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение». А если так, то зачем что-то серьезно менять? Можно, конечно, считать слова Бенкендорфа чем-то вроде пропагандистской декларации. Однако выразившееся в них отношение к России вовсе не было случайным. Шеф жандармов всего лишь резюмировал министром известную доктрину, просвещения графом выраженную С.С. в 1830-х Уваровым в годах формуле «Самодержавием, Православие, Народность». Именно эти, используя современную фразеологию, «духовные скрепы» стали идеологическим обоснованием не только внутренней политики Николая I, но и, как мы увидим позже, его представлений о месте России в мире. Конечно, Николай I вовсе не был тупым солдафоном. Но убеждение в том, что страна под его мудрым руководством движется в единственно правильном направлении, наперекор разлагающемуся, «загнивающему» Западу, сыграло с ним дурную шутку. Оно в итоге сделало невозможными даже самые скромные перемены к лучшему. Вот один характерный пример. 1846 году под председательством наследника престола, будущего Царя-освободителя Александра Николаевича был создан очередной Секретный комитет по крестьянскому вопросу. Именно так, кулуарно, в узком кругу приближенных сановников Николай I пытался что-то сделать с крепостным правом. Точнее, уже не пытался. Комитет был создан для обсуждения записки министра внутренних дел графа Перовского, в которой говорилось не об отмене 16 крепостничества, нет, а лишь о постепенном приготовлении к началу этого процесса. Но всерьез даже этот робкий документ никто и не собирался обсуждать. Быстро решено было ничего не делать. Удивительна мотивировка этого решения, выработанная под начальством цесаревича, который спустя всего полтора десятка лет своей волей и властью отменит крепостное право: «Доколе Россия по непредвиденным судьбам не утратит своего единства и могущества, дотоле другие державы не могут служить ей примером. Колосс сей требует иного основания и иных понятий о свободе не только крестьян, но и всех состояний. Основанием России было и должно быть самодержавие, без него она не может существовать в настоящем своем величии. Свобода в ней должна состоять… в повиновении всех законам, исходящим от одного высшего источника». Так и выяснилось, что составляет «основу неподражаемости России»: всеобщее повиновение самодержцу, который и есть закон. Именно это повиновение, оказывается, и является свободой. Какие уж тут реформы… А спустя пару лет та же риторика зазвучала уже на весь мир. В феврале 1848 года в Европе поднялась революционная буря. Началась она во Франции, затем перекинулась в западногерманские княжества, потом – в Италию, Пруссию, Венгрию – казалось, границ для революции не существует. Встревоженный Николай I уже в марте откликнулся на эти события торжественным манифестом. «После благословений долголетнего мира, запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержением законных властей…, - говорилось в нем. По заветному примеру Православных Наших предков, призвав в помощь Бога Всемогущего, Мы готовы встретить врагов Наших, где бы они ни предстали… и тогда, в чувствах благоговейной признательности… мы все вместе воскликнем: С нами Бог! разумейте языцы и покоряйтеся: яко с 17 нами Бог!» Демарш был неожиданным и странноватым, ведь ни европейские революционеры, ни их противники, занятые своими делами, и не думали нападать на Россию, а никакие внутренние смуты ей не грозили. Но манифест не имел конкретного адресата и в сущности не был ни дипломатическим, ни вообще политическим документом. Это был торжествующий вопль человека, абсолютно уверенного в собственной правоте и способности противостоять всему миру. По метким словам А. Ф. Тютчевой, «повсюду вокруг него в Европе под веянием новых идей рождался новый мир, но этот мир... представлялся ему лишь преступной и чудовищной ересью, которую он призван был побороть и преследовал её». Что же побуждало Николая I столь ревностно исполнять роль «жандарма Европы»? Политическую доктрину, которой он руководствовался, принято называть легитимизмом. Великая французская революция и наполеоновские войны радикально изменили политические реалии на европейском континенте: традиционные порядки, так называемый «старый режим» во многих странах рухнул. И хотя после поражения Наполеона и реставрации на французском троне династии Бурбонов победителям (в их числе была и Россия), казалось, удалось повернуть время вспять, восстановив «законную власть» (отсюда и термин «легитимизм»), это ощущение было обманчивым. Революционная волна 1848 года окончательно похоронила легитимистские мечтания о сохранении старых порядков. Повсюду – кроме России. Николай I продолжал считать, что мир катится в пропасть, а его страна – единственный оплот стабильности и порядка во вселенной. Многочисленные советники и идеологи рангом покрупнее и помельче укрепляли его в уверенности, что Россия уникальна, что в ней и в помине нет тех плевел, что засоряют Европу и заставляют ее разлагаться. Некоторое время новую реальность удавалось не замечать, затем 18 пришлось гипнотизировать бессмысленными манифестами и военными акциями. Так, например, с целью спасти «законную власть» Габсбургов, Николай предпринял в 1849 году масштабную военную интервенцию в охваченную революцией Венгрию. Венгерская кампания закончилась победой, однако повернуть историю вспять было нельзя. Фактически, в 1848 году началась агония николаевской системы, хотя сам внешне она выглядела как никогда монолитной. Что же смогло в итоге сдвинуть эту скалу, разрушить эту вроде бы непоколебимую уверенность? Все очень просто: подняв ставки до небес, Николай I отрезал себе пути к отступлению. Любая серьезная неудача автоматически приобретала вселенский характер и означала приговор всей его системе. Но этот приговор будет вынесен через несколько лет… Пока же правительство в состоянии близком к истерике пытается преградить дорогу невидимому революционному вирусу. Это было начало так называемого «мрачного семилетия», отмеченного распространением в правительственной среде разнообразных страхов, фантастических предположений и быстрой утратой «верхами» чувства реальности. Одним из символов правительственной реакции был очередной Секретный комитет. На этот раз он занимался не «улучшением», а «обузданием». Главным врагом режима за неимением в стране революционеров стала, как это часто бывает, литература и пресса. В России и без того существовала очень жесткая цензура. А теперь по инициативе нового шефа жандармов А.Ф. Орлова был создан орган, который должен был надзирать уже за цензорами и исправлять их ошибки. Стремясь искоренить крамолу, глава комитета граф Бутурлин дошел до того, что предложил, например, вырезать несколько революционных, как ему показалось, стихов из Акафиста Покрову Пресвятой Богородицы, где говорилось: «Радуйся, незримое укрощение 19 владык жестоких и зверонравных… Советы неправедных князей разори, зачинающих рати погуби». И вновь будущий царь-реформатор – в первых рядах охранителей! Вот как он формулировал задачи бутурлинского комитета, упрекая одного из сановников, барона М.А. Корфа в пассивности: «Речь идет о том, чтобы завязать ожесточенный бой, а Вы внезапно ретируетесь с поля сражения!». Но как воевать с мыслями? И кто будет исправлять ошибки исправляющих? - мог бы спросить в ответ собеседник (но конечно, не спросил). Тут уместно было бы поговорить об убеждениях будущего царя. Проблема, однако, в том, что вплоть до восшествия его на престол мы мало что можем о них сказать. Ведь военному человеку иметь таковые просто не положено. А именно военным, офицером, наконец, генераладъютантом отца был и ощущал себя наследник. Лишь встав во главе государства, Александр II должен был делать выбор и осознавать, с кем он и за что. Это не значит, что до того у него не было убеждений. И, конечно, он знал, что не все проблемы на свете решаются командой, штыком и шашкой. Но вот шансов раскрыться у иной, «гражданской» стороны его взглядов до поры до времени было совсем немного. Не стоит поэтому придавать слишком большое значение «политическим» высказываниям цесаревича: он делал их как первый из верноподданных своего отца и как хороший командир перед лицом главнокомандующего. Сменилась роль – изменился и смысл высказываний. Между тем гроза надвигалась. Как это часто бывает, кризис николаевской системы был резко ускорен самим ее создателем. Чуть ниже я подробнее расскажу о дипломатических перипетиях и геополитических конфликтах, которые привели к началу в 1853 году Восточной войны (позже она была названа Крымской). Здесь же важно отметить, что решения российского правительства (то есть в реальности одного человека – Николая I) основывалось на целом ряде глубоко 20 ошибочных установок. Главными из них было обманчивое ощущение собственного могущества и неспособность увидеть, насколько со времен Наполеоновских войн изменились и окружающий мир, и место в нем России. Николай I мог бы с полным основанием сказать: «Но ведь я не требую и не делаю больше того, что делал и требовал всегда! Разве еще недавно не трепетала перед волей русского царя Европа?». Возможно, и так, но оказалось, что это было вчера. Крымская война: истоки, контекст, результаты Истоки Крымской войны можно прослеживать далеко вглубь веков. Ведь война эта начиналась как русско-турецкая, а история противоборства России и Османской империи была очень давней. Более того, поводом к войне стал конфликт католической и православной церквей (и, соответственно, Франции и России) вокруг приоритетного доступа к храмам Святой Земли – Вифлеемскому Рождества Христова и Иерусалимскому Гроба Господня. А этот конфликт уходил корнями еще глубже, был каком-то смысле древнее и России, и Османской империи. Коротко говоря, турки, настроенные поначалу нейтрально, в итоге уступили Франции и отказались выполнять ультиматум России, чем и вызвали гнев Николая I. Громкие победы русских на слабой Османской империей вызвали столь большую тревогу у европейских держав, что две из них, Британия и Франция, смогли преодолеть свои разногласия и объединились против общего врага – русского императора. Вроде бы вполне традиционная история. Но несмотря на это Крымская война была также явным продуктом Нового времени, а точнее – той политической и экономической реальности, которая сложилась в Европе в первой половине XIX века. Поэтому эту войну можно было считать не только эхом далекого 21 прошлого, но и провозвестием будущего. Попробуем разобраться, почему. Самый понятный уровень этой новой реальности – технологический. Как всем, наверное, известно со школьной скамьи, Россия проиграла Крымскую войну прежде всего из-за отставания в военных технологиях. Нарезное оружие союзников (штуцера) было несравнимо по точности и дальности боя с гладкоствольными ружьями русских. Французы, составлявшие наиболее боеспособную часть экспедиционного корпуса, воевали рассыпными цепями, а русские – постарому, колоннами, которые выкашивались смертоносным огнем вражеских винтовок. Тихоходный парусный Черноморский флот оказался неконкурентоспособным по сравнению с союзным, ядро которого составляли пароходы, и в основном был затоплен русским командованием у входа в Севастопольскую бухту. На чуть более глубоком уровне отставание России проявлялось в средствах коммуникации – главном условии успешного ведения войны. Вот лишь один пример: вести из Крыма, с театра военных действий, в Петербурге получали из Вены или даже Парижа – столицы враждебного государства. Русские фельдъегеря, загонявшие лошадей, не могли конкурировать со скоростными пароходами и телеграфом противника. Более того, в конце войны союзники вообще смогли протянуть по дну Черного моря телеграфную линию от Севастополя до Варны. А ведь всего за полтора десятилетия до того Александр II, познакомившись в Германии c телеграфным аппаратом, писал отцу, что это «непонятное» устройство «больше похоже на дьявольщину». Теперь телеграф был для русских еще одним символом технологического превосходства Европы. В России к тому времени существовала только одна протяженная и надежная телеграфная линия – от Петербурга до Варшавы, но и она была больше похожа на средневековые сигналы с помощью дыма костров: это 22 был так называемый оптический (семафорный) телеграф, который передавал информацию от вышки к вышке. Само собой, он мог функционировать только днем и при условии хорошей погоды. Лишь незадолго до начала войны началось становление в России электрического телеграфа, однако по настоящему он заработал уже тогда, когда война была проиграна12. Еще более железнодорожном драматичным строительстве. было В отставание Западной России Европе в настоящий железнодорожный бум начался в 1830-х годах, а затем с каждым новым десятилетием протяженность и плотность железнодорожной сети росла просто поразительными темпами. Российская империя фактически оставалась в стороне от этого процесса. У такого отставания было несколько причин, очень характерных для понимания того, как работала николаевская административная система и почему она тормозила развитие экономики. Железные дороги требовали колоссальных капиталовложений. Такие средства (сотни миллионов рублей) можно было получить двумя способами: из государственной казны или с помощью нового по тем временам инструмента - акционерного учредительства, которое позволяло аккумулировать средства множества инвесторов внутри страны и за ее пределами. Несложно догадаться, какой способ оказался ближе Николаю I. Единственная большая железная дорога, построенная в его царствование, Москва – Санкт-Петербург, была настоящей «стройкой века», ибо строилась основательно, но очень медленно и дорого. В основе решений о начале строительства, о выборе маршрута и подрядчиков, о последующей эксплуатации дороги лежали не рыночные, а сугубо бюрократические 12 Высоков М.С. Российская империя на путях модернизации: Зарождение и развитие электросвязи в XIX - начале XX вв. Диссертация доктора исторических наук. Спб., 2004. 23 мотивы. Поэтому Николаевская железная дорога не смогла оживить экономику и создала не новую отрасль предпринимательства, а лишь несколько новых ответвлений чиновничьего аппарата. Дальнейшее развертывание железнодорожной сети шло очень медленно, и именно это обстоятельство сыграло роковую роль в ходе Крымской войны. Дело в том, что имея в своем распоряжении огромную, самую большую в Европе и весьма боеспособную армию, Николай I не мог сделать ее мобильной: передислокация частей, подтягивание резервов требовали слишком большого времени. Связь с отдаленной окраиной империи, какой был в то время Крым, в итоге поддерживалась по стандартам начала XIX века. Россия отстала «всего лишь» на несколько десятилетий, однако в эпоху острого соперничества европейских держав, борьбы за региональное и континентальное доминирование это отставание оказалось роковым. Возникает вопрос: зачем же в этих условиях было ввязываться в войну? Иначе говоря - была ли эта война неизбежной и на ком лежит ответственность за ее начало? Здесь мы сталкиваемся еще с одной очень важной чертой Крымской войны, которая серьезно отличала ее от многих более ранних конфликтов такого масштаба. Историки сходятся в том, что главный, стратегический просчет Николая I, который в итоге и привел к вмешательству в его конфликт с Турцией других, гораздо более могущественных держав, заключался в неверной оценке позиции Великобритании. Русский самодержец посчитал, что «обо всем договорился» с англичанами и обеспечил их нейтралитет и даже участие в грядущем разделе ослабевшей Османской империи. Но эта его ошибка не была случайной, она лишь отражала недостаточное понимание самой природы принятия решений в стране, где отсутствовала абсолютная власть монарха, зато существовали развитые партийная система и общественное мнение – продукты нового века. 24 Николай Павлович привык, что все важные решения в стране принимает он один, и если и отвечает за них, то лишь перед Всевышним. Его же чувства и убеждения, как ему самому казалось, постоянны и неизменны. Такие же самостоятельность и постоянство предполагал он и в западных государственных деятелях, отказываясь понимать, что политика там – это не театр одного, двух или даже десяти актеров, а сложнейшая система сдержек и противовесов, игры на разных полях, одновременного учета разных интересов и ситуативных раскладов, причем прежде всего внутри страны, затем и вне ее. Русский император гордился своей прямолинейностью, демонстративно подчеркивая, например, во время визита в Лондон в 1844 году, что ему нечего скрывать. Главной целью этого визита как раз было договориться о судьбе наследства «смертельно больного», как неделикатно называл русский царь Османскую империю. Британцы, правда, никакого желания договариваться не проявляли и считали, что больного вполне можно вылечить. Стремясь успокоить их, Николай Павлович объявил, что сам он на территории Османской империи не претендует. Он предлагал создать под эгидой России на Балканах несколько независимых государств, Англии же сулил Египет и Крит. Британские политики вежливо слушали, кивали в знак понимания головой. Самодержец воодушевлялся: кажется, ему удалось их обаять! Но он не понимал одного очень важного обстоятельства: ни один государственный деятель в Британии не возьмет на себя никаких обязательств по разделу Турции, поскольку кулуарное решение такого важнейшего вопроса международной политики будет равносильно для него политическому самоубийству. Николай I вовсе не был наивен, он просто не понимал, что политика может быть устроена иначе, чем он устроил ее в собственной стране. 25 Известный английский историк Орландо Файджес прекрасно показал, насколько глубоко в общественном мнении Великобритании был укоренен страх перед российской экспансией. Россия представлялась британцам (и не только им, схожие чувства перед «медведем» испытывали и французы, и бельгийцы, и голландцы) страной темной, варварской и агрессивной. Пугала европейцев и безраздельная власть, которой обладал Николай I, и послушная, на все, как им казалось, согласная масса его подданных. В среде британских военных и политиков были распространены довольно фантастические представления о военной мощи Российской империи и о целях ее внешней политики, о ее стремлении к бесконечному расширению: не только на юго-запад, к Константинополю, но и на юг и юго-восток, в сторону Персии, Афганистана и Индии. Как ни странно, на этом фоне Османская империя выглядела гораздо более «своей», воспринималась вовсе не как вековая угроза христианской Европе, а как подлежащая защите жертва российской экспансии. Именно мощное давление общественного мнения после начала русско-турецкого конфликта в 1853 году во многом вынудило британское правительство, в котором после начала русско-турецкого конфликта «ястребы» вовсе не доминировали, занять в конце концов достаточно жесткую позицию в отношении агрессора, каким в Британии считали Россию13. В итоге война, которую Россия рассчитывала вести против ослабевшей Османской империи при благожелательном нейтралитете своих давних союзников – Австрии и Пруссии, и при враждебном нейтралитете противников – Франции и Англии, вылилась в войну чуть ли не со всей Европой. Франция и Англия неожиданно для Николая объединились и вступили в боевые действия на стороне турок, Австрия 13FigesO.TheCrimeanwar:ahistory.N.Y.,2010.P.61-100,130-165. 26 если и не присоединилась к ним, то беспрерывно угрожала это сделать, и даже близкий родственник - прусский король в итоге так и не дал обещания соблюдать нейтралитет, зато тоже периодически грозил русскому правительству войной! В таких неблагоприятных условиях Россия должна была готовиться к обороне западных границ империи на всем их протяжении (и это не считая кавказского фронта). Это потребовало колоссальных ресурсов и не позволило сосредоточить серьезные силы в Крыму, который после высадки там англо-французского десанта неожиданно стал основным театром боевых действий. Под Севастополем воевали лишь сравнительно небольшой (60-70 тысяч человек) экспедиционный корпус союзников и лишь маленькая часть полуторамиллионной российской армии (примерно столько же, что и у союзников, но не сосредоточенные в один кулак). Цесаревич по званию главнокомандующего войсками гвардии в 18531854 годах находился в Петербурге. Его задачей была подготовка к обороне города и прилегающего побережья Балтики от возможной экспедиции союзного флота и высадки десанта. С этой задачей он, насколько можно судить (ведь десанта так и не произошло), справился хорошо. Однако судьба войны решалась именно в Крыму – к осени 1854 года это было очевидно уже всем. Несмотря на героическую оборону Севастополя, русским частям в Крыму ни разу не удалось взять верх над противником в сражениях «лоб в лоб». Сказывалась отсталость в вооружении и тактике. Надежды на победу на поле боя постепенно таяли. К концу 1854 года в России рассчитывали скорее на неприступность Севастополя и истощение противника. На исходе года в Вене начались предварительные переговоры послов России, Англии и Франции о возможных условиях мира. Чтобы усилить на них позиции России, нужен был хотя бы локальный успех в Крыму. Однако и на этот раз не вышло: атака русских 27 частей на турок под Евпаторией провалилась. Эта неудача окончательно подкосила для Николая I, который и без того уже много месяцев пребывал в самом мрачном и болезненном состоянии. 18 февраля (по европейскому календарю - 1 марта) 1855 года после недельной болезни (вероятно, пневмонии) император скончался. Незадолго перед смертью, пишет фрейлина Анна Тютчева со слов цесаревны (нет, теперь уже императрицы) Марии Александровны, «к императору вернулась речь, которая, казалось, совершенно покинула его, и одна из его последних фраз, обращенных к наследнику, была: “Держи все, держи все!”. Эти слова сопровождались энергичным жестом руки, обозначавшим, что держать нужно крепко». В этом был весь Николай I! Как мы увидим, своеобразного завещания отца сын - к счастью для страны - не выполнил. Почему же Крымская война (кстати, в начале 1855 года еще далекая от завершения) стала столь глубокой травмой и для Николая I, и для всего русского общества? Ответить на этот вопрос, анализируя лишь сражения и перемещения войск, конечно, невозможно. В самом деле, достаточно сравнить 1855-й год с 1812-м. И тогда Россия воевала практически без союзников, но занятие французами Москвы не только не сломило русских, а лишь сплотило их, не поколебав уверенности в успешном исходе всей кампании. А ведь успехи противника в Крыму не шли ни в какое сравнение с колоссальными успехами Наполеона I! Между тем, читая разнообразные дневники, заметки и письма 1854-1855 годов, несложно почувствовать атмосферу какой-то надломленности и безысходности, которая воцарилась и в армии, и в обществе. Даже в кругу тех, кто с восторгом встретил известие о начале войны, патриотический порыв постепенно сменился общей апатией и самыми мрачными предчувствиями. Славянофил и пламенный патриот Иван Аксаков в апреле 1854 года написал стихи На Дунай! Туда, где новой славы, 28 Славы чистой светит нам звезда, Где на пир мы позваны кровавый, Где, на спор взирая величавый, Целый мир ждет Божьего суда! Чудный миг! Миг строгий и суровый! Однако через два года, пройдя с ополчением из центра страны до Новороссии, уже не скрывал своего глубокого разочарования: «Как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых-мерзавцев, хлебосолов-взяточников, критиковали бездарность гостеприимных генералов, плутов». воровство Больше всего чиновников и неповоротливость огромной бюрократической машины. Подобная траектория настроений была тогда, видимо, типичной. Изначально скептически к войне относилось лишь меньшинство образованного общества, главным образом западники и те, кто особенно остро почувствовал резкое ужесточение правительственного гнета после 1848 года. По мнению П.Я. Чаадаева, «в противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, но и в ее собственных интересах заставить ее перейти на новые пути». Е.М. Феоктистов, близкий к лидерам западников Т. Грановскому и М. Каткову, позже вспоминал: «Конечно, только изверг мог бы радоваться бедствиям России, но Россия была неразрывно связана с императором Николаем… Торжество его было бы торжеством системы, которая глубоко оскорбляла все лучшие чувства и помыслы образованных людей и с каждым днем становилась невыносимее; ненависть к Николаю не имела границ». 29 И все же такие настроения в общественном мнении в начале войны явно не доминировали. Чем же объяснить резкий перелом в настроениях элиты (я напомню, что формулировать и как-то «выражать» свое мнение в то время могло лишь образованное меньшинство жителей страны)? Механизм неожиданного и быстрого распада хорошо описала в воспоминаниях уже упоминавшаяся фрейлина Анна Тютчева (кстати, будущая жена Аксакова). Она связала кризис с многолетним развращающим действием системы власти Николая I: «Он чистосердечно и искренне верил, что в состоянии все видеть своими глазами, все слышать своими ушами, все регламентировать по своему разумению, все преобразовывать своею волею. В результате он лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груду колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, что извне они прикрывались официальной законностью и что ни общественное мнение, ни частная инициатива не имели ни права на них указывать, ни возможности с ними бороться. И вот когда наступил час испытания, вся блестящая фантасмагория этого величественного царствования рассеялась как дым. В самом начале Восточной войны армия оказалась без хорошего вооружения, без амуниции… Финансы оказались истощенными, пути сообщения через огромную империю непроездными, и при проведении каждого нового мероприятия власть наталкивалась на трудности, создаваемые злоупотреблениями и хищениями. В короткий срок полутора лет несчастный император увидел, как под ним рушились подмостки того иллюзорного величия, на которые он воображал, что поднял Россию». Ни громоздкая система управления, ни подконтрольное правительству народное хозяйство, ни самая большая в Европе армия просто не соответствовали требованиям времени и оказались совершенно не способны обеспечить проведение отнюдь не самой масштабной военной кампании. А ведь сорок лет со времен триумфа в 30 наполеоновских войнах большинство русских было уверено (и всячески укреплялось в этой уверенности властью), что их страна – могущественнейшая из держав Европы, что несмотря на «отдельные недостатки», она крепка и стабильна, и что этого запаса прочности хватит надолго. И хотя в середине 1850-х годов ничто в одночасье не рухнуло, да и военное фиаско не было таким уж ужасающим по масштабам и последствиям, произошло самое важное – «революция в сознании». Российская элита (под элитой я имею в виду не узкий слой представителей власти, а образованное общество) пришла к убеждению, что «все нужно менять». Еще раз подчеркну: это был кризис общественного сознания, вызванный не военными неудачами (совсем не катастрофическими), а тем, что вдруг стало явным абсолютное несоответствие официальной картинки и реальности. «Озлобление против порядков до 1855 года беспредельное и всеобщее», - констатировал в дневнике П.А. Валуев, будущий министр внутренних дел, карьерный бюрократ и человек, абсолютно лояльный трону. В принадлежащем ему же памфлете «Дума русского в половине 1855 года», который ходил по рукам в переписанных от руки копиях (цензуру никто не отменял), этот чиновник выносил приговор николаевской системе «изнутри»: «Взгляните на годовые отчеты: везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется должный порядок; взгляните на дело, отделите правду от неправды и полуправды, и редко где окажется прочное… Сверху блеск, внизу гниль. В творениях нашего официального многословия нет места для истины». Валуев был представителем нового поколения российской бюрократии, того поколения, которому предстояло менять прогнившую систему. 31 Откуда взялись и как пришли к власти реформаторы? За время царствования Николая I выросло по меньшей мере два поколения представителей элиты, которых в большей или меньшей мере не устраивало, как развивается страна. Первое из них уже достигло определенного статуса и располагало некоторой властью. Это были пока еще не министры и их заместители («товарищи», по терминологии того времени), а чиновники «второго эшелона» (благодаря им, кстати, в основном и работает любая система управления), а также молодые и амбициозные ученые, журналисты, инженеры, наконец, просто умные люди, которым в николаевской системе не находилось места. Самое же молодое поколение только вступало во взрослую жизнь и было настроено гораздо радикальнее «отцов». Если первое из этих поколений разрабатывало и осуществляло реформы, то как следующему выпала «миссия» оценивать (и критиковать) сделанное «отцами», причем с различных идейных позиций: радикально-социалистической, консервативно-националистической и умеренно-либеральной. К этой критике мы обратимся позже, здесь же уместно подробнее остановиться на основных чертах мировоззрения поколения реформаторов. Это были прогрессивно настроенные чиновники, становление которых пришлось на 1830-1840-е гг., а расцвет государственной деятельности – на 1860-1870-е гг. В отечественной историографии эта генерация обычно обозначается термином «либеральная бюрократия». В западной науке больше распространен другой его вариант - «просвещенная бюрократия», подчеркивающий укорененность мировоззрения русских чиновников в эпохе Просвещения с ее верой в созидательный потенциал законов и «просвещенного» самодержавия. Но чем же поколение, расцвет которого пришелся на 185070-е гг., отличалось от своих предшественников – поколения сановниковреформаторов 1810-40-х гг., поколения М.М. Сперанского и П.Д. 32 Киселева? На мой взгляд, можно выделить три комплекса идей, сложная комбинация которых, в конечном счете, и стала «идеологией Великих реформ». Социальный либерализм Великие реформы 1860-1870-х гг. воспринимались современниками и оцениваются историками как «либеральные» (в отличие от «консервативных» контрреформ 1880-1890-х гг.). Нисколько не ставя под сомнение ни ту, ни другую характеристику, нужно все же разобраться, что именно понималось тогда под либерализмом и консерватизмом, и насколько тогдашнее понимание этих терминов оправдывает современные характеристики. Парадоксально, но факт: либеральные реформы пришли в Россию в то время, когда классический либерализм с его индивидуализмом, ставкой на самодеятельность и, соответственно, «свободный рынок», - в Европе находился если и не в кризисе и полном тупике, то под огнем активной критики «слева» и «справа»: со стороны социалистов и консерваторов. При этом и экономический, и политический либерализм пришли в Россию достаточно рано, еще в начале XIX в., когда в стране распространилась мода на Адама Смита, а сам Александр I был увлечен (неважно, насколько глубоко и искренне) конституционными идеями. И если политическая часть либеральной доктрины довольно быстро вышла у власти «из моды», то экономическое учение о свободном рынке никто под сомнение особо не ставил. В конце 1850-х гг. оно переживало в стране своеобразный «ренессанс», пользуясь популярностью в среде бюрократической Большинство и интеллектуальной государственных «общественники» принимали элиты деятелей и экономический как никогда многие ранее. влиятельные либерализм в виде бесспорной классики: возможно, несколько старомодной и окаменевшей, 33 но как бы само собой разумеющейся14 . Парадокс и здесь заключался в том, что эта доктрина, и без того уже в то время критикуемая многими в Европе за абстрактность и умозрительный характер, в России оказывалась оторванной от реальности вдвойне, поскольку в условиях крепостничества «свободный рынок» был здесь условностью гораздо большей, чем в западноевропейских странах. (Примерно то же самое, впрочем, можно сказать и о политическом либерализме, который не переживал в России такой обескураживающей «поверки реальностью», какой стали для европейцев и для немногочисленных русских эмигрантов революции 1848 г.) С другой стороны, экономический либерализм имел тогда в России уже полувековую историю рецепции и разных интерпретаций. На нем вырастали и убеленные сединами старцы, помнившие еще молодого Сперанского, и динамичные молодые ученые и чиновники, для которых эта доктрина олицетворялась не почтенными А. Смитом и Дж. Бентамом, а скорее Джоном Стюартом Миллем. Доктрина свободного рынка вроде бы не была лишена некоторого оппозиционного флера, но при этом даже в николаевскую эпоху пользовалась в «верхах» определенным кредитом доверия, поскольку представлялась убедительным теоретическим ответом на “социалистические утопии”. Более того, в России ее сторонниками были даже сугубо охранительные по убеждениям ученые 15 . Впрочем, и в Европе классический либерализм уже приобрел в то время отчетливое консервативное звучание. Превратившись в один из идеологических устоев существовавшего строя, он активно противостоял натиску не 14 Kingston-Mann E. In Search of the True West: Culture, Economics, and Problems of Russian Development. Princeton, 1999. P. 95-99. 15 Цвайнерт Й. История экономической мысли в России. 1805-1905. М., 2008. С. 135–143. 34 только социалистических и консервативных утопий, но и более умеренных попыток поставить под сомнение учение Смита и Рикардо. Классическая политэкономия в 1830-1850-х гг. была распространена в основном в изложении французов – Ж.-Б. Сэя, Ф. Бастиа и Ш. Дюнуайе. Одновременно ходили в моду немцы Фридрих Лист и Вильгельм Рошер – основатель так называемой «исторической школы» в германской политэкономии, представители которой достаточно резко порывали с классической универсалистской экономической теорией во имя создания доктрины, учитывающей национальные приоритеты и историческую специфику той или иной страны. Идеи «исторической школы», во многом созвучные взглядам русских славянофилов, оказали очень большое влияние на идеологию реформ. Наконец, особо следует отметить влияние школы сен-симонистов. Дело в том, что утопическая проповедь Анри де Сен-Симона и его учеников нашла самый живой отклик в среде французской технократической элиты. Даже и после того, как сама школа (она была организована наподобие религиозной секты) распалась, в среде французских чиновников, финансистов и инженеров колоссальным влиянием пользовались многие сен-симонистские идеи, например, о союзе государственной власти и промышленности, о банках как ключевом инструменте создания новой индустрии, о необходимости социально-ориентированных реформ, о ключевой роли науки и профессиональной экспертизы в их проведении. Эти идеи звучали свежо и во многом опережали свое время. По сути, если вывести за скобки сектантскую сторону учения Сен-Симона, его самых известных учеников Проспера Анфантена и Огюста Конта, сенсимонизм вполне можно считать идеологической программой ускоренной 35 модернизации16. Джон Нормано (псевдоним И.И. Левина), американский экономист русского происхождения, даже сделал в одной своей работе 1940-х гг. вывод (впрочем, не подкрепленный доказательствами) о том, что большинство русских экономистов пореформенной поры были убежденными сен-симонистами17. И хотя этот вывод выглядит слишком категоричным, параллели между деятельностью таких последователей Сен-Симона как знаменитые банкиры Эмиль и Исаак Перейр во Франции и российской политикой 1860-х гг. не вызывают сомнений. Об этом я подробнее расскажу позже. В целом же необходимо разделять ту разновидность политического либерализма, которая развивалась в Европе после революций 1848 г. и пришла в Россию во время «оттепели» конца 1850-х гг., и гораздо более привычный, давно «переваренный» здесь экономический либерализм. Известный историк Марк Раев в своей книге о Михаиле Сперанском фактически считал либерализма уже возможным по противопоставлять отношению к эти реформаторским два типа планам «просвещенной бюрократии» 1830-х гг.: «Социально-экономический либерализм, выступавший под лозунгом laissez faire, предполагалось утверждать с помощью бюрократических методов в сочетании с политическим консерватизмом с его акцентом на воспитательных функциях бюрократического государства. Это была странная, полная противоречий и неопределенности смесь». При этом Раев подчеркивал, что тот же подход был распространен в 1860-80-х гг.18 16 См. интересный взгляд в новейшем исследовании: Abi-Mershed O.W. Apostles of Modernity. Saint-Simonians and the Civilizing Mission in Algeria. Palo Alto, 2010. 17 Normano J.F. The Spirit of Russian Economics, New York, 1945. 18 Raeff M. Michael Speransky, Statesman of Imperial Russia, 1772-1839. 2nd ed. The Hague, 1969. P. 306. См также: Idem. The peasant commune in the political 36 Примерно о том же писал в свое время и американский историк А.Дж. Рибер, делая вывод, что традиционная политическая терминология вообще не применима к России: «Политический язык, использовавшийся как в XIX веке, так и большинством историков..., сформирован на основании опыта западноевропейских стран. Если его применять в контексте русской истории, то это лишь сбивает с толку и уводит в сторону от истины... Можно ли рассматривать бюрократическую централизацию и великорусский шовинизм как явные признаки реакционности? Тогда братьев Милютиных (одни из основных деятелей реформ, «просвещенные бюрократы. – И.Х.) следует причислить к сторонникам именно этого лагеря... Едва ли удовлетворительным решением будет назвать подобных деятелей либерально- консервативными. Точно так же невозможно прийти к какому-либо определенному суждению по этому поводу на основе абстрактных, “объективных” критериев...»19. Действительно, если подходить к понятиям либерализм/консерватизм с шаблонной меркой как к чему-то жесткому и вневременному и считать аномалией любое отклонение от шаблона, то неизбежен вывод о «нетипичности» или «неполноценности» российского либерализма. Бюрократический либерализм 1850-70-х гг. сложно подогнать под традиционную схему. Но при более широком взгляде оказывается, что европейская история знала такое множество «отклонений» от либеральной «нормы», что сама эта норма должна рассматриваться как частный случай или не существовавший в реальности «идеальный тип». Мысль Раева кажется более плодотворной: он делает объектом анализа thinking of Russian publicists: laissez faire liberalism in the reign of Alexander II. Unpublished PhD diss. Harvard univ., 1950. 19 См.: Рибер А. Дж. Групповые интересы в борьбе вокруг Великих реформ // Великие реформы в России. 1856-1874. М., 1992. С. 50-51. 37 это кажущееся сочетание несочетаемого, не пытаясь закрепить за ним место на терминологической шкале20. Однако мировоззрение поколений Сперанского и Милютина существенно различалось, и отличия проявлялись, как будет подробнее показано ниже, и в гораздо более отчетливо выраженном представлении о социальных задачах, стоящих перед государством, и в новом отношении к «научной обоснованности» бюрократического действия, и во многом другом. В центре программы реформ 1860-х годов, программы братьев Милютиных находилась идея социальных реформ, то есть преобразований, проводимых сильной властью, которая стремится если не претворить в жизнь идею социальной справедливости, то хотя бы сгладить контраст между «верхами» и «низами». Позже, в 1880-90-е гг. «социальная струя» в российском либерализме сделалась еще более заметной. Фактически, за очень редкими исключениями либерализм этого времени был по своей социальной программе мало отличим от умеренного народнического социализма (не случайно появление в историографии удивительного гибридного термина, который звучит как явное сочетание несочетаемого «либеральное народничество»)21. Самое же интересное, что в российском общественном сознании с 1870-х гг. «либерализм» устойчиво ассоциировался не столько с гражданскими правами (важнейшим из которых в классическом либерализме была собственность) и личной свободой, сколько с отстаиванием политической свободы и социальной справедливости. Такой подход во многом опирался на важный общеевропейский 20 Ср.: Field D. Kavelin and Russian Liberalism// Slavic Review. 1973. Vol. 32 (1). P. 59-78; Китаев В.А. Либеральная мысль в России (1860-1880 гг.). Саратов, 2004. 21 Зверев В.В. Реформаторское народничество и проблема модернизации России. От сороковых к девяностым годам XIX в., М., 1997. 38 идеологический тренд. По всей Европе победно шествовали тогда так называемый Kathedersozialismus («профессорский социализм») и близкая к нему «новая историческая школа» в политэкономии. Их адепты настаивали на необходимости агрессивного участия государства в регулировании экономических процессов как в промышленной, так и в аграрной сфере, а также активной помощи малообеспеченным слоям населения, которая позволила бы смягчить остроту социальных конфликтов и избежать революционных потрясений. В 1872 году в Германии создается знаменитый Verein für Sozialpolitik (“Союз социальной политики”), идеологи которого (Г. Шмоллер, Л. Брентано, А. Вагнер, Г. Кнапп, Г. Шенберг) противопоставляли себя как классическим либералам-фритредерам, так и социалистам 22 . Влияние катедер- социализма в России было огромным, что в первую очередь объяснялось сплавом в нем «науки» и «политики», столь модным и востребованным в русском обществе. Возникает резонный вопрос: не являлась ли идеология реформ примером того самого «либерально-консервативного синтеза», о котором так много пишут современные российские политологи? Возможность соединить под одним «зонтиком» либерализм и консерватизм, «взяв» у каждой доктрины «лучшее», конечно, выглядит соблазнительной. Однако под маской консерватизма (как и либерализма) в середине XIX могли скрываться самые различные идеи. Фактически в это время сложилось несколько различных видов консервативной доктрины, не только отличных друг от друга, но по целому ряду пунктов противоположных. “О русском консерватизме весьма трудно составить себе ясное понятие, 22 См. классическую работу об этом явлении: Sheehan J.J. The Career of Lujo Brentano: A Study of Liberalism and Social Reform in Imperial Germany. Chicago, 1966, а также недавний исчерпывающий анализ: Grimmer-Solem E. The Rise of Historical Economics and Social Reform in Germany, 1864-1894. Oxford, 2003. 39 потому что все партии у нас называют себя охранительными”, – утверждал в 1868 г. известный публицист кн. А.И. Васильчиков. Консерватизм – “слово, за которым нет ни определенных понятий, ни ясных представлений”, “отличный конек, на котором можно провозить к нам всякого рода контрабанду польского и немецкого происхождения”. В основе его лежало, по мнению Васильчикова, представление о русском народе как о “стихийной силе”, которую должны направлять “другие силы, разумные, умственные..., то есть европейская цивилизация и представители ее”23. Исследователям, склонным отождествлять отечественный консерватизм с традиционализмом, ориентацией на “историческую”, “национальную” идеологию, такие утверждения могут показаться парадоксальными: ведь консерваторы, как правило, априорно зачисляются в лагерь противников европейского пути развития. Согласно общепринятому мнению, в основе консерватизма должно лежать в первую очередь охранение традиций. Однако это положение, при всей его видимой логической безупречности, на мой взгляд, недостаточно конкретно. В самом деле, какие именно социальные и политические институты следует считать соответствующими “исторической традиции” в стране, переживающей болезненный процесс глубоких общественных трансформаций? Подобный вопрос (кстати, чрезвычайно актуальный в современных условиях) не менее остро стоял перед современниками и в период реформ второй половины XIX в.24 23 Самарин Ю., Васильчиков А. Русский администратор новейшей школы. Записка псковского губернатора Б. Обухова и ответ на нее. Берлин, 1868, с. 54, 73, 75. 24 Подробнее см.: Христофоров И.А. Российский консерватизм: исследовательская схема или историческая реальность? // Отечественная история. 2001. № 3. С. 116-120. 40 Применительно к России конца 1850-х – начала 1880-х гг. можно выделить два основных типа консервативной идеологии: первый, о котором и писал Васильчиков – великосветский, космополитический консерватизм так называемой «аристократической партии». Он был неразрывно связан с отстаиванием идеи ограничения самодержавия («олигархической конституции», как тогда говорили), защитой частной собственности (в первую очередь, конечно, помещичьей собственности на землю, но не только ее)25. Консерваторы такого рода отвергали любые формы эгалитаризма, жестко критиковали правительственную программу реформ за ее «социалистический» и даже «коммунистический» (!) подтекст, а реформаторов типа Милютиных называли «красными». Но еще интереснее, что по целому ряду признаков (отстаивание политических и гражданских свобод, неприятие централизации и бюрократии) аристократические идеи вполне можно считать либеральными! Подобная двойственность, характерная и для западной традиции (ср. взгляды Эдмунда Берка, Алексиса де Токвиля, и др.), отражала переходный характер политических идеологий и размытость границ между ними в период перехода к эпохе модерна. Второй тип пореформенного консерватизма – традиционалистский и государственнический, был ориентирован на «национальные» патриархальные ценности. В качестве четкой доктрины он складывается в России несколько позже аристократического, с конца 1860-х гг. Фактически, эта новая консервативная волна была реакцией на итоги реформ, следствием разочарования в них. И не случайно наиболее известные ее идеологи когда-то были либералами, пусть и умеренными (М.Н. Катков, К.П. Победоносцев), или даже революционерами (Л.А. 25 Христофоров И.А. “Аристократическая” оппозиция Великим реформам (конец 1850 – середина 1870-х гг.). М., 2002. 41 Тихомиров)26. Именно этот консерватизм лег в основу правительственной политики «народного самодержавия» Александра III и продержался в качестве официальной доктрины самодержавия вплоть до первой российской революции 1905 г. Главной его чертой было ярко выраженное антизападничество. Обе разновидности пореформенного консерватизма сейчас уже достаточно хорошо изучены. Вопрос о том, какая из них была «настоящим» консерватизмом, видимо не имеет смысла, поскольку и та, и другая были укоренены в российской социальной реальности и имели прямые аналоги в Европе (первая – во Франции и Британии, вторая – в Германии). Самое же важное – обратить внимание на промежуточные, пограничные, порой довольно причудливые варианты сочетания либерализма и консерватизма. Законность и самоуправление Второй важнейший комплекс представлений, составивших ядро идеологии Великих реформ, касался взаимоотношений государственной власти и общества. Идея о том, что над властью стоит Закон (в данном случае не столь важно – божественный или гражданский) была общим местом и европейской, и русской политической философии раннего Нового времени. Однако в России вплоть до эпохи Великих реформ из такого рода положений крайне редко делались практические выводы. Еще реже предлагались меры, которые гарантировали бы соблюдение государством гражданских прав. Эпоха реформ, помимо прочего, была временем появления в стране уже не абстрактно-метафизической или моралистической, а более современной политической философии. В лучших политических работах таких видных мыслителей, ученых и реформаторов, как Ю.Ф. Самарин, А.И. Герцен, Б.Н. Чичерин, К.Д. 26 Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России. М., 2007. 42 Кавелин, А.Д. Градовский, русская политическая наука, кажется, впервые в своей истории встала на один уровень с современной ей европейской (и, кстати, практически сразу вступила с последней в полемику). К сожалению, в мировой историографии не так много работ, авторы которых рассматривали бы русскую политическую философию в широком компаративном контексте 27 . Ее часто и безосновательно воспринимают как некий «особый» случай, как будто она развивалась в отрыве от мировой, ставила какие-то небывалые вопросы и давала на них уникальные ответы. На самом деле же ничего особенно уникального в ней не было. На фоне николаевского «не пущать» вполне естественно было, что в основу пореформенной политической мысли легла идея об автономности общества от государственного контроля и надзора, о верховенстве закона и, как следствие, о необходимости создания независимой судебной власти и делегирования обществу прав самоуправления. Понятно, что применительно к самодержавной системе эти идеи звучали, мягко говоря, проблематично. Необходимо также иметь в виду, что хотя современное сознание воспринимает их как абсолютные аксиомы, в русском обществе середины века бесспорными истинами они отнюдь не были. Во-первых, как уже отмечалось, русские либералы того времени (не говоря уже о консерваторах и традиционалистах) искренне не считали самодержавную систему подлежащей обязательному и скорому разрушению. Позитивное отношение к самодержавию как 27 Анджей Валицкий в своей книге в основном сконцентрировался на более позднем либерализме и также на мой взгляд, не смог вписать правовые концепции своих героев в европейский контекст, см.: Валицкий А. Философия права русского либерализма. М., 2012 (англоязычный оригинал вышел в 1987 г.). Более современная работа А.Н. Медушевского также скорее ставит, чем решает указанные проблемы: Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1998. 43 историческому институту, традиционному «локомотиву» православной форме преобразований, монархии, «единственному европейцу» в стране и т.д., и т.п. было не сервильным или ситуативным, а вытекало из представлений о слабости в России общественных сил и об опасности «олигархии» или «анархии». С другой стороны, и в европейской мысли к середине века стал заметным и влиятельным «государственнический», позитивистский тренд, в рамках которого государственные институты не противопоставлялись общественным, а наоборот, объединялись с ними под одним «зонтиком». Получалось, что архаичное российское политическое устройство вовсе не так архаично, точнее, что оно не только не мешает переустройству общества, а может превратиться в его удобный инструмент. Во времена Николая I тезисы о «загнивании» Запада, о цинизме и политиканстве либеральных политиков, о лживости принципов народоправства были частью официальной идеологии и в этом качестве отторгались думающими людьми. Теперь многие приходили к аналогичным выводам по своей воле. Но как же «вписать» приоритеты законности, самоуправления и независимого суда в самодержавную систему? Задача была не из легких и в идеологическом, и в практическом смысле. На помощь пришел старый прием: разделение «уровней ответственности», т.е. отделение властителя от «аппарата власти», а в самом этом аппарате – «правительства его величества» - от «исполнителей». Это позволяло сколько угодно жестко критиковать николаевскую систему, не затрагивая ее основ. Получалось, что речь идет не о системных характеристиках самодержавной монархии, а о пусть и повсеместных, но вполне исправимых нестыковках и злоупотреблениях. Именно такой характер и имели многочисленные записки вполне лояльных деятелей типа П.А. Валуева, получившие широкое распространение в эпоху «оттепели» второй половины 1850-х гг. 44 (читались они тогда в рукописном виде, то есть в качестве своеобразного «самиздата», потому что цензуру никто не отменял). Главным из понятий, использовавшихся в то время для критики дореформенной реальности стало весьма неопределенное понятие «бюрократическая централизация», именно благодаря своей неясности позволявшее заключить в одну формулу всю ту гамму мыслей и чувств, которые вызывала у очевидцев «николаевская система». Как показал в свое время американский историк Фредерик Старр, «бюрократия» понималась в это время «скорее как форма правления, чем как простое средство государственной администрации» 28 . Это понимание как будто предполагало, что возможно (по крайней мере, в России) некое небюрократическое государственное управление, или что русская бюрократия «более централизована» чем, например, английская. Конечно, такой взгляд выглядит сейчас наивным. Но на рубеже 18501860-х годов его придерживались даже многие профессиональные бюрократы. По мнению Старра, 1850-е гг. стали в России временем бурного расцвета новой «локалистской» или «регионалистской» идеологии. Нападки на «централизацию» и отстаивание «самоуправления» (последнее понятие не употреблялось вплоть до этого времени и представляло собой кальку с английского self-government) являлись, как отмечает историк, следствием некритического заимствования западных идеологических парадигм, в особенности французского англофильства и английского либерализма. Действительно, крупнейшие западные политические философы того времени - Дж. Стюарт Милль, Шарль де Монталабер, Алексис де Токвиль - превозносили преимущества 28 Starr S.F. Decentralization and Self-Government in Russia, 1830-1870. Princeton, 1972. P. 64. 45 англосаксонского самоуправления как необходимого условия развития гражданских и политических свобод. Особенно большой резонанс получило в России знаменитое сочинение Токвиля «Старый порядок и революция», изданное во Франции в 1856 г. В бюрократической централизации и в стремлении правительства к мелочной регламентации французский аристократ усматривал важнейшую предпосылку революции конца XVIII века. По его мнению, стремление Бурбонов всех опекать и все контролировать имело следствием (или, может быть, причиной? – Токвиль не давал однозначного ответа) нелюбовь французам к свободе и их желание все свои проблемы взваливать на правительство. Поэтому когда случилась революция и Бурбонов свергли, новая власть не придумала ничего иного, чем многократно усилить прежний деспотизм. Той же линии придерживался и Наполеон Бонапарт. Централизация ведет к революции, а та еще больше усиливает централизацию – такой парадоксальный вывод пришелся образованным русским по душе. В России в Токвиле увидели настоящее пророчество. В конце 1850-х гг. его превозносили у нас в стране почти все. Но давайте задумаемся: ведь реформы, как правило, предполагают усиление регулирующих функций бюрократии – если только они не проводятся вопреки ей. Поскольку в самодержавной России власть была организована вертикально-иерархически (все решалось в Петербурге), реформы, естественно, могли разрабатываться и контролироваться только чиновниками: в стране просто отсутствовали иные организованные и способные к осмысленным действиям силы. Это делало централизацию не просто необходимой, а жизненно важной для успеха любых преобразований «сверху». В сущности, главная проблема «николаевской системы» заключалась не в избытке мифической «централизации», а в слабости 46 реального контроля (сугубо ведомственного, поскольку об общественном не было тогда и речи) за работой «вертикали власти». Между столичными канцеляриями, где пестовались кадры реформаторов и формировался правительственный курс, и местными бюрократическими органами (особенно на уездном уровне, вспомните гоголевского «Ревизора»!) существовала глубокая пропасть. Мелочная регламентация – главный объект критики системы – во многом рождалась из того, что центральные учреждения не доверяли собственным местным органам (и правильно делали!). Однако всякая попытка усилить контроль закономерно вела лишь к его формализации и ослаблению, заполняя скудные каналы коммуникации тоннами бумаги. Так выходило, что реально следить за ходом дел центральная власть была не в состоянии. Поэтому она была вынуждена буквально многочисленным навязывать местным органам исполнение своих выборно-сословного задач характера (дворянским собраниям и предводителям, городским думам), которые воспринимали эти обязанности как тяжкую обузу. Вслед за Мишелем Крозье и некоторыми другими социологами этот механизм можно назвать «парадоксом слабости внешне всемогущей власти»29. Административная и финансовая децентрализация в условиях неразвитости общественных институтов и отсталости российской провинции означала бы лишь отказ от регулярной связи с более развитым центром, от кадровой и финансовой подпитки, и как раз в то время, когда растущие местные нужды далеко опережали местные возможности30. Так или иначе, но в фокусе собственно административных реформ при этом неизбежно должно было оказаться местное управление. Дело в 29 Crozier M. The Bureaucratic Phenomenon. Chicago, 1967. P. 225; Starr S.F. Op. cit. P. 44-47. 30 Ibid. Р. 108. 47 том, что возможное реформирование центральных и высших органов власти неизбежно упиралось в вопрос об изменении государственного строя, об ограничении самодержавия, а самые робкие попытки в этом направлении неизменно блокировались Александром II (как позднее и его преемниками вплоть до 1905 года). Попытки обеспечить законность и правопорядок в судоустройстве не вызывали столь явных политических коннотаций, поскольку, в отличие от административной системы, судебная считалась относительно автономной и, как казалось, не имела прямых «выходов» на монарха. Кроме того, она была высокоспециализированной сферой профессиональной компетенции. Вероятно, именно поэтому судебная реформа в ряду Великих реформ оказалась наиболее последовательной и даже радикальной. Вместе с тем, по целому ряду болезненных проблем приемлемого решения так и не было достигнуто вплоть до падения монархии, что лишний раз говорит о существовании достаточно жестких политических ограничений при реформировании системы правопорядка. Например, так и не решена была проблема судебной защиты граждан от неправомерных действий отдельных чиновников и государства в целом31. Сциентизм, историцизм и национализм. Первая половина (и особенно вторая четверть) XIX в. – время становления и бурного развития в Европе настоящего культа «позитивной науки». Та роль универсального знания, которую в эпоху классического Просвещения играла философия, в XIX веке безраздельно перешла к эмпирической науке. Прозрачный до механистичности рационализм, который в основном определял политическую доктрину Просвещения и, соответственно, представления XVIII века о правильном устройстве 31 См.: Правилова Е.А. Законность и права личности: административная юстиция в России (вторая половина XIX – октябрь 1917 г.). Спб., 2000. 48 власти и государственной политике, уступал место более сложным, эволюционистским парадигмам. Идея единства природы и общества и, соответственно, естественных и общественных наук предполагала поиск в общественном развитии «органики». Ключевой метафорой общества становится «организм» со всеми его характеристиками: «роста», «взросления», «естественного окружения»32. Одновременно общественные институты «обретают историю». На место рационалистического универсализма и индивидуализма приходит представление об укорененности современных реалий в прошлом и соответственно – об уникальности, несводимости различных вариантов развития к единому образцу. Эта романтическая историцистская линия порой благополучно уживалась с позитивистской. Наиболее яркие примеры сочетания того и другого в русской общественной мысли пореформенного времени – «цивилизационная» концепция Н.Я. Данилевского (биолога по образованию и профессии) и немного более поздняя теория К.Н. Леонтьева, построенная на уподоблении общества живому организму. И органицистская, и историцистская парадигмы – каждая по своему – вели к постановке вопроса о национальной (или, как вариант, «цивилизационной») специфике развития. Вопрос о глубинной связи модернизационных преобразований с национализмом – один из ключевых тем в новейшей мировой историографии. В общем виде в мировой науке признано, национализм – типичное явление Нового времени, причем не столько ретроградно-реакционное, сколько прогрессистское, неразрывно связанное с пафосом преобразований. Классические примеры, где легко просматривается связь национализма с реформами – преобразования начала XIX в. в Пруссии, обычно 32 Olson R. Science and scientism in nineteenth-century Europe. Urbana, 2008. P. 236-137. 49 связываемые с именами Генриха фон Штейна и Карла фон Гарденберга33, и революционные преобразования Мустафы Кемаля Ататюрка в Турции после окончания Первой мировой войны34. В этом контексте возникает резонный вопрос: какой была связь между становлением русского (российского) национализма и Великими реформами? Дело в том, что националистическая политика гораздо больше ассоциируется у нас с именем Александра III и соответственно, с прямо противоположным курсом «консервативной корректировки реформ» в 1880-1890-х гг. Действительно, по сравнению с относительно космополитичным мировоззрением своего отца, Александр III, бесспорно, был националистом, какое бы понимание ни вкладывать в этот расплывчатый термин. Однако нужно иметь в виду, что у европейского национализма XIX века было множество обличий, зависевших, в частности, от того, что понималось под «нацией». В это время тнюдь не только либералы, но и большинство убежденных консерваторов ратовали за перемены (хотя и бы и во имя мифологизированных ценностей «прошлого»). Кроме того, для европейского XIX века не только возможен, но и типичен был «либеральный национализм», в котором пропаганда имперской мощи и ассимиляторского потенциала государства (в смысле его способности унифицировать страну) сочеталась с приверженностью либеральным ценностям: собственности, гражданским и политическим свободам, экономической конкуренции и социальным реформам 35 . Такой тип национализма, родившийся в период Великой французской революции, 33 Levinger M. Enlightened nationalism: the transformation of Prussian political culture, 1806-1848. Oxford, 2000. 34 Ylmaz H. Becoming Turkish: nationalist reforms and cultural negotiations in early republican Turkey, 1923-1945. Siracuse, 2013. 35 См., например: Hewitson M. Nationalism in Germany, 1848-1866: revolutionary nation. N.Y., 2010. 50 во многом определял идеологический климат в Европе на всем протяжении Нового времени. В этом контексте реформаторский национализм появился в России задолго до эпохи Великих реформ: многие исследователи отмечают его наличие в мировоззрении многих декабристов или, скажем, ранних славянофилов36. К сожалению, история Великих реформ в этом контексте остается практически совершенно неизученной. Лишь в последнее время появляются отдельные новаторские исследования, позволяющие взглянуть на эту проблем по-новому. Так, в трудах Андреаса Реннера и Ольги Майоровой 1850-1870-е гг. рассматриваются как ключевой этап в становлении концепта «русской нации» 37 . Впрочем, оба автора рассматривают в основном идеологические и культурные аспекты этого процесса. Понятна также та огромная роль, которую сыграло в истории пореформенного национального самосознания в России польское восстание 1863 г. Вместе с тем, ограничиваться вероисповедной и «окраинной» проблематикой при анализе этих сюжетов было бы, на мой взгляд, глубоко неверно. Действительно, если «долгий» XIX век (1789-1914) был веком национализма, то в еще большей степени он был веком реформ. Способность правительств адекватно отвечать на социальные вызовы современности становилась мерилом их легитимности, а «национальное» и «социальное» не просто переплетались, а являлись двумя сторонами одной медали. Былое (псевдо)марксистское противопоставление двух сфер оказывается просто нерелевантным. 36 Империя и либералы. Материалы междунар. конф., посвящ. 175-летию восстания декабристов, 14-16 дек. 2000 г. СПб., 2001. 37 Renner A. Russischer Nationalismus und Oeffentlichkeit im Zarenreich, 18551875. Koeln, 2000; Maiorova O. From the shadow of empire: defining the Russian nation through cultural mythology, 1855-1870. Madison, 2010. 51 В этом смысле, например, известную книгу Юджина Вебера «Превращение крестьян во французов: модернизация французской деревни в 1870-1914 гг.» 38 , несомненно, можно считать классическим трудом по национализму, несмотря на то, что ее автор фокусирует свое внимание вовсе не на конфессиональных и этнических сюжетах (хотя затрагивает и их). Если считать, что ядром тогдашнего национализма была, при всей его многоликости, идея создания единой и по возможности гомогенной нации, а залогом появления последней становилась унификация социального пространства на началах прозрачности и контроля, то сугубо националистическими проектами оказываются и такие далекие от этнорелигиозной тематики сюжеты, как земельный кадастр, аграрные реформы или реорганизация местного судопроизводства. Еще важнее, что сферой реализации таких проектов были не только иноэтничные и иноверные окраины, но и «коренная» Россия. Между тем, в изучении национализма в Российской империи наблюдается, на мой взгляд, явный перекос в сторону этноконфессиональной и, соответственно, «окраинной» проблематики. Этот подход приводит к ложному отождествлению национализма и ксенофобии, религиозной нетерпимости, приверженности репрессиям. Соответственно, отсутствие того, другого и третьего позволяет и многим исследователям ставить под сомнение влиятельность и само существование национализма в России середины XIX в. 39 Но ведь национализм, понимаемый как идеология строительства унифицированной и гомогенизированной нации, вполне может быть не только политически либеральным, но и более или менее 38 Weber E. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1880– 1914. Stanford, 1976. 39 См, например: Империя, нации и конфессиональная политика в эпоху реформ» // Российская история. 2012. № 4. 52 индифферентным религиозно и этнически (как это было, например, в XIX в. во Франции). Интересный свет на проблему связи национализма и Великих реформ в России поднимает одна из статей М.Д. Долбилова, названная «Освободительная реформа 1861 г. в России и национализм имперской бюрократии». Автор выделяет в мышлении и риторике ключевых деятелей крестьянской реформы (Н.А. Милютина, А.П. ЗаблоцкогоДесятовского, Я.А. Соловьева, Ю.Ф. Самарина и кн. В.А. Черкасского) целый ряд черт «бюрократического национализма». В их числе восприятие крестьянства как гомогенного, органического целого («тела нации»); педалирование неразрывной, почти вегетативной связи крестьян с землей, «почвой»; образ нации как возрожденного единства ушедших, нынешних и будущих поколений землепашцев. «Риторика и образы возрождения, цельности и подлинности в законах 1861 г. были чем-то вроде испытания националистической логики, проделанного бюрократами в аграрной сфере, за пределами (до поры до времени за пределами) сферы межэтнических столкновений», считает историк требовала 40 . Однако, продолжает он, сама логика реформы воплощения этих смутных, пока еще неоформленных риторических образов в реальность – и это случилось на западных окраинах империи во время польского восстания. При этом произошло перемещение застарелого конфликта в социальную плоскость. Если ранее противостояние поляков русскому господству оценивалось в легитимистском духе, как проявление их нелояльности династии, то теперь оно подавалось как социальный конфликт: «поляки» - это шляхта, угнетающая крестьян (в том числе польских, коль скоро речь шла о Царстве Польском). Однако Долбилов не дает ответа на целый ряд 40 Dolbilov M. The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia/ Ed. by T. Hayashi. Sapporo, 2003. P. 205-230. 53 ключевых вопросов (и даже не ставит их). Откуда взялась, когда и как оформилась эта система образов? Следует ли и почему считать ее принадлежностью именно «бюрократического мышления»? Почему бюрократия 1830-1840-х гг. осталась ей чужда? Была ли эта риторика лишь «идеологическим приложением» к крестьянской реформе и русификаторскому курсу (так сказать, «пиаром») или наоборот, она задавала, форматировала внутреннюю политику в ее сущностных чертах и конкретных деталях? Соответственно, играли ли «бюрократынационалисты» в опасную политическую игру, чреватую социальной рознью (в чем их обвиняли противники) или национализм был имманентной частью их мышления? В какой связи он находился с общеевропейскими идеологическими трендами? Ответить на эти вопросы, на мой взгляд, можно, только обратившись от уровня идей к анализу реальных реформаторских программ и практик. Реформы и контрреформы: периодизация и терминология Важно отметить, что анализ национального аспекта реформ, помимо прочего, может способствовать и преодолению того жесткого противопоставления двух царствований – реформаторского Александра II и «реакционно-контрреформаторского» его сына – которое давно уже назрело в нашей историографии. Подчеркну, что речь не о «реабилитации» курса Александра III, а о более объемной и объективной картине прошлого, свободной от черно-белых интерпретаций и жестких дихотомий. Огромный опыт, накопленный современными социальными науками при анализе и интерпретации реформ и контрреформ в различных странах, свидетельствует: смена политического курса почти всегда – результат не волеизъявления отдельных людей (хотя бы и самых могущественных), а сложного и длительного осознания обществом текущих потребностей страны, политических компромиссов и 54 договоренностей (даже в авторитарных режимах). Колоссальную роль играют при этом позиции «лидеров общественного мнения» (которыми считаются в современной политологии не только обладатели властных полномочий, но и влиятельные эксперты, ученые, публицисты). Одна из ключевых задач последующих глав: объяснить эти процессы применительно к двум ключевым переломам в правительственном курсе и общественных настроениях. Первый из них пришелся на канун и начало Великих реформ (рубеж 1850-1860-х гг.), второй – на конец царствования Александра II и первые годы правления его преемника. Суммируя сказанное выше, необходимо коротко остановиться на периодизации и терминологическом обозначении преобразований второй половины века. По отношению к эпохе Великих реформ начальный рубеж очевиден: это воцарение Александра II начало «оттепели» в 1855-56 гг. Окончание же периода логично связывать с серединой 1870-х гг., когда в результате резкого обострения международной ситуации (начала «восточного кризиса» и близившейся русско-турецкой войны) внимание и правительственных и общественных кругов окончательно переключилось с внутриполитических проблем на внешнюю политику. Даже и те проекты преобразований, которые продолжали к тому моменту вяло обсуждаться в «верхах», в этих условиях были отложены. Вновь к внутренним проблемам правительство обратилось уже после Берлинского конгресса в условиях острого политического кризиса. Однако «второго издания» реформ, к которому стремились М.Т. Лорис-Меликов и «либеральная бюрократия», не произошло. Смена политического курса в 1882 г. положила начало так называемой «эпохе контрреформ», продолжавшейся вплоть до конца 1890-х гг., а во многом – и вплоть до 1905 г. В современной исторической литературе не раз высказывались небезосновательные сомнения в обоснованности самого понятия «контрреформы». Аналогичные сомнения высказываются сейчас и по 55 поводу эпитета «Великие» применительно к реформам. В последнем случае ситуация, на мой взгляд, проста. При всех своих спорных моментах и недостатках, преобразования 1860-1870-х гг. означали, по справедливой формулировке Л.Г. Захаровой, «поворотный пункт в российской истории»41. Сомнений в этом не было и у современников (в том числе и у критиков реформ). Иная ситуация – с «контрреформами». Аргументы противников употребления этого понятия применительно к внутренней политике 188090-х гг. сводятся к следующему. Во-первых, эта политика была направлена не на возвращение николаевских времен (что было бы и невозможно), а лишь на некоторую, достаточно скромную корректировку, так сказать «исправление» реформ. Во-вторых, во многих сферах прежний курс благополучно продолжался (например, стремительно развивались экономика страны и правосознание россиян). В-третьих, многие современники, ощущая явный сдвиг в «верхах» в сторону консервативных и «национальных» начал, все же не считали его «контрреформами». Таким образом, в отличие от рубежа 1850-60-х гг. в правительственной политике преобладал скорее континуитет. На мой взгляд, в этих соображениях немало справедливого. Вместе с тем, абсолютизировать такой континуитет, как будет показано ниже, также нет оснований. Ключевые правительственные мероприятия 188090-х гг. имели ясно выраженной и вполне осознававшийся целью пересмотр важнейших параметров реформ. Называть ли такой пересмотр «корректировкой» или «контрреформами» - видимо не столь существенно. Гораздо важнее прояснить, чего же хотело правительство, в чем оно опиралось на общественную поддержку, в чем действовало 41 Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права. М., 2010. С. 468. 56 вопреки позиции общества, и в какой мере власть сумела достичь поставленные цели. Лаборатории реформаторской мысли В числе предпосылок реформ решающую роль сыграли имевшиеся к середине 1850-х гг. в наличии профессиональные кадры чиновников и ученых, специалистов в самых разных отраслях государственной политики, но прежде всего – в экономических (особенно финансовых) проблемах, сфере права и администрации. Появление этих кадров во многом стало плодом целенаправленного строительства системы высшего образования в первой половине XIX в. Значительную роль играли при этом, с одной стороны, университеты (прежде всего Московский и Петербургский, но также Киевский, Дерптский и Казанский). Как показали в своих работах М.М. Шевченко, Ф.А. Петров и А.Ю. Андреев 42 , именно на вторую четверть века при деятельном участии министра просвещения гр. С.С. Уварова пришелся настоящий «прорыв» в росте качества университетского образования и его популярности в среде дворянской элиты. Очень существенное значение сыграли при этом установленные еще в начале века при активном участии М.М. Сперанского преимущества, которые давало высшее образование при чинопроизводстве. становилось Обучение популярным и в невоенном несло с собой учебном заведении важные карьерные перспективы. 42 Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования России. В 4 т. 2-е изд. М., 2003; Шевченко М. М. Конец одного величия. Власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003; Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы. М., 2009 57 Однако не только университеты были «кузницей» реформаторских кадров. Быть может, еще более существенную роль играли закрытые привилегированные учебные заведения – прежде всего Царскосельский (с 1843 г. - Александровский) лицей (создан в 1811 г.) и Училище правоведения (открыто в 1835 г.). Первый дал немало кадров экономистов, из второго вышла целая плеяда юристов, занявших ключевые позиции на государственной службе. Кроме того, очень важной, хотя и крайне малоизученной остается роль, которую сыграли военизированные корпуса, готовившие при Николае I квалифицированных инженеров, геологов, лесоводов, землемеров и топографов, и т.д. Если университетская система была позаимствована в Германии 43 , то систему закрытой профессиональной подготовки можно сопоставить со знаменитой французской моделью «школ», созданных при Наполеоне и до сих пор готовящих французскую управленческую и бизнес-элиту44. Как показано в исследованиях Ричарда Уортмана, Брюса Линкольна и др. 45, в российских закрытых учебных заведениях учились дети не столько из аристократических семейств (за исключением, может быть, Лицея), сколько из небогатых дворянских фамилий, в том числе провинциальных. Фактически, учебные заведения создавали, как принято сейчас выражаться, очень мощный «социальный лифт», формируя в среде управленческой элиты сплоченную когорту носителей нового сдужебного этоса. Многочисленные мемуаристы отмечают, в частности, мощную 43 Скрупулезный анализ состояния науки о государственном управлении в Германии и преподавания ее в немецких университетах см. в: Lindenfeld D.F. The Practical Imagination. The German Sciences of State in the Nineteenth Century. Chicago, 1997. 44 См. классическую работу на эту тему Пьера Бурдье: Bourdieu P. La noblesse d’etat: grandes ecoles et esprit de corps. Paris, 1989. 45 Lincoln W.B. In the Vanguard of Reforms: Russia’s ‘Enlightened Bureaucrats’, 1825-1861. DeKalb, 1982; Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России. М., 2004. C. 343-400. 58 традицию взаимной поддержки, которая объединяла выпускников различных учебных заведений (даже если они учились в них в разные годы и не были друг с другом знакомы). Этот корпоративный дух в значительной степени потеснил (хотя, разумеется, не мог полностью заменить) прежние придворно-клановые механизмы карьерного роста. Фактически, речь может идти о постепенном проникновении в предреформенную Россию принципов меритократии. В отличие от декларативной ориентации верховной власти на эти принципы в эпоху Петра I, данный процесс шел «снизу» и был вызван не благими намерениями одного человека, а глубокими структурными переменами. Это была настоящая, хотя и не слишком заметная на первый взгляд революция не только в принципах формирования правящей элиты, но и в функционировании государственного аппарата. Отдельно следует упомянуть и о практике зарубежных стажировок молодых ученых, которые вошли в обиход при С.С. Уварове. Думается, именно эта практика позднее, уже в эпоху реформ, легла в основу аналогичных командировок, которые предоставлялись чиновникам для изучения зарубежного законодательства и опыта администрирования. В результате достаточно глубокое изучение «зарубежного опыта» при подготовке реформ становится во второй половине века рутинной практикой. Естественно, в составе административного аппарата империи оставалось немало носителей и прежнего этоса, в рамках которого чиновник служил не государству, а своему патрону-покровителю, личная преданность была гораздо важнее профессиональных качеств, а сама служба оценивалась преимущественно как способ получения дохода 46 . 46 См. новаторское исследование этоса дореформенного провинциального чиновника: Schattenberg S. Die korrupte Provinz? Russische Beamte im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 2008. Сюзанна Шаттенберг показывает 59 Кроме того, новое отношение к службе заметнее было в столицах, тогда как в провинцию проникало медленно и с большим трудом. Поэтому главным препятствием, с которым пришлось столкнуться реформаторам первой половины века (и в александровскую, и в николаевскую эпоху) при попытках осуществить свои начинания, было не самодержавие и не «реакционное дворянство», а огромный дефицит квалифицированных, образованных и самостоятельных чиновников среднего звена. Тем не менее с каждым годом николаевского царствования таковых становилось все больше. Благодаря исследованиям Линкольна и Уортмана, а также мемуарам мы имеем возможность представить кругозор молодых представителей «либеральной бюрократии» 1840-50-х гг. Они были погружены в прогрессистские идеи, которыми жила в 1830-1840-х гг. Европа, особенно Франция времен Июльской монархии и Второй республики. Большой популярностью пользовались в их среде запрещенные в России сочинения французских социалистов (прежде всего Прудона и Фурье) и французская политическая пресса (Journal de Débats, Le Temps, La siècle)47. Меньше читали по-немецки, еще меньше – по-английски. Вплоть до начала следствия по делу петрашевцев купить официально запрещенную литературу на иностранных языках в столицах можно было без особого труда. Помимо образования и чтения огромную роль в сплочении нового поколения реформаторов играли социализация и общее коммуникативное доминирование патримониальной модели службы в России первой половины XIX в., но отмечает и «ростки нового». 47 Lincoln W.B. Op. cit. P. 84-88; Воспоминания К.С. Веселовского. С. 28-29; Оболенский Д.А. Мои воспоминания о великой княгине Елене Павловне// Русская старина. 1909. № 3. С. 505-506; Ламанский Е.И. Воспоминания// Ламанский Е.И. Избранные сочинения. М., 2005. С. 89-97. 60 пространство. В этом контексте в 1830-50-х гг. можно выделить несколько институциональных форм. Политические, литературные и светские салоны и кружки. Литература, анализирующая расцвет этой формы общественной жизни во второй четверти XIX века, огромна. Понятны причины расцвета салонов: фактически, они заменяли те формы публичности, которые в России тогда отсутствовали: партии, политические клубы, общественные организации (последние существовали, но их учреждение и деятельность находились под жестким контролем), политическую прессу и т.д. Важно отметить, что многие представители бюрократического мира не отделяли себя от такого рода общения. Оно облегчалось и тем обстоятельством, что в это время многие чиновники активно публиковались в прессе (прежде всего в ведомственных и универсальных журналах). Многие кружки и салоны возникали как раз вокруг редакций наиболее популярных журналов (хрестоматийный пример – «Современник»). В общем, им было гораздо проще войти в мир литературы и науки, чем, скажем, в придворное общество. Впрочем, история салона вел. кн. Елены Павловны (о которой чуть позже) свидетельствует о том, что и придворный мир не был полностью закрыт для представителей нового поколения «либеральной бюрократии» (особенно тех из них, кто был выходцем из близких к нему семейств). Очень интересно, что поколение реформаторов использовало для профессиональной консолидации и, казалось бы, сугубо светские формы общения. Так, в 1860-е гг. формой координации деятельности молодых реформаторов-экономистов стали неформальные встречи, организованные в виде политического салона. Прототипом стали парижские французским diner des économistes, экономистом организованные польского авторитетным происхождения Л.-Ф.-М. Воловским. Инициатором подобного мероприятия в России стал В.П. 61 Безобразов. Сначала оно проходило в виде воскресных утренних приемов, потом – в виде нерегулярных обедов по четвергам в фешенебельном петербургском ресторане «Donon» 48 . Экономические обеды просуществовали вплоть до 1880-х гг., причем гостями их обычно был довольно широкий круг чиновников, журналистов и ученых, зачастую придерживавшихся различных убеждений. Основной задачей обедов было полупрофессиональное, полусветское общение и обмен мнениями и информацией. Научные общества. В первую очередь здесь необходимо упомянуть Русское географическое общество (РГО), созданное в 1845 г., а уже в 1850-м получившее статус императорского. Значение общества в становлении будущих невозможно. Именно деятелей оно создало Великих в реформ крайне переоценить тесном публичном пространстве николаевской эпохи условия для того симбиоза науки и администрации, знания и власти, которое, как уже отмечалось, было ключевым для европейского XIX века. Конечно, в Петербурге существовало и Вольное экономическое общество (ВЭО), созданное еще при Екатерине II, однако к середине XIX в. лучшие его времена остались далеко позади. ВЭО было чересчур громоздким и консервативным по структуре, составу и принципам деятельности. В середине XIX в. репутацию организации в основном дилетантской, а потому не способной стоять на уровне современной европейской науки. Правда, и РГО к концу 1850-х гг. успело сильно разбухнуть по составу и структуре. Многие из тех, кто еще вчера был в РГО единомышленниками (скажем, Н.А. Милютин и М.Н. Муравьев), в период подготовки реформ оказались политическими придерживаться оппонентами. во Исчезла избежание и жесткая репрессий необходимость исключительно санкционированных властью форм и мест для общения. Наступило время 48 Тернер Ф.Г. Воспоминания жизни. Т. 1. С. 175, 187-188. 62 создания более узких по тематике, однородных по составу научных объединений. В 1859 г. в составе Отделения статистики общества был создан Политико-экономический комитет (ПЭК), занявшийся обсуждением теоретических и прикладных экономических проблем, которых было тогда в России огромное множество. Острый финансовый кризис, коллапс казенной кредитной системы и подготовка крестьянской реформы поставили в повестку дня вопрос о коренном преобразовании податной, банковской, денежной систем, а также о новых принципах регулирования предпринимательской деятельности и акционерного законодательства. Несколько созданных на рубеже 1850-1860-х гг. межведомственных «экономических» комиссий наделялись широкой программой действий и значительными полномочиями. Насущной необходимостью стала координация их деятельности. На протяжении более чем трех лет члены ПЭК РГО (количество которых выросло с 19 учредителей до примерно 40) и приглашенные гости (которых, как отмечает В.Г. Чернуха, было иногда более сотни) примерно раз в две недели (за исключением летних каникул) собирались для свободного обсуждения достаточно широкого круга проблем 49 . Постоянным секретарем был В.П. Безобразов, председательствовали поочередно Ф.П. Литке, А.И. Левшин, И.В. Вернадский, А.И. Бутовский. По наблюдению Чернухи, «научная» составляющая в работе комитета изза многолюдности собраний быстро уступила место задаче воздействия на общественное мнение. Впрочем, отделить одно от другого в то время едва ли было возможно. Однако комитет просуществовал относительно 49 Чернуха В.Г. Политико-экономический комитет Русского географического общества (28 февраля 1859 г. - 26 ноября 1862 г.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. XX. Л., 1989. С. 89-102; она же. Деятельность Политико-экономического комитета Русского географического общества (28 февраля 1859 - 26 ноября 1862 г.) // Там же. Вып. XXI. Л., 1991. С. 84-98. 63 недолго: в 1862 г. его деятельность после обсуждения в Совете министров в присутствии Александра II была сочтена политически неуместной и приостановлена. Межведомственные комиссии. На протяжении николаевского царствования «лабораторией реформ» поочередно оказывались различные центральные ведомства. С конца 1830-х гг. это были в основном два конкурировавших ведомства – Министерство государственных имуществ П.Д. Киселева и министерство внутренних дел при Л.Н. Перовском (1841-1852). Характерно, что министерство финансов в роли “локомотива” реформ в это время не выступало. Особенно велико было значение министерства государственных имуществ. Чиновники МГИ, тщательно подбиравшиеся Киселевым, чувствовали себя представителями некоего «государства в государстве», элитарного клуба, лаборатории реформаторской мысли. У наиболее продвинутой части центральной и отчасти местной бюрократии появился принципиально новый опыт взаимодействия с местными проблемами. Целый ряд видных деятелей будущей отмены крепостного права (Я.А. Соловьев, А.П. Заблоцкий-Десятовский, К.И. Домонтович и др.) работали в МГИ при Киселеве, другие, как Н.А. Милютин, лично или по долгу службы тесно соприкасались с новым министерством. Фактически оно стало «полигоном» не только для новых административных и фискальных технологий, но и для формирования нового поколения чиновников, в руках которого позже оказались разработка и осуществление Великих реформ. Однако в конце 1850-х и начале 1860-е гг. доминирующей формой разработки реформ стали межведомственные комиссии из представителей бюрократии и ученого мира. Министры в такие комиссии за редким исключением не входили. Очень быстро ушли в прошлое и сановные Секретные комитеты николаевского времени. И дело не только в 64 политике «гласности» - открытость межведомственных комиссий была довольно условной. Эта форма позволяла, во-первых, преодолеть ведомственную разобщенность и собрать в одной коллегии друзей и единомышленников из различных министерств, во-вторых – если не избежать, то обойти сопротивление более консервативно настроенных глав ведомств, и в-третьих – широко привлекать «экспертов» из общественной и ученой среды. Научная (по меркам того времени, конечно) и профессиональная экспертиза готовившихся реформ была принципиально новым явлением в российской практике государственного управления. Относительно неформальные (по сравнению с Государственным советом и министерствами) процедуры принятия решений также позволяли комиссиям разрабатывать сложнейшие законы в очень быстрые по сравнению николаевскими временами сроки. Впрочем, это касалось и принципов делопроизводства вообще. Любой исследователь, знакомый с документами 1830-1850-х гг., при обращении к ведомственным архивам эпохи реформ, немедленно чувствует огромную разницу: документооборот становится значительно более оперативным, дела существенно «худеют», количество «раундов» обсуждения сокращается. Это, разумеется, не означало, что все начинания получали быстрое и безболезненное разрешение. Да и форма межведомственной комиссии вовсе не была панацеей: множество таких комиссий в 18601870-х гг. так и не смогли за долгие годы своего существования разработать приемлемого законодательства (наиболее яркие примеры – податная и полицейская комиссии). Тем не менее, само появление этого института принятия решений свидетельствует о важных эволюционных подвижках в традиционном бюрократическом механизме. Таким образом, в плане консолидации сил реформаторов в России к середине XIX века произошли крупные перемены принципиального 65 характера. На арену вышло действительно новое поколение правящей элиты, хотя выросло оно еще в прежней системе, где это были чиновники «второго эшелона», молодые и амбициозные ученые, журналисты, инженеры, наконец, просто умные люди, не желавшие «прислуживаться». Они прекрасно знали, как николаевская система устроена и работает, понимали все ее слабые и сильные стороны (были и такие!). Но при этом по сравнению со своими «отцами» они все же были другими. «Отцы» выросли в эпоху наполеоновских войн и ближе к середине века все меньше понимали, что движет современным им миром, в котором России предстояло вновь определять свое место. Между тем этот мир был очень подвижным и стремительно менялся (кто-то из историков даже употребляет по отношению к тому времени понятие «первая глобализация»). Более того, он буквально рождался на глазах: 1830-1850е годы – время бурного экономического роста, становления в Европе новых коммуникационных сетей (железных дорог, телеграфа, быстроходного морского транспорта), новых форм бизнеса (акционерных компаний и банков, где на смену собственникам начали приходить менеджеры), новых способов становиться богатым (с помощью биржевой игры и инвестиций). Это время перемещения огромных людских масс в города, быстрого развития в них рабочих окраин, отделения их от «буржуазного» центра. Это время социальных движений и революций, появления партийной политики и парламентской борьбы, новой политической культуры и новых потребительских привычек. Мощь государства многие современники связывали уже не только с размерами территории и населения, государственной казны или армии, но и с темпами экономического роста и со способностью быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Иными словами, динамика, перемены в качестве символов эпохи пришли на смену стабильности и постоянству. Даже авторитарные режимы, подобные Второй империи 66 Наполеона III во Франции, опирались на быстрый экономический рост и именно в нем искали оправдания своему существованию. Во власть во многих европейских странах приходят технократы: инженеры, статистики, экономисты, банкиры. Они становятся новой аристократией (иногда буквально, как во Франции, получая из рук монарха титулы баронов, графов и герцогов). Россия оказалась вне всех этих процессов. Николаевская элита не то чтобы «упустила момент», хуже: она последовательно отказывалась видеть, что происходит в Европе. Так, знаменитый министр финансов Николая I граф Е.Ф. Канкрин (а министерство финансов тогда, как и сейчас, было главным ведомством, отвечавшим за экономическое развитие страны) крайне негативно относился ко всем признакам новой реальности: к железным дорогам, акционерным компаниям, банкам. И ему, и самому императору все это казалось проявлениями суетного духа наживы, обуявшего западный мир. То ли дело спокойная, величественная Россия, где одному правительству ведомы нужды страны и способы их удовлетворения… Между тем на экономике страны тяжкими веригами висело крепостное право, из-за которого в России фактически отсутствовали рынки труда, земли и капиталов. Крепостничество тянуло ко дну даже, казалось бы, не имевшие к нему отношения сферы экономики. Возьмем, к примеру, кредитно-банковскую систему. Принцип ее работы заключался при Николае I в том, что различные государственные кредитные учреждения (казенные банки, приказы общественного призрения, сохранные казны) неограниченно принимали на хранение денежные суммы под весьма высокий процент. Фактически, для населения это был единственный способ надежного хранения и инвестирования сбережений. Но собранные таким путем колоссальные средства тратились в основном непроизводительно! Они или заимствовались на нужды казны, или 67 выдавались помещикам под залог их имений. Это был финансовый аналог крепостного права – настоящее «закрепощение капитала». В результате в зародыше убивалась перспектива развития новых отраслей промышленности и банковского дела, а львиная доля национальных доходов лежала мертвым грузом или медленно проедалась. До поры – до времени это почти никого не беспокоило. Но ведь продолжаться вечно так не могло. Итак, старое поколение сановников и бюрократов среднего звена стремительно уступало дорогу новому, причем участие последнего в процессе разработки важнейших решений обеспечивалось в основном «нестандартными» институтами (такими, как межведомственные комиссии). Другим бесспорным новшеством в арсенале реформаторов было умелое использование ими общественного мнения, так сказать, контролируемая гласность (современный политик сказал бы «пиар»). Чего хотел Александр II? Александру II предстояло вдохнуть новую жизнь в страну, вдруг утратившую веру в себя. Поначалу, он, кажется, не сознавал всю серьезность стоявшей перед ним задачи. Дадим слово той же Анне Тютчевой, которая в эти первые месяцы царствования видела его практически ежедневно: «Император – лучший из людей. Он был бы прекрасным государем в хорошо организованной стране и в мирное время, где приходилось бы только охранять. Но ему недостает темперамента преобразователя». С другой стороны, откуда было ему взяться у человека, выросшего под заботливой опекой Николая I? Забегая вперед, скажу, что мне, напротив, кажется удивительным, как много смог сделать Александр II, оказавшийся на троне в столь неблагоприятных условиях. Он действительно не был готов к миссии преобразователя, ведь его воспитывали охранять, а не менять. Незадолго до смерти отец с 68 сожалением говорил ему: «Сдаю тебе мою команду, к сожалению, не в том порядке, как желал, оставляя много хлопот и забот». Так и было. Но именно это отсутствие порядка в итоге и стало движущей силой перемен. Первые символические шаги нового императора ничего не говорили о начале новой эпохи. Он был слишком предан делу и памяти своего «незабвенного родителя». Не было у него и программы каких бы то ни было реформ. Как же объяснить тот факт, что перемены все же достаточно быстро начались и оказались в итоге настолько глубокими, как никто в середине 1850-х годов и не мечтал? Может быть, Александр II лишь уступал давлению обстоятельств и окружения? Самые важные реформы, полностью изменившие страну, были разработаны и осуществлены в первое десятилетие его царствования. Все, что мы знаем об этом времени, говорит: император не был игрушкой в руках каких-то обстоятельств или людей, он принимал важнейшие решения своей волей и очень часто вопреки сильнейшему давлению противников перемен. Мы можем твердо утверждать: если бы не решимость Александра II, преобразования были бы совсем другими. В этом смысле это были его реформы, хотя ни одна из них не была плодом его собственного интеллектуального творчества. Могли ли перемены не состояться вообще, скажем, если бы император попытался последовать предсмертному совету отца? Думается, что и такая возможность в середине 1850-х годов существовала. Мы понимаем, что это означало бы лишь отсрочку, причем недолгую: николаевская система обветшала и настолько морально устарела, что все попытки сохранить ее привели бы лишь к еще более глубокому кризису. Но Александр Николаевич мог бы попробовать. Почему же он этого не сделал? Попытаемся понять, как новому монарху, на первый взгляд, почти чудесным образом удалось избавиться от гипноза собственного прошлого, олицетворенного для него священной фигурой отца (которого 69 он, кстати, никогда не критиковал и после его смерти). Мне кажется, ключевую роль сыграл возраст монарха. В момент вступления на трон ему было 36. Но примерно столько же было большинству из тех, кто разрабатывал реформы и занимал ключевые посты в государстве в 18601870-е годы. Таким образом, монарх во многом оказался «своим» для тех, кто и составил естественную среду сторонников перемен. Различия в воспитании оказались в итоге не столь значительными, как принципиальное сходство установок, симпатий и антипатий. Это очень ярко проявилось уже в первые годы его царствования. Поначалу он явно старался прислушиваться к советам сановников отцовского поколения, демонстрировал подчеркнуто внимательное отношение ко многим из них (по крайней мере, к тем, кто не вызывал у него личной антипатии). Но уже через несколько лет на первые роли в государстве выдвигаются совершенно новые люди. Молодой император, может быть, не всегда отдавая себе в этом отчет, явно предпочитал опираться на представителей своего поколения – поколения реформаторов. Но как и что менять? На какие образцы ориентироваться? С чего начинать? Ответы зависели от точности поставленного диагноза. Заметим, что и для императора, и для поколения реформаторов, в котором он нашел себе опору (назовем их вслед за большинством историков либеральными бюрократами), бесспорным приоритетом продолжал оставаться статус России как сильной и независимой державы. Кардинально изменились лишь представления о том, как сохранить его, точнее – утвердить на новой основе. Казалось бы, все ясно: необходимо догонять ушедшие вперед европейские страны, а для этого, в свою очередь, – строить железные дороги, развивать промышленность, перевооружать армию. Все это было немыслимо без иностранных технологий и капиталов, значит, надо создавать привлекательные условия для прихода их в страну. И, 70 разумеется, требовалось оживить собственно российскую экономику, пробудить инициативу отечественных предпринимателей, создать условия для внутреннего роста. Очевидные, даже банальные истины. Но фактически они означали необходимость демонтажа всей николаевской системы, в которой казенная опека над экономикой и контроль власти за обществом были как бы двумя сторонами одной медали. Какое вроде бы отношение к усилению мощи державы имеют гласность (слово из лексикона тех лет), отказ от умолчаний и широкое общественное обсуждение стоящих перед страной проблем? Разве дискуссии и признание ошибок не ослабят власть? Нет, полагали реформаторы, ложь не просто лишает власть общественной опоры, она разъедает ее изнутри. Открытость становится в 1850-х годах главным лозунгом дня, символом новой реальности. Настороженно смотревшие на первые шаги нового императора наблюдатели именно по его готовности к гласности тестировали серьезность и искренность намерений правительства. Судя по всему, и Александр II, и его близкие хорошо понимали это. Он не раз и не два публично подчеркивал свое желание руководствоваться «правдой, хотя и горькой, но полезной». И это не было просто фразами. Постепенно меняется тональность министерских докладов и записок: они становятся гораздо более содержательными и откровенными, содержат все меньше совсем еще недавно обязательной риторики. В свою очередь, и Александр II прощупывал состояние общественного мнения. В 1857 году они с супругой решают пригласить на должность преподавателя к наследнику престола Николаю Александровичу известного либерала профессора К.Д. Кавелина. Этот шаг был символическим и, несомненно, адресованным той части общества, которая совсем недавно находилась в оппозиции Николаю I. Но еще интереснее обратить внимание на беседы, которые вела с 71 Кавелиным императрица. Начать с того, что профессор застал ее читающей «Колокол» – запрещенную в России лондонскую антиправительственную газету А.И. Герцена. Происходит совершенно немыслимый еще недавно диалог. Императрица: Какой он [Герцен. – И.Х.] должен быть дурной человек! Вы его знали? Кавелин: Знал. - Читали вы его “Колокол”? - Второго номера не читал еще. - Это ужасно, что он пишет… Императрица явно испытывала Кавелина. Тут он, по его собственным словам, «не вытерпел и заметил, что Герцена погубило правительство незаслуженными преследованиями». Затем профессор, не смущаясь, объяснил, как и почему он заслужил репутацию «самого отчаянного либерала». Казалось, после этого осталось лишь откланяться. Но – чудо! - императрица внимала благосклонно. «Странное дело, записал Кавелин в дневнике. – Говоря так прямо, я чувствовал, что совсем не играю ва банк, а веду верную, беспроигрышную игру». Но ведь беспроигрышную игру вел не только он, но и его собеседница! Мотивы самого Александра II многократно анализировались в историографии 50 . В западных работах 1960-1980-х гг., в противоположность более ранним представлениям о доминирующем влиянии на реформы различных имперсоналистских факторов (кризиса крепостничества, давления «снизу» и т.п.), подчеркивается, что 50 Rieber A.J. Introduction // The Politics of Autocracy: Letters of Alexander II to Prince A I Bariatinskii 1857-1864, ed. by A.J. Rieber. Paris; Hague, 1968; Idem. Alexander II: A Revisionist View // Journal of Modern History, 1 (March 1971), 4258; Pereira N. Tsar Emancipator: Alexander II of Russia, 1818-1881. Newtonville, 1983; Захарова Л.Г. Александр II и отмена…; Долбилов М.Д. Александр II и отмена крепостного права // Вопросы истории. 1998. № 10. 72 параметры преобразований, а во многом и само их появление в правительственной «повестке дня» обеспечивались политической волей Александра II. Именно его настойчивость и поддержка создала условия для того, чтобы реформаторские проекты получали статус закона порой вопреки жесткому противодействию со стороны части бюрократической элиты и помещиков. К подобному взгляду позже пришли и отечественные историки. По мнению Л.Г. Захаровой, Александром II двигали при этом не столько либеральные взгляды, сколько общегуманистические настроения, а также осознание того, что крепостничество является главным тормозом на пути стратегического развития России, без устранения которого невозможно сохранение ею статуса великой державы 51 . В свою очередь, М.Д. Долбилов склонен акцентировать зависимость императора, но уже не от “объективных факторов”, а от идеологии и риторики, которые конструировались и им самим, и его окружением, и Редакционными комиссиями. По логике Долбилова, самодержец зачастую оказывался заложником стереотипов и образов собственной “миссии”, которые активно ему навязывались различными группами 52 . Во многом этот подход перекликается с наблюдениями Ричарда Уортмана о роли “сценариев власти” в политической истории самодержавной России53. На мой взгляд, все эти подходы не столько противоречат, сколько дополняют друг друга. Несомненно, что на Александр II принимал решения в определенных и достаточно жестких рамках, определявшихся объективными обстоятельствами. Он видел Россию европейской 51 Захарова Л.Г. Александр II и отмена… С. 624, 685-687. Долбилов М.Д. Александр II и отмена…; он же. Рождение императорских решений: Монарх, советник и «высочайшая воля» в России XIX в. // Исторические записки. 2006. Вып. 9. 53 См.: Уортман Р.С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. Т. II. От Александра II до отречения Николая II. М., 2004. 52 73 державой, на равных участвующей в европейских делах и не похожей на “инвалида” – Османскую империю, погрязшую в средневековье и обреченную на умирание. При этом приоритетом для императора, бесспорно, была политическая и социальная стабильность. Отсюда – практически неизбежная для реформ логика компромисса, модернизации без ломки, примирения противоположных социальных интересов. Перед окружением императора возникали самые широкие возможности для продвижения собственных политических “проектов”. Конечно, и сторонники, и противники тех или иных мер декларировали (чаще всего искренне) приверженность одним и тем же ценностям, прежде всего – процветанию России под скипетром Романовых. Роль же императора заключалась в том, чтобы поддерживать ту или иную не им сформулированную точку зрения. Таким образом, персональное влияние самодержца на ход и итоги реформ переоценивать не стоит: очень значительное на уровне идеологических установок и риторики, оно резко уменьшалось по мере приближения к практике. Эти соображения являются дополнительным аргументом в пользу осмысления судьбы реформ с точки зрения институциональных и идеологических факторов. Ясно, что именно сформулированная представителями «либеральной бюрократии» программа развития России обладала в глазах царя важными достоинствами, заслуживающими поддержки. Понятно также почему: реформаторы, как показано выше, выступали под лозунгами социального мира и инициативной роли власти и принципиально отвергали идею ограничения самодержавия (в обозримом будущем). Были ли реформы вынужденными? Итак, причинами реформ не были ни массовое движение крестьян, ни кризис власти. Роль «триггера», «спускового крючка» действительно сыграло, как традиционно считается в историографии, поражение в 74 Крымской войне. Совпадение же военного фиаско со сменой царствований создало простор для развертывания реформаторских тенденций. Сторонникам нового не приходилось пробиваться сквозь стройные ряды приверженцев отжившего: те просто стушевались, заведомо чувствуя себя проигравшими (личная лояльность самодержцу была в ту пору в среде дворянской элиты очень сильна, а новые поколения радикалов-разночинцев еще не успели получить преобладания в общественном мнении). Это не означает, конечно, что в эпоху реформ не было политической борьбы. Однако ее предметом не была необходимость самих реформ, сомнения в которой публично не озвучивал практически никто (ситуация достаточно уникальная!). В какой мере реформы были мотивированы состоянием российской экономики? Новейшие исследования крепостной деревни не подтверждают гипотезу (которая в советской историографии в какой-то момент приобрела значение почти аксиомы) о «загнивании» и кризисе сельского хозяйства в первой половине XIX в. 54 Не существует и убедительных данных, которые свидетельствовали бы о наличии в предреформенной России какого-либо масштабного экономического кризиса. Да, крепостническая система и казенная опека над экономикой были тупиковым путем развития. Да, война продемонстрировала серьезную технологическую отсталость России от европейских стран. Но воздействие экономики на реформы было скорее косвенным, осуществлялось оно через политико-идеологическую сферу и систему символов (имеются неэффективности либеральной в виду господствовавшее подневольного экономической труда доктрины, и представление другие субъективное о компоненты ощущение отсталости страны, овладевшее элитой и т.п.). С позиций нынешней 54 См. подробнее: Dennison T. Institutional framework of Russian serfdom. Cambridge, 2011. 75 экономической науки, историки до сих пор не располагают достаточными знаниями для того, чтобы диагностировать, находилась ли экономика России в середине XIX века в состоянии кризиса, застоя или же поступательно развивалась. Еще меньше об этом знали современники реформ55. Единственным объективным экономическим фактором, повлиявшим на реформы, стал острый финансовый кризис конца 1850-х гг. Однако он, подобно росту крестьянского движения, был вызван действиями самого правительства. Советские историки потратили немало сил на то, чтобы доказать существование на рубеже 1850-60-х гг. «первой революционной ситуации»56. Западные ученые, в свою очередь, теорию о революционной ситуации накануне 1861 г. никогда всерьез не рассматривали. Понятно, что в современной литературе концепция революционной ситуации применительно к России середины XIX в. встречается не столь часто, как несколько десятилетий назад. И все же логика «военное поражение – кризис власти – рост крестьянского движения – реформы как уступка» продолжает влиять и на общественное историческое сознание, и на 55 См. об этом: Готрелл П. Значение Великих реформ в истории экономики России // Великие реформы в России. 1857-1874/ Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992; Христофоров И.А. Российская деревня и аграрные реформы в зеркале микро- и макроистории // Российская история. 2013. №1. С. 33-47; он же. Правительственная политика и «крестьянский вопрос» до и после отмены крепостного права. Дисс. … д.и.н. М., 2013. 56 Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг. / Отв. ред. М.В. Нечкина. [т. 1-8], М., 1960-1980; Революционная ситуация в России в середине XIX века: коллективная монография. Под ред. М.В. Нечкиной. М., 1978; Революционная ситуация в России в середине XIX века: деятели и историки. М., 1986. 76 профессиональных историков. Попробуем разобраться, соответствует ли эта логика имеющимся фактам. Бесспорно, характеристику крестьянской реформы (и реформ вообще) как «побочного продукта революционной классовой борьбы» 57 нельзя не признать односторонней, поскольку она не учитывает множества других факторов вызревания реформ, никак не связанных с выступлениями масс. Кроме того, такой подход не учитывает и возможности обратного влияния на рост протестных настроений действий самого правительства, которые могут стать «спусковым крючком» роста волнений. Именно по этому последнему сценарию, как известно, развивались события во Франции кануна Великой революции 1789 г. или в СССР периода «перестройки». Существуют веские основания полагать, что рост крестьянских волнений накануне 1861 г. также в значительной степени спровоцировала сама подготовка реформы. Действительно, по существующим подсчетам, основанным на многолетнем поиске в архивах сведений о крестьянских выступлениях, пик их пришелся на 1858 г. В 1859-60 гг. волна несколько снизилась (хотя на 1859 г. пришелся наибольший размах «трезвенного движения»), а в 1861 г. достигла абсолютного максимума в XIX веке. Табл. 1. Крестьянское движение в 1857-1861 гг. Год Количество «волнений» Разгромы питейных домов и отказы употреблять вино 1857 100 - 57 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 108. У Ленина речь идет не о крестьянской реформе 1861 г., и потому в качестве субъекта революционной борьбы фигурирует пролетариат. Можно ли считать пронизанные верой в «царскую милость» выступления крестьян революционными - отдельный, и весьма непростой вопрос. См. об этом: Field D. Rebels in the name of the Tsar. Boston, 1976. 77 1858 378 13 1859 161 636 1860 186 3 1861 1340 - Источник: Крестьянское движение в России в 1857 – мае 1861 г. Сборник документов. М., 1963. С. 736. При этом на 1851-1856 гг. пришлось 185 волнений, т.е. около 30 в год (тогда как на вторую четверть XIX в. – 43 в год) 58 . Как видим, решения «верхов» 1856-1857 гг., связанные с началом подготовки крестьянской реформы, никак не могли быть следствием усилившейся борьбы крестьян, зато, судя по всему, стали одной из ее причин. Слухи о скорой реформе, естественно, распространялись не только в помещичьей, но и в крестьянской среде. В свою очередь правительство традиционно очень внимательно относилось к крестьянским настроениям и, несомненно, учитывало возможность бунтов. Требуя от местных властей доносить о всех случаях неповиновения крестьян, оно тем самым вызывало рост внимания к ним. Именно по этим двум причинам на канун реформы приходится увеличение зафиксированных случаев крестьянских «выступлений». Более того, аргумент о том, что та или иная мера ведет к «пугачевщине», широко использовался в политической борьбе в ходе подготовки реформы. Однако если оценивать не страхи и спекуляции, а реальное крестьянское движение, то нельзя не прийти к выводу, что оно 58 История России в XIX – начале XX в. Учебник для исторических факультетов университетов/ под ред. В.А. Федорова. М., 1998. С. 232. Забегая вперед, следует добавить, что в период «второй революционной ситуации», а точнее – политического кризиса рубежа 1870-1880-х гг. размах крестьянского движения заметно уступал 1858-1861 гг. В 1875-1879 гг. было зафиксировано 152 выступления, в 1880-1884 – 325 (там же. С. 342). 78 не переоценивалось «верхами» и, говоря объективно, нисколько не угрожало стабильности режима59. Другой аспект этой проблемы, не связанный с «революционной ситуацией», заключается во влиянии, которое сильный страх перед «пугачевщиной», существовавший в среде помещичье-бюрократической элиты, оказывал на риторику реформаторов и их противников или на принятие ими тех или иных моделей реформы (само наличие этого страха подтверждается буквально сотнями свидетельств и сомнений не вызывает). Влиять на принятие тех или иных решений могли и отдельные наиболее «знаковые» крестьянские выступления (которые, тем не менее, никак не угрожали стабильности власти в стране в целом, т.е. были не признаком «революционной ситуации», а своеобразной формой «обратной связи» между властью и крестьянами60). Типичный такого рода пример – волнения в Эстляндии в 1858 г., которые были умело использованы сторонниками освобождения крестьян с землей для того, чтобы убедить императора в пагубности безземельного освобождения (которое состоялось в этой провинции еще в начале века)61. Но и в этом случае крестьянское движение стало лишь одним (и едва ли решающим) из факторов, обусловивших непопулярность «остзейской модели». В целом, воздействие протестной активности крестьян на разработку правительственных мер представляется несомненным, но далеко не всегда прямым и однозначным. В каждом конкретном случае это 59 См. подробнее: Moon D. The abolition of serfdom in Russia. Cambridge, 2010. P. 24-28. 60 См. об этом: Moon D. Russian peasants and Tsarist legislation on the eve of reform: interaction between peasantry and officialdom, 1825-1855. Houndmills, 1992. 61 Кахк Ю.Ю. Крестьянские волнения 1858 г. в Эстонии // История СССР. 1958. №3. С. 129-144; Захарова Л.Г. Александр II и отмена… С. 166-168. 79 воздействие необходимо анализировать в контексте политико- идеологической обстановки в «верхах». Второй, может быть, еще более важный вопрос: существовал ли во второй половине 1850-х гг. какой-либо глубокий «кризис власти»? С одной стороны, на первый взгляд, кажется, что он был налицо. Критика николаевской системы была очень резка. Как несколько наивно писал в 1855 году в дневнике чиновник и литератор академик А. В. Никитенко, «теперь только открывается, как ужасны были для России прошедшие 29 лет»62. С другой стороны, следует иметь в виду, что режим в тот момент оказался скорее в выигрышной ситуации: он не столько уступал давлению общества, сколько сам инициировал перемены. Пропасти между обществом и властью в стране не было. Значительная часть правительства разделяла с обществом и чувство глубокого разочарования в прежней системе, Последовательные и осознание приверженцы реформ необходимости обнаружились перемен. даже в императорской семье. Во-первых, ею оказалась великая княгиня Елена Павловна, жена покойного дяди нового императора Михаила Павловича, в девичестве – принцесса Фредерика Шарлотта Вюртембергская. Она занимала совершенно особое место в большой семье Романовых. По общему признанию, Елена Павловна была красива, необыкновенно умна и прекрасно образована – не так часто встречающееся сочетание! С глубоким уважением к великой княгине относился даже император Николай, называвший ее «мудрецом нашей семьи». В ее резиденции – Михайловском дворце – по четвергам собирался знаменитый салон, подобного которому в Петербурге не было. Здесь члены императорской семьи, сановники, министры встречались и беседовали с людьми, не 62 Никитенко А.В. Дневник. В. 3 т. Т. 1. М., 1955. С. 421. 80 имевшими доступа ко двору: писателями, учеными, художниками, либеральными чиновниками. «С изумительным искусством умела она группировать гостей так, чтобы вызвать государя и царицу на внимание и на разговор с личностями, для них нередко чуждыми и против которых они могли быть предубеждены; при этом все это делалось незаметно для непосвященных в тайны глаз и без утомления государя», - вспоминал один из таких чиновников – князь Дмитрий Оболенский. Очень характерная оговорка: Александр II действительно очень быстро «утомлялся», то есть не мог надолго концентрировать внимание на какомто не очень ему близком и понятном деле, и поэтому задачей настоящего царедворца было добиться нужной реакции быстро и ненавязчиво. Другим «представителем» реформаторов внутри семьи был младший брат Александра Николаевича, второй сын Николая I Константин. По темпераменту и складу ума он не очень походил на старшего брата: был порывистым, увлекающимся человеком, дисциплину не любил ни в себе, ни в других, слыл либералом и гораздо больше брата интересовался делами гражданскими. Военно-морское ведомство, которым Константин Николаевич руководил по званию генераладмирала, стало во второй половине 1850-х годов образцовым: великий князь привлек сюда на службу множество молодых либеральных бюрократов, которые чуть позже заняли ключевые посты в самых разных отраслях управления: Михаил Рейтерн стал министром финансов, Александр Головнин – министром просвещения, Дмитрий Оболенский товарищем (заместителем) министра государственных имуществ. Переписка Александра II c братом этих лет свидетельствует об очень близких, доверительных отношениях между ними. Все чаще говорил о том, что жизнь не будет прежней, и сам Александр II. Разумеется, инициативная роль, взятая на себя «верхами», никак не гарантировала, что политическая ситуация останется 81 стабильной. В истории достаточно примеров, когда власть инициировала то, что казалось ей реформами, а затем имела дело уже с революцией. Именно так развивались события во Франции на рубеже 1780-90-х гг. и в СССР во второй половине 1980-х. Почему так не случилось в России в конце 1850-х гг.? Думается, ответ заключается как раз в отсутствии в стране какой-либо «революционной ситуации». В общем и целом, реформы проводились властью, уверенной в своем будущем и заинтересованной в том, чтобы эта уверенность была всеми прочувствована. Неудивительно, что церемониальная неспешность и акцентирование необходимыми исторических элементами «корней» символического преобразований обеспечения стали процесса реформирования63. Не имея возможности провозгласить дореформенные порядки несостоятельными, власть вынуждена была прибегать к сложным риторическим и идеологическим комбинациям с целью объяснить саму необходимость преобразований, не нанося ущерба своему авторитету. Вместе с тем, можно утверждать, что в середине 1850-х гг. в стране налицо было то, что можно было бы назвать «предреформенной ситуацией» (подобной той, которая существовала в России и СССР в 1902-1904 гг., 1953-1955-м и 1982-1984-м). К этому времени в среде наиболее динамичной части российской элиты (правительственной и общественной) в полной мере сложились идеология и программа реформ, а также глубокое убеждение в их абсолютной необходимости и неизбежности. Крымская война и смерть Николая I лишь создали условия 63 Ср. с выводом Ричарда Уортмана o том, что «сценарий» царствования Александра II в отличие от прочих стремился «уменьшить разрыв с предшествовашим царствованием и показать новое царствование продолжением старого» (Wortman R.S. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy from Peter the Great to the Abdication of Nicholas II. Princeton, 2006. P. 189). 82 для того, чтобы эта программа преобразований из кулуаров и салонов переместилась уникальная в плоскость ситуация реальной «оттепели» политики. 1856-1860 гг. Таким образом, позволила идеи, высказывавшиеся до того лишь полушепотом, «обкатать» в открытом пространстве публичных дебатов и в бюрократических канцеляриях. Благодаря «оттепели» разрозненные, обрывочные мысли сложились в достаточно цельную концепцию реформирования страны. В числе ее идеологических корней был, как уже отмечалось, парадоксальный и достаточно противоречивый сплав экономического либерализма и позитивистской уверенности во всесилии государства. Другой важной чертой этой программы была идея «перепрыгивания»: подобно сталинской, хотя и совершенно в ином контексте и смысле, модернизация империи второй половины XIX в. пыталась быть не «догоняющей», как считал Гершенкрон, а «опережающей». Реформаторы провозглашали необходимость и возможность поиска «третьего пути», в котором классические достижения Запада (конкурентный рынок и обеспечиваемые им быстрые темпы экономического роста; базовые гражданские свободы; светская культура и образование как фундамент гражданского общества) существовали бы без столь же классических «изъянов» (социальной дифференциации, политиканства, распада традиционной культуры, наконец, революций как итога всего этого). Новые условия экономической деятельности (более свободное акционерное учредительство, демонтаж казенной и создание частной кредитной системы, стимулирование промышленного роста – через банки и железнодорожное строительство по образцу Второй империи) фактически предшествовали административным, военным и прочим преобразованиям. Во многом такие приоритеты были вынужденным следствием острого финансового кризиса конца 1850-х гг., однако он способен объяснить далеко не все. В действительности экономический 83 либерализм (т.е. убеждение в том, что хозяйственная самодеятельность по определению лучше казенной экономики) был очень глубоко укоренен в сознании того поколения элиты, в руках которого находилась разработка и реализация Великих реформ. Однако простое повторение европейского пути к «капитализму» (в любом из известных тогда вариантов – британском, французском, прусском) безусловно отвергалось. Отсюда как отчетливая «социальная» ориентированность российских реформ, наиболее ярко проявившаяся в самой известной из них – крестьянской, так и политический консерватизм реформаторов (сильная и инициативная государственная власть и сохранение самодержавия признавались важнейшими условиями успеха преобразований). На пороге Смена царствований (Александр II вступил на престол 19 февраля 1855 г., ровно за 6 лет до подписания манифеста об отмене крепостного права), символические шаги нового монарха в духе общей либерализации атмосферы в стране, политика гласности и некоторого ослабления цензурного гнета, вызвавшая огромное воодушевление в обществе, - все это подготовило почву для появления первых конкретных программ реформ. Настроения в столице (в остальную страну все проникало с запозданием) были полны ожиданий всеобщих перемен. Будущий военный министр и автор военной реформы Д.А. Милютин, посетив тогда Петербург (он служил на Кавказе) писал своему начальнику кн. А.Я. Барятинскому: «Здесь вообще нашел я поразительное явление: стремление к преобразованиям, к изобретению чего-то нового обуяло всех и каждого; хотят, чтобы все прежнее ломали тут же, прежде чем обдумано новое»64. 64 Цит. по: Захарова Л.Г. С. Самодержавие и реформы в России 1861-1874 (к вопросу о выборе пути развития) // Великие реформы в России... С. 28. 84 Конечно, гласность, в конце концов, лишь инструмент, средство, цель же – более глубокие перемены, создание нового не только на словах. И самое серьезное и даже опасное дело, без которого никакие реформы не могли сдвинуться с места – отмена крепостного права. Почему опасное? Потому что оно затрагивало кровные интересы большинства населения страны. А поскольку интересы помещиков и крестьян были противоположны, то неосторожно проведенная реформа грозила или крестьянским бунтом (пугачевщину все помнили очень хорошо!), или недовольством опоры трона – дворян (эпоху дворцовых переворотов тоже никто не забыл!). Даже самовластный и не привыкший никому и ни в чем уступать Николай I в итоге так и не решился трогать крепостное право, хотя и относился к нему без всякой симпатии. Все его меры по этому поводу были на удивление робкими и бесплодными. Как же смог решиться его сын - гораздо менее авторитарный, склонный к компромиссам и к тому же поначалу чувствовавший не очень уверенно себя? Судя по тому, что мы знаем, решение о неизбежности отмены крепостного права созревало в сознании молодого царя постепенно на протяжении нескольких лет. Уже сразу после подписания Парижского мирного договора в марте 1856 года Александр II произнес свою знаменитую московскую речь, обращенную к дворянам: «Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам. Это несправедливо, и вы можете сказать это всем направо и налево. Но чувство враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастию, существует, и от этого было уже несколько случаев неповиновения к помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу». 85 Эта речь явна была прощупыванием почвы. Слова императора моментально разнеслись по всему государству. Помещики занервничали, многие задавались вопросом, как следует читать этот намек, что в нем важнее – первая или вторая часть? Возможно, Александр Николаевич пока и сам этого не знал. Разработка пока еще не проектов, а первых наметок крестьянской реформы была сосредоточена в МВД, где ею занялся товарищ министра, бывший близкий сотрудник Киселева А.И. Левшин. Сочувствовал реформе и престарелый министр С.С. Ланской. В ходе негласных консультаций Ланского и Левшина с предводителями дворянства выяснилось, что польские помещики cеверо-западных губерний не против освобождения крестьян, но без земли. Это была так называемая «остзейская модель» (по тому же сценарию еще Наполеоном были освобождены крестьяне в Польше). Этот вариант по понятным причинам был самым популярным и в среде помещиков (которые, оставив всю землю за собой, хотели бы еще и получить выкуп за «личность» крепостных). Однако в отличие от западных губерний, внутри России многие помещики предпочли бы вообще ничего не менять. Надо было как-то подтолкнуть «высшее сословие», но не перегибая палку. Так возник хитроумный план: изобразить отмену крепостного права как инициативу… самих помещиков. Логика была проста как все гениальное: если поручить дворянству разрабатывать реформу, оно не сможет, не осмелится выступить против своего государя и общественного мнения. Помещикам придется заняться делом, которому они в душе, может, и не сочувствуют, и тем самым разделить с властью ответственность за происходящее. И вот в ноябре 1857 года Александр II подписывает рескрипт виленскому генерал-губернатору Назимову: как бы в ответ на просьбу на местных помещиков, им разрешается открыть особый дворянский комитет и разработать основания будущей реформы. 86 Тем самым правительство впервые публично признало, что крепостное право вскоре будет отменено. Слово не воробей! Потихоньку похоронить дело стало уже невозможно, и борьба после этого разворачивалась уже не по поводу самой отмены крепостного права, а по поводу ее конкретных условий. Вскоре после этого «процесс пошел»: губернаторы прочих регионов стали наперебой заявлять, что и в их губернии дворяне жаждут послужить государю и отечеству. Рескрипты посыпались как из рога изобилия… А куда было деваться помещикам? Однако это было лишь начало длинного и сложного процесса. Как и следовало ожидать, губернские комитеты стремились придумать такой сценарий реформы, который устраивал бы только одну сторону: помещиков. К тому же проекты, которые они предлагали, были плохо совместимы друг с другом. Хуже того, и в правительстве толком не понимали как же освободить крестьян, чтобы не взбунтовались ни они, ни помещики. 1857 и 1858 годы прошли в колебаниях и полной неопределенности. Давать ли крестьянам землю и если да, то сколько? Откуда они возьмут деньги на ее выкуп? Должны ли они договариваться с помещиками сами, или при посредничестве государства? Кто будет ими управлять? (Надо заметить, что на огромной территории страны за пределами городов практически не было ни полиции, ни местного управления: казенными помещичьими – сами имениями крестьяне под управляли надзором их владельцы, немногочисленных чиновников. Так что крестьянская реформа помимо прочего требовала создания целой административной системы). И пока в центре и на местах все бурлило и обсуждались многочисленные, порой довольно экзотические варианты реформы, сами крестьяне молча ждали – и это ожидание было пугающим. Чего они хотят? На что согласятся? В эпоху, когда не было ни выборов, ни социологических опросов, единственным надежным каналом 87 коммуникации между правительством и низами обычно оказывался бунт. Но ведь целью реформ было как раз его избежать! Чтобы почувствовать атмосферу тех лет и переживания Александра II, надо представить, какой колоссальный груз ответственности лег на его плечи. Конечно, он понимал, что неудачные реформы иногда разрушительнее застоя. Именно так случилось во Франции в конце XVIII века: запоздалая попытка преобразований окончательно расшатала ветхий старый режим, и он просто рухнул под натиском революции. Россия не должна повторить этот сценарий! – эта мысль постоянно всплывает в записках, статьях и письмах тех лет. Но для этого Романовым следует быть мудрее и дальновиднее Бурбонов: не стоит потакать ни помещичьему эгоизму, ни анархическим инстинктам крестьян. Власть должна быть сильной, и она должна стоять над интересами разных сословий и групп. Она должна быть общенациональной. Именно такую идеологию и программу действий предложили Алекcандру II либеральные бюрократы. Еще в 1856 году Н.А. Милютин разработал в виде «пробного шара» для имения вел. кн. Елены Павловны в Карловке частный проект, по которому освобождаемые крестьяне наделялись землей за выкуп. Однако он был отклонен императором. Стержнем реформы уже на ранних стадиях ее разработки стал, таким образом, вопрос: с землей или без земли? Собственно, болезненное для власти и помещиков расставание с идеей безземельного освобождения и составило главную интригу первого этапа подготовки реформы. Почему правительство все же решило настаивать на обязательном наделении крестьян землей? Ответ на этот вопрос дает проведенный выше анализ идеологии и мировоззрения «либеральных бюрократов» (а именно они чуть позже в итоге и получили разработку реформы в свои руки): освобождение с землей мыслилось как залог социального мира, органического развития, соблюдения национальных традиций и т.д. 88 3 января 1857 г. из престарелых сановников был создан Секретный комитет по крестьянскому делу – верный признак того, что верховная власть пока еще пытается идти в решении крестьянского вопроса проторенными в николаевское царствование путями тайного кулуарного обсуждения паллиативных мер. Однако прежняя модель сохранялась недолго: уже летом того же года Александр II ввел в состав Секретного комитета своего брата вел. кн. Константина Николаевича, известного реформаторскими симпатиями. Стало ясно, что он желает подтолкнуть консервативных сановников к более оперативным действиям. Левшин от имени МВД разработал тем же летом общий очерк реформы, суть которого сводилась к промежуточному варианту: крестьяне получают землю под правительственным контролем, но временно, на переходный период, по истечении которого вольны выкупать ее у помещиков на основе свободных договоров. Именно этот план лег в основу программы, обнародованной в виде знаменитого рескрипта виленскому генерал-губернатору В.И. Назимову от 20 ноября 1857 г. В начале 1858 г. Секретный комитет был переименован в Главный комитет по крестьянскому делу (то есть переставал быть тайным). В разработанной им к апрелю «Программе занятий Губернских комитетов» последние наделялись самыми широкими полномочиями: подразумевалось, что дворянство не только само разработает по правительственным указаниям основные положения реформы, но и будет затем воплощать их в жизнь. При этом ни цели реформы, ни путь к ним внятно не определялись. В дворянских комитетах предсказуемо воцарился полный хаос. Власть же явно находилась в это время на перепутье. Неизбежны были подвижки в направлении радикализации реформы, ведь никакой позитивной программы консервативные круги придумать к тому времени не смогли, а гласность всей процедуры делала невозможным долгое топтание на месте. 89 Симптомом движения в новом направлении стала отставка Левшина (позднее на его место с приставкой «временно исполняющий должность» был назначен Н.А. Милютин). Роль толчка на самом «верху» сыграли «всеподданнейшие письма» Я.И. Ростовцева – сановника, пользовавшегося в то время очень большим личным доверием императора. Под нажимом Ростовцева и императора 4 декабря 1858 г. Главный комитет принял новую программу реформы, признававшую идею выкупа наделов, но ничего не говорившую о его принципах и условиях. В феврале 1859 г. под председательством Ростовцева были созданы Редакционные комиссии – межведомственный орган с участием специально привлеченных «экспертов» - помещиков и ученых. Реальным влиянием на ход дел в комиссиях пользовались лишь наиболее заметные члены, большинство из которых принадлежало к группе реформаторов: Н.А. Милютин и Я.А. Соловьев (МВД), М.Н. Любощинский и Н.П. Семенов (Министерство юстиции), М.Х. Рейтерн (Министерство финансов), А.П. Заблоцкий-Десятовский и К.И. Домонтовича (Государственная канцелярия), Ю.Ф. Самарин, кн. В.А. Черкасский и П.П. Семенов (члены-эксперты). Все эти люди были представителями того поколения элиты, которое сформировалось в 183040-е гг. под влиянием новых представлений и идей, охарактеризованных выше. Бесспорными лидерами комиссий в конце концов стал «триумвират» Милютина, Самарина и Черкасского. Название комиссий предполагало, что они будут редактировать проекты Губернских комитетов, сводя их в единый общеимперский проект, но с самого начала было ясно, что редактированием дело не ограничится. Фактически, благодаря влиянию Ростовцева комиссии получили карт-бланш на разработку того видения реформы, которое они считали нужным. Параллельно и вроде бы независимо от «крестьянского дела» Александр II утвердил создание еще нескольких ключевых комиссий: 90 Комиссии по устройству губернских и уездных учреждений при МВД под руководством Н.А. Милютина («полицейскую»), которая занялась административно-полицейской реформой (чуть позже она приступила и к разработке земской реформы); комиссию по устройству земских банков под руководством директора кредитной канцелярии Министерства финансов и члена Редакционных комиссий Ю.А. Гагемейстера (она должна была предложить дворянству новые принципы ипотечного кредита); Комиссию для пересмотра системы податей и сборов («податную»), учрежденную в 1859 г. под руководством того же Гагемейстера 65 банковских учреждений ; Комиссию по (которая преобразованию разработала государственных проект создания Государственного банка), и целый ряд других. Ключевыми деятелями всех комиссий были во многом одни и те же люди – Милютин, будущие министры финансов М.Х. Рейтерн и Н.Х. Бунге, а также несколько еще более молодых реформаторов типа будущего руководителя Государственного банка Е.И. Ламанского. Задачи 65 Кроме него, в комиссию входили еще 5 «либеральных» членов Редакционных комиссий: А.К. Гирс, Я.А. Соловьев, А.П. Заблоцкий-Десятовский, М.Х. Рейтерн, К.И. Домонтович. Близок к Податной комиссии был и Н.Х. Бунге. См.: Труды Комиссии, высочайше учрежденной 10 июля 1859 г., для устройства земских банков. Спб., 1860-1862. Т. 1. Проект положения о земских кредитных обществах. Т. 2. Материалы [Собр. уставов ипотеч. кредит. учреждений в Европе. Т. 3. Материалы для ипотечного вопроса. Т. 4. Проект положения о частных кредитных учреждениях, производящих операции по залогу недвижимых имуществ; Отчет о занятиях управляющего делами Комиссии, высочайше учрежденной для устройства земских банков В.П. Безобразова, представленный г. министру финансов 13 сентября 1860 г.; Отчет о действиях Комиссии, высочайше учрежденной 10 июля 1859 года для устройства земских банков, представленный г. министру финансов 28 ноября 1861 года членомуправляющим делами Комиссии В.П. Безобразовым. СПб., 1861; Проект устава "Поземельного банка" [Типовой]. Испр. 30 янв. 1861 г. по замечаниям... Комиссии для устройства земских банков. СПб., 1861. 91 комиссий также теснейшим образом переплетались. Освобождение крепостных должно было сопровождаться реформой местной власти. Кроме того, нужно было как-то финансировать крестьянскую реформу и преобразовывать архаичную систему прямых налогов, в основе которой лежала подушная подать. Почему же не было создано единой комиссии, которая разработала бы концепцию налоговой, банковской, крестьянской и административной реформ в их взаимной связи? Если бы мы спросили об этом у реформаторов, они сослались бы (эта мысль часто встречается в их переписке) на острый цейтнот и невозможность откладывать решение главного – крестьянского – вопроса. Но при всей внешней убедительности этого аргумента, у отсутствия единого штаба реформ были и иные небезосновательно причины. Во-первых, опасалось, что правительство общественное серьезно мнение и крайне болезненно воспримет тот факт, что столь коренные реформы поручено разрабатывать горстке людей, многие из которых почти не были известны публике, а иные пользовались репутацией «красных» и одновременно «типичных чиновников» (вспомним тогдашнюю идиосинкразию ко всему «бюрократическому»). Дробление инициатив призвано было сделать этот факт менее заметным. Во-вторых, реформаторы предпочитали «свободу рук»: многочисленные оппоненты и в самом правительстве, и в обществе могли потребовать от них единого плана преобразований (который отсутствовал), согласования их между собой (что в итоге так и не было сделано) и комплексного обсуждения (которое бы неизбежно выявило пробелы, недоработки и грозило похоронить каждую из реформ). Тактически решение «растасовать» реформы по комиссиям и «тянуть» каждую из них по отдельности было удачным ходом. Стратегически же оно привело к тому, что наиболее технологически сложные, инфраструктурные преобразования, требовавшие настойчивости, ресур 92 сов и политической воли (в частности, административная и налоговая реформы) так никогда и не состоялись. Между тем, в 1857-59 гг. молодые реформаторы (и правительство в целом) столкнулись с острейшим финансовым кризисом. В результате Крымской войны экономика оказалась накачана деньгами (война, естественно, финансировалась за счет печатного станка). Средства, которые могли бы пойти в производство, в основном осели на счетах кредитных учреждений или были потрачены за границей (после смерти Николая I русские получили право почти свободного выезда, чем многие поспешили воспользоваться)66. В 1857 г. министерство решило понизить процент выплат по вкладам с 4 до 3 процентов, то есть сделать их невыгодными67. Одновременно был открыт немного больший простор для создания акционерных обществ в надежде, что деньги потекут со вкладов на биржу и тем самым – в производство. Особое значение придавалось железнодорожному строительству, но уже не казенному, как в николаевские времена, а частному. Еще в 1856 г. при активном участии европейских банкиров было создано знаменитое Главного общество российских железных дорог, которому предстояло быстро построить 4 тысячи верст железнодорожных путей, соединив Петербург, Варшаву, балтийский порт Либаву (ныне Лиепая), Нижний Новгород и Феодосию. Стремясь поощрить инвестиции в затратное строительство магистралей, правительство гарантировало за счет 66 Записка А. М. Княжевича Александру II «О настоящем положении государственных финансов» // Судьбы России. Проблемы экономического развития страны в XIX — начале XX вв. СПб., 2007. 67См.:ПогребинскийА.П.Финансоваяреформаначала1860-хгодовXIXвека в России // Вопросы истории. 1951. № 10; он же. Государственные финансы России накануне реформы 1861 года // Исторический архив. 1956.№2.С.100. 93 бюджета 5-процентный доход по ценным бумагам Общества. Как грибы после дождя появлялись и другие акционерные компании. В стране началась настоящая биржевая лихорадка. Акций и облигаций не хватало на всех желающих, котировки резко росли в ожидании невероятных прибылей, из казенных кредитных учреждений было изъято около полутораста миллионов рублей. Результаты такого раздувания биржевого «пузыря» оказались предсказуемо печальными. Европейцы покупать русские ценные бумаги не спешили, и та их часть, которую планировалось разместить в Европе, в основном перекочевала на русскую биржу. Между тем, не спешили строиться и железные дороги («вдруг» выяснилось, что дело это в российских условиях чрезвычайно затратное и коррупционное). В 1859 году бумаги Главного общества рухнули, вызвав биржевую панику и острейший финансовый кризис. Казна прекратила выдачу ссуд под залог имений. Дополнительная эмиссия 100 млн руб. дала лишь временный эффект. Для консолидации вкладов правительство вынуждено было выпустить сначала 4%-ные «непрерывно-доходные билеты» с неясным сроком погашения, которые успехом не пользовались и только ухудшили ситуацию, а затем 5%-ные облигации на огромную сумму в 275 млн руб., которые также размещались очень вяло. Наличность в казенных банках к тому времени истощилась, курс рубля упал, и правительство оказалось перед реальной перспективой, как бы сейчас сказали, дефолта. Именно эти обстоятельства, как показал Стивен Хок, привели к тому, что реформаторы постарались обставить выкупную операцию так, чтобы она развертывалась медленно и постепенно. Правительство в итоге не только не потратило на эту операцию ни копейки казенных денег, но еще и намеревалось получить от нее прибыль (которую планировало обратить в «запасной капитал» с неясным назначением). Хок совершенно справедливо указывает на разительный контраст этих условий с 94 финансовыми условиями крестьянских реформ в Австрии и Пруссии, где государство покрыло очень значительную часть выкупа, а сам выкуп был обязательным68. Столь стремительную смену декораций, переход от радужных ожиданий к паническим настроениям, от избытка «ликвидности» к ее нехватке переживали, и не раз, многие страны. Специфика России заключалась разве что в скорости произошедшего и в том, что кризис был вызван неумелыми действиями самого правительства. Таким образом, первые несколько лет перехода страны к жизни «по-европейски» закончились довольно обескураживающе. Главной причиной было отсутствие условий для естественного развития рынка: соответствующего законодательства, эффективных судов, финансовой инфраструктуры, культуры предпринимательства. Представления о том, как работает экономика, отсутствовали не только у обывателей, но и у многих высших сановников империи. Профессиональная экспертиза и оценка рисков делали первые шаги, и многое приходилось делать методом проб и ошибок. Фиаско с акционерным учредительством конца 1850-х годов и спровоцированный им банковский кризис серьезно затормозил развитие страны. Про его влияние на крестьянскую реформу уже говорилось. Во многом по этой причине отмена крепостного права вызвала поначалу не подъем, а спад аграрного производства и завязала множество «узлов», распутывать которые пришлось уже во времена П. А. Столыпина. Вовторых, во многом из-за финансовых трудностей так и не была проведена 68 Хок С. Банковский кризис, крестьянская реформа и выкупная операция в России. 1857-1861 // Великие реформы в России, 1857-1874. / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992. С. 90-106. См. об этом также: Татаринов С.В. Финансово-экономические кризисы второй половины XIX в. и Государственный банк Российской империи. Дисс. … канд. ист. наук. М., 2012. С 122-139. 95 коренная налоговая реформа. В новую эпоху страна вступала с архаичной и крайне несправедливой фискальной системой, когда налоги платила главным образом бедная часть населения. Вплоть до революции 1917 года эта система почти не изменилась. Министром финансов в 1857-62 гг. был прогрессивно настроенный А.М. Княжевич, правой рукой которого был Ю.А. Гагемейстер, выведший на первые роли в ведомстве целую плеяду молодых и амбициозных представителей экономической науки – Рейтерна, В.П. Безобразова, Е.И. Ламанского, Ф.Г. Тернера. Нельзя сказать, что Княжевич, как и его преемник Рейтерн (1862-1878) и их ближайшие советники и сотрудники, определявшие финансово-экономический курс правительства, «застряли» в прошлом. Все они были прекрасно знакомы с новейшими тенденциями в экономической науке. Многие упрекали их в том, что они «далеки от русской жизни» и «слепо следуют заграничным образцам», но проблема заключалась скорее в обратном: формально следуя либерально-экономической действовали все же действовали теории, они слишком «по-российски», с часто твердой уверенностью, что правительству (а точнее – им самим) подвластно в экономике почти все. Характерна в этой связи история основания Государственного банка в 1860 г. – одна из важнейших, хотя и малоизученных реформ в сфере экономики. Он должен был прийти на смену ликвидируемым дореформенным кредитным учреждениям, которые (в чем ни у кого не было сомнений) не могли существовать в новых условиях 69 . Первоначально планировалось, что будет создан независимый от 69Бугров А.В. Создание Государственного банка// Бугров А.В. Очерки по истории Государственного банка Российской империи. М., 2001; Лизунов П.В. Создание Государственного банка. Устав 1860 года // История Банка России.1860-2010.Т.1.М.,2010. 96 казначейства (на акционерных началах) эмиссионно-кредитный банк (каковые существовали в то время, например, в Англии и Франции). Независимость, право эмиссии, собственный капитал и кредитные операции главного национального банка в конечном счете не только гарантировали бы устойчивость национальной валюты, но и создавали бы основу для развития в стране современной банковской системы. Судя по воспоминаниям Ламанского, первоначальная разработка реформы прошла не просто в келейной, а чуть ли не в домашней обстановке: «Еще до собрания [Банковской] комиссии я пригласил Бунге к себе на дачу и после обеда начертал на листе бумаги свой план преобразования нашей банковской системы», который и лег в основание работ комиссии 70 . Однако затем столь же келейным образом (не сохранилось даже какихлибо протоколов или журналов обсуждения) решено было отказаться от всех наиболее существенных параметров первоначального плана. В итоге созданный в 1860 г. Государственный банк фактически был лишен самостоятельности (воспринимался как подразделение казначейства), права эмиссии и акционерного характера. В целом, опыт финансового кризиса подействовал на руководство профильного министерства, может быть, даже слишком отрезвляюще. Политика министерства финансов в 1860-70-х гг. была робкой, непоследовательной и диктовалась не столько экономическими, сколько бюджетными соображениями. Свести с наименьшим дефицитом бюджетный баланс и укрепить курс рубля – таковы были приоритеты и Княжевича, и Рейтерна. Конечно, это были вполне почтенные цели. Однако стратегическому курсу на ускоренное развитие экономики России они никак не соответствовали. Кроме того, под влиянием доктрины и в условиях острого дефицита практического опыта руководства экономикой молодые экономисты продолжали совершать крупные 70 Там же. С. 122. 97 ошибки. Пожалуй, самой серьезная из них была сделана вскоре после отмены крепостного права. В 1862–1863 годах Рейтерн и Ламанский потратили несколько десятков миллионов рублей – огромную по тем временам сумму! – на восстановление свободного размена ассигнаций на серебро. Предполагалось, что это укрепит курс рубля и придаст устойчивость финансовой системе. Деньги для осуществления этой операции были позаимствованы за границей. Но расчет оказался неверным: серебро утекло в карманы спекулянтов, размен был прекращен, а курс в итоге упал еще ниже. Простого объявления о том, что «правительство приказывает рублю быть устойчивым», для создания финансовой стабильности оказалось явно недостаточно. Нужна была кропотливая работа по подъему национальной экономики. В целом же вплоть до 1861 г. успешно и быстро продвигалась лишь подготовка крестьянской реформы. Залогом успеха была колоссальная работоспособность Редакционных комиссий и жесткая позиция императора, требовавшего от всех не тормозить «святое дело» освобождения крестьян. Следует иметь в виду, что деятельность комиссий сопровождалась мощной агитацией как за, так и против их программы (первоначальную оппозицию в своем составе большинству комиссий удалось успешно скомпрометировать в глазах императора, но за пределами их стен недовольство их методами и сутью работы было очень распространено) 71 . Обе стороны активно прибегали к распространению слухов, демагогии и передержкам, что необычайно накалило атмосферу в обществе. Все это, понятно, не способствовало спокойному и взвешенному обсуждению, и сгустившуюся до предела атмосферу вокруг реформ нужно постоянно иметь в виду при анализе их истории. 71 Христофоров И.А. “Аристократическая” оппозиция Великим реформам (конец 1850 – середина 1870-х гг.). М., 2002. Гл. 1. 98 Большинство других межведомственных комиссий не спешили с составлением окончательных проектов, ссылаясь в том числе и на то, что налоговые, банковские, административные и прочие преобразования зависят от крестьянской реформы будут определяться ее параметрами. Системность реформ, необходимость их восприятия и оценки в совокупности и взаимосвязи, очевидные современникам, довольно часто недооцениваются историками. В следующей главе феномен Великих реформ будет рассмотрен именно с этой точки зрения. Отмена крепостного права и ее последствия Редакционным комиссиям предстояло детально разработать множество общих, фундаментальных и сугубо технических параметров реформы. Практически с самого начала их работы стало ясно, что закон должен не столько задавать общую рамку реформы (как того хотели помещики и как первоначально рассчитывало само правительство), сколько заранее предрешать все ее нюансы и детали 72 . Эта задача казалась – и была – фантастически сложной. Действительно, раз наделение становилось обязательным, правительство должно было предписать, сколько земли в той или иной местности должны получить крестьяне, и сколько они должны за нее заплатить помещику (пусть не точную цифру, но некую рамку, а также принцип расчета). При бесконечном разнообразии местных условий затея априорно определить эти величины в столице могла показаться авантюрой. Реформаторы нашли гениальное, как казалось, решение: опереться на существующий надел, но ограничить его неким минимумом и максимумом. Эти цифры рассчитывались, исходя из 72 См. подробно: Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права. М., 1984. 99 усредненных статистических данных о среднем наделе по той или иной местности. Логичным выглядел и следующий ход: в основу оценки выкупной стоимости надела должен лечь существующий оброк. Тем самым удавалось избежать сложных процедур кадастровых оценок и определения рыночной стоимости земли. Если дореформенный надел превышал максимум, производилась отрезка; она также производилась, если у помещика после наделения крестьян оставалось менее 1/3 от удобной земли имения. Если дореформенный надел был меньше минимального (что было крайне редко), крестьянам полагалась прирезка. Помещик мог, конечно, не отрезать «излишек». Но закон однозначно признавал правилом, что, во-первых, установленный ими директивно размер максимального оброка (на основе которого определялся выкупной платеж с помощью 6%-ной капитализации) за редкими исключениями превышать нельзя, и во-вторых, что помещик не имеет права назначать оброк выше того, что крестьяне платили до реформы. Нужно также учесть систему «градации»: оброк понижался не пропорционально уменьшению надела, а так, что на первую десятину надела приходилось 50% его суммы, на вторую – 25%, а остальные 25% распределялись на всю оставшуюся сверх 2 дес. землю. Получалось, что повышение надела сверх двух десятин на душу помещику почти ничего не дает. Иначе говоря, помещики получали «премию» за сокращение наделов и абсолютно никаких выгод – за их увеличение. Все эти процедуры в совокупности вели к усреднению наделов, подгонке их под определенный «потолок»73. Но что еще важнее – они позволяли правительству контролировать размах выкупной операции. Как известно, что казна взяла на себя 73 Кащенко С.Г. Освобождение крестьян на Северо-Западе Экономические последствия реформы 19 февраля 1861 г. М., 2009. России. 100 обязательство выступить посредником между помещиками и крестьянами: после перехода на выкуп помещики получали от правительства 75-80% от общей причитавшейся им за землю суммы, но с вычетом прежних ипотечных долгов и большую часть не наличными, а облигациями, которые нельзя было конвертировать по номиналу. В условиях банковского кризиса реформаторы постарались всячески затормозить массовый переход на выкуп и ограничить размеры ссуд: отчасти отсюда возникла идея ограничения наделов и поощрения отрезков74. Крестьяне же должны были возмещать эту правительственную «ссуду» казне (с начислением 6% годовых) так называемыми выкупными платежами в течение 49 лет после перехода на выкуп. Последние крестьяне перешли на выкуп в 1883 г., соответственно, сама операция должна была закончиться в начале 1930-х гг. К этому времени (если бы операция продолжалась, как было запланировано) они выплатили бы суммы, в несколько раз превышавшие размер первоначальной ссуды. Вся эта чрезвычайно громоздкая и малопонятная система была разработана с целью как-то обеспечить крестьян, не слишком сильно обидеть помещиков и еще и соблюсти выгоды казны75. При этом с точки зрения технологий, ресурсов и администрирования эти цели, казалось, достигались с поразительной легкостью: без всяких измерений, межеваний, оценок, сложных 74 Хок С. Банковский кризис, крестьянская реформа и выкупная операция в России. 1857-1861 // Великие реформы в России, 1857-1874. / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992. С. 95-105. 75 Кованько П.Л. Положения 19 февраля 1861 г. с финансовой точки зрения (выкупная операция). Киев, 1914. 101 бюрократических процедур и т.п. 76 Ключевой фигурой в процессе реализации реформы выступал мировой посредник – представитель местного дворянства, но подконтрольный не ему, и даже не губернатору, а прямо Сенату. Посредник должен был обеспечить введение в течение двух лет с момента реформы уставных грамот (документов, описывавших статус кво в имении), а затем - помогать в заключении и контролировать соответствие закону выкупных договоров. Помещик мог отказаться от выкупа, крестьяне, если помещик его желал – нет (если и его желания не было, крестьяне оставались во «временно-обязанном состоянии» на условиях, зафиксированных в уставных грамотах). По утверждении выкупных договоров в Петербурге помещик получал из казны свои деньги, а крестьяне – громкий титул «крестьянсобственников». Тот же посредник должен был надзирать (но не вмешиваться) за крестьянским самоуправлением (общинным и волостным), которому передавались самые обширные полномочия внутреннего уголовного и гражданского суда, низшей полиции и благоустройства на крестьянских землях. Тем самым и здесь правительство «экономило» на реформе: при крепостном праве оно перекладывало административно-полицейские и судебные обязанности в деревне на помещика, теперь его место заняли выборные от крестьян (на самом деле они занимались этим и при помещике, но под его ответственностью). Еще большая экономия на логистике достигалась за счет того, что и уставные грамоты, и выкупные договоры заключали не отдельные крестьяне (семьи), а целиком сельские общества. В их распоряжение передавалась также надельная земля (и до выкупа, и после), ее распределение между отдельными дворами и проч., причем 76 См.: Христофоров И.А. От Сперанского до Столыпина: крестьянская реформа и проблема землеустройства // Российская история. 2011. № 4. С. 2743. 102 даже там, где общинного землепользования исторически просто не существовало (в Западном крае)77. Никаких прав собственников своих наделы отдельные крестьянские хозяйства не получали ни после перехода на выкуп, ни даже в случае досрочной выплаты всей выкупной суммы. Земельной собственности отдельной семьи просто не существовало: все наделы были «растворены» в общем массиве общинных земель и ни юридически, ни технически не могли быть выделены без общего передела и выдачи индивидуальных документов на право владения/собственности. Лишь спустя 45 лет после отмены крепостного права эта задача начала решаться во время столыпинской реформы. Но к тому времени ситуация с землепользованием и собственностью оказалась уже крайне запутанной, и восстановить, кто за что платил, и что должен получить, было просто невозможно. Столыпинская администрация и не собиралась «распутывать» клубок, она вынуждена была его «разрубать», что, конечно, не принесло в деревню мира и спокойствия. Наконец, крестьянам после 1861 г. в течение 9 лет было запрещено отказываться от наделов, а выходить из общины они могли только с ее согласия и уплатив половину выкупной ссуды (при этом они лишались прав на надел и не получали никакой компенсации). Если учесть еще и круговую поруку, становится ясно, что «освобождение» крепостных было достаточно условным: место помещика заняли община и чиновники, от которых зависели его достояние и свобода. Конечно, крестьянина уже нельзя было лишить имущества, переселить, произвольно наказать – но на свободного повинностями гражданина человек, не этот обремененный способный выбирать обязанностями без и соблюдения 77 Христофоров И.А. Судьба реформы: русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830-1890е гг.). М.:, 2011. С. 238-273. 103 множества формальностей ни место жительства, ни род занятий, тоже был не слишком похож. Отказ от «ломки» существовавших институтов (общины, круговой поруки, обычного права) и коренившихся в этих институтах реалий (экономической взаимозависимости крестьян и помещиков, административно-правовой изолированности крестьянства) означал, что реформа станет неотменимым фактом в сравнительно короткие сроки. Нельзя забывать, что она разрабатывалась под мощным прессингом антиреформаторских сил, и опасения, что начатое дело будет вырвано из рук и «искажено», в очень большой степени определяли настроение большинства членов Редакционных комиссий. Но с правовой точки зрения в принятом законе было множество пробелов. Собственность как правовая категория вообще систематически подменялась в ходе подготовки реформы, а затем и в законе либо социально-политическими конструктами, смысл которых можно было понимать совершенно поразному («оседлость», «прочное обеспечение»), либо сугубо внешними определениями («надел», «участок»), не имевшими юридического содержания. Редакционные комиссии достаточно открыто признавали, что крестьяне не готовы сразу стать собственниками, что они должны предварительно подвергнуться процедуре «гражданского воспитания». Кроме того, в среде реформаторов были как сторонники развития в крестьянской среде частной собственности, так и противники этого, считавшие, что надо сохранять и укреплять общину. Были и те, кто колебался. В итоге было решено этот вопрос не заострять и отложить на будущее. Но фактически такое решение означало, что огромной сложности преобразование лишается четкой цели. Важно также подчеркнуть: поскольку выкупу фактически подверглась не земля, а личные повинности крепостных, механически переложенные на землю, то ни к рыночной стоимости земли, ни к ее 104 значимости для крестьянского хозяйства выкупные платежи не имели никакого отношения. Это означало, например, что во многих местностях, где земля была дешева и/или неплодородна, где основные доходы крестьянам давали промыслы, она составляла для них обузу, а не благо (отсюда, в частности – и запрет отказа от наделов и свободного выхода из общины). Почему же не была посчитана реальная стоимость земли? Вопервых, это ударило бы по помещикам промысловых местностей, основной капитал которых заключался не в земле, а в труде крепостных. Прямо же объявить, что выкупается не земля, а труд, то есть личность крепостного, а земля к нему лишь «прикладывается», правительство не считало возможным – это кардинально противоречило бы риторике, обосновывавшей реформу. Во-вторых, такие оценки потребовали бы значительного времени и могли быть сделаны только на местах, а передавать реформу в чьи-либо руки мешало реформаторам глубокое недоверие и к помещикам, и к местным властям. В-третьих, оценка потребовала бы общего межевания и развития землеустроительных технологий, на что у правительства не было ни денег, ни времени. Поэтому, в частности, решено было вообще не делать обмер земель крестьян и помещиков обязательным 78 . Планы крестьянских земель, которые прикладывались к уставным грамотам и выкупным документам, были сугубо ориентировочными, а зачастую составлялись наобум или вообще не составлялись, что закладывало колоссальную неопределённость в отношения собственности в русской деревне. Земли крестьян и помещиков, разных сельских обществ почти всегда лежали чересполосно, что провоцировало бесконечные конфликты и к тому же делало невозможной масштабную рационализацию землепользования 78 Христофоров И.А. Судьба реформы… С. 142-148. 105 (скажем, переход от трехполья к многополью, развитие скотоводства и т.п.)79. В дореволюционной народнической и в советской историографии реформу 1861 г. принято было считать недостаточно благоприятной для крестьян и даже «грабительской», а реформаторов обвинять в том, что они «пошли на поводу» у помещиков. При этом, как правило, имелось в виду (такие оценки часто воспроизводятся в литературе и поныне), что они получили слишком мало земли и вынуждены были платить за нее слишком много. Такая «валовая» критика реформы представляется поверхностной и необоснованной. Слабые места реформы заключались скорее в ее недостаточной правовой проработанности, в отсутствии в принятом законе «механизмов развития». Увлекшись сохранением «преемственности» и согласованием противоречивых интересов казны, помещиков черноземных, нечерноземных и степных, крупных и мелких, крестьянского «мира» и отдельных домохозяев, реформаторы создали поистине монументальную законодательную конструкцию, в которой, однако, не было заложено главного: потенциального движения, стимулов к переменам. О том, нравятся ли условия освобождения самим крестьянам, их, разумеется, никто не спрашивал. Помещиков же не устраивала, как они выражались, «регламентация»: неужели никому не ведомые бюрократы лучше знают, что нужно и им, и крестьянам? Наши симпатии, конечно на стороне бедных и бесправных крестьян. Однако, мне кажется, что на эту реформу, как и на любую другую, не совсем верно смотреть как на «раздел большого пирога». Для будущего страны гораздо важнее было не 79 Герман И.Е. Земельные дела в западноевропейских государствах. Кадастр, межевание, землеустройство, земельные книги и землемерное образование во Франции, Пруссии, Австрии и Водском кантоне Швейцарии. Спб., 1913. С. 1-6. 106 то, «кому больше досталось» в 1861-м году, а то, появятся ли и у крестьян, и у помещиков условия для спокойного, мирного развития их хозяйств, для вхождения и тех, и других в новые, рыночные условия существования. В принципе, именно этого совершенно искренне желали и реформаторы, и сам Александр II. Удалось ли? К сожалению, приходится признать, что нет. И вовсе не из-за жадности помещиков, как писали (а может быть, и до сих пор пишут) в учебниках истории. Объявление «воли» прошло относительно мирно, немногочисленные протесты крестьян были сравнительно легко подавлены. Помещики покряхтели, пожаловались, и занялись хозяйством (а некоторые предпочли от него избавиться и вложить деньги в другие отрасли экономики). Какого-то аграрного кризиса в 1860-1870-е годы не наблюдалось. Но не было и ощутимого роста. Да и не могло его быть, ведь наделы крестьян уменьшились и продолжали таять (в пересчете на душу населения, которое постоянно и быстро росло). И настоящей свободы крестьяне так и не получили. Да, они уже не зависели от помещика (разве что как от богатого соседа), но не могли свободно распоряжаться собой, своим трудом и имуществом. Чувствуя, что наделы по настоящему им не принадлежат, крестьяне очень неохотно инвестировали в их улучшение. При этом они продолжали с неприязнью и даже ненавистью смотреть на помещичьи усадьбы. Социальный антагонизм между бывшими крепостными и их бывшими владельцами никуда не исчез. Он даже вырос, стал гораздо более жестким: ведь теперь помещики никак не были заинтересованы в благополучии крестьян (при крепостном праве от этого благополучия зависело их собственное: нищие крестьяне – бедный владелец, и наоборот). Самое же печальное заключалось в том, что никакого выхода из этой ситуации в перспективе не просматривалось. К концу 1870-х 107 годов крестьянская реформа явно зашла в тупик, и никто уже толком не понимал, в чем же заключалась ее изначальная цель. Можно ли было провести отмену крепостного права иначе? Сейчас, по прошествии полутора веков, мы понимаем, что стоило бы дать крестьянам больше самостоятельности, не сковывать их инициативы панцирем общины, не бояться, что часть из них утратит связь с землей и окажется в городах. Правительству следовало бы облегчить переселения, инвестировать в создание в деревне того, что юристы называют «верховенством права», приучать крестьян жить по общегражданским законам, уважать собственные права и права соседей. Всего этого не было сделано в основном из-за приверженности самого Александра II и большинства реформаторов к ценностям той эпохи, в которой они сформировались и выросли: николаевской эпохи опеки и контроля. В итоге недоверие к крестьянам и к их способности самостоятельно решить свою судьбу дорого обошлось России… Получается, что сохраняя существующую систему землепользования и фиксации прав владения, отказываясь не то, что решать, но даже ставить задачу ее рационализации и ввода в современные правовые рамки, реформаторы фактически заложили фундамент той реальности, которая к исходу века вызвала масштабный социальный кризис в деревне. Причины его заключались в том, что за несколько десятилетий существенно выросло население, изменились потребности и менталитет крестьян, с появлением промышленности и железных дорог принципиально изменился доступ к рынкам труда и сбыта, кое где усовершенствовалась агротехника. Однако созданные в 1861 г. институты как панцирем сковывали развитие аграрной экономики и рождали множество достаточно уродливых явлений. Чего стоила поразительная скученность населения во вдоль и поперек выпаханных районах старой 108 культивации – и это в стране, где оставались неосвоенными огромные земельные пространства! С другой стороны, помимо объективных причин, сводящихся к «недоуправляемости» сельской России и ее правовой отсталости, у решений, принимавшихся реформаторами, были и субъективные причины. Коренились они в достаточно критическом отношении к частной собственности и западному типу экономического развития, которые признавалась несоответствующими задачам социальных реформ. Приоритетом поэтому становилась не частная собственность, а крестьянская «оседлость» - по сути, парафраз крепостного права, только без помещиков. Крестьяне мыслились «укорененными» в своих наделах, а их быт рассматривался как чуждый «западным» представлениям о собственности и праве. Славянофильская риторика оказывала мощное воздействие даже на тех реформаторов, которые изначально скептически относились к общине. С этой точки зрения (которую в комиссиях активно поддерживал Ю.Ф. Самарин), отмеченные особенности реформы были большим достоинством, поскольку закон «не навязывал крестьянам чуждых им понятий»80. Конечно, заложенные в «Положениях» 19 февраля 1861 г. параметры реформы могли бы быть позже скорректированы. Однако на протяжении 1860-1870-х гг. Главный комитет об устройстве сельского состояния - высший орган надзора за «крестьянским делом», созданный в 1861 г. – последовательно отвергал все попытки отдельных министров способствовать развитию у крестьян «частной собственности». Вел. кн. Константин Николаевич, возглавлявший комитет, и многие его члены – бывшие сотрудники Редакционных комиссий – считали своим долгом оберегать дух и букву «Положений», главным достоинством которых считалось как раз обеспечение (пусть и принудительное) «оседлости» 80 Христофоров И.А. Судьба реформы… С. 81-100, 160-177. 109 крестьянства и невмешательство в его «естественный быт». Впрочем, попытки как-то «перенаправить» ход реформы, которые предпринимались в основном министром внутренних дел (1861-68) и государственных имуществ (1872-1878) П.А. Валуевым и министром финансов М.Х. Рейтерном были достаточно робкими и никак не могли претендовать на то, чтобы считаться альтернативной «программой». Дело в том, что всем министрам было известно: император считает «Положения» 19 февраля главным достижением своего царствования, и любые попытки скорректировать их будут интерпретированы им как посягательство на «святое дело». В этих условиях политика правительства в «крестьянском вопросе» в 1860-70-е гг. была обречена на топтание на месте. Вновь проблемы развития деревни были подняты только во время кризиса рубежа 1870-80-х гг. Земская реформа и становление местного самоуправления Освобождение крестьян вызвало настоящую цепную реакцию глубоких преобразований. Наиболее известными и важными были земская и судебная реформы 1864-го года, а также введение всесословной воинской повинности в 1874-м году. Именно эти реформы создали в стране новую правовую реальность, ведь мало было объявить крестьян свободными, необходимо было создать условия для того, чтобы у каждого подданного российского императора появилась не только свобода от, но и свобода для, то есть возможность реализовывать себя, становясь полноправным членом общества. Процесс этот не мог не затянуться на долгие годы, но именно Великие реформы создали для него нужные условия и институты. Главными из них были те, что касались повседневной жизни людей и защиты их прав, иначе говоря, местного самоуправления и суда. 110 Местное самоуправление пыталась создать в России еще Екатерина Великая, но прижилось оно плохо. Городские думы, которые она ввела, никаких реальных прав не имели и потому вызывали у горожан очень мало энтузиазма. Дворянское сословное самоуправление было более успешным, но касалось оно лишь незначительного меньшинства населения. Крестьяне, конечно, в каком-то смысле тоже «самоуправлялись» в своих общинах, только при крепостном праве это вряд ли делало их жизнь намного легче. Цели реформаторов в 1860-е годы были несоизмеримо масштабнее. Фактически, речь шла о том, чтобы дать людям возможность самим определять потребности местного хозяйства, образования, здравоохранения, объемы собираемых на эти нужды налогов, формы и способы контроля за расходованием средств. «Положения» 19 февраля 1861 г. формально не имели прямого отношения к общей административной структуре и ничего о ней не говорили. Однако тот факт, что, повсеместно создавая органы сословного крестьянского самоуправления (сельского и волостного), они закладывали фундамент этой структуры, который во многом определял конструкцию последующих «надстроек», был очевиден и являлся поводом для их критики еще до 19 февраля. В основном эта критика велась с позиций всесословности: консервативное чиновничество и дворянство было возмущено тем, что помещики лишались всякого влияния на крестьянское самоуправление и требовало установить в той или иной форме опеку над ним «высшего сословия». Проще всего это было сделать в форме «всесословной волости». Задачей реформаторов, наоборот, было не допустить усиления роли дворянства в местной жизни и по возможности изолировать крестьян и от помещиков, и от чиновников. С этой целью необходимо было, наоборот, избежать создания низшей земской единицы: в волости тогда были в наличии только бывшие крепостные, их помещики, государственные 111 крестьяне и приходские священнослужители, так что «всесословное самоуправление» если не по сути, то по составу автоматически становилось бы похоже на прежнюю систему помещичьей власти над крепостными. Задачей реформаторов было также обеспечить максимально возможное представительство крестьян и в уездных земских собраниях, что возможно было сделать, только разделив выборы гласных по сословным куриям (при всесословной системе крестьяне, которые зачастую рассматривали избрание в гласные как обузу, предпочли бы выбрать представителей дворянства). Так вырисовалась двухзвенная конструкция земств: гласные уездных собраний избираются по куриям: от сельских обществ, землевладельцев и городских обществ, гласные губернских избираются из числа уездных. В итоге представительство крестьян в уездах было довольно значительным, но в губернских собраниях резко падало (мало кто из них мог позволить себе отправиться в губернский город на неоплачиваемую сессию). Уездные земства были автономны по отношению к губернскому (то есть формировали свои собственные бюджеты и самостоятельно решали дела, относящиеся к уездному хозяйству). Относительно независимое существование уездных и губернских органов, а также отсутствие всякой связи даже между земствами соседних губерний имело целью «раздробить», локализовать земские инициативы, не допустив их объединения в «политических» целях. В начале 1861 г. Милютин в качестве уступки помещикам был отправлен в отставку и уехал в отпуск, и разработка Земского положения завершилась уже при новом министре, консерваторе Валуеве. Тот имел по едва ли не диаметрально противоположные взгляды на местное управление и задачи земств (как, кстати, и на крестьянскую реформу), но не смог «продавить» в комиссии свою точку зрения. В итоге «валуевский» подход не вытеснил «милютинского», а как бы «наслоился» 112 на него, структура же земств в целом отражала все же взгляды «либеральной бюрократии». Ключевым из сохранившихся «милютинских» положений был даже не сословный принцип формирования собраний, а определение их компетенции. Предложения комиссии базировались на идее об отделении административно-полицейской власти от хозяйственно-распорядительной. Милютин четко выразил свой взгляд: «Хозяйственное управление, как чисто местное, очевидно, не может и не должно нисколько касаться государственных дел, ни интересов государственной казны, ни суда, ни, наконец, полиции исполнительной, сего главного местного органа центральных учреждений. Вне этих отраслей собственно правительственной деятельности остается обширный круг местных интересов, большей частью мелочных, так сказать, обыденных и для Высшего Правительства не важных, но составляющих насущную потребность местного населения» 81 . Зато в этом кругу деятельность местного самоуправления освобождена от всякой должна опеки была, с по его мнению, предоставлением им быть полной самостоятельности. Нельзя не признать, что такое понимание сущности земств, при внешней его Действительно, стройности, как же было все определить, же где весьма схематичным. именно кончаются «государственные» интересы и начинаются «местные»? Вопрос этот, может быть, и не имел бы принципиального значения, если бы не считалось, что органы самоуправления имеют особую, отличную от общегосударственной, сферу деятельности. В рамках же «милютинского» подхода он становился принципиальным. Резонный ответ: «покажет практика» в данном случае едва ли годился, поскольку закону как раз и предстояло эту практику создать. 81 Морозова Е.Н. Указ. соч. С. 194-195. 113 Дополнительные сложности в разграничении компетенции создавались в России общей неразработанностью правовых аспектов управления. По справедливому наблюдению Е.А. Правиловой, «российское законодательство XIX — начала XX в. характеризовалось не только отсутствием четкого разделения властных полномочий между уровнями и органами управления, но и отличалось обилием общих формулировок, отсылочных положений и тем самым предоставляло широкие возможности административному усмотрению»82. Отсутствие же общественного контроля за действиями администрации неизмеримо усиливало эти возможности. Даже спустя несколько десятилетий после реформы эта проблема все еще казалась власти неразрешимой. По признанию видного государственного деятеля начала XX века, товарища министра внутренних дел В.И. Гурко, в провинции административная власть оставалась «альфой и омегой», что сильно ее развращало. «Те лица, которые в Петербурге, занимая даже высшие должности, держались совершенно скромно и ни в чем не проявляли ни высокомерия, ни самодурства, попавши в провинцию, нередко распускали павлиний хвост и становились почти неприступными»83. Между тем проблема разграничения компетенции администрации и земств имела не только теоретическое или административное, но и финансовое измерение, поскольку новые земские органы должны были заниматься составлением смет и раскладок земских сборов и дальнейшим их расходованием на самые разнообразные нужды. В тогдашней Европе существовало достаточно много вариантов разграничения местных (муниципальных), региональных и центральных бюджетов, демонстрировавших, что децентрализация власти есть прежде всего 82 Правилова Е.А. Законность и права личности… С. 47. Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 153-154. 83 114 децентрализация финансовых потоков, и что этот аспект самоуправления является полем для разнообразных конфликтов интересов. Но самый, пожалуй, важный недостаток этого подхода, на который впоследствии указывали многие критики Земского Положения, заключался в том, что органы самоуправления, не получив никакой связи с полицией на местах, оказывались как бы лишенными «рук, ног и глаз». В свою очередь, административно-полицейская «вертикаль» по-прежнему не имела опоры на «местные силы», оказавшись даже еще более отчужденной, «внешней» по отношению к местному обществу, чем это было до реформы, когда ей, по крайней мере, не с кем было конкурировать. Жесткое разделение компетенции земств и государственных структур позволяло «либеральной бюрократии» надеяться не только сохранить в руках правительства «политическую» инициативу, но и не допустить «прорастания» новых органов самоуправления на низший и высший административные этажи. А ведь именно там, в рамках гипотетической «всесословной «законосовещательного волости» представительства» и поместное центрального дворянство, оценивавшееся реформаторами как сила, угрожающая их планам, могло бы реально влиять на подготовку и реализацию реформ. Собственно, именно расширения самоуправления «вниз» и «вверх» добивались и дворянские оппозиционеры разных оттенков, и П.А.Валуев. Серьезно относясь к таким претензиям, Милютин заявлял еще в 1859 г.: “Никогда, никогда, пока я стою у власти, я не допущу каких бы то ни было притязаний дворянства на роль инициаторов в делах, касающихся интересов и нужд всего народа. Забота о них принадлежит правительству; ему и только ему одному принадлежит и всякий почин в каких бы то ни 115 было реформах на благо страны” противник ограничения 84 . Таким образом, убежденный самодержавия, Милютин, отводя для деятельности земства некое «огороженное поле», видимо, пытался, помимо прочего, заблокировать бесплодные, на его взгляд, «конституционные» поползновения «высшего сословия». В какой мере земское самоуправление было работоспособным и как оно вписалось в общую административную структуру? Надо заметить, что в уездах никакого коронного института, объединявшего власть, просто не существовало (функции исправника были все же весьма узкими). Так что здесь земства автоматически приобретали значительные вес и фактически становились главным административно-хозяйственным институтом. В губерниях же закон существенно ограничивал права чиновников контролировать земства. Губернатор имел право открывать сессии земских собраний и присутствовать на них, но не право вмешиваться в ход прений. Постановления собраний подлежали его утверждению, однако он мог рассматривать их лишь с точки зрения соответствия закону, а не по существу, причем губернатор мог не отменять, а лишь приостанавливать их. Разногласия между двумя этими сторонами разрешал I Департамент Сената, как и положено было высшей кассационной инстанции – также с формальной стороны85. В результате получалось, что обе системы, фактически занимаясь одними и теми же проблемами, как бы конкурируют друг с другом. Если вспомнить, сколь важным для самоопределения русского общества было противостояние всему «бюрократическому» и сколь раздражено было большинство помещиков крестьянской реформой, а правительство – помещичьей несговорчивостью, нетрудно было предсказать, что отношения земств с администрацией будут далеки от идиллических. В то 84 85 Русская старина. 1900. № 4. С. 143. См.: Правилова Е.А. Указ. соч. С. 47. 116 время как либералы восприняли земства как новое поле для реализации политических амбиций, “охранители” оценили их введение как очередной антидворянский, “демократический” шаг правительства, поскольку реформа нарушала монополию дворянских собраний на выступления от имени “общества”. Земства вводились в 34 «великорусских» губерниях и в Области Войска Донского (по политическим соображениям Земское Положение не было распространено на 9 западных губерний, где доминировало считавшееся нелояльным польское дворянство, а также в Архангельской, Астраханской и Оренбургской губерниях, где дворян вообще было очень мало). На окраинах империи земства также не были созданы. Реализация реформы началась в 1865 г. и в основном к 1867 г. новые учреждения были сформированы. Однако практически с самого начала их деятельности Земское Положение было признано правительством нуждающимся в корректировке. Дело в том, что при всех заложенных в нем ограничениях в одном – и самом важном! - отношении земства получили очень обширные права: по выражению кн. В.П.Мещерского, они «получили право облагать всех и все в пределах своих губерний без ограничения размеров, то есть получили такое право, которое даже не имеет правительство»86. Мещерский сгустил краски, но проблема действительно существовала, ведь не имея возможности выработать единую политику при раскладке и определении размера земских сборов, изолированные друг от друга земства при всем своем желании не могли бы избежать здесь некоторого произвола. Дарованные было права пришлось ограничивать, и уже накануне одной из первых сессий земских собраний, 21 ноября 1866 г. правительство опубликовало закон, запрещавший облагать обороты и доходы промышленных и торговых предприятий. 86 Мещерский В.П. Мои воспоминания. СПб., 1911. Ч. 2. С. 69. 117 Отныне обложению подлежал лишь доход с их помещений, т.е. с недвижимости, составлявший иногда очень незначительную часть валовых доходов промышленности. При этом обложение сельскохозяйственных угодий не ограничивалось. В этом решении была своя логика (в отличие от многих последующих, скорее демонстративных правительственных мер, например, лишения земства права бесплатной переписки в 1869 г.). Однако оно закономерно вызвало бурю резких и совсем не дипломатичных протестов. Между тем еще до этого, весной 1866 г. правительственная политика претерпела очередной серьезный зигзаг: воспользовавшись покушением Д.В. Каракозова на императора (4 апреля 1866 г.), группа весьма амбициозных сановников и аристократов из ближайшего окружения Александра II, возглавляемая графом П.А. Шуваловым, попыталась добиться пересмотра реформаторского курса. Анализируя внутриполитическую ситуацию, новый шеф жандармов приходил к выводу, что “все утомлены постоянными переменами и просят у правительства более спокойной и консервативной эры”, что “власть потрясена”. Признавалось необходимым, в частности, “прекратить... враждебные выходки дворянских и земских собраний”. Для этого нужно, чтобы “правительство выказало себя сильнее вожаков общественного мнения, потому что люди льнут к силе”87. В качестве одного из жестов, призванных продемонстрировать силу, правительство распустило за оппозиционные выступления земские учреждения Петербургской губернии. В обсуждать необходимость кардинального «верхах» стали пересмотра всерьез Земского Положения. Впрочем, по разным причинам, главной из которых было 87 Незабвенные мысли незабвенных людей // Былое. 1907. № 1. В этой публикации автором процитированной записки Шувалова ошибочно назван гр. М.Н.Муравьев. 118 отсутствие у «консерваторов» четкой позитивной программы, это обсуждение закончилось безрезультатно88 . Единственным реальным его итогом были законы 13 июня 1867 г., первый из которых усиливал ответственность председателей земских собраний и запрещал сношения между собраниями разных губерний, а второй ставил под контроль губернатора публикацию материалов собраний 89. Конечно, отношения центральной и местной администрации и земства в конце 1860-х и 1870-х гг. не были похожи на перманентную «войну без правил». Очень многое в них зависело от характера и такта губернаторов и местных земских лидеров. Однако общий негативный настрой сторон друг по отношению к другу, несомненно, существовал и во многом задавал им тон. «Более образованные и тактичные губернаторы, - утверждал в воспоминаниях крупный чиновник А.Н. Куломзин, - умели ладить с земскими деятелями, но таковых в центре не всегда считали надежными столпами самодержавия, что и ставили им при случае на вид» 90 . В этом отношении очень показательны данные об удовлетворении земских ходатайств Комитетом министров за 1874-79 гг., приводимые И.В.Оржеховским91 (см. табл.) Год Поступило ходатайств Отклонено В% 1874 57 51 89,5 88 Подробнее см.: Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850 – середина 1870-х гг. М., 2002. 89 См.: Нардова В.А., Чернуха В.Г. Законы 13 июля 1867 г. // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 11. Л., 1979. 90 Цит. по: Шумилов М.М. Местное управление и центральная власть в России в 50-х – начале 80-х гг. XIX века. М., 1991. С. 70. 91 Оржеховский И.В. Из истории внутренней политики самодержавия в 60-х 70-х г.г. XIX в. Горький, 1974. С. 107. 119 1875 34 30 88,2 1876 51 47 92,7 1877 21 20 95,2 1878 22 16 72,7 1879 50 44 88,0 Отношения земства и администрации были похожи на вялотекущую окопную войну, в которой противники скорее по обязанности демонстрируют свой боевой настрой. Стоит упомянуть, что большинство отказов в удовлетворении земских ходатайств даже никак не мотивировалось. Понятно, почему с середины 1870-х гг. растут неудовлетворенность и апатия как в самих земствах, так и в обществе по отношению к ним. На этом фоне выглядит закономерным успех в общественных кругах нового взгляда на природу самоуправления, сторонники которого государственного предлагали механизма. рассматривать Конечно, такая его как идея часть могла «прочитываться» по-разному: в «либеральном» смысле, и тогда акцент делался (например, А.Д.Градовским) на расширении компетенции земств, или в «консервативном», когда земствам едва ли не отказывали в праве на существование (позиция Каткова в 1880-е гг.). И все же, несмотря на все сложности, самоуправление работало. К концу века эпитет «земский» воспринимался в обществе не просто позитивно, он стал своеобразным «знаком качества» во многих сферах местной жизни. Земские учителя и школы, врачи и больницы, земские статистики стали неотъемлемой частью российского провинциального пейзажа и политической культуры. 120 В городах после введения Городового Положения 1870 г. были созданы структуры, аналогичные земским. Их взаимоотношения с администрацией в основном строились по «земскому» сценарию92. В целом же самой важной чертой, характеризовавшей систему местной власти после упомянутых преобразований, оставалась ее разъединенность. Отсутствие единства разных структур, иерархий и органов бросалось в глаза. Помимо уже перечисленных, свои местные органы имели в губерниях III Отделение Собственной е.и.в. канцелярии (губернские жандармские управления), Министерство государственных имуществ (Палаты, затем – Управления государственными имуществами), министерство финансов (Казенные палаты, губернские и уездные казначейства, ведавшие раскладкой и сбором прямых налогов, а также акцизные управления, занимавшиеся налогами косвенными), министерство народного просвещения (Училищные советы и др.) 93 . Губернская администрация оказывалась марионетке, управляемой одновременно в результате десятком подобна кукловодов. Ненормальность такого положения бросалась в глаза. Неудивительно, что административная реформа наряду с «уточнением» крестьянской стала в период кризиса рубежа 1870-1880-х гг. одним из первых пунктов в правительственной и общественной «повестке дня». Новый суд дореформенные суды были в стране настоящей притчей во языцех. В качестве символа чего-то устаревшего, косного и неправедного суды 92 См.: Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х годов XIX века. Л., 1984; Писарькова Л.Ф. Городские реформы в России и Московская дума. М., 2010. 93 Скрупулезному анализу структуры местных органов министерств и их взаимоотношениям с губернаторами посвящена вторая часть книги М.М.Шумилова, см.: Шумилов М.М. Указ. соч. С. 96-183. 121 вполне могли поспорить с крепостным правом. В своем знаменитом стихотворении «России», написанном в патриотическом порыве в начале Крымской войны, славянофил А.С. Хомяков делал именно суды первым символом того, что николаевская Россия недостойна своей вселенской освободительной миссии. Россия, по его очень хлестким словам, была В судах черна неправдой чёрной И игом рабства клеймена; Безбожной лести, лжи тлетворной, И лени мёртвой и позорной, И всякой мерзости полна! Судебная система тех лет действительно способна была привести в отчаяние любого, кто с ней сталкивался. Самыми распространёнными ее характеристиками были «бездушие» и «формализм». В николаевской России министерство юстиции и подчиненные ему суды стали символом равнодушия и застоя. Сложная и архаичная формальная система доказательств, отсутствие публичного состязания сторон вели к неповоротливости и непрозрачности судопроизводства. Дела могли длиться десятки лет и решаться совершенно неожиданным образом, ведь состязались не люди, а бумаги. Усугубляла положение фантастическая некомпетентность судейских чиновников и на местах и даже в высшем суде империи - Сенате, куда зачастую «за выслугу лет» назначались чиновники, не имевшие никакого отношения к праву. По «судебная мнению реформа американского стала историка наиболее Теодора радикальной, Тарановски, новаторский и технически успешной из всех Великих реформ» 94 . Но в новейшей историографии существует и прямо противоположная точка зрения. Йорг Баберовски в своем фундаментальном исследовании пореформенных 94 Тарановски Т. Судебная реформа и политическая культура царской России // Великие реформы в России… С. 305. 122 судов приходит к выводу, который как звучит как эхо публицистических выступлений Каткова в «Московских ведомостях» 1880-х гг.: судебная реформа проектировалась доктринерами, оказалась слепым подражанием западным моделям, а созданные ею институты не соответствовали российским реалиям и были слишком «продвинутыми» для пореформенной России и потому неработоспособными95. Какая же точка зрения ближе к действительности? На мой взгляд, в чем-то и та, и другая. Новое судоустройство действительно опережало время и во многом не соответствовало состоянию российского общества. Но оно, с другой стороны, задавало высокую планку и устанавливало ориентир для развития общественного правосознания, тогда как менее радикальная реформа могла бы оказаться столь же половинчатой как крестьянская и столь же противоречивой как земская. В судебной отмеченные выше реформе наиболее особенности отчетливо подготовки проявились Великих все реформ: столкновение двух поколений бюрократической элиты и соответственно, двух мировоззрений и программ; роль «образовательной революции» первой половины века в подготовке кадров реформаторов; ключевое значение механизмов «нерегулярных» институтов и разработки законопроектов. Наконец, с особой остротой встала во время реформы главная проблема Великих реформ: соответствие широких преобразовательных программ российским реалиям середины века. В принципе, критическое состояние судов в дореформенной России было известно всем. Не сомневались в необходимости их серьезной реформы даже престарелые высшие сановники империи – за исключением, как ни странно, министра юстиции (1841-1862, в 1839-41 – управляющий министерством) графа В.Н. Панина. Панин был настоящим «злым гением» дореформенной судебной системы. Человек образованный 95 Baberowski J. Op. cit. S. 437-480, 788-789. 123 и просвещенный, он тем не менее сумел подчинить деятельность своего ведомства столь всепроникающему, тотальному и бессмысленному формализму, что министерство юстиции и подчиненные ему суды стали даже в николаевской России символом равнодушия и застоя 96 . Многочисленные мемуаристы и авторы дневников не раз отмечали удивительное свойство Панина: умение складно и грамматически безупречно производить (и в устной, и в письменной форме) длинные и лишенные всякого смысла тексты. Гладкость и выхолощенность вообще были характернейшими качествами николаевского делопроизводства, но министр юстиции был в этом смысле непревзойденным мастером. Именно Панин фактически заблокировал робкие и в высшей степени умеренные даже по николаевским временам предложения о преобразовании судов (в частности, о введении ограниченной состязательности), которые разрабатывались во II Отделении с.е.и.в.к. под руководством Д.Н. Блудова при поддержке и одобрении Николая I. Его возражения также можно считать мастерским образцом бюрократического стиля: используя тактику обстоятельного углубления в историю вопроса, разбора «недостатков» существующих институтов, они неизменно заканчивались мелкой критикой предлагаемых новшеств и сомнениями в их полезности для темного и отсталого русского населения97. С началом нового царствования проекты Блудова вновь получили движение. Первоначально Александр II, как и при обсуждении прочих ключевых преобразований, имел довольно смутные представления о 96 Подробно об этом см.: Уортман Р. Властители и судии… С. 294-342. См. знаменитое сочинение К.П. Победоносцева: [Победоносцев К.П.] Граф В.Н. Панин // Голоса из России. Сборники А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Вып 3. кн. 7. М., 1976. По той резкой критике, которую этот будущий столп консерватизма и символ умеренности и осторожности обрушивает на Панина, можно судить, насколько плохо обстояли дела в министерстве юстиции. 97 124 необходимых переменах в судоустройстве. В целом он был настроен довольно консервативно и в 1858-60 гг. отвергал возможность серьезных перемен (гласности и независимости суда, частной адвокатуры), запретив даже обсуждать их в печати. Блудов предлагал провести реформу с помощью отдельных частных улучшений существовавшей системы: присяжные поверенные должны были назначаться правительством и являться чиновниками, суд оставался ответвлением администрации, сохранялись базовые черты прежнего формально-письменного процесса, принципиально отвергалась возможность серьезных заимствований западных образцов. Большинство пожилых членов Соединенных департаментов законов и гражданских дел Государственного совета, где обсуждались проекты, первоначально склонны были их поддержать. Однако за несколько лет, пока готовилась реформа (по прежним меркам срок исключительно короткий), настроения в обществе и в «верхах» существенно изменились: путь, пройденный правительством в «крестьянском деле», продемонстрировал, что частные переделки порой сложнее общего коренного преобразования. Кроме того, за 1856-1860-й годы в «верхах» произошла настоящая кадровая революция: одни «столпы» николаевского царствования ушли, другие (как гр. В.Н. Панин) утратили какое-либо влияние, третьи (как сам Блудов), сохранив высокие посты и внешние знаки уважения со стороны монарха (в начале 1860-х Блудов достиг вроде бы пика карьеры, став главой Государственного совета и Комитета министров – но уже ничего не решал!), перестали восприниматься им как носители государственной мудрости. Все чаще, как это было в Редакционных комиссиях, решения фактически разрабатывали деятели «второго плана», тогда как старые сановники теряли нити контроля за ситуацией, и император, как человек проницательный, не мог не ощущать этой «смены декораций», уже не всегда зависевшей и от его воли. 125 В деле судебной реформы такими поначалу теневыми ее двигателями стали помощник статс-секретаря Департамента законов С.И. Зарудный, обер-секретари департаментов Сената К.П. Победоносцев и М.Н. Любощинский и некоторые другие, еще менее известные тогда деятели. «Лабораторией» же, в которой разрабатывались Судебные уставы, стала Государственная канцелярия (т.е. канцелярия Государственного совета), в компетенцию которой, вообще-то говоря, входило не составление законопроектов, а лишь их редактирование и подготовка к Редакционными обсуждению. комиссиями, Вновь напрашивается которые вместо аналогия с редактирования разработали совершенно новую, «свою» реформу. Как показал в своем исследовании Р. Уортман, решающий толчок делу реформы, который направил ее в совершенно новое, «неблудовское» русло, был дан уже после отмены крепостного права. Представителям нового поколения бюрократии пришлось тогда доказывать монарху очевидные истины: новые отношения между крестьянами и помещиками, вообще новый, «освобожденный» строй экономической жизни не смогут существовать и развиваться в правовом вакууме, который создавала прежняя архаичная Победоносцева, система «интересы судопроизводства. собственности По формулировке нераздельно связаны с внутренней безопасностью и внутренним благосостоянием самого государства»98. В одном из ключевых всеподданнейших докладов о ходе крестьянского дела в сентябре 1861 г. новый министр внутренних дел П.А. Валуев указывал, в частности, на необеспеченность помещичьей собственности и вообще «предприимчивости» населения, коренящуюся в «недостатках нашего судоустройства и судопроизводства»99. Указующая 98 Цит. по: Уортман Р. Указ. соч. С. 434. Валуев П.А. Записка Александру II «О положении крестьянского дела в начале сентября 1861 г.» // Исторический архив. 1961. № 1. С. 77-79. 99 126 резолюция императора на докладе подтолкнула дело судебной реформы. Чиновники Государственной канцелярии под руководством Зарудного и Стояновского получили полную свободу рук, в том числе разрешение использовать иностранные образцы. Ориентиром, конечно, служила французская система, сложившаяся еще при Наполеоне I, и тогда же «экспортированная» во многие страны Европы (в 1809-11 гг. ее, как известно, планировал адаптировать к России М.М. Сперанский). Многие решения, как указывает Р. Уортман, были позаимствованы из Ганноверского устава гражданского судопроизводства, который, в свою очередь, был адаптацией французской модели к германским условиям. Роль «покровителя» на самом «верху», которую в крестьянском деле играл Я.И. Ростовцев (вообще-то очень слабо в нем разбиравшийся), в судебной реформе досталась новому председателю Государственного совета кн. П.П. Гагарину (консерватору 19 февраля). Судебные «Положений» и, уставы кстати, противнику были утверждены Александром II 20 ноября 1864 г. В основу нового судопроизводства легли принципы всеобщего равенства перед законом, отделения судебной власти от административной, несменяемости и независимости судей, публичности и состязательности процесса. Небывалым новшеством для России были институты присяжных заседателей и присяжных поверенных (адвокатов). Вводился также выборный мировой суд. Чтобы подчеркнуть самостоятельность и независимость судебной системы от административной, система судебных инстанций не приурочивалась к существующим административно-территориальным единицам – волостям, уездам и губерниям. Вместо этого вводилось деление на мировой участок (меньше уезда, но существенно больше волости) и судебный округ (с окружным судом). Следующей инстанцией оказывалась судебная палата (одна на несколько губерний), а затем Сенат. 127 Оценить степень успешности и эффективности новой судебной системы не так просто. Понятно, что оценка ее общественным мнением того времени, в свою очередь, нуждается в анализе и не может восприниматься некритически. Новый суд, безусловно, стал успешным в том, что касалось формирования особой профессиональной корпорации юристов – носителей этоса служения закону и обществу, а не власти или каким-либо частным интересам. И судейская, и адвокатская среда второй половины XIX в. дали множество хорошо известных образцов такого служения и высочайшего профессионализма, немыслимых в прежней обезличенной и формальной системе. В какой мере соответствовали российским реалиям та или иная черта нового устройства – вопрос более сложный. Наибольшей критике подвергались в этом отношении суд присяжных и адвокатура. В условиях незрелости общества присяжные заседатели, по мнению критиков, слишком часто ориентировались не на закон, а на собственные вкусы, поддавались воздействию риторики адвокатов и выносили «слишком много» оправдательных приговоров. Адвокаты же часто обвинялись в манипулировании присяжными и судом, нечистоплотности и цинизме. В 1880-е гг. настоящую кампанию против нового суда вел М.Н. Катков, всячески подчеркивавший его несовместимость с самодержавием. Стоит заметить, что в определенном смысле такая несовместимость, несомненно, существовала, но совершенно не означала, что плох именно новый суд: «подгонке» под более современные институты, следуя логике, скорее подлежало самодержавие. Ярким примером того, что значение новых учреждений, созданных реформами, не всегда было понятно даже человеку, приписавшему себе заслугу их создания, стал эпизод с одним из авторов Судебных уставов М.Н. Любощинским. Пожелав отправить в 1867 г. того в отставку за участие (как позже выяснилось, мнимое) в оппозиционном выступлении 128 столичного земства, самодержец с удивлением и негодованием «узнал», что, согласно утвержденным им самим Судебным уставам, сенаторы кассационных департаментов, как и прочие судьи, пользуются правом несменяемости 100 . Надо отдать должное Александру II: закона он не нарушил и не отменил. Впрочем, у императора были тогда и внезаконные способы добиться желаемого: как лояльный подданный, Любощинский немедленно выразил согласие уйти в отставку по своей воле (но был в итоге прощен). Помимо прочего, эта история еще раз подтверждает очевидную истину: помимо формальных институтов - законов, права и разнообразных учреждений – очень многое в жизни страны определялось и неформальными нормами, институтами и правилами. В этом смысле институциональные реформы создавали лишь часть контекста, в котором следует рассматривать историческое развитие России. Альтернативные концепции преобразований Эпоха Великих реформ ознаменовалась невиданным до той поры в России оживлением общественной мысли. Сохранение цензуры, бдительный надзор правительства за тем, чтобы «свобода» не выходила из предписанных ей рамок, как ни парадоксально, не столько стесняли общественное движение, сколько канализировали его, позволяли ему оформиться и структурироваться. Русское общество, не имевшее до того практически никакого опыта публичной политики, активно осваивало это пространство, а правительство в этом отношении пыталось играть сразу несколько ролей: демиурга, заботливого опекуна, бдительного жандарма, строгого судьи, и, наконец, одного из непосредственных участников 100 См. яркий пересказ этого эпизода тогдашним шефом жандармов гр. П.А. Шуваловым: Дневник Е.А. Перетца, государственного секретаря. 1880-1883. М., 1927. С. 20. 129 процесса. Другими словами, российское правительство, в сущности, не расставшись с прежними патерналистскими представлениями и стереотипами, старалось освоить и некоторые новые модели участия в политическом процессе, характерные для конституционных режимов Европы. При этом и властью, и многими участниками общественных дискуссий всячески подчеркивался принципиально иной, не связанный с партийной борьбой и парламентскими принципами характер русской государственности. Это создавало неразрешимое противоречие между содержанием публичной политики и ее формами и риторическим обрамлением. Российское образованное общество, воспитанное в европейском духе, разумеется, не могло иметь в виду никакого другого типа организации политического пространства, чем тот, какой существовал тогда в Европе. При всем многообразии конкретных своих проявлений, при всей жесткости той критики, какую сами европейцы обрушивали на изъяны «парламентаризма», этот тип имел несколько фундаментальных черт, общих для разных регионов и стран, для республиканцев и монархистов, либералов и традиционалистов. Первой из таких черт было признание секулярного характера государства. Из этого фундаментального принципа проистекало представление об ограниченности характера и функций государственной власти и, соответственно, о законности и праве как естественных ее «ограничителях». Второй основополагающей чертой европейского типа политики было представление о полифонии общественного пространства и о политике как «концерте» разных общественных сил, принципиально несводимых к единой иерархии. Собственно, эти два основных принципа и позволяли европейцам XVIII-XIX веков постоянно противопоставлять «цивилизованный мир» не только первобытному миру «дикости», но и «восточным деспотиям». При всей разноголосице программ, настроений 130 и идеологий, находясь в рамках этой классификации, русское общество 1850-1860-х гг. целиком и полностью воспринимало свою страну как часть «цивилизованного мира». Это означало, в частности, что все варианты охранительства, либерализма, почвенничества, радикализма легко славянофильства, находили себе аналоги социалистического в европейской действительности. Сами представители всех этих течений, оценивая свои убеждения, постоянно обращались понятиям и классификациям. к европейским политическим Педалирование отличий России в этом контексте лишь оттеняло принципиальную невозможность помыслить отечественную политику вне европейских понятий. Даже «классические» славянофилы в 1850-1860-х гг. больше акцентировали европейские аналоги своей концепции, чем ее «доморощенность». Как писал самый влиятельный из них – Ю.Ф. Самарин, «Токвиль, Монталамбер, Риль, Штейн – западные славянофилы». «Как у нас, так и во Франции, Англии, Германии на первом плане один вопрос: законно ли самодержавное полновластие рассудка в устройстве души человеческой, гражданского общества, государства? Вправе ли рассудок ломать и коверкать духовные убеждения, семейные и гражданские предания, словом, исправлять посвоему жизнь?» При этом, продолжал он, «тирания рассудка в области философии, веры и совести соответствует на практике, в общественном быту тирании центральной власти». Важно, что принципиальное отличие европейских консерваторов от славянофилов Самарин видел в том, что те, «отстаивая свободу жизни и предание, обращаются к аристократии, потому что в исторических данных Западной Европы аристократия лучше других партий осуществляет жизненный торизм… Напротив, мы обращаемся к простому народу… В России единственный приют торизма – черная изба крестьянина. В наших палатах, в университетских залах веет всеиссушающим вигизмом. Другая разница: в Европe и торизм, и 131 вигизм выросли от одного народного корня, развились в одной народной среде. У нас вигизм привит извне» 101 . Как видим, мышление в европейской идейной парадигме и широкое использование европейской политической классификации было для славянофилов чем-то само собой разумеющимся. Глубоко неверно поэтому представлять их учение как разновидность изоляционизма: сам дух эпохи Великих реформ радикально противоречил подобному «замыканию» России в себе самой. Аналогичным образом, как известно, колоссальное внимание уделяли европейской мысли А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и многие другие ранние русские социалисты. Термин «русский социализм», иногда прилагаемый к учению Герцена, ни в коем случае нельзя трактовать в смысле подчеркивания изолированности России от Европы. Примечательно, что все те статьи Герцена, в которых изложено его представление о месте России в истории Европы, написаны автором пофранцузски. Речь идет о статье Герцена «Россия» (1849) – первой его попытке дать европейским читателям понятие о родной стране; а также о работах «О развитии революционных идей в России» (1850) и «Русский народ и социализм» (известна также как «Письмо к Мишле») (1851). Одним из «источников» «общинного социализма» стали для западника Герцена славянофилы. Известный советский историк, крупнейший специалист по славянофильству С.С. Дмитриев в не публиковавшейся при его жизни и потому достаточно свободно, без оглядки на цензуру написанной статье, специально посвященной этой теме, блестяще раскрыл пути и последствия воздействия славянофилов на Герцена. По убедительно аргументированному мнению Дмитриева, наиболее характерные для «русского социализма» идеи и их аранжировки сложились у Герцена еще до революции 1848 г., а отчасти и до 101 Самарин Ю.Ф. Заметки на книге Токвиля «Старый порядок и революция»// Самарин Ю.Ф. Соч. Т. 1. С. 401-402. 132 эмиграции. В их числе – глубокий скептицизм по поводу способности Европы к социалистическому перерождению, надежды, возлагаемые в этом смысле на славян, и особенно – на сохранившийся у них «общинный дух». Ключевую роль в восприятии этих идей, по мнению историка, сыграло общение Герцена с Ю.Ф. Самариным в 1843-44 гг. Не принимая всей системы славянофильских взглядов, указывает Дмитриев, Герцен «сознательно и бессознательно усвоил из нее очень многое», причем именно «элементы утопического социализма», легко различимые в раннем славянофильстве102. В этом смысле понятно почему Герцена, по мнению историка общественной мысли Анджея Валицкого, «можно считать естественным связующим звеном между славянофилами и западниками 1840-х и народниками 1860-1870-х гг.»103. Что касается Чернышевского, то известно, сколь основательно он интересовался европейской политической и экономической мыслью. Политэкономия Джона Стюарта Милля была проработана им наиболее основательно. В советской историографии принято было утверждать, что русский публицист «разоблачил буржуазную ограниченность» Милля. Едва ли для столь резких выводов есть основания. Историк экономической мысли Й. Цвайнерт справедливо подчеркивает, что критика Чернышевского имела в основном дилетантский характер 104 . Однако в данном контексте важно не это, а сам факт включенности Чернышевского в европейскую идеологическую систему координат. 102 Статья Дмитриева была опубликована Е.Л. Рудницкой в приложении к ее известной монографии об эволюции последекабристкой мысли: Дмитриев С.С. К вопросу о происхождении «русского социализма» А.И. Герцена (Герцен и славянофильство) // Рудницкая Е.Л. Поиск пути. Русская мысль после 14 декабря 1825 г. М., 1999. С. 227-265. 103 Walicki A. The Slavophile controversy: history of a conservative utopia in nineteenth-century Russian thought. Oxford, 1975. P. 580. 104 См.: Цвайнерт Й. История экономической мысли в России. 1805-1905. М., 2008. С. 190-207. 133 В диалоге (и полемике) с европейской традицией развивалась и мысль «почвенников». Ф.М. Достоевский, еще будучи участником кружка Петрашевского, познакомился с большей частью циркулировавших тогда в западной Европе и жадно впитывавшихся русской молодежью доктрин: утилитаризмом Милля, позитивизмом Конта, различными вариантами социалистических учений. В эпоху реформ, став последовательным критиком этих доктрин, он все же не переставал напряженно следить за европейской действительностью и политической литературой 105. Что же касается либерального «мэйнстрима» 1860-1870-х гг., то он, естественно, ориентировался на западно-европейскую и на тамошние социально-политические модели если не как на объект для подражания, то во всяком случае как на ценнейший и заслуживающий внимания опыт106. Лишь к исходу эпохи реформ, во второй половине 1870-х гг. мысль о русском «особом пути» или «миссии» выходит в идеологии целого ряда общественных групп и идейных течений на первый план. Это, конечно, не означало, что мышление русских консерваторов или народниковсоциалистов вдруг стало «неевропейским». Но целенаправленное риторическое отрицание своей «европейскости» позволило им создавать более рискованные и отвлеченные идеологические конструкции, чем это было возможно двумя десятилетиями ранее. Теперь уже правительство казалось многим из общественных деятелей и публицистов «слишком европейским» в противоположность тому ориентально-деспотическому образу, который власть имела в начале 105 См.: Нечаева В.С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских "Время": 18611863. М., 1972; Захраб И. «Европейские гипотезы» и «русские аксиомы»: Достоевский и Джон Стюарт Милль // Русская литература. 2000. № 3. С. 37-51. 106 Kingston-Mann E. In Search of the True West: Culture, Economics, and Problems of Russian Development. Princeton, 1999. 134 эпохи реформ. Cтарые споры о преимуществах индивидуализма по сравнению с коллективизмом (или наоборот) неожиданно обрели новую жизнь. Разница заключалась лишь в том, что если раньше индивидуализм был в России чем-то полуофициозным и общепринятым, а его критика (скажем, славянофилами или Герценом) звучала свежо и казалась оригинальной, то теперь ситуация стала прямо противоположной. Достаточно сказать, что последовательный сторонник классического либерализма Б.Н. Чичерин неожиданно оказался маргиналом, а его острые суждения по поводу противоречивости «передовых» идей на фоне почти обязательного и довольно унылого антииндивидуализма выглядели остроумными и смелыми107. Принципиально новых аргументов ни та, ни другая сторона, впрочем, не придумали. Что касается правительственных «верхов», то они отреагировали на новый расклад в общественном мнении с некоторым запозданием. В результате на рубеже 1870-80-х гг. сложилась интересная ситуация, когда общественное мнение в основном уже занимало достаточно отчетливую антииндивидуалистическую (можно сказать «антибуржуазную») позицию, а правительство все еще ориентировалось (конечно, с прежней непоследовательностью) на умеренный индивидуализм, характерный для начала и расцвета эпохи Великих реформ. Примечательно, однако, что и в 1870-1880-х гг., как и двумя десятилетиями раньше, общество позиционировало себя прежде всего на основе противопоставления власти. Это противопоставление оказалось удивительно прочным и живучим, хотя анализ глубоких и многообразных связей, которые существовали между ними, всякий раз приводит к 107 См.: Герье В., Чичерин Б. Русский дилетантизм и общинное землевладение. Разбор книги А. Васильчикова «Землевладение и земледелие». М., 1878. 135 выводу о его условности. Правительство отнюдь не являлось по отношению к обществу «ведущим», оно не было замкнутым и неподвластным влиянию общественного мнения. Практически все программы преобразований – реформ и контрреформ – формулировались именно общественными деятелями, и лишь после этого обсуждались в чиновной среде. В свою очередь, общество в целом вовсе не было настроено по отношению к власти нигилистически, скорее наоборот – большинство общественных деятелей либо были своими в кабинетах (некоторых) сановников, либо начинали свою карьеру в качестве чиновников и уже поэтому понимали правительственную «повестку дня». В этих условиях можно ставить вопрос уже не о взаимных влияниях, а практически о симбиозе «двух Россий», что, однако, не исключало, а может быть, даже в чем-то и порождало их жесткое противостояние на уровне риторики и самоопределения. Сглаживать это противостояние было бы столь же неверно, как и сводить отношения «управляющих» и «управляемых» исключительно к нему. Как ни парадоксально, грани между различными общественными «лагерями» в пореформенной России были порой ощутимее водораздела межу обществом и правительством. Эти грани имели в то время не столько идеологический, сколько социальный смысл. Представителям одного социального слоя было гораздо проще найти друг с другом язык независимо от того, состояли ли они на государственной службе или нет. Разумеется, немало было и исключений, но они лишь подчеркивали правило. Так, в среде радикальных социалистов («революционных демократов», как они именовались в советской историографии), как известно, были и представители высшего общества, а в рядах «аристократической партии» - мелкие помещики, однако и тем, и другим происхождение ощутимо мешало искать общий язык с единомышленниками. Но и здесь необходимо подчеркнуть относительно 136 открытый характер тогдашних общественных групп и «партий»: ни одна из них не строилась по сословному и даже шире - социальному – принципу. Все эти оговорки представляются существенными: говоря об общественных инициативах, программах, группировках, необходимо постоянно иметь в виду, что основные идеологические парадигмы и течения, существовавшие в стране в пореформенный период, находились в стадии оформления. Отсутствие же у публичной политики институциональных рамок (прежде всего партий с представительством в органах местного самоуправления и центральном парламенте) еще более усиливало эту текучесть. Единственными неправительственными и при этом жизнеспособными институтами с более или менее давней историей были органы дворянского сословного самоуправления. Именно в них на рубеже 1850-1860-х гг. многие помещики видели основу формирования «оппозиции его величества», которая противостояла бы «чиновничьему либерализму». Одновременно с началом подготовки отмены крепостного права оформляется и так называемая «аристократическая партия» достаточно аморфная просуществовавшая до начала квазиполитическая 1880-х гг. группировка, Примерно тогда же формируются истоки земского либерализма 1860-1880-х гг., пока еще в очень большой степени связанного с поместным дворянством, а не с разночинским «третьим элементом», как на рубеже XIX-XX вв.108 Наконец, на конец 1850-х и начало 1860-х гг. приходится оформление радикально-демократической альтернативы реформам. С 108 Emmons T. The Russian Landed Gentry and the Peasant Emancipation of 1861. Cambridge, 1968; Петров Ф.А. Земско-либеральные проекты переустройства государственных учреждений в России в конце 70-х – начале 80-х гг. XIXв. // Отечественная история. 1993. № 4. С. 32-47. 137 точки зрения радикальной воздействия программы на правительственный было весьма курс, незначительным. значение Как ни парадоксально, оно скорее уменьшилось в 1860-70-х гг. по сравнению с периодом «оттепели» 1856-1860 гг., когда влияние изданий А.И. Герцена на русское общество достигло пика. После первых студенческих волнений, пожаров 1862 г. и особенно начала польского восстания в 1863 г. в общественных настроениях произошла ощутимая дифференциация. Умеренная дворянская оппозиция (аристократическая и либеральная) серьезно разошлась в своих симпатиях, представлениях о методах политической деятельности и конкретных предложениях с радикалами. Некоторое сближение, точнее – определенное сочувствие к мотивам, если не методам сторонников радикально-демократического пути развития страны со стороны либералов наметилось (несмотря на нечаевское дело) во второй половине 1870-х гг., но этот процесс был прерван активной фазой народовольческого террора, к которому подавляющее большинство представителей общественности не могло не отнестись негативно. В поисках политической свободы: конституционалисты эпохи реформ В общественном сознании эпохи реформ существовала по крайней мере одна ключевая проблема, объединявшая различные группы и «партии». Это была проблема политического представительства, или «конституции». Отсутствие в России вплоть до 1906 г. каких-либо общегосударственных представительных институтов было зримым проявлением кардинального отличия нашей страны от Европы, где к середине века практически все значительные государства получили такое представительство. Разумеется, в политическом спектре пред- и пореформенной России существовали группы, считавшее это отличие выигрышным для страны. В их представлении, именно неограниченное 138 самодержавие исторически было объединяющим прогрессивным началом, позволявшим империи укрепляться и отвечать на разного рода внутренние и внешние вызовы. Разделение на сторонников и противников представительства не совпадало с условной границей между либералами и консерваторами. Так, многие сторонники либеральных реформ принципиально отвергали возможность конституции, указывая на то, что в условиях колоссального культурного и социального разрыва между народом и массами, любое представительство может превратиться в олигархию. С другой стороны, в консервативном лагере всегда было немало сторонников аристократического представительства. Термин «конституция» и родственные ему на протяжении всего XIX века играли в российском политическом лексиконе сложную провокативную и смыслопорождающую роль 109 . За пределами круга правоведов конституция, как правило, понималась не как основной закон, определяющий политическое устройство государства, регламентирующий взаимоотношения различных ветвей власти (и тем ограничивающий полномочия каждой из них), а как любая форма центрального представительства общественных интересов 110 . Такое представительство воспринималось не как источник суверенитета, а лишь как способ налаживания диалога власти и общества и/или как средство Несмотря на большое количество работ о «российском конституционализме» как общественно-политическом течении или как идее, история понятия «конституция» в России до сих пор не написана. В числеисследований«конституционализма»можновыделить:ЧернухаВ.Г. Внутренняяполитикацаризмассередины50-хдоначала80-хгг.XIXв.Л., 1978; Секиринский С.С., Шелохаев В.В.Либерализм в России: Очерки истории (середина 19 - начало 20 вв.). М., 1995; Верещагин А.Н. Земский вопрос в России. Политико-правовые аспекты. М., 2002. См. также: Рощин Е.Н. История понятия «суверенитет» в России // Исторические понятия и политическиеидеивРоссии.XVI-XXвека.Спб.,2006.С.190-230. 110 Ср.: Чернуха В.Г. Указ. соч. С. 21. 109 139 устранить «бюрократическое средостение» между монархом и народом. Это понимание конституции, «правительственного», конституционализма, характерное как и доминировало для на для так называемого умеренного «земского» протяжении всей второй половины XIX века. Подразумевалось, что представительство должно поэтому не ограничивать власть, а, напротив, усилить ее, дав ей понимание необходимого курса и опору в обществе111. Вместе с тем, оно должно было структурировать само это общество, признававшееся крайне аморфным (или, в крайнем варианте, – даже «создать» его в форме «политического класса»)112. Идея о государственной власти как главной созидающей силе, своеобразном демиурге российской истории и действительности имела очень глубокие идеологические корни. Как известно, именно она лежала, частности, в основе комплекса исторических и правовых концепций, традиционно объединяемых рамками так называемой «государственной школы». Позитивистское направление этой школы, наиболее авторитетными представителями которого стали в пореформенное время М.М. Ковалевский, А.Д. Градовский и Н.М. Коркунов, сыграло очень значительную роль в формировании в России либеральной идеологии113. Чтобы проиллюстрировать мысль о принципиальном отличии пореформенного понимания предреволюционной, политического следует представительства подчеркнуть, что от новое, «освобожденческое» понимание конституции было существенно иным: 111 См. об этом: Мамонов А.В. Граф М.Т. Лорис-Меликов: к характеристике взглядов и государственной деятельности // Отечественная история. 2002. № 5. 112 См., например: Фадеев Р.А. Письма о современном состоянии России. Спб.: б.и., 1882. 113 См.: Walicki A. Legal Philosophies of Russian Liberalism. Notre Dame, 1992; Верещагин А.Н. Указ. соч. 140 она рассматривалась как необходимое условие и результат реализации принципа народного суверенитета. Принципиально противопоставляя интересы наличной власти и «народа», «освобожденцы» (среди которых выделялись П.Н. Милюков и П.Б. Струве), примыкавшие к ним радикальные земцы и общественные деятели видели в «правильной» (принятой Учредительным собранием, избранным по «четыреххвостке» 114 ) конституции sine qua non установления нового «правового» порядка115. Конечно, достаточно широким был и спектр славянофильских подходов к народному представительству (сам термин «конституция» традиционалистами отвергался, по крайней мере, до 17 октября 1905 года, когда многие из них получили возможность стать, по тогдашней шутке, «конституционалистами по высочайшему повелению»). Отличительной особенностью «неославянофильского» взгляда на представительство можно считать отрицание его формально-правовых рамок, поскольку оно интерпретировалось самодержца с как полумистическое народом и средство преодоления «единения» бюрократического «средостения»116. Выделяя три «подхода» к пониманию конституции, я не имею в виду, что они конкурировали друг с другом на равных в политических дебатах, формулировались политическими группами и отстаивались и были четко очерченными взаимоисключающими, альтернативными. Скорее можно считать их подобием осей, задававших 114 Так именовались на либеральном жаргоне всеобщие, равные, прямые и тайные выборы. 115 См.: Шацилло К.Ф. Конституционное движение накануне первой русской революции. М.,1988. 116 Типичными для либерального варианта «неославянофильства» можно считать взгляды Д.Н.Шипова, а для консервативного – С.Ф.Шарапова. См.: Шипов Д.Н. Воспоминания и думы о пережитом. М., 1918; Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление. Берлин, 1899. 141 систему дискурсивных координат, в которой и разворачивалось проектирование «конституционного строя». При этом многие важные его особенности восприятия определялись иными переменными величинами. Одной из них можно считать представление о «механизме рождения» этого строя. Устойчивый единовременного образ акта появления сосуществовал конституции в в публичном результате дискурсе с интерпретацией ее как итога длительного процесса «вызревания». Такая амбивалентность создавала удобное поле для разного рода игр. Если конституцию можно создать (принять, даровать) одним росчерком пера, то сам этот акт приобретает принципиальное, роковое, почти магическое значение. Еще в сентябре 1865 года озабоченный резкими проявлениями дворянского конституционализма Александр II счел необходимым встретиться с одним из его активистов Дмитрием Дмитриевичем Голохвастовым. «…Вы (дворяне – И.Х.), конечно, уверены, что я из мелкого тщеславия не хочу поступиться своими правами! – заявил самодержец. - Я даю тебе слово, что сейчас, на этом столе, я готов подписать какую угодно конституцию, если бы я был убежден, что это полезно для России. Но я знаю, что сделай я это сегодня, и завтра Россия распадется на куски»117. Страна признавалась не готовой к «чуду», процесс «созревания» и акт «творения» парадоксально сополагались, заводя ситуацию в неразрешимый логический тупик. Примерно таким же был смысл расхожего мифа о подписании Александром II «конституции» за несколько часов до собственной гибели. Современники и историки часто интерпретировали антагонизм между правительством и обществом во второй половине XIX века фаталистически, как неизбежное следствие отсутствия в России политического представительства. Однако есть все основания сделать 117 Цит. по: Ляшенко Л.М. Александр II. М., 2002. С. 115. 142 вывод: в отличие от начала XX в., «оппозиция» не требовала «конституции»; институционализация общественного участия в принятии решений могла быть осуществлена и осознана на неполитической, «совещательной» платформе. Другим очень важным вопросом, структурировавшим российское общественное мнение, являлся, разумеется, вопрос крестьянский и шире – социальный. Фактически, в его постановке отражалось представление о будущем развитии страны, о том, чем Россия отличается (и должна ли отличаться) от тех европейских стран, где к середине XIX века уже совершился глубокий социальный переворот: переход к раннеиндустриальному обществу. Империя Помимо прочего, освобождение крепостных воспринималось Александром II (и не только им) как шаг на пути к новой, европейской легитимности российской монархии. Ведь нация, прежде разделенная на «рабов» и «господ», получала возможность осознать себя единым организмом – нацией граждан. Надо иметь в виду, что европейский XIX век – это не только эпоха индустриализации и разнообразных революций, но и век становления национальных движений и государств. Люди, обособленные в разных сословных группах и корпорациях, осознают себя частью единого целого - нации, а монархи, в свою очередь, все чаще предстают как (используя современный нам лексикон) национальные лидеры. Проще, конечно, было тем из них, чьи подданные легко «склеивались» в одну нацию. Гасконец и бретонец, саксонец и баварец при всех своих различиях были все же больше похожи друг на друга, чем, скажем, венгр, румын, австриец и чех – жители многонациональной империи Габсбургов. Российская же империя была еще более разнообразной по своему 143 религиозному и этническому составу. Кто только не был подданным русского императора во второй половине XIX века: мусульмане, католики, протестанты, иудеи и буддисты (и, само собой, православные); татары, черкесы, армяне, грузины, поляки, финны, казахи, украинцы, литовцы, немцы… перечислять можно очень долго. Как же объединить это умопомрачительное разнообразие в единое национальное государство? Или, может быть, Российская империя – особый тип государства, которое и не подлежит унификации и выравниванию? Но что тогда будет объединять ее жителей, столь непохожих друг на друга? Все эти вопросы, ни на один из которых нельзя найти простой ответ, в полный рост встали перед властью и обществом именно в царствование Александра II. Не то, чтобы раньше в стране совсем не было национальных проблем; точнее будет сказать, что они не воспринимались как национальные. Вот пример. В 1830-м и в 1863-м годах в Царстве Польском и в Западном крае произошли два восстания. Их движущей силой в обоих случаях была польская элита, а целью – восстановление независимости Польши в границах 1772 года. Первое из этих восстаний трактовалось правительством Николая I с точки зрения династической нелояльности: как измена подданных царя своей присяге и вооруженный мятеж. Второе же было воспринято властью и русским общественным мнением совсем иначе: как проявление вековой религиозной и национальной вражды поляков и русских (малороссов, белорусов). Почувствуйте разницу: неверные подданные или враждебная нация. Ведь и возможные способы решать проблему в том и другом случае совершенно различны… Русская национальная идея, которая до середины XIX века была поводом для забот и размышлений горстки интеллектуалов, именно в царствование Александра II становится дежурной темой газет, журналов, бюрократических записок и правительственных меморандумов. 144 Авангардом в продвижении этой темы в общественном сознании были славянофилы – небольшой кружок единомышленников, сложившийся в Москве еще в начале 1840-х годов. Усматривая в национализме подобие революционной угрозы, Николай I относился к ним с большим подозрением: члены кружка (в основном, кстати, аристократы) были постоянным объектом слежки и доносов. После начала нового царствования положение постепенно изменилось: славянофилы получили возможность выступать в печати, участвовали в разработке крестьянской реформы. С течением времени их авторитет и роль в политической жизни страны росли, идеи приобретали все большую популярность в публике и в «верхах». В каком-то смысле 1860-1870-е годы можно считать «золотым веком» славянофильства. Это был «умный», ищущий, элитарный национализм. Правда, марку удавалось держать не так долго: уже в 1870-х годах «славянская идея» вошла в моду и из штучного интеллектуального продукта превратилась в товар для массового потребления. В целом же эпоху Александра II невозможно по-настоящему почувствовать и понять без этого нового для России явления. Как сам император относился к славянофильству и вообще к русской национальной идее? Надо признать, что с большой осторожностью. В отличие от своего отца, он уже не видел в идеологах национализма потенциальных «разрушителей». Но большого доверия к ним тоже не испытывал. Он с детства привык легко употреблять отцовские выражения вроде «наш добрый русский народ» или «наша матушка Россия». Но что стояло за этими фразами? Ответа император, скорее всего, не смог бы дать: в обобщениях он не был силен. Россия для него была прежде всего реальной Российской империей, а не мечтой о национальном или всеславянском государстве, как для славянофилов. Как прагматик он вообще относился к туманным мечтам скептически, как 145 опытный дипломат – понимал, что в международной политике действуют не нации, а правительства, конкретные люди со своими предрассудками и интересами. В то же время самодержец порой не прочь был мысленно примерить на себя образ «национального» или «славянского» царя. И все же по настоящему национальной империя Романовых попыталась стать лишь при преемниках нашего героя – его сыне и внуке. Так что «национальной политики» при Александре II, можно сказать, еще не было, и это, кстати, являлось постоянным поводом для упреков ему со стороны славянофилов и сочувствующих. Тем не менее, политика на национальных окраинах, разумеется, существовала. Только понимали ее чаще по старому, с точки зрения не строительства национального государства, а контроля за территорией и лояльности населения престолу. В этом смысле Александру II удалось добиться очень многого. В начале его царствования и, надо сказать, при его непосредственном участии удалось завершить многолетние боевые действия на Кавказе, которым, казалось, никогда не будет конца. Произошло это не сразу и отнюдь не мирным способом, а наоборот, с помощью резкой активизации войны с горцами. Во время Крымской войны противники России рассчитывали на содействие горцев в борьбе с русской армией, и хотя попытки использовать войска имама Шамиля особых результатов не дали, правительству стало окончательно ясно, что неконтролируемый безопасности Северный империи. Кавказ Александр II – это был постоянная настроен угроза решительно. Кавказским наместником был назначен его друг молодости и бывший адъютант князь А.И. Барятинский, который много лет воевал на Кавказе при Николае I и прекрасно разбирался в ситуации. Барятинский смог убедить императора, что необходимо увеличить численность Отдельного Кавказского корпуса (он был превращен в армию) и, не считаясь с расходами и потерями, перейти к тактике полномасштабной войны с 146 постоянным удержанием контроля над покоренными территориями. Конечно, ресурсы огромной Российской империи и имамата Шамиля были несравнимы. Колоссальное преимущество в силах Барятинский как талантливый полководец использовал очень умело. Шамиль отрезался от плодородных долин, средства коммуникации между различными частями имамата перерезались, и тающее на глазах войско имама охватывалось стальным кольцом русских частей. Драма покорения Восточного Кавказа (Дагестана и Чечни) закончилась 26 августа 1859 года, когда пала последняя резиденция имама – горный аул Гуниб, а сам он вынужден был на почетных условиях сдаться Барятинскому. Однако война в западных предгорьях Кавказа, где русским войскам противостояли черкесские (адыгские) и абхазские племена убыхов, шапсугов, абадзехов, джегетов, продолжалась после этого еще несколько лет. Контроль за этими территориями установить не удавалось очень долго, а когда он все же был формально установлен, правительство испытывало сильные сомнения в том, что его удастся удержать. Тогда было принято, мягко говоря, неоднозначное решение о массовом переселении покоренных народов западного Кавказа в Османскую империю. Барятинский чуть позже даже предлагал отпустить туда же пленного Шамиля. На словах у него все выглядело красиво: «Исполнение этой мысли имело бы тройную или четверную цель: во-первых, избавить Кавказское плоскогорье от населения всегда враждебного и открыть этим самым прекрасные и плодородные места для нашего казачьего населения; во-вторых, дать самим выходцам лучшее положение, обеспечить их будущность, чего они теперь не имеют, ибо по мере прибытия в Турцию их оставили на произвол судьбы; в-третьих, это устроит судьбу и займет самого Шамиля, которому уже обещано будущее пребывание в Мекке; вчетвёртых, в общечеловеческих видах прогресса мы дадим прекрасное и сильное население пустынным странам». На деле переселение вылилось в 147 драматический исход десятков тысяч людей, продолжалось несколько лет, повлекло за собой множество человеческих трагедий и смертей. Вместе с тем, отметим важную деталь: переселение кавказских народов не мотивировалось властью в националистическом духе, оно рассматривалось лишь как оптимальный способ обеспечить контроль над территорией. Хотя страданий самих переселяемых это обстоятельство, конечно, никак не уменьшало. Но не только ход и исход Кавказской войны говорит нам о том, что Российскую империю времен Александра II нельзя представлять в идиллических тонах, как царство дружбы и мирного сосуществования различных вер и народов. Ни одна империя мира не была идиллией. Следующим, еще более драматичным испытанием государства на прочность стало уже упомянутое польское восстание. Стремление поляков к восстановлению национальной независимости было понятно и, кстати, пользовалось сочувствием и в русском обществе. После смерти Николая I и начала александровской «оттепели» (тоже термин тех лет) с надеждой на перемены к лучшему вздохнули и поляки. Тем не менее новый император на протяжении первых лет своего царствования четкой позиции по поводу «польского вопроса» не сформулировал. С одной стороны, он демонстрировал стремление к примирению, прощению полякам их «ошибок» 1830 года, а с другой – всячески подчеркивал, что им следует «оставить мечтания» и смириться с тем, что есть. Его логика была понятна: если и будут послабления, они придут «сверху» и ни в коем случае не должны быть похожи на вынужденные, вырванные у самодержавия уступки. Однако терпеливо ждать неизвестно чего поляки не были настроены. Кстати, не настроены были не только они: скажем, русская элита после отмены крепостного права все настойчивее требовала политических прав, то есть ограничения самодержавия, «конституции»). 148 Недовольным можно было заткнуть рот, но ведь Александр II вроде бы отказался от таких методов установления порядка! Однако колоссальная проблема для всей страны и для него лично заключалась в том, что, искренне желая не давить, а договариваться, он не мог в одночасье приобрести навыки и политическую культуру, необходимые для терпеливого поиска компромиссов и спокойных, взвешенных решений. Со своей стороны, таких навыков не имело и общество (ни польское, ни русское), так что конфликты становились неизбежными. И если реакция Николая I на любые конфликты была легко предсказуема и ни у кого не было по этому поводу никаких иллюзий, то политика его наследника создавала колоссальную зону неопределенности. Где предел уступок? Являются ли они признаком силы или, наоборот, слабости власти? Что мы получим, усилив давление на правительство? Такое прощупывание почвы – нормальная черта политической жизни, но только при одном условии: что все участники процесса это понимают. Есть все основания считать, что до конца своих дней Александр II так окончательно и не смог определиться, какие методы решения конфликтов ему ближе: привычные, то есть силовые или все же новые, основанные на переговорах и поиске компромиссов. Вероятно, в глубине души император всегда был убежден, что внутри страны (в отличие от международной политики) ему договариваться не с кем и незачем. Но давить и «не пущать» тоже не очень хотелось. Отсюда то, что его министр П.А. Валуев называл «политикой немыслимых диагоналей». Колебания же в политике никогда и никому не приносили пользы. Вот и польское восстание не вспыхнуло вдруг, в одночасье. Оно созревало на протяжении нескольких лет, когда показная строгость правительства сочеталась с отсутствием у него ясной программы, с реальным ослаблением власти, с постоянными сменами наместников и попытками разговаривать с польской элитой сразу и примирительно, и 149 жестко. Когда же в начале 1863 года восстание перешло в активную, вооруженную фазу (столкновения русских армейских частей с польскими партизанскими отрядами продолжались после этого около полутора лет), то ставки для России уже были очень высоки и выбора практически не оставалось. Дело в том, что в конфликт вмешались европейские державы, прежде всего Франция и Англия. От России требовали восстановить конституцию Царства Польского 1815 года (она была отменена Николаем I после восстания 1830 года), отменить все религиозные и языковые ограничения, объявить амнистию и т.д. На горизонте опять замаячила война, причем с теми же самыми противниками. В этот тяжелый и смутный момент колоссальную поддержку Александру II и правительству оказало русское общественное мнение. Во-первых, поляки нарушали все мыслимые представления о «честных боевых действиях», что крайне негативно воспринималось в России. Но ключевым моментом было то, что они хотели восстановления Польши в границах 1772 года, то есть включая белорусские, литовские и украинские территории, где самих поляков было меньшинство. Русское же общество однозначно считало, что эти земли – историческая часть России. В итоге если до восстания многие сочувствовали полякам, то теперь все сочувствующие должны были умолкнуть. Достаточно сказать, что популярность Герцена, который поддерживал восставших, резко упала, и тираж его газеты «Колокол», доходивший до 2-3 тысяч экземпляров, упал до 500. Напротив, тираж «Московских ведомостей» М.Н. Каткова, который возглавил мощную антипольскую пропагандистскую кампанию, резко вырос. В итоге восстание было подавлено. Важную роль в этом сыграла не только армия, но и либеральные бюрократы, которые в союзе со славянофилами смогли провести в Польше быструю и радикальную крестьянскую реформу. Надо сказать, что после отмены крепостного 150 права в России многие из них оказались не у дел: уступая давлению недовольных помещиков, Александр II отодвинул реформаторов от реальной власти. Теперь они вновь были призваны в строй и срочно направлены в Польшу. Задача, которую поставил перед ними император, заключалась в том, чтобы изолировать польских помещиков от польских же крестьян, и сделать последних опорой русской власти. С этой целью крестьянам практически даром передавалась большая часть помещичьих земель. Считается, что реформа удалась. В истории царствования Александра II и вообще в русской истории XIX века польское восстание во многом стало переломным. Оно оказалось поводом для такого сплочения русского общества, какого страна не видела с 1812 года. При этом принципиальное отличие от Отечественной войны заключалось в том, что теперь консолидация произошла на почве противостояния не конкретному агрессору, а обобщенному Западу. Возможно, этот процесс был неизбежен и произошел бы и без «помощи» поляков, хотя, наверное, и не в таких формах. Так или иначе, не случайно, что уже в 1869 году выходит знаменитое сочинение Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», построенное на представлении о враждебности России Западу и о лежащей на русских миссии «спасения» умирающей Европы – естественно, путем войны с ней. Спустя несколько лет милитаристские грезы Данилевского неожиданно станут явью… Говоря о многонациональной Российской империи 1860-1870-х годов, конечно, нельзя обойти вниманием и такой регион, как Средняя Азия. В отличие от Кавказа, расширение империи в эту сторону не было при Александре II запланированным и происходило в основном стихийно. Дело в том, что малочисленные части русской армии не могли полноценно контролировать очень протяженную границу, которая отделяла казахскую степь (казахи приняли российское подданство в 151 первой половине XIX века) от Кокандского и Хивинского ханств. Более или менее организованные отряды кокандцев и хивинцев совершали постоянные набеги на казахов и на немногочисленные укрепленные пункты, занятые оренбургский российской армией. генерал-губернатор Ни из-за Петербург, постоянно ни даже менявшейся обстановки не могли оперативно руководить действиями местных русских военачальников, которые постоянно брали на себя инициативу, принимая судьбоносные, как потом оказывалось, решения. Например, в июне 1865 года генерал-майор М.Г. Черняев, военный губернатор недавно созданной Туркестанской области взял крупнейший город региона Ташкент, чем необычайно удивил петербургское начальство. «Ташкент взят генералом Черняевым. Никто не знает, почему и для чего», - записал в дневнике министр внутренних дел П.А. Валуев. Но пока министры и сам император недоумевали, русское общество рукоплескало Черняеву, который неожиданно для себя самого обрел всероссийскую популярность. Непосредственной политической или экономической нужды в покорении территорий Коканда, Хивы и Бухары вроде бы не было. Более того, продвижение в Средней Азии постоянно вызывало серьезные дипломатические Афганистану и осложнения, Индии, что поскольку не на приближало шутку русских тревожило к Англию. Единственной мотивацией российских военных была тактика «лучшая оборона – это нападение». Они справедливо считали, что при крайней малочисленности войск, единственное, что удерживает местных правителей от нападения – авторитет русской власти, основывающийся на непрерывных победах. Поскольку победы, в отличие от Кавказа, давались здесь без концентрации больших сил, территория, контролируемая русскими силами, постоянно расширялась. Взяв какойлибо пункт, отдавать его уже никто не собирался. В итоге 1860-1870-е 152 годы оказались решающими в установлении контроля практически над всей территорией Средней Азии. Сильно урезанные Хивинское ханство и Бухарский эмират фактически утратили суверенитет, а Кокандское ханство было ликвидировано и полностью включено в состав империи. Таким образом, разные национальные окраины ставили перед государством и государем совершенно различные проблемы, заставляли прибегать к далеко неоднозначным способам их решения. Никакой единой политики в таких условиях не было и быть не могло. Более того, зачастую Александр II и его министры оказывались заложниками принятых не ими решений и вынуждены были действовать экспромтом. Еще интереснее отметить, что русское общественное мнение раньше правительства обратилось к защите «национальных начал» и довольно настойчиво требовало продолжения территориальной экспансии и проведения более жесткой политики на окраинах. Перелом «Национальный вопрос» (особенно в Польше и в Западном крае) позволил российскому обществу почувствовать свою силу, а значит, и зависимость власти от общественной поддержки. Это последствие восстания едва ли могло понравиться Александру II. На 1865-1866 годы приходится несколько громких «конституционных» выступлений русского дворянства. В апреле же 1866 года ему впервые пришлось столкнуться уже не с верноподданническими просьбами, а с первым в его жизни террористическим актом. Но прежде чем говорить об этом, нужно остановиться на очень важных переменах, которые совершились в 18651866 годах в личной жизни Александра Николаевича. 8 сентября 1864 года наследнику престола великому князю Николаю Александровичу исполнился 21 год. По мнению многих, цесаревич был блестящим молодым человеком, имевшим все шансы со 153 временем стать умным, гуманным и либеральным монархом. Прекрасно образованный, впечатлительный и легко увлекающийся, Никса был любимцем семьи. Осенью того же года он был помолвлен с датской принцессой Дагмарой, в которую влюбился с первого взгляда. Однако всего через несколько недель после помолвки Николай захворал. Болезнь цесаревича – цереброспинальный туберкулезный менингит - была очень серьезной, но врачи не смогли вовремя поставить верный диагноз. Сильные боли в спине, приковавшие его к постели, они приняли за приступы ревматизма. Весной 1865 года состояние Николая резко ухудшилось. 10 апреля 1865 года, когда на французский курорт одновременно прибыли его отец, 20-летний младший брат великий князь Александр Александрович и невеста, надежды уже не оставалось. Это было страшное и неожиданное потрясение. Семья умершего за несколько дней очень сблизилась с Дагмарой. Родители Никса очень хотели, чтобы она обратила внимание на его младшего брата, нового наследника Александра Александровича. Но его независимый и не лишенный упрямства характер, как и искренняя и глубокая привязанность к умершему брату абсолютно исключали саму возможность говорить о «передаче» ему невесты Николая «по наследству». Родители понимали деликатность ситуации и не хотели давить на сына. Решающим стало удивительное ощущение почти мистической связи, соединившей его с Дагмар у постели Николая. В очередной день рождения покойного Александр записал в дневнике: «Такого брата и друга никто из братьев мне заменить не может, а если и заменит его кто отчасти, то это Мать или будущая моя жена, если это будет милая Dagmar». В начале июня 1866 года цесаревич прибыл в Копенгаген, но лишь через неделю решился сделать Дагмар предложение. В сентябре датская принцесса прибыла в Петербург, 12 октября состоялось торжественное 154 миропомазание датской принцессы (отныне она становилась Марией Федоровной), а 28 октября прошел обряд венчания. Между тем одновременно с этими драматическими событиями развивались другие. 47-летний император без памяти влюбился в 18летнюю выпускницу Смольного института княжну Екатерину Долгорукую. В отличие от прочих романов Александра II, этот оказался не мимолетным увлечением, а глубокой страстью, которая владела им вплоть до самой смерти. Судить об этом мы можем по многолетней переписке императора со своей возлюбленной, которая сохранялась в руках наследников Долгорукой и лишь недавно стала доступна историкам. Она насчитывает тысячи необычайно интимных писем, каждое из которых было страстным признанием в любви. Фактически, на протяжении последних 15 лет жизни у императора было две семьи. За эти годы Екатерина Долгорукая родила императору четырех детей: Георгия, Ольгу, Бориса (он умер в младенчестве) и Екатерину. Императрица знала о происходящем, но, конечно, ничего не могла поделать. Писать обо всем этом приходится вовсе не из желания добавить в рассказ мелодраматический оттенок. Просто личная жизнь абсолютного монарха неизбежно влияет на его поступки, принимаемые решения, а в конечном итоге – и на жизнь страны. В данном случае влияние было не очень заметным для посторонних глаз, но от этого не менее важным. С середины 1860-х годов Александр II постепенно утрачивает интерес если не к государственным делам вообще (чувство долга все же было в нем необычайно сильно развито), то по крайней мере к масштабным преобразованиям. Историки непоследовательностью и разочарованием в охранительных тенденций первых обычно усталостью итогах в ответ самодержца, реформ, на объясняли наконец, рост это некоторым нарастанием оппозиционного и 155 революционного движения. Все эти объяснения в целом справедливы. Теперь, оценив, насколько большое место в его жизни занимала вторая семья, мы можем добавить к ним еще один важный фактор. Кроме того, становится понятным и некоторое отчуждение между императором и наследником Александром Александровичем, которое с годами только росло и в итоге уже после трагической гибели Царя-освободителя привело к тому, что его сын, новый император Александр III демонстративно и решительно изменил политический курс правительства. Фактически, серьезно «встряхнуть» Александра II с середины 1860х годов могли только очень значительные или неожиданные события. Первым в их числе и стало покушение 4 апреля. В этот день император, как всегда, прогуливался по Летнему саду. У выхода он задержался. Вот как сам он через пару дней описывал произошедшее. «Я садился в коляску и, обернувшись к толпе, надевал шинель, как вдруг слышу выстрел. Я никак не мог себе вообразить, что в меня стреляют. Повернувшись, я увидел, что какой-то человек падает и подумал, что он себя застрелил. Я подошел, тут мне говорят, что было. Я обратился к нему и говорю: «Кто ты такой?» Первое его слово: «Я русский», и потом, обратившись ко всем окружающим и показав на меня, он сказал: «Я в него стрелял, потому что он вас всех обманул». – Я их обманул», - с горечью завершил император рассказ. Покушавшийся оказался бывшим студентом Дмитрием Каракозовым, членом крохотного революционного кружка. И сам государь, и русское общество, еще не привыкшее к террористическим актам, было в шоке. И хотя никаких признаков заговора не было обнаружено, внутренняя политика правительства после покушения резко изменилась, так что в глазах многих наблюдателей именно 4 апреля стало переломным днем царствования. Целый ряд министров, имевших 156 репутацию реформаторов, был отправлен в отставку, в столице под председательством грозного графа М.Н. Муравьева (имевшего яркое прозвище «Вешатель») была комиссия, консервативная учреждена пресса метала Верховная громы следственная и молнии, а верноподданная оппозиция трепетала. Однако все эти шаги были скорее символическими. Возможности пересматривать недавно принятые реформы не было, не хотел этого и сам император. В итоге покушение было сочтено не симптомом глубокой общественной болезни, а досадной случайностью. Однако, как показали последующие события, такой вывод был ошибочным. Вторая война Известный историк и биограф Александра II Лариса Георгиевна Захарова, которая издала переписку Александра II с братом Константином Николаевичем, обратила внимание, что в этой переписке внутриполитические сюжеты: реформы, оппозиция и так далее, занимают минимальное место и освещаются довольно бегло и отстраненно. Совершенно очевидно, что по настоящему важными и интересными были для императора другие дела: международные отношения, дипломатия, армия и флот. Отмена крепостного права была одним из немногих исключений из этого правила. Но даже и в ее нюансы он не стал вникать глубоко, положившись на Редакционные комиссии. Как и любому человеку, Александру II было интересно то, в чем он хорошо разбирался и чем мог управлять. Экономику, общественные настроения, социальные проблемы контролировать было сложно, а то и вовсе невозможно. В отличие от своего отца, Александр II, кажется, это неплохо понимал. Во всяком случае, он не возражал министру внутренних дел Валуеву, который как-то прямо заявил государю: «Ваше величество, Вы можете 157 одним росчерком пера отменить весь Свод законов, но не можете поднять курс на Петербургской бирже». В сфере международной политики тоже было немало неуправляемого. Но все же это был для Александра Николаевича гораздо более привычный мир, судьбами которого, как казалось, управляли монархи и министры, мир, который жил по понятным законам и обитатели которого изъяснялись на понятном языке (в основном французском, который был тогда международным языком дипломатии). Надо сказать, что после Крымской войны Россия оказалась в очень непростом международном положении. Престижу страны был нанесен очень серьезный удар. По условиям Парижского мира, Россия лишалась права держать на Черном море военный флот, что делало ее беззащитной перед угрозой нападения с юга. Россия стала явно проигрывать в борьбе с Австрией за влияние на Балканском полуострове. Война истощила внутренние ресурсы страны и в тоже время поставила вопрос о срочном перевооружении и внутренних реформах в армии. В свою очередь, отмена крепостного права неизбежно вела к изменению самого принципа комплектования вооруженных сил – на смену рекрутским наборам должна была прийти всеобщая воинская повинность (это случилось в 1874 году). Ограниченность ресурсов и необходимость глубоких преобразований диктовали умеренность и осторожность во внешней политике. Новый глава Министерства иностранных дел князь А.М. Горчаков сформулировал эту позицию в знаменитой фразе «Россия сосредотачивается» (то есть уже не пытается играть роль европейского «жандарма», а оберегает исключительно собственные национальные интересы). Сам Горчаков был сторонником сближения с недавним противником – Францией. Однако активная поддержка французами восставших поляков исключила возможность альянса с Наполеоном III. В 158 свою очередь, Александр II выступал за союзные отношения с Пруссией. Он вообще был большим германофилом и поклонником своего дяди – прусского короля Вильгельма I. Во время восстания в Польше Пруссия была единственной из европейских стран, активно поддержавшей Россию (разумеется, не из альтруистических побуждений, просто в Пруссии польский вопрос стоял не менее остро). В свою очередь, Россия дипломатически поддержала Пруссию в ее войнах с Австрией и Францией. Победы пруссаков праздновались русским двором как свои собственные. Франко-прусская война 1870-1871 годов закончилась полным разгромом армии Наполеона III и падением Второй империи. В Париже разразилась революция, победители же завершили давно начатое дело: в Версале 18 января 1871 года была торжественно провозглашена Германская империя. Эти события создали на европейском континенте совершенно новый расклад сил, отдаленным последствием которого стала Первая мировая война. Но в начале 1870-х о ней, конечно, никто не думал, хотя в России было немало противников прогерманской внешней политики. Один из них, влиятельный журналист Катков, одержимый идеями по поводу разных заговоров и измен, даже зло шутил по этому поводу, что в Петербурге «существует не русское министерство иностранных дел, а иностранное министерство русских дел». Тем не менее, именно франкопрусская война дала России возможность объявить об отмене тех статей Парижского мирного договора 1856 года, которые ограничивали ее право держать военный флот на Черном море. Поверженная Франция сопротивляться не могла, а протесты Англии русское правительство проигнорировало. Это был крупный дипломатический успех, особенно значимый лично для императора, поскольку он как бы реабилитировал его за тяжелый Парижский мир, с которого началось царствование. Важно было и то, что достигнут этот успех был без единого выстрела. 159 Однако войны, к сожалению, избежать не удалось. Новый «балканский кризис» разразился в 1875 году. Как и предыдущие, он был вызван колоссальными национальными и религиозными проблемами, подтачивавшими изнутри ослабевшую Османскую империю. Достаточно беглого взгляда на карту, чтобы понять стратегическое значение бассейна Дуная, Балканского полуострова, Константинополя (Стамбула), а также Проливов (Босфора и Дарданелл), закрывающих выход из Черного и Мраморного морей в Средиземное. Каждая из европейских держав ревниво следила за соблюдением в этом регионе «баланса сил», стремясь не допустить преобладания конкурентов, у каждой из них были здесь свои важные интересы. При этом занятые геополитическими играми идеологи и государственные деятели не всегда отдавали себе отчет, какую колоссальную роль начинали играть в современном им мире национальные проблемы. Многим из них, загипнотизированным обманчивой легкостью перекраивания границ, эти проблемы попрежнему казались лишь одним из элементов игры. Политика Петербурга в «восточном вопросе» была противоречива. С одной стороны, «в верхах» и с еще большей силой – в обществе всегда помнили об идее помощи «братьям-единоверцам» (или «братьямславянам»). Существовала и своеобразная «программа-максимум», или, лучше сказать, мечта, на протяжении веков всплывавшая в сознании у многих при мысли о «наследии Второго Рима» (Византии). Заключалась она ни много, ни мало в освобождении Константинополя и установлении контроля над Проливами. Надо сказать, что в этой задаче здравое осознание собственных стратегических интересов переплеталось с явной мессианской утопией. Наиболее смелые прожектеры объединяли в своих фантазиях под скипетром русского монарха народы Балкан и Восточной Европы в огромную империю, столицей которой многим виделся исторический центр православия – Царьград-Константинополь. 160 В свою очередь, российские государственные деятели и сам Александр II в большинстве своем оценивали ситуацию гораздо более трезво, понимая, что большая война с европейскими державами, к которой может привести предсказуемая победа над Османской империей, потребует громадных жертв при минимальных шансах на успех. Министр финансов М.Х. Рейтерн настойчиво предупреждал, что «война остановит правильное развитие гражданских и экономических начинаний…, она причинит России неисправимое разорение и приведет ее в положение финансового и приготовленную экономического почву для расстройства, революционной и представляющее социалистической пропаганды, к которой наш век и без того уже слишком склонен». Петербург многому научило поражение в Крымской войне. Поэтому, когда в 1875 году в Боснии и Герцеговине вспыхнуло антитурецкое восстание, российский МИД занял крайне осторожную позицию, настаивая на «умиротворении» сторон дипломатическим путем. Правда, и в «верхах», и особенно в общественной среде было немало сторонников более решительных действий. Между тем, пока дипломаты составляли ноты и меморандумы, в апреле 1876 года восстала Болгария. Здесь османские власти действовали крайне жестоко: иррегулярные турецкие части – башибузуки – уничтожали местное население целыми селениями, от мала до велика. Известия о кровавой бойне повергли в шок всю Европу. «У каждого порядочного человека сердце обливается кровью при мысли о событиях на востоке, о презренной политике европейской, об ожидающей нас близкой будущности», - писал в дневнике российский военный министр Д.А. Милютин. Он прекрасно знал, что страна не готова к большой войне: реформирование и перевооружение армии было в самом разгаре, финансовое положение оставляло желать лучшего, но самое опасное – Россия опять рисковала остаться один на один со всей Европой. 161 Летом войну Турции объявили Сербия и Черногория. По всей России развернулась агитация в поддержку единоверцев, славянские комитеты активно собирали средства, добровольцы толпами отправлялись к театру военных действий. В рядах сторонников решительной политики оказались императрица и наследник престола. «И вот к концу лета все в России было отставлено на второй план, и только один славянский вопрос завладел всеми, - вспоминал позже издатель газеты «Гражданин» князь В.П. Мещерский. – Как вчера помню этих старушек и старичков, на вид убогих, приносивших свои лепты для славянских братий в каком-то почти религиозном настроении». Многими русскими «восточный вопрос» уже воспринимался как дело не столько внешнее, сколько внутреннее, чуть ли не определяющее судьбу России. Но возбуждение, как известно – плохой советчик. Благородные чувства до поры до времени заставляли на многое закрывать глаза. Князь Мещерский, «одержимый», братушколюбия», отправился как в сам он Сербию писал и там позже, «бесом обнаружил, что большинство добровольцев больше похожи на авантюристов, что многотысячные пожертвования уходят непонятно куда, а сербское руководство – лишь «более или менее искусные актеры, разыгрывавшие сообща комедию восстания и… эксплуатирования добродушной в своем энтузиазме России». Правда, это не помешало ему, вернувшись, вновь активно включиться в славянское движение. Между тем давление общественного мнения и безуспешность попыток добиться солидарности европейских держав оказывали тяжелое воздействие на русского императора. Александр II, глубоко убежденный в необходимости избежать войны, не мог оставаться равнодушным к тому, что задевало его чувства. «“Постоянно слышу я упреки, зачем мы остаемся в пассивном положении, зачем не подаем деятельной помощи славянам турецким? – делился он своими мыслями с Д.А. Милютиным. – 162 Спрашиваю тебя, благоразумно ли было бы нам, открыто вмешавшись в дело, подвергнуть Россию всем последствиям европейской войны? Я не менее других сочувствую несчастным христианам Турции, но я ставлю выше всего интересы самой России”. Тут государь обратился к воспоминаниям Крымской войны, слезы навернулись на его глазах… “Конечно, если нас заставят воевать, мы будем воевать, но я не должен сам подать ни малейшего повода к войне…”». По словам Рейтерна, «императору казалось, что если после продолжительного мирного царствования наступит война, то он ее не доведет до конца и подобно отцу не вынесет бремя». Как мы увидим, во многом так и случилось, хотя повторение не было буквальным. Выдержать миролюбивую позицию не получилось. Огромное давление на Александра II оказывали воинственно настроенные славянофилы и особенно сочувствовавшие им дамы – окружение императрицы и она сама. Больная и заброшенная, Мария Александровна нашла в «славянском вопросе» подобие нового смысла жизни. В конце июня император к удивлению многих официально разрешил русским офицерам добровольцами отправляться на Балканы. Вскоре под влиянием окружения в его настроении произошел окончательный перелом. «Приближенные дамы говорили с сияющими лицами: “Император встал во главе национального движения!”, - вспоминал Рейтерн. - Государь был, очевидно, в лихорадочно возбужденном состоянии». 29 октября 1876 года он произнес в Москве знаменитую речь, фактически отрезавшую путь назад. «Желаю весьма, - сказал он, в частности, - чтобы мы (т.е. европейские державы. – И.Х.) могли прийти к общему согласию. Если же оно не состоится, то я имею твердое намерение действовать самостоятельно». Через три дня была объявлена частичная мобилизация. В Турции также возобладала «партия войны», надеявшаяся на поддержку 163 Англии. После ряда неудачных дипломатических маневров 12 (24) апреля 1877 года был обнародован манифест об объявлении войны. В соответствии с планом боевых действий, разработанным талантливым военачальником генералом Н.Н. Обручевым, русская армия должна была быстро переправиться через Дунай и, не тратя времени на осаду крепостей и вытеснение врага с обширной территории Болгарии, по кратчайшему пути двинуться прямо к столице Османской империи и занять ее, не дожидаясь реакции европейских держав. В том, что Турция проиграет войну, в Европе мало кто сомневался. Важно было продемонстрировать, напряжения, а что значит, Россия способна может победить встретить без давление особого держав не истощенной, а с позиции силы. При всей своей дерзости этот план не был неосуществимым. Однако война стала развиваться по иному сценарию. Главнокомандующим Дунайской армией был назначен брат императора великий князь Николай Николаевич, оказавшийся, мягко говоря, не слишком способным военачальником. Александр II тоже находился в действующей армии. Он отправился на Балканы, по собственным словам, в качестве «брата милосердия», однако не мог удержаться от вмешательства в принятие важных решений, создавая дополнительную неразбериху. Форсирование Дуная было проведено образцово – совсем не там, где ожидал Инициатива обманутый целиком отвлекающими принадлежала маневрами русским войскам, противник. никакого стратегического плана войны у противника не было. Однако вскоре успешно начатое наступление столкнулось с серьезными препятствиями. Дело в том, что на правом фланге русской армии остался очень сильный корпус, пожалуй, самого талантливого турецкого генерала - Осман-паши. В начале июля он стремительно выдвинулся по направлению к Плевне. 164 Этот небольшой город-крепость стал для русской армии роковым. Командование не заметило быстрого передвижения 15-тысячного турецкого корпуса. В результате русские заняли соседний Никополь, но в Плевну опоздали всего на несколько часов. Наспех предпринятый штурм совсем еще недавно пустого города захлебнулся в крови. Поначалу большого значения этой неудаче не придали. Однако Плевна находилась почти в центре стратегической линии от Дуная к Балканским перевалам, так что оставлять ее в тылу было очень опасно. Сюда были переброшены дополнительные части, и 18 июля последовал еще один штурм. И вновь неудача с большими потерями – почти 8 тысяч убитых и раненых! Осман-паша успел создать прекрасные оборонительные линии, к тому же Плевна постоянно получала подкрепления. В это время к югу от Балкан, куда вышел передовой отряд генерала Гурко, появилась 60-тысячная турецкая армия, и русские части едва успели отойти к перевалам. Неожиданный переход от наступления к обороне на всех участках боевых действий застал нашу армию в крайне невыгодном положении – с растянутыми коммуникациями и «дырявым» фронтом. Воодушевленное турецкое командование разрабатывало даже планы вытеснения русских обратно за Дунай, и лишь несогласованность действий турок и стойкость русских частей и болгарского ополчения помешали противнику развить успех. Ключевыми пунктами, где решался теперь исход войны, стали Плевна и Шипкинский перевал. Героически отбив у Шипки упорный натиск превосходящих сил, российские части перешли здесь к обороне, затянувшейся до 27 декабря. Крайне неудобная позиция, тяжелейшие условия, рано наступившие в горах морозы, - все это привело к очень большим потерям (около 10 тысяч человек), причем в основном из-за обморожений и болезней. Но самым кровавым эпизодом войны стал 165 третий безуспешный штурм Плевны. Он был предпринят 27-30 августа, к именинам императора и вопреки мнению многих военачальников, которые считали, что необходим не штурм, а правильная осада. Лишь отряду генерала Скобелева ценой невероятного героизма удалось добиться частичного успеха, но поддержки он так и не получил. Потери составили 13 тысяч человек. Настроение в Ставке было близко к паническому. В этот драматический момент Александр II, поддержанный Милютиным, принял волевое решение: никуда не отходить, начать планомерную осаду Плевны. Для этого из России был вызван герой обороны Севастополя генерал Э.И. Тотлебен. 28 ноября (10 декабря), истощив все запасы, Осман-паша предпринял отчаянную попытку прорыва блокады. После ее неудачи турецкий корпус численностью 40 тысяч человек сложил оружие. Препятствие к дальнейшему наступлению было ликвидировано. На военном совете было решено не откладывать общее наступление до весны. Это решение означало, что горные перевалы будут преодолеваться зимой, в лютый мороз. Первым через западные перевалы двинулся генерал Гурко. Самое упорное сопротивление русские части встретили в центре, у деревень Шипка и Шейново, где лишь ценой тяжелейшего перехода через горы и 5-тысячных потерь в самом конце декабря был окружен и взят в плен 25-тысячный корпус турок. Особо заметную роль сыграл в этом успехе генерал Скобелев. Дальнейшее наступление развивалось стремительно, и уже 19 (31) января в Адрианополе было подписано соглашение о перемирии. Победа казалась полной! Многие и в армии, и в России считали, что логичным аккордом войны будет занятие Константинополя. Однако войска были остановлены в Сан-Стефано, всего в 12 километрах от турецкой столицы. Главной причиной остановки армии был бурный протест Великобритании и угроза начала новой войны – на этот раз с самой могущественной европейской 166 державой, к которой к тому же вполне могли присоединиться АвстроВенгрия и Франция. После некоторых колебаний флот ее величества королевы Виктории вошел в Дарданеллы, превратившись в зримый и весомый аргумент в давлении на Россию. Между тем 19 февраля, в очередную годовщину восшествия Александра II на престол представители России и Турции подписали мирный договор, известный как Сан-Стефанский. Условия его казались необычайно выгодными. Сербия, Черногория и Румыния получали полную независимость и территориальные приращения; образовывалось огромное Болгарское княжество (формально автономное); Россия получала утраченную после Крымской войны Южную Бессарабию и некоторые территории в Закавказье. Этот договор был с восторгом встречен в России и с крайним возмущением – в европейских столицах. Впрочем, уже тогда возникла версия, что туркам удалось провести русских дипломатов: соглашаясь на значительные территориальные уступки, они-де ожидали и даже провоцировали резкую реакцию Европы, закономерно посчитавшей, что Россия пытается сделать из обширной Болгарии своего сателлита и с его помощью безраздельно хозяйничать на Балканах. Европейские державы потребовали пересмотра двустороннего договора на общеевропейском конгрессе. Он открылся в Берлине 13 июня 1878 года. Под давлением Великобритании (которую представлял премьер-министр и лидер партии тори Бенджамин Дизраэли) и АвстроВенгрии, при одобрении Франции и полном самоустранении Германии (в Петербурге напрасно рассчитывали на поддержку германского канцлера Отто фон Бисмарка), России пришлось уступить по многим пунктам. Болгария была разделена на две части, причем более обширная и богатая, южная ее часть, названная Восточной Румелией, ставилась в зависимость от Турции. Существенно урезались территории Сербии и Черногории, Австро-Венгрия получала право оккупировать Боснию и Герцеговину, а 167 Англия – Кипр. «Берлинский трактат, - писал 80-летний министр иностранных дел князь А.Д. Горчаков императору, - есть самая черная страница в моей служебной карьере». «И в моей тоже», - признал Александр II. Между тем, сложившаяся ситуация едва ли оставляла России выбор и какие-либо ресурсы противодействовать давлению держав. В полной мере сказывались последствия затяжной войны. По признанию Милютина, «военные силы так расстроены войной, так разбросаны, что никакого вероятия успеха» в новой войне не предвидится. Как оценить итоги войны с точки зрения российских национальных интересов? Надо признать, что если Россия стремилась утвердить на Балканах свое влияние, то достичь этой цели соразмерно понесенным жертвам ей не удалось, причем совсем не из-за итогов Берлинского конгресса. Дело в том, что Турция так и не смогла установить контроль над Восточной Румелией, и уже в 1885 году две части Болгарии фактически объединились. Однако тогда же отношения Болгарии и России испортились, и дело дошло даже до разрыва дипломатических отношений, восстановленных только в 1896 году. Выяснилось также, что правительства Сербии и Румынии склонны ориентироваться не на восток, а на запад. Взаимоотношения молодых балканских государств также оказались далеко не идиллическими, и сербо-болгарская война 1885 года стала лишь грозным предвестником конфликтов, приведших уже в начале XX века к резкому обострению противоречий между Сербией, Болгарией, Румынией и Грецией. В результате Балканы превратились в настоящий «пороховой погреб Европы», взорвавшийся в 1914 году. Кризис Но еще более печальные последствия итоги войны имели для внутреннего положения в России. Мы помним, в каком возбужденном 168 состоянии подошло к ней русское общество. Война поначалу отодвинула внутренние проблемы на задний план. В настроениях общества поначалу доминировала одна простая мысль: «Лишь бы победа, а остальное пока не важно». Но это похоже на выписывание векселя, который по окончании сражений был предъявлен совершенно не готовой к этому власти. Впрочем, платить приходилось и по настоящим векселям. Война стоила государству суммы, более чем вдвое превышавшей годовой бюджет, привела к резкому падению курса рубля, скачку инфляции и к тому же совпала с европейским экономическим кризисом. Империя оказалась на грани финансового банкротства. Неудовлетворенность русского общества результатами войны имела, как писал В.П. Мещерский, «роковое значение в истории русской внутренней государственной жизни». В стране воцарилось «состояние какого-то всеобщего глухого недовольства и недомогания». Не менее тяжкими были последствия войны и лично для Александра II, от воли которого очень сильно зависела ситуация в стране. «Мы были поражены его изменившимся внешним обликом, когда он вернулся в Россию, вспоминала фрейлина императрицы графиня Александра Толстая. – Поразительная худоба свидетельствовала о перенесенных испытаниях. У него так исхудали руки, что кольца сваливались с пальцев…» Однако дело было не только в физическом, но и в психологическом истощении. Император все больше тяготился грузом ответственности, лежавшим на его плечах, все менее твердыми и осмысленными были его государственные решения. Война надломила его. И это притом, что к началу 1870-х годов преобразовательный порыв двигавший Александром II в 1850-1860-х годах, и без того почти угас. Утратив представление о целях и направлении развития, власть действовала по инерции, а то и вовсе бездействовала. Но ведь жизнь в стране еще была бесконечно далека от того, чтобы спокойно идти своим 169 чередом. К тому же в конце 1870-х годов российское общество столкнулось с новым вызовом: революционным террором, направленным против представителей власти. Это были уже не отдельные акты, подобные покушению Каракозова, а систематическая кампания. Начало волне террора было положено в январе 1878 года, когда 29летняя революционерка («нигилистка», как часто называли их в обществе) Вера Засулич по своей собственной инициативе выстрелила в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, была схвачена, предстала перед судом присяжных и… оказалась им оправдана! В августе не менее известный впоследствии революционер, 27-летний Сергей Кравчинский прямо в центре Петербурга зарезал кинжалом шефа жандармов Н.В. Мезенцова, после чего сел в пролетку и благополучно скрылся. Теракты совершались под флагом мести за репрессии и встречались некоторой частью общества если не сочувственно, то «с пониманием»: правительство-де само виновато, ведь именно оно необоснованным угнетением заставляет молодых идеалистов идти на крайности. От рук террористов погибло еще несколько человек, а в марте следующего года Петербург узнал о покушении на главу государства. Некий бывший студент Александр Соловьев спокойно приблизился на улице к Александру II, отдал ему честь, а затем достал револьвер и открыл стрельбу. Стрелять он, правда, не умел, и побежавший зигзагами император даже не был ранен. Но настоящая охота на государя развернулась после того, как летом 1879 года наиболее радикально настроенные революционеры решили всеми силами добиваться его смерти (они патетично именовали это решение «вынесением смертного приговора»). В ноябре был взорван поезд, в котором, как считали убийцы, ехал Александр II, а 5 февраля 1880 года чудовищный взрыв потряс уже Зимний дворец. Оказалось, что один из террористов, Степан Халтурин, устроился во дворец плотником и 170 сумел пронести в него около трех пудов (50 килограмм) нового взрывчатого средства - динамита, которые и взорвал под обеденной залой в момент, когда там должен был находиться император (тот всего на полчаса задержался). Не так уж сложно представить себе то крайне тягостное чувство, которое доминировало в ту пору в настроениях и правительства, и общества, закономерно преувеличивавших организованность террористов и масштабы их деятельности. «Было бы слишком слабым сравнением, если бы я сказал, что мы все жили в осажденной крепости, - писал спустя много лет в воспоминаниях племянник императора великий князь Александр Михайлович. – На войне и друзья, и враги известны. Здесь мы их не знали. Камер-лакей, подававший утренний кофе, мог быть на службе у нигилистов… Каждый истопник, входящий к нам, казался нам носителем адской машины». Труднее понять, каково было человеку, ставшему главным объектом этой охоты. Александр II, как показывает его поведение в роковой день 1 марта, вряд ли испытывал перед убийцами страх; конечно, не думал он и о том, чтобы утихомирить их какими-то уступками. Но какую, должно быть, тоску вызывало у него, и без того смертельно уставшего, ощущение, что жизнь его зависит от какой-то анонимной, бессмысленной и злобной силы! В этот драматический момент на политической сцене должен был появиться кто-то, способный вывести правительство из тупика. Эту роль сыграл человек сравнительно чужой для столичных кругов - талантливый военачальник и администратор, герой недавней русско-турецкой войны (он воевал на Кавказском фронте) граф Михаил Тариелович ЛорисМеликов. После взрыва в Зимнем он был облечен почти диктаторскими полномочиями и вскоре смог сформулировать достаточно четкую программу действий правительства в условиях кризиса. 171 Не собираясь уступать террору, Лорис-Меликов уловил главную проблему русского общества тех лет: состояние апатии и глубокой неудовлетворенности, в котором оно пребывало после войны. Он не был человеком, склонным к каким-то радикальным решениям или популистской демагогии. Его программа была достаточно проста и бесспорна: облегчить налоговое бремя, помочь крестьянам, повысить эффективность управления, наладить контакт с прессой, и, главное превратить общество из пассивного наблюдателя (а потому и постоянного критика) любых действий власти в организованную силу, разделяющую с нею бремя ответственности за судьбу страны. Оживить, воодушевить русское общество могло только реальное дело. По мысли Лориса и его единомышленников, таким делом должно было стать участие общественных избранников в разработке самих реформ. Не вдаваясь в детали, достаточно сказать, что эта идея, получившая «конституции у публицистов и Лорис-Меликова», исследователей ничего громкое общего с название настоящей конституцией не имела. И все-таки при некоторой доле фантазии это проектировавшееся совещательное собрание представителей земств и городов (всего около сотни человек) можно было воспринимать как подобие «первого российского парламента», правда, совершенно не похожего на парламенты европейские. Любопытно, что сам Александр II, всю жизнь стойко сопротивлявшийся любому ограничению его власти, одобрив предложение Лориса, заметил: «Я дал согласие на это представление, хотя и не скрываю от себя, что мы идем по пути к конституции». Эти слова были произнесены утром 1 марта 1881 года… После смерти царя проект Лориса так и остался неосуществленным. Последние месяцы жизни императора Александра II вообще были чем-то из ряда вон выходящим. 22 мая 1880 года после длительной болезни скончалась императрица Мария Александровна. «До сего дня 172 едва ли какая-либо венценосная жена умирала так бесшумно, так бессознательно и случайно, так одиноко», - записал в дневнике П.А. Валуев. Едва дождавшись истечения 40 дней после ее смерти, то есть задолго до окончания положенного по традиции годичного траура, император обвенчался с княжной Долгорукой, которая вместе с потомством (сыном Георгием и двумя дочерями) получила титул светлейшей княгини Юрьевской. «Я хочу умереть честным человеком и должен спешить, потому что меня преследуют убийцы», - якобы повторял Александр II. Вероятно, он действительно пытался обеспечить будущее своей второй семьи перед лицом возможной смерти. Однако это событие шокировало его многочисленных родственников, особенно старшего сына и наследника Александра Александровича. Очень тяжело переживали случившееся все, кто был близок к покойной императрице и к цесаревичу. «Я никогда не признаю эту авантюристку. Я ее ненавижу! – говорила мужу после обеда с новобрачными Ольга Федоровна, жена великого князя Михаила Николаевича. - Она – достойна презрения. Как смеет она в присутствии всей императорской семьи называть Сашей твоего брата?». Столкнувшись с почти неприкрытой оппозицией среди родных и близких, самодержец (это было особенностью его характера) упорно не желал отступать. Напротив, судя по некоторым данным, он собирался короновать Юрьевскую подобно тому, как это когда-то сделал со своей второй супругой Петр I. Были даже те, кто утверждал, что видел собственноручно нарисованный императором вензель новой императрицы Екатерины III! Рожденный задолго до брака Георгий становился бы великим князем. Это был бы настоящий династический кризис. «Положение наследника становилось просто невыносимым, вспоминала фрейлина Александра Толстая, - и он всерьез подумывал о 173 том, чтобы удалиться “куда угодно”». Но судьба распорядилась по иному… Читатель, наверное, уже обратил внимание на вопиюще непрофессионально организованную охрану главы государства. Конечно, до начала кампании террора в серьезной охране царя вообще не было необходимости. Но ничего принципиально не изменилось и тогда, когда стало ясно, что угроза его жизни очень серьезна. Явные просчеты в обеспечении безопасности касались, во-первых, предотвращения покушений, а во-вторых, самой охраны при перемещениях императора. Известно, например, что задолго до взрыва в Зимнем при одном из обысков был найден план дворца с помеченной на нем обеденной залой, но никаких мер вслед за этим не последовало. Обеспечением безопасности императора занималось тогда несколько разных ведомств, что тоже создавало путаницу. Но хуже всего было то, что сам охраняемый не желал, чтобы его охраняли. Александр II считал унизительным, что по столице своего собственного государства он должен ездить в сопровождении охраны. Он всячески сопротивлялся попыткам окружения как-то ограничить в целях безопасности его передвижения. По одной из версий, тем же воскресным утром 1 марта во дворце было получено сообщение, в котором точно указывалось место будущего покушения. Однако изменить заранее известный маршрут движения царя министр двора граф А.В. Адлерберг не решился якобы потому, что накануне в ответ на очередное предостережение Александр II раздраженно заявил: «Слушай, Адлерберг! Я тебе уже не раз говорил и еще раз приказываю: не смей мне ничего докладывать о готовящихся на меня покушениях… Я хочу остаток жизни прожить в покое». Сейчас даже дилетанту известно, чтó должна делать охрана сразу после неудавшегося покушения: немедленно увезти охраняемого 174 подальше от места событий. Когда один из террористов, Николай Рысаков бросил в карету царя первую бомбу, тот остался совершенно невредим. Он вышел из поврежденного экипажа, подошел к раненым казакам, затем к Рысакову, потом собрался осмотреть место взрыва. В рядах охраны царила явная растерянность. Все это и позволило второму террористу, Игнатию Гриневицкому завершить начатое дело второй бомбой. Трагизм происшедшего усугублялся тем, что властям к 1 марта уже удалось выйти на след террористов и их арест был вопросом нескольких дней. Покушение на Екатерининском канале фактически было их последним шансом. Была ли «развилка»? В отечественной историографии период конца 1870 - начала 1880-х гг. традиционно изображался как время «второй революционной ситуации»118. Не вдаваясь в полемику об обоснованности использования самого этого ленинского определения в современных исторических работах, следует отметить, что в отличие от «первой революционной ситуации» рубежа 1850-1860-х гг. вторая выглядит менее сконструированной советскими историками. В начале эпохи Великих реформ инициатива полностью принадлежала правительству и даже большинство радикалов возлагало свои надежды на реформы «сверху», а не на революцию «снизу». О последней как пункте в политической повестке дня думали в то время в России лишь единицы, не пользовавшиеся ни общественной, ни, конечно, массовой поддержкой. По уровню мобилизации, организации, по ясности программы тогдашний «революционный лагерь» находился, так сказать, в младенческом 118 Хейфец М.И. Вторая революционная ситуация в России. Кризис правительственной политики М., 1963. 175 состоянии, и только неготовность правительства иметь с ним дело и репрессии искусственно придавали ему некоторую серьезность. Спустя два десятилетия ситуация серьезно изменилась. После тяжелой войны и «сдачи позиций» на Берлинском конгрессе и правительственными, и общественными кругами овладела апатия и растерянность. Какой-либо внятной программы внутренней политики не существовало. Сам император в значительной степени утратил интерес к происходящему в стране, погрузившись в свои личные переживания. Предшествующие правительственными годы острой группировками борьбы и между стремление различными Александра II балансировать между ними, не давая перевеса ни одной, по настоящему истощили правительство. В «верхах» просто не осталось людей, готовых идти ва-банк. Лучшие годы большинства активных сановников пришлись на первое десятилетие реформ и все, на что они оказались способны к исходу 1870-х – это извлечь из шкафов свои 15-20-летней давности проекты. Одновременно уже не просто оппозиционные, а в полном смысле слова революционные настроения стали нормой в студенческой среде119. Неспокойно было и в крестьянской, хотя ничего похожего на массовые беспорядки 1905-1906 гг. русской деревне тогда не грозило. Во многих земствах сформировались достаточно сплоченные либеральные группы, которые – в отличие от середины 1860-х гг. – уже не очень склонны были паниковать при виде нахмуренных бровей губернаторов 120 . Ликование немалой части столичной публики при известии об оправдании Веры 119 Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX – начала XX века: социально-историческая судьба. М., 1999. 120 Петров Ф.А. Земское либеральное движение в эпоху второй революционной ситуации в России (конец 70-х — начало 80-х годов XIX в.). Дисс. канд. ист. наук. М., 1976; Пирумова Н.М. Земское либеральное движение. Социальные корни и эволюция до начала ХХ века. М., 1977. 176 Засулич стало для власти не менее тревожным симптомом, чем сам оправдательный вердикт. Наконец, неуловимость народовольцев, при видимом бессилии правительства противодействовать террору создавала преувеличенное представление о мощи революционных организаций. Все сказанное позволяет однозначно поставить диагноз: Россия оказалась в состоянии острого внутриполитического кризиса. Однако кризис вовсе не равноценен кануну революции. На мой взгляд, в стране не существовало условий ни для массового протеста, ни для «революции элит». И массы, и элиты оставались в целом лояльны режиму (хотя далеко не удовлетворены действиями правительства). Готовность ниспровергать существующий строй или даже толерантно отнестись к такому ниспровержению демонстрировало подавляющее меньшинство населения, причем меньшинство, которое не воспринималось властью как имеющее собственную «политическую субъектность». Кстати, именно поэтому скромная и очень умеренная дворянская оппозиция 1860-х гг. и потенциальная угроза крестьянского недовольства в конце 1870-х гг. вызывала в правительстве куда больше отклика по сравнению с действиями народовольцев. Когда протестует опора трона (а крестьян и дворян многие считали именно таковой), нужно что-то менять в политическом курсе. Когда же анонимная сила совершает бессмысленные акты насилия (именно так «верхам» виделся народовольческий террор), нужно думать не столько о переменах, сколько о консолидации власти и усилении полиции. В начале 1880 г. в «верхах» вновь (на этот раз – по инициативе Александра II) стали обсуждаться и давние предложения Валуева и вел. кн. Константина Николаевича о привлечении общественных представителей к законотворческому процессу. Валуев, как и в 60-е гг., считал необходимым пересмотр реформаторского курса, опору на поместное дворянство и последовательное усвоение европейских 177 парламентских форм с тем, чтобы гипотетические депутаты «участвовали не в разработке, а в обсуждении законопроектов, т.е. не столько определяли их содержание, сколько знакомились с мотивацией правительства и разделяли с ним ответственность за проведение тех или иных мер, тогда как решающее влияние на дела сохранялось бы за «просвещёнными» правительственными чиновниками» 121 . Великий же князь, один из наиболее последовательных в «верхах» приверженцев Великих реформ, считал необходимым возврат к преобразованиям начала царствования и существовавшего расширение прав политического земства строя. при сохранении Совещания под председательством императора в январе 1880 г. выявили не только взаимную неприязнь Валуева и Константина Николаевича, но и несочувствие к обоим проектам в среде высших сановников империи. Как и ранее, решено было ничего не делать. «Быть может, для перехода к другому порядку мыслей и дел нужно, чтоб почва под нами еще более заколебалась», - отмечал после этого Валуев, имея в виду не столько сами покушения, сколько растерянность, которую они явно вызвали в правительственных и умеренных общественных кругах122. Болезненность проблемы политического представительства и для власти, и для общества, а в последующем и для историков объясняет повышенное внимание именно к ней в контексте попыток преодолеть политический кризис. Тем самым она зачастую вырывается из этого контекста, что порой позволяет сводить всю борьбу вокруг реформ именно к «конституции». Однако в реальности вопрос о представительстве (и его отсутствии) занимал в российской политической повестке дня очень скромное место. Обсуждение в правительстве «конституции» следует, как уже отмечалось, считать именно симптомом 121 122 Мамонов А.В. Указ. дисс. С. 313-314. Валуев П.А. Дневник. 1877-1884. Пг., 1919. С. 51. 178 кризиса власти, а не «революционной ситуации»: всякий раз, когда у правительства появлялась внятная политическая программа, этот вопрос либо снимался с повестки дня, либо без труда сводился властью к второстепенным косметическим мерам. Что касается общественной среды, то, как будет показано ниже, представителей практически всех политических течений волновали прежде всего иные проблемы: социальные, и прежде всего положение в русской деревне, правовые (эффективность судебной и административной системы), образовательные, наконец, международный статус страны. И, конечно, менее всего революционеров. политическое В этом представительство контексте можно интересовало объяснить только недоразумением то обстоятельство, что имя М.Т. Лорис-Меликова – одного из авторов и символа последней реформаторской программы в России XIX века – ассоциируется прежде всего с «конституцией». Катастрофа 1 марта 1881 года поначалу, казалось, не означала крушения замыслов Лорис-Меликова. Однако, уже 8 марта, в ходе заседания под председательством нового императора его протеже К.П. Победоносцев неожиданно резко выступил против предложений Лориса, интерпретировав их как начало «конституции». Столкнувшись с противодействием со стороны влиятельного обер-прокурора Синода и с неопределенностью позиции нового императора, Лорис оказался перед необходимостью добиться того, чтобы правительство действовало как единое целое. Однако опубликованный без ведома большинства министров манифест о незыблемости самодержавия от 29 апреля, автором которого был Победоносцев, положил конец кратковременной «эпохе Лорис-Меликова». Он вышел в отставку. 179 Уроки Было бы глубоко неверно изображать Александра II и его преемников носителями волюнтаристского начала абсолютной власти. Да, они выбирали в спектре общественных настроений и идей те, что были им лично близки, и этот выбор, неизбежно становясь публичным, оказывал избранным идейным комплексам и политическим группам мощную поддержку. Однако ни один из российских самодержцев не создавал программы действий из ничего, своими личными усилиями. Более того, начало царствований обоих Александров свидетельствует: они остро нуждались в формировании вокруг себя команды единомышленников, которые «проговаривали», оформляли бы смутные предпочтения монархов и были бы им опорой в противостоянии прочим влиятельным в «верхах» настроениям. Разница между Александром II и его сыном заключалась в этом смысле лишь в том, что первый в конце 1850-х гг. искал опоры в реформаторски настроенном меньшинстве, а второй – в меньшинстве консервативно-националистическом, которому в начале 1880-х еще только предстояло стать «мейнстримом» его царствования. Конечно, жесткий консервативный настрой нового императора, его неприятие отцовских либеральных «увлечений» и симпатия ко всему «русскому», «историческому», «исконному», к «порядку» и стабильности относительно быстро стали общеизвестны, что оказало очень значительное форматирующее влияние на общественный климат и идеологический настрой российского общества. Программы продолжения и тем более радикализации реформ были фактически сняты с повестки дня. Однако все альтернативные сценарии развития страны, которые оформились еще до 1 марта 1881 г., продолжали существовать и адаптироваться к новым условиям. Можно даже утверждать, что 1880-е гг. не добавили к этим идейным комплексам практически ничего нового. 180 Внимательный анализ общественно-политических настроений и программ показывает, что все их основные компоненты оформились еще до начала нового царствования и в 1880-90-х годах лишь оттачивались и обрастали новыми аргументами и сторонниками. В исторической литературе уже не раз отмечалось, что, в сущности, любые реформы можно трактовать как «контрреформы» и наоборот, в зависимости от риторических целей интерпретатора. Однако если концентрироваться не на терминах, а на сути и на риторическом оформлении той или иной политической программы, несложно обнаружить, что некоторые из них строятся на преемственности по отношению к прежнему политическому курсу, а другие, напротив, от него отталкиваются и всячески это подчеркивают. Сглаживать это противопоставление, игнорировать позицию самих исторических акторов было бы глубоко неверно. Да, результаты широковещательных программ по пересмотру «ошибок прошлого» зачастую остаются почти исключительно в области риторики, не оказывая существенного влияния на институты и текущую внутреннюю политику. Но, во-первых, так происходит далеко не всегда, а во-вторых, неудавшиеся контрреформы и отсутствие контрреформ – это далеко не одно и то же. Именно поэтому анализ в данном параграфе будет сосредоточен скорее на идеологии, на программе контрреформ, чем на ее воплощении. Как и в случае с реформами, замыслы по их «исправлению» оказались гораздо более амбициозными и широковещательными по сравнению с их воплощением, и если оставаться на почве действительно удавшегося консерваторам, несложно доказать тезис, что никаких контрреформ и не было. Иначе говоря, если в основу суждений о смысле правительственной политики этого времени положить анализ идеологических деклараций и имиджа ключевых политических деятелей (консервативных публицистов, министров, самого императора), то вывод о радикальном реакционном 181 пересмотре реформ будет неизбежен. Если же сделать акцент на технологиях и практиках администрирования, то закономерным будет вывод о прагматичной корректировке прежнего курса под влиянием накопленного опыта. Консервативная программа пересмотра реформ в основных своих чертах оформилась уже во второй половине 1870-х гг. Основными ее элементами стали: 1) отказ от либерально-экономической ставки на рынок и усиление этатистских начал в экономике; патернализм государства по отношению ко всем общественным классам и «высших» сословий по отношению к «низшим», в частности усиление контроля за крестьянством как со стороны государственной власти, так и со стороны дворянства; 2) сужение самоуправления во всех сферах (земского, городского, университетского) и усиление бюрократического контроля за общественными организациями. 3) жёсткая политика контроля за общественным мнением и печатью. 4) поддержка крестьянской общинной и помещичьей частной собственности как двух столпов «исторического» социального устройства в деревне. 5) принципиальное отрицание применимости к России западных форм организации общественно-политической жизни (выборное представительство, партии, формальные гарантии «свобод»). Эта программа в чистом виде формулировалась лишь немногими, хотя и достаточно влиятельными органами печати («Московские ведомости», «Гражданин»). В общественной среде – даже консервативной - не очень популярны были идеи ограничения самоуправления и стеснения общественного мнения. Кроме того, этот вариант консерватизма, как уже говорилось выше, принципиально отличался от 182 программы аристократической фронды. Однако в 1880-х гг. «аристократы» уже не играли даже той ограниченной роли, которая принадлежала им в 1850-70-х гг. На первый план выдвинулся традиционалистский консерватизм с отчетливо выраженным националистическим комплексом. Колоссальную поддержку этому варианту консервативной идеологии оказала позиция нового императора. Она была вполне решительной с самого начала царствования. Уже 25 марта 1881 г. в разговоре с А.Ф. Тютчевой, выразив одобрение журналистской деятельности ее мужа И.С. Аксакова («он настоящий русский, каких, к несчастью, мало, и даже эти немногие были за последнее время устранены; но этого больше не будет»), Александр III очень резко отозвался о «гнилой интеллигенции»: «Теперь нужно позаботиться оградить школы, чтобы яд разрушительных теорий, проникнувших в высшие классы, не проник в народные массы»123. Эти же мотивы («все зло наверху», «простые люди внушают великую надежду») нетрудно обнаружить и в письмах Победоносцева к императору и к Е.Ф. Тютчевой, и в знаменитой речи обер-прокурора Синода на заседании Совета Министров 8 марта124. Поворот в идеологии достаточно четко зафиксировал П.А. Валуев. «Mot d’ordre теперь русские начала, русские силы, русские люди, одним словом – руссицизм во всех видах… органическое значение Москвы, превосходство для известных целей так называемого черного народа перед нечерным… все это в обычном ходу» 125 . Отношение 123 Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. Тула, 1990. С. 337-338. Письма Победоносцева Александру III. Т. 1. М., 1925. С. 338, 346, 361; Перетц Е.А. Дневник. М., 1927. С. 39. 125 О минувшем. СПб., 1907. С. 430, 461. 124 183 «просвещенного» консерватора Валуева к «дикой, допетровской стихии», к «процессу азиатизации» было, безусловно, отрицательным. Неизбежной чертой такой идеологии была ее отчетливая «антибуржуазность». «Бедный народ, предоставленный сам себе, говорил Победоносцев в речи 8 марта, - стал несчастной жертвой целовальников, кулаков, жидов и всяких ростовщиков»126. Н.П. Игнатьев, настаивая на ограничительных мерах в отношении евреев, называл их «пиявками, сосущими кровь честного трудящегося населения» 127 (подразумевались прежде всего «патриархальные» крестьяне-общинники, требовавшие, по мнению Игнатьева, особой защиты от рыночноинородческой стихии). Мифологию такой политики гораздо позже, в 1911 году, охарактеризовал бывший министр финансов, председатель Комитета и Совета министров С.Ю. Витте. Диктуя на склоне лет свои воспоминания, он постоянно обращался к к царствованию Александра III, которое представало в его изображении своеобразным «золотым веком» Российской империи. Спокойный и величественный образ этого монарха, при котором Витте стремительно вознесся к вершинам власти, настойчиво противопоставлялся смутной и противоречивой фигуре Николая II, положившего карьере Сергея Юльевича конец. Мемуарист признавал ошибки «своего царя», но так, чтобы они лишь оттеняли его достоинства. В числе последних фигурировали патриархальная простота и искренность, которые, по Витте, и делали Александра III «народным царем». Поистине эпического накала эта риторическая линия предсказуемо достигала тогда, когда Витте описывал отношение монарха к «простому народу», то есть к крестьянам. «Императору Александру III ставится в укор… введение принципа 126 127 Перетц Е.А. Указ. соч. С. 40. Там же. С. 133. 184 какого-то патриархального покровительства над крестьянами, как бы в предположении, что крестьяне навеки должны остаться таких стадных понятий и стадной нравственности, - писал он. – Я эти воззрения считаю глубоко неправильными воззрениями… Это была ошибка императора Александра III, но ошибка в высшей степени душевная… Это был тип действительно самодержавного… русского царя, а понятие о самодержавном русском царе неразрывно связано с понятием о царе как о покровителе, печальнике русского народа…, защитнике слабых, ибо престиж русского царя… связан с идеей православия, заключающейся в защите всех слабых, всех нуждающихся, всех страждущих, а не в покровительстве нас…, русских дворян, и в особенности русских буржуа…»128. В другом, чаще цитируемом месте воспоминаний, говоря о политике власти в деревне, Витте педалирует иную ноту: «Министерство внутренних дел, в особенности со времен [Д.А.] Толстого и ранее этого, было большим поклонником общины. К сожалению, это поклонение общине исходило не столько из аграрных соображений, сколько из соображений полицейских, так как несомненно, что самый удобный способ управления домашними животными есть управление их стадами… Община в их понятии представлялась чем-то вроде стада, хотя не животных, а людей, но людей особого рода, не таких, какие «мы», а в особенности дворяне». Сам же Витте, который вплоть до 1896-1898-го годов был скорее сторонником, чем противником «полицейского» аграрного курса, по его собственному признанию, тогда «ещё не вполне изучил крестьянский вопрос» 129. Как видим, мотивы правительственной политики в деревне в изображении такого знатока «крестьянского вопроса», каким Витте, без 128 Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 1. Спб., 2003. С. 313-314. 129 Там же. Кн. 2. С. 530. 185 сомнения, стал к концу своей карьеры, предстают более сложными, чем у большинства историков, в разное время занимавшихся периодом «реакции». Для представление советской о историографии аксиоматичным «феодально-крепостническом», было реставраторском характере этой политики. Подразумевалось, что власть защищала интересы тех помещиков, которые были заинтересованы в прежних, «внеэкономических» методах эксплуатации крестьян. Якобы с этой целью консервировалась община, а власть в деревне была передана в руки земских начальников – бывших или настоящих помещиков. Однако убедительной эта интерпретация не выглядит. Каких-то единых экономических интересов у помещиков не было и при крепостном праве: слишком разными были условия и методы их хозяйствования, сложившиеся в разных регионах и даже внутри одной и той же губернии. А после 1861 года они оказались не столько «хозяевами положения», сколько такими же заложниками нового «переходного» строя, как и их бывшие крепостные. Да, по сравнению с крестьянами они располагали гораздо большими материальными и статусными ресурсами и, соответственно, большей свободой действий. Но эта свобода все же очень серьезно ограничивалась теми самыми «пережитками» крепостного права, которые, как почему-то считается, работали исключительно на них. Неразмежеванность земель, прикрепление крестьян к общине и тяглу, слабость (если не отсутствие) в деревне правовых институтов, которые регулировали бы собственность, аренду и найм рабочей силы, обеспечивали бы соблюдение разного рода контрактов – все это препятствовало инвестициям в сельское хозяйство, затрудняло его модернизацию и резко снижало норму прибыли. Неудивительно, что на протяжении всего пореформенного периода наблюдался отток частных капиталов из сферы сельско-хозяйственного производства (не располагая надежными статистическими данными, мы 186 пока не можем точно оценить масштабы этого явления). Государство тоже не спешило инвестировать ни в поддержку аграрного производства, ни в обеспечение в деревне верховенства права. И в либеральную эпоху фритредерства 1860-1870-х, и в период протекционизма 1880-1890-х годов оно неизменно находило для себя иные приоритеты. Даже Крестьянский (1882) и Дворянский (1885) банки, вроде бы созданные для помощи аграриям, для помещиков быстро превратились лишь в посредника при выгодном конвертировании земли в деньги, да и в крестьянские хозяйства принесли не столько инвестиции, сколько долги. Каким же образом этим структурным проблемам могло помочь укрепление общины? Чем именно оно было выгодно помещикам? Что «реставрировало» знаменитое «Положение о земских начальниках» 1889 года? Ведь смысл крепостного права заключался для помещиков вовсе не в самой по себе вотчинной власти над крестьянами, а в том, чтобы использовать эту власть для извлечения доходов с помощью той или иной организации производства. Земские же начальники имели к организации сельскохозяйственного производства не больше отношения, чем любая другая местная полицейская власть – то есть почти никакого. Современные исследования того, как «работал» этот институт, целиком подтверждают этот вывод130. Но что же, если не крепостнические побуждения, лежало в основе действий правительства? Сугубо прагматическое желание скорректировать итоги реформ, учесть накопленный опыт и подтолкнуть экономическое развитие деревни, как считают некоторые современные историки? Такой вывод вроде бы выглядит более логичным по сравнению с тезисом об имманентном «крепостничестве» власти. Однако и он не подтверждается фактами. 130 Gaudin C. Ruling Peasants. Village and State in Late Imperial Russia. DeKalb, 2007. 187 Факты же свидетельствуют: к середине 1880-х годов в правящих кругах сложился консенсус по поводу необходимости затормозить процесс распада традиционных социальных норм и форм контроля в крестьянском обществе, законсервировать их, «подморозить» крестьянство как опору режима 131 . Можно ли считать это стремление реалистичным и прагматичным? Аграрные волнения 1905-1906 годов и радикальные требования «крестьянских» депутатов I и II Государственных Дум дали на этот вопрос достаточно недвусмысленный ответ. Подавляющее большинство современников первой русской революции – включая правых помещиков - сделало из произошедшего все надлежащие выводы. Правительственный курс предыдущих двадцати пяти лет был квалифицирован как крупная ошибка 132 . Правда, большинство наблюдателей сводили его к поддержке крестьянской общины, которая после 1905 года из «векового устоя» внезапно превратилась в олицетворение «стадных понятий». Между тем, смысл правительственного курса 1880-1890-х годов в деревне был гораздо глубже. «Крестьянский вопрос» множеством нитей был связан с фискальным, бюджетным, промышленным курсом, с политикой на окраинах империи, с проблемами административных реформ и политического представительства. Восприятие мифологизированного крестьянства как ядра русской нации стало характерной особенностью формирующегося русского национализма. В сущности, этот курс основывался на старой, известной в России по крайней мере с 1830-х годов идее об опасности превращения крестьян в «бесприютных» пролетариев. В царствование Николая I ею 131 См.: Христофоров И.А. Судьба реформы: русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830-1890е гг.). М., 2011. С. 292-349. 132 Первая революция в России: взгляд через столетие. М., 2005. С. 412. 188 руководствовались и консервативный министр финансов Е.Ф. Канкрин, и прогрессивный министр государственных имуществ П.Д. Киселев. Позже именно она легла в основу «Положений 19 февраля 1861 года». Конечно, пока существовало крепостное право, пролетаризация масс как главный социальный недуг тогдашней Европы резонно считалась для России угрозой скорее потенциальной, чем реальной. Кроме того, в среде элиты было немало и тех, кто полагал, что появление слоя «безземельных работников» означает для экономики скорее благо, а угрожающие социальные последствия этого процесса сильно преувеличены. Отмена крепостного права не разрешила, а лишь на время отложила сомнения и споры. Более того, во многом как раз из-за них крестьянская реформа 1861 года оказалась очень неопределенной в том, что касалось будущего освобожденных крестьян. Реформаторы предпочли обойти болезненные и трудноразрешимые вопросы о том, когда и как бывшие крепостные и казенные крестьяне получат право распоряжаться своей судьбой и собственностью, какими нормами это право будет регулироваться и какие административные инстанции будут следить за исполнением этих норм. Может показаться странным, но ни в тысячах статей и параграфов «Положений», ни в объяснительных записках к ним об этих ключевых вопросах почти ничего не говорилось. Более того, на всем протяжении 1860-1870-х годов правительство так и не смогло сформулировать внятной программы действий по отношению к крестьянам. В «верхах» в это время шла упорная борьба сторонников противоположных идей: многие консерваторы (например, министр внутренних дел П.А. Валуев, шеф жандармов П.А. Шувалов) и некоторые либералы (министр финансов М.Х. Рейтерн) выступали против патерналистской опеки и общины, большинство же либералов во главе с председателем Главного комитета об устройстве сельского состояния великим князем Константином Николаевичем скорее колебалось между 189 желанием дать крестьянам больше свободы и опасениями, что те не смогут распорядиться ею во благо. В результате несмотря на непрерывные, хотя довольно вялые бюрократические и общественные дискуссии, никаких серьезных решений по поводу «крестьянского вопроса» в первые полтора десятка лет после отмены крепостного права в «верхах» не только не принималось, но даже и не обсуждалось. Лояльные чиновники, конечно, просто не могли настаивать, что Великая реформа, которую Александр II считал самым славным своим деянием, была не монументальным творением, а скорее первым шагом в неизвестное. В общественной среде единства тоже не было. Одни (славянофилы, латентные и открытые социалисты, бесчисленное число неопределенных либералов- народолюбцев) считали, что правительство оберегает «уникальный строй крестьянской жизни» недостаточно последовательно, хотя тут же призывали избавить крестьян от излишней бюрократической опеки. Другие (назовем их «классическими либералами», хотя в их числе было много тех, кого тогдашнее общественное мнение либералами вовсе не считало) настаивали, что, отказываясь развивать в крестьянской среде институт частной собственности, правительство создает угрозу и экономическому развитию, и социальной стабильности. И те, и другие были в чем-то правы: правительство действительно и «не оберегало», и «не развивало». В сущности, уже в 1860-е годы были сформулированы и обстоятельно аргументированы все возможные доводы за и против того или иного пути развития российской деревни. В дальнейшем ни «реакционеры» 1880-1890-х годов, ни многочисленные народники и неонародники, ни Витте со Столыпиным ничего принципиально нового к этим спорам не добавили. Как уже говорилось, понятно, почему в ходе первой русской революции и после нее возобладала точка зрения 190 противников общины. Но почему за четверть века до 1905 года случилось обратное? Почему что-то похожее на столыпинскую реформу не было осуществлено в конце 1870-х или хотя бы в середине 1890-х годов? Как вышло, что, сделав, наконец, в 1880-е годы выбор, правительство пошло в прямо противоположном направлении? Хрестоматийная идея о двадцати годах, которых «не хватило» Столыпину, делает эти вопросы заслуживающими самого пристального внимания. Вернемся к объяснениям Витте. Оба они имеют смысл и не противоречат друг другу. Понятия царя о крестьянах и о том, как они должны управляться, действительно были довольно элементарны и целиком вписывались в картину патриархального «порядка». Именно поэтому образ земского начальника – строгого, но справедливого опекуна крестьян – легко нашел отклик в душе императора, который поддержал закон 1889 года вопреки мнению большинства членов Государственного совета и даже таких близких ему людей как К.П. Победоносцев. В свою очередь, чиновникам (не только из МВД) было проще иметь дело с существовавшим крестьянским самоуправлением (которое ругали абсолютно все), чем выстраивать новые административные, финансовые и правовые институты. Опыт 1860-1880-х годов в этом смысле был довольно однообразен: любые юридические, фискальные и управленческие новации в деревне годами и даже десятилетиями обсуждались совещаниями различными и ведомственными комиссиями, и межведомственными согласовывались, исправлялись и согласовывались вновь, но в конце концов (если дело доходило до принятия закона!) почти ничего не меняли. Для серьезных реформ не было ни средств, ни политической воли, и власть ограничивалась «подкручиванием» существующих «гаек». Поэтому если аграрные 191 «контрреформы» 1880-1890-х годов в каком-то смысле и были прагматичной реакцией на реальность, то это был прагматизм бессилия. Но если в 1860-1870-е годы это бессилие представлялось лишь интермедией, симптомом сложного перехода от крепостного права к не очень определенному будущему, где крестьяне все же каким-то образом должны были «созреть» для превращения в полноправных граждан, то в царствование Александра III оно получило риторическое обоснование и мощную идеологическую поддержку. В соответствии с новыми веяниями, гражданское неполноправие крестьян было вовсе не временным злом, а непреходящей ценностью, на защиту которой от посягательств крупных и мелких представителей мира капитала («ростовщиков», «кулаков» и прочих) следовало обратить всю мощь государственной власти. Мощи в наличии, правда, не оказалось, но само намерение говорило о многом. Вместе с тем, возлагать на императора и его министров основную ответственность за идеологический поворот к патримониализму было бы некорректно. Дело в том, что в общественном сознании этот поворот начался гораздо раньше, чем в бюрократических кругах и задолго до начала нового царствования. Вызван он был, на мой взгляд, не столько глубоким пониманием реальных социально-экономических процессов и проблем, сколько идеологическими установками элиты и господствовавшими в ее среде стереотипами восприятия крестьян. По крайней мере с середины 1870-х годов в печати все громче звучали голоса тех, кто требовал обратить внимание на «нужды и бедствия» крестьян. К концу десятилетия эти голоса слились в подобие дружного хора, причем музыка, которую он исполнял, вовсе не была полифоничной. Обеднение крестьян нужно остановить, говорили и правые, и левые (в том, что крестьяне беднеют, в отличие от некоторых современных историков, не сомневался тогда почти никто). Но как? Ответ зависел от диагноза. Последний же при всем богатстве оттенков 192 сводился к тому, что институты, созданные в 1861 году, недостаточно хорошо выполняют свою миссию: они не обеспечивают крестьянскому сословию стабильного оседлого существования и возможности жить и выполнять свои фискальные и прочие обязанности за счет земледельческого труда. В сущности, никогда еще перед относительно слабым и бедным российским государством, вовсе не настроенным в пользу социальных утопий, не ставилось столь невыполнимых задач! Какими же средствами тогдашнее государство могло бы гарантировать миллионам крестьян определенный – хотя бы и очень невысокий - уровень достатка? Поскольку к централизованному перераспределению средств в пользу малоимущих с помощью налогов и социальных программ, как это происходит в современном мире, тогдашние реалии (да и умы) были совершенно не готовы, оставалось обращаться к патриархальной утопии. Ядром ее стало представление о том, что крестьянские общинные порядки уже содержат в себе пусть и не идеальный, но надежный и проверенный веками механизм социального выравнивания. Достаточно поэтому оградить их от действия рыночных механизмов и поставить под надежный контроль со стороны элиты. Разумеется, эта общая нить рассуждений имела множество оттенков и вариантов. Консерваторам-дворянам такой контроль виделся в образе «близкой к крестьянам и скорой власти», олицетворением которой должен был стать некий сублимированный идеальный помещик. Во многих дворянских проектах 1880-х годов он назывался «земским судьей» и напоминал мировых посредников 1860-х годов133. Либералы и умеренные народники рассчитывали на культуртрегерскую роль земского «третьего элемента»: агрономов, статистиков, учителей. 133 См.: Административные реформы в России: история и современность. М., 2006. С. 177-258. 193 Профессиональным же бюрократам из МВД, разумеется, больше импонировала фигура встроенного в вертикаль местной власти чиновника (пусть и по выбору, ведь выбирался же когда-то земский исправник). Априорно обвинять их на этом основании в стремлении «задавить» местную жизнь едва ли стоит: в административном смысле российская деревня всегда была «недоуправляемой», а после упразднения в 1874 году мировых посредников из нее исчезла даже видимость правительственного контроля. «Крестьянскими» делами специально занимался после этого только непременный член уездного присутствия по крестьянским делам 1 человек на целый уезд! Такое «безвластие» благополучно просуществовало вплоть до 1890 года (когда на местах появились земские начальники), так что наши представления о мрачной эпохе реакции вряд ли стоит распространять за пределы городов. Но все эти, возможно, в чем-то принципиальные различия в подходах к формам контроля за общинами нивелировались полным единством в понимании его главной цели: «уберечь» крестьян и от пришлых «хищников», и от них самих. При этом было бы неточно утверждать, что объектом «охранения» была община: она слишком часто признавалась неэффективной и коррумпированной. Некоторые представители встревоженной элиты (в среде сановников, например, министр двора И.И. Воронцов-Дашков, в обществе – влиятельный публицист К.Ф. Головин 134 ) даже настаивали, что нужно искать новые способы заставить крестьян оставаться крестьянами. В какой-то момент популярной стала идея неделимых (и, разумеется, неотчуждаемых) 134 Записка министра двора и уделов графа Воронцов-Дашкова об уничтожении общины и возражения на нее министра внутренних дел И.Н. Дурново. Genève, 1894; Головин К.Ф. Сельская община в литературе и в действительности. СПб., 1887. 194 семейных участков, которые должны были стать не шагом на пути к частной собственности на надельные земли, а скорее альтернативой ей135. На этом фоне все-таки принятый в 1893 году после длительных дискуссий закон о неотчуждаемости надельных крестьянских земель выглядел вовсе не радикальной контрреформой, а скорее достаточно компромиссным вариантом оформления существовавшего в «верхах» и в обществе консенсуса. Этот закон отменял статьи 165 и 169 Положения о выкупе 1861 года, которые давали крестьянам право досрочно выплачивать выкупные платежи и консолидировать чересполосные наделы «к одному месту». Впервые идея о вредоносности этих статей была сформулирована публично еще в 1880 году, причем не в бюрократической, а в земской среде. На что-то более осмысленное, пусть и в реакционном духе, сил у правительства не нашлось даже спустя полтора десятилетия после этого. Вся абсурдность и самого этого закона, и алармизма по поводу обезземеливания крестьянства становится очевидной, если принять во внимание, что, по данным самого МВД, за период с 1870 по 1890 год из общего крестьянского надельного фонда в 96 млн десятин было выкуплено лишь около 1.2 млн десятин, а отчуждено в посторонние руки (за пределы общины) - не более 225 тысяч 136 . Это означало, что «раскрестьянивание» если и идет, то совсем не теми путями, которых так боялись правительство и общество. Еще важнее: эти цифры свидетельствуют, что если крестьяне беднели, то вовсе не из-за утраты наделов, а скорее из-за невозможности ими распорядиться. Удивительно, но сила стереотипов и инерция были так велики, что полученные данные 135 135 См.: Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. М., 2010. С. 136 РГИА, ф. 573, оп. 6, л. 7774. Л. 317-318. 195 не оказали на законотворческий процесс практически никакого влияния. МВД просто отказалось принимать их во внимание. Понятно, что и земские начальники, если бы даже хотели, не смогли бы ни подтолкнуть те глубокие процессы социальных перемен, которые стартовали в 1861 году, ни воспрепятствовать им: у них не было для этого не только полномочий, но и элементарной оптики, которая позволила бы увидеть сами эти процессы. Впрочем, такой оптики не оказалось и у российской элиты в целом. Что же касается самих крестьян, то несмотря на настоящий взрыв интереса к их жизни и на бурный расцвет в 1880-1890-е годы специфического жанра научно- публицистической литературы по «крестьянскому вопросу», их мнением по поводу собственного будущего мало кто интересовался137. В российской деревне контрреформы оказались не более чем лозунгом. Но то же самое можно сказать и о прочих «контрреформах»: университетской и судебной. Новый университетский устав 138 никак не мог изменить ни революционного настроя студенческой массы, остававшейся наиболее подвижным и склонным к волнениям социальным слоем в стране, ни оппозиционного отношения к власти подавляющего большинства преподавателей. Как и в других европейских странах, университеты стали «кузницей кадров» будущих революций139. Наконец, судебная контрреформа, вопреки точке зрения советских историков 140 , оказалась настолько скромной, что есть все основания говорить, что она более прочих существовала скорее в воображении ее 137 См.: Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми. Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России. М., 2006. 138 Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976. 139 Иванов А.Е. Студенческая корпорация России конца Х1Х – начала ХХ в.: опыт культурной и политической самоорганизации. М., 2004 140 Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969. 196 творцов и критиков, чем в реальности. Основная причина того, что она так и не состоялась, заключалась в том, что социальные и экономические реалии 1890-х гг. уже абсолютно не соответствовали возможному отказу от принципов гласности и независимости суда. Страна вступала в период бурной индустриализации, и без более или менее современной судебной системы быстрый экономический рост был просто невозможен. «Верхи» же воспринимали новый суд прежде всего с точки зрения его воображаемой политической опасности, не слишком задумываясь над гражданскими и экономическими функциями правовой системы. Но прежняя «политико-центричная» логика уже не работала. В стране за несколько десятилетий высокопрофессиональных сложилась юристов, многотысячная не склонных корпорация легко уступать идеологическим императивам правительства. Именно они в начале XX века составят костяк будущих центристских и леволиберальных партий, что станет очередным доказательством фиаско правительственной политики 1880-1890-х годов. 197