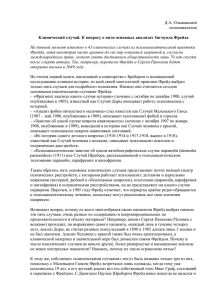1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ
реклама

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Психолого-природничий факультет Кафедра загальної психології та психодіагностики Лабораторія психофізіології та клінічної психології НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «ЗИГМУНД ФРЕЙД ТА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПСИХОАНАЛІЗУ: вибрані друковані праці (до 150-річчя з дня народження)» РІВНЕ − 2006 2 УДК Зигмунд Фрейд та теорія і практика психоаналізу: вибрані друковані праці (до 150-річчя з дня народження): Навчально-методичний посібник / Укладачі А.М. Воробйов, В.Л. Романюк. – Рівне: РДГУ, 2006. – 101 с. Матеріали науково-практичного семінару: «ЗИГМУНД ФРЕЙД ТА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПСИХОАНАЛІЗУ» (18 травня 2006 р.). Оргкомітет науково-практичного семінару: - кафедра загальної психології та психодіагностики; - лабораторія психофізіології та клінічної психології, - Рівненське відділення Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка. Укладачі: - Воробйов Анатолій Миколайович, кандидат педагогічних наук, професор; - Романюк Володимир Леонтійович, кандидат біологічних наук, доцент. Затверджено на засіданні кафедри загальної психології та психодіагностики, протокол № ___ від «___» _____________ 2006 р. У травні 2006 р. виповнюється 150 років з дня народження видатного психолога і психіатра XX ст. Зигмунда Фрейда (6 травня 1856 р. – 23 вересня 1939 р.). Вчення З. Фрейда суттєво вплинуло на розвиток сучасної психології. Неврології та психіатрії, філософії і соціології, багатьох природничих і гуманітарних дисциплін, проте неоднозначно сприймається зарубіжними і вітчизняними науковцями. На сьогодні серед вітчизняних фахівців спостерігається нова хвиля наукового інтересу до теорії і практики психоаналізу. Навчально-методичний посібник розрахований для студентів спеціальності «Медична психологія», «Клінічна психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія», а також психіатрів, неврологів, психотерапевтів, психофізіологів, нейрофізіологів, антропологів, філософів, соціологів, аспірантів, викладачів, науковців. РІВНЕ − 2006 3 ЗМІСТ «ЗИГМУНД ФРЕЙД ТА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПСИХОАНАЛІЗУ: вибрані друковані праці (до 150-річчя з дня народження)» 1. Фрейд З. Автобіографія …………………………………………………………….. 2. Фрейд З. Основні категорії психоаналізу ………………………………………..... 3. Виготський Л. Мистецтво і психоаналіз …………………………………………. 4. Клан П. Фрейд, Зигмунд (Freud, Sigmund) ………………………………………. 5. Ярошевський М. Г. Зигмунд Фрейд – видатний дослідник психічного життя людини …………………………………………………..... 6. Пратусевич Ю.М. Психоаналіз Зигмунда Фрейда і сучасна фізіологія мозку … 7. Чайченко Г.М. Несвідомі психічні процеси та їх фізіологічний аналіз ……….. 8. Психоаналіз в Росії ………………………………………………………………… 9. Менжулін В. Українські корені Зигмунда Фрейда ……………………………… 10. Список рекомендованої літератури ……………………………………………… 4 1. Автобиография. Многие из принявших участие в этом сборнике автобиографий сопроводили свои тексты размышлениями об особенностях и сложностях взятой на себя задачи. Наверное, я вправе сказать, что передо мной стоят и некоторые дополнительные трудности, поскольку на подобную тему я уже не раз выступал в печати и сам характер предмета требовал, чтобы там больше говорилось о моей личной роли, чем это обычно принято или кажется необходимым. Первый очерк истории и содержания психоанализа был лан в 1909 году в пяти лекциях, прочитанных в Кларковском университете в Ворчестере, куда я был приглашен на торжества по случаю двадцатилетия этого учреждения. Совсем недавно я поддался искушению предоставить материал подобного содержания для одного американского сборника о начале двадцатого столетия, поскольку, уделяя особую главу психоанализу, эта книга тем самым признавала его значение. Между этими двумя опытами лежит работа «К истории психоаналитического движения» (1914), где, в сущности, содержится все основное, что я намерен сказать и в данной работе. Противоречить себе я не могу, но не хотел бы и просто повторяться, поэтому я должен попытаться найти новое соотношение между субъективным и объективным описанием, между биографией и историей. I Я родился 6 мая 1856 года во Фрайберге*, Моравия, это маленький городок в нынешней Чехословакии. Мои родители были евреями, остался евреем и я. Наверно, от родственников отца я знаю, что их предки долгое время жили на Рейне (в Кёльне), преследования евреев вынудили их в четырнадцатом или пятнадцатом веке бежать на восток, а затем в девятнадцатом веке они двинулись в обратном направлении из Литвы через Галицию в немецкие области Австрии. Четырехлетним ребенком я попал в Вену, где прошел все этапы своего учения. В гимназии я семь лет был первым учеником, пользовался привилегиями, меня даже освобождали от экзаменов. Хотя мы жили в довольно стесненных условиях, мой отец считал, что профессию я должен выбрать по своему вкусу. Какого-то особенного пристрастия к профессии и деятельности врача я в те молодые годы не испытывал, как, впрочем, и потом тоже. Мной двигала скорее своего рода любознательность, причем меня больше интересовали дела человеческие, чем объекты природы, и я еще не понимал, что удовлетворить эту любознательность можно главным образом через наблюдение, как я понял потом. Сильное влияние на характер моих интересов оказала ранняя, едва я освоил искусство чтения, погруженность в библейские истории. Дружба с одним старшим товарищем по гимназии, который впоследствии стал известным политиком, одно время вызвала у меня желание тоже заняться юриспруденцией и социальной деятельностью. Однако с особой силой меня привлекло актуальное в ту пору учение Дарвина, поскольку оно сулило необычайный прогресс в познании мира; рассказ о прекрасной статье Гёте «Природа», который я услышал на популярной лекции проф. Карла Брюля* незадолго до выпускных экзаменов, можно сказать, определил мое решение записаться на курс медицины. Университет, который я начал посещать в 1873 году, принес мне вначале чувствительные разочарования. Прежде всего я столкнулся с представлением, будто мне следует чувствовать себя неполноценным и национально чуждым, поскольку я был евреем. Первое я со всей решительностью отверг. Я не мог понять, почему мне следует стыдиться своего происхождения или, как тогда начали говорить, расы. Что касается отказа признать мою принадлежность к народной общности, то с этим я расстался без сожаления. Я считал, что для добросовестного работника всегда найдется место в рамках человечества даже и без причисления к ней. Однако эти первые университетские впечатления имели важные для дальнейшего последствия – в частности, я рано понял, что такое находиться в оппозиции и быть изгнанным из рядов «сплоченного большинства». Это предопределило некоторую независимость суждений. Кроме того, в первые же университетские годы я понял, что из-за особенностей и ограниченности своих способностей не смогу добиться какого-либо успеха во многих областях науки, на которые было набросился с юношеским пылом. Я понял справедливость предупреждения Мефистофеля: 5 Напрасная мечта – парить в науке, Всяк выучит лишь то, что выучить горазд1 . 1 ( Перевод мой. К сожалению, и Н. Холодковский, и Б. Пастернак отходят в этом месте от смысла текста Гёте. – Прим. перев.). В психологической лаборатории Эрнста Брюкке я нашел наконец успокоение и полное удовлетворение, а также и людей, которых я мог уважать и взять себе в образцы: это были сам учитель Брюкке и его ассистенты Зигмунд Экснер и Эрнст фон Флейш-Марксов; последний из упомянутых, блестящая личность, удостоил меня даже своей дружбы. Брюкке дал мне задачу по гистологии нервной системы, которую я, к его удовлетворению, сумел решить и самостоятельно развить дальше. Я работал в этом институте с 1876 по 1882 г. с короткими перерывами и считался тогда всеми первым кандидатом на место ассистента, как только оно появится. Собственно медицинская деятельность – за исключением психиатрии – меня не привлекала. К занятиям по медицинским предметам я относился довольно небрежно и лишь в 1881 году, то есть с изрядным опозданием, получил звание доктора общей медицины. Поворот произошел в 1882 году, когда мой безмерно почитаемый учитель исправил великодушное легкомыслие моего отца и, видя мое плохое материальное положение, настоятельно предостерег от карьеры чистого теоретика. Я последовал его совету, оставил физиологическую лабораторию и поступил аспирантом в поликлиническую больницу. Там я спустя некоторое время стал младшим врачом (терапевтом) и служил в разных отделениях, в том числе более полугода у Мейнерта, чьи труды и личность еще в студенческие годы привлекли меня. В каком-то смысле я все-таки остался верен первоначально избранному направлению работы. Брюкке когда-то рекомендовал мне в качестве объекта исследования спинной мозг одной из низших рыб (Ammococtcs-Petromyzon), теперь я переходил к центральной нервной системе человека, сложную волокнистую структуру которого как раз тогда высветили открытые Флегсигом неодновременные пограничные образования. Даже то, что я поначалу занимался исключительно лишь Medulla oblongata в качестве объекта, означало для меня прогресс. В противоположность первым университетским годам, когда я занимался всем понемногу, теперь во мне развилась склонность к исключительной концентрации на одном материале или одной проблеме. Эта склонность у меня сохранилась, и впоследствии меня из-за нее упрекали в односторонности. Теперь я столь же усердно стал работать в области анатомии мозга, как прежде в области физиологии. В тот больничный период возникли небольшие работы о волокнистых процессах и зарождении ядер в Oblongata, замеченные, между прочим, Эдингером. Однажды Мейнерт, который предоставлял мне лабораторию и тогда, когда я у него не работал, предложил мне окончательно остановиться на анатомии мозга, он обещал отдать мне свой лекционный курс, поскольку чувствовал себя слишком старым, чтобы пользоваться новейшими методами. Я отказался, испуганный масштабом задачи; да мне и тогда уже показалось, что этот гениальный человек отнюдь не благоволит ко мне. В практическом смысле анатомия мозга, разумеется, не означала прогресса по сравнению с физиологией. Начиная изучение нервных болезней, я принимал в расчет материальные соображения. Этой специальной области тогда в Вене уделялось мало внимания, материал был рассредоточен по разным терапевтическим отделениям, не было благоприятных условий для обучения, надо было учиться самому. Даже Нотнагель, который незадолго перед тем получил кафедру в связи со своей книгой о мозговой локализации, не выделял невропатологию из числа других разделов терапевтической медицины. Вдали сияло имя великого Шарко, и я составил для себя такой план: сначала получить доцентуру по нервным болезням, а потом отправиться для дальнейшего образования в Париж. В последующие годы, работая младшим врачом, я опубликовал ряд наблюдений над редкими случаями органических поражений нервной системы. Постепенно я стал разбираться в этой области; я научился так точно локализировать очаг в Oblongata, что патологоанатому нечего было добавить, я был первым в Вене, кто послал на вскрытие случай с диагнозом Polineuritis acuta. Прослышав о моих диагнозах, подтвержденных биопсией, ко мне стали наезжать американские 6 врачи, которым я читал на ломаном английском курс о больных своего отделения. В неврозах я ничего не понимал. Когда я однажды представил своим слушателям невротика с фиксированными головными болями как случай ярко выраженного хронического Meningitis, все они в справедливом критическом возмущении от меня отшатнулись, и моя преждевременная педагогическая деятельность на этом закончилась. В свое оправдание могу заметить, что то были времена, когда даже крупнейшие авторитеты в Вене обычно диагностировали неврастению как опухоль мозга. Весной 1885 года мне было присвоено звание доцента по невропатологии на основе моих гистологических и клинических работ. Вскоре после этого благодаря теплой рекомендации Брюкке я получил приличную стипендию и весной того же года отправился в Париж. Я поступил учеником в Сальпетриер, но поначалу на меня как на одного из многих чужестранцев никто не обращал внимания. Однажды я услышал, как Шарко посетовал, что после войны ничего не слышно от немецкого переводчика его лекций. Ему было бы приятно, если бы кто-нибудь взял на себя труд перевести на немецкий его «Новые лекции». Я письменно предложил свои услуги; я не знал, как будет принято письмо, я просто был захвачен Aphasie motrice1 (1Моторная афазия – франц.), но не Aphasie sensorielle du francais2 (2Сенсорная афазия в области французского языка – франц.). Шарко принял меня, ввел в круг близких ему лиц, и с тех пор я участвовал во всем, что делалось в клинике. Сейчас, когда я пишу эти строки, до меня доходят многочисленные статьи и газетные публикации из Франции, которые свидетельствуют о резком нежелании принять психоанализ и часто содержат несправедливые утверждения, касающиеся моего отношения к французской школе. Например, я читаю, что использовал свое пребывание в Париже для того, чтобы познакомиться с учением П. Жане*, а потом, ограбив его, бежал. Хочу поэтому настоятельно подчеркнуть, что в пору моего пребывания в Сальпетриере имя Жане вообще не упоминалось. Из всего, что я увидел у Шарко, наибольшее впечатление на меня произвели его последние исследования истерии, которые частично разворачивались на моих глазах. Это доказательство истинности и закономерности истерических явлений «Introite et hie dii sunt»1 (1«Войдите и здесь боги» – лат.), частых случаев истерии у мужчин, возможности вызвать истерические параличи и контрактуры путем гипнотического внушения, констатация того, что эти искусственно вызванные состояния по характеру совершенно не отличаются от спонтанных, часто вызванных травмой случаев. Многие демонстрации Шарко вызвали у меня, как и у других гостей, поначалу неприятие, желание возразить, что мы и попытались сделать, опираясь на какую-нибудь из авторитетных теорий. Он всегда дружелюбно и терпеливо сносил такие сомнения, но оставался тверд; во время одной из таких дискуссий он произнес: «Са n'empeche pas d'exister»2 (2«Это не мешает существовать» – франц.), и это осталось для меня незабываемым. Как известно, сейчас подтверждается далеко не все, чему нас тогда учил Шарко. Кое-что стало сомнительным, другое явно не выдержало испытания временем. Но осталось достаточно много такого, что еще долго можно будет считать достоянием науки. Прежде чем покинуть Париж, я обсудил с учителем план работы по сравнению истерических и органических параличей. Я хотел провести мысль, что при истерии параличи и анестезии отдельных частей тела локализованы таким образом, который соответствует общепринятым (не анатомическим) представлениям человека. Он с этим согласился, но было нетрудно увидеть, что, в сущности, он не испытывает особого желания сколь-либо углубляться в физиологию неврозов. Он-то опирался на патологическую анатомию. Прежде чем возвратиться в Вену, я на несколько недель задержался в Берлине, чтобы узнать кое-что про общие заболевания детского возраста. Кассовиц, руководивший в Вене поликлиническим институтом детских болезней, обещал выделить там для меня отделение по нервным заболеваниям детского возраста. В Берлине меня дружески принял и оказал содействие Багински. На основе данных, полученных в институте Кассовица, я в течение последующих лет опубликовал много крупных работ об одностороннем и двухстороннем мозговом параличе у детей. Результатом явилось то, что позднее, в 1897 году, Нотнагель поручил мне обработку соответствующего материала для своего большого «Руководства по общей и специальной терапии». 7 Осенью 1886 года я остался в Вене в качестве врача и женился на девушке, которая больше четырех лет ждала меня в своем далеком городе. Здесь я могу задним числом рассказать, что, если я не прославился уже в те молодые годы, в этом виновата моя невеста. В 1884 году побочный, но глубокий интерес побудил меня выписать малоизвестный в ту пору алкалоид кокаина Мерка и заняться изучением его воздействия. В разгар этой работы передо мной открылась возможность поездки для свидания с моей невестой, которую я не видел два года. Я быстро завершил опыты с кокаином и в своей публикации предсказал, что скоро будут найдены новые применения этого средства. И даже посоветовал своему другу, глазному врачу Кёнигштейну, исследовать возможность применения анестезирующих свойств кокаина на больном глазу. Вернувшись из отпуска, я узнал, что не он, а другой друг, Карл Коллер* (сейчас он в Нью-Йорке), которому я тоже рассказывал о кокаине, провел решающие опыты на глазах животных и продемонстрировал их на конгрессе офтальмологов в Гейдельберге. В результате Коллер по праву считается изобретателем местной анестезии с помощью кокаина, которая оказалась столь важной для малой хирургии; но я не был в обиде на свою невесту за эту помеху. Возвращаюсь снова к моменту, когда я остался работать невропатологом в Вене в 1886 году. Мне надлежало сделать в Обществе врачей отчет о том, что я увидел и чему научился у Шарко. Однако приняли меня плохо. Авторитетные лица вроде председателя Общества терапевта Бамбергера объявили все, что я рассказал, не заслуживающим доверия. Мейнерт потребовал, чтобы я отыскал в Вене случаи вроде тех, что описывал, и продемонстрировал их Обществу. Я сам пытался это сделать, однако старшие врачи, в отделениях которых я нашел такие случаи, отказывались разрешить мне наблюдать за ними или их исследовать. Один из них, старый хирург, даже раскричался: «Но, уважаемый коллега, как вы можете говорить такую чушь! Ведь Hysteron (sic) значит Uterus (матка). Как может мужчина быть истеричным?» Напрасно я объяснял, что мне нужна лишь возможность посмотреть историю болезни, а не одобрение моего диагноза. Наконец уже не в больнице я нашел случай классической полуанестезии у одного мужчины, которого и продемонстрировал в Обществе врачей. На этот раз мне аплодировали, но дальнейшего интереса ко мне не проявили. Впечатление, что крупные авторитеты отклонили мои новинки, оставалось непоколебленным; я со своей мужской истерией и возможностью вызывать истерические параличи внушением оказался в оппозиции. Когда вскоре после этого передо мной оказались закрыты двери лаборатории по анатомии мозга и в течение семестра я не сумел найти места, где мог бы выступить со своей лекцией, я ушел из академической жизни и из объединений. Уже целую вечность я не появлялся в Обществе врачей. Если я хотел жить лечением нервных больных, мне надо было зримо продемонстрировать какие-то результаты. В моем терапевтическом арсенале имелось лишь два орудия: электротерапия и гипноз; ведь если после одноразовой консультации тут же посылать пациента на водные курорты, заработать на жизнь этим бы не удалось. В электротерапии я положился на руководство В. Эрба, которое давало подробные предписания по лечению всех симптомов нервных болезней. К сожалению, мне скоро пришлось убедиться, что соблюдение этих предписаний никогда не помогало, то, что я считал результатом точных наблюдений, было плодом фантазии. Прискорбно было обнаружить, что работа первого лица в немецкой невропатологии имеет не больше отношения к реальности, чем какая-нибудь «Египетская книга сновидений», которую продавали в наших дешевых книжных лавках, однако это помогло мне еще в какой-то мере избавиться от наивной веры в авторитеты, от которой я до сих пор не был свободен. Так что еще до того, как Мёбиус произнес свое освобождающее слово, я отодвинул в сторону электрический аппарат; успехи лечения нервных больных электричеством –если они вообще имелись – были результатом врачебного внушения. С гипнозом дело обстояло лучше. Еще студентом я присутствовал на публичном представлении «магнетизера» Хансена и заметил, что одна из испытуемых смертельно побледнела, когда впала в каталептическое оцепенение, и оставалась такой все время, пока находилась в этом состоянии. Это подтверждало мою убежденность в подлинности гипнотического феномена. Вскоре эта точка зрения нашла научное выражение у Хейденхайна, что, однако, не помешало профессорам-психиатрам еще долго считать гипноз чем-то вроде обмана, и к 8 тому же вредного, а на гипнотизеров смотреть презрительно и свысока. В Париже я видел, что здесь, не задумываясь, пользовались гипнозом как методом, чтобы вызвать у больных определенные симптомы, а затем снять их. Тогда пациентов пошло к нам столько, что в Нанси возникла школа, которая применяла внушение с гипнозом или без него в больших масштабах и с особым успехом для терапевтических целей. Поэтому было совершенно естественно, что в первые годы моей медицинской деятельности гипнотическое внушение стало моим главным рабочим средством, если не считать скорее случайного и несистематического обращения к психотерапевтическим методам. Правда, приходилось в таком случае отказаться от лечения органических нервных болезней, но это меня не очень заботило. Потому что, с одной стороны, лечение таких болезней вообще не сулило радужных перспектив, с другой стороны, в практике городских частных врачей число подобных больных было ничтожно малым по сравнению со множеством неврозов, которых становилось вдобавок еще больше благодаря тому, что больные, не добившись улучшения, перебегали от одного врача к другому. Вообще же работа с гипнозом была поистине соблазнительной. Впервые я не чувствовал себя бессильным, слава чудодея была лестной. В чем состоял недостаток метода, мне предстояло узнать позднее. Первоначально я мог жаловаться лишь на два обстоятельства: во-первых, что не всех больных удавалось загипнотизировать; во-вторых, что не в моих силах было погрузить некоторых в такой глубокий гипноз, как мне хотелось. Чтобы усовершенствовать технику гипноза, летом 1889 года я поехал в Нанси, где провел несколько недель. Я наблюдал трогательного старика Лебелля, когда он работал с бедными женами и детьми рабочих, был свидетелем удивительных экспериментов Бернгейма* с больничными пациентами, и на меня произвели сильнейшее впечатление возможности мощных духовных процессов, которые все еще оставались скрытыми от сознания человека. Чтобы иметь возможность обучаться, я уговорил одну из своих пациенток отправиться со мной в Нанси. Это был случай благородной, гениально одаренной истерички, которая попала ко мне, потому что с ней никто ничего не мог поделать. С помощью гипнотического внушения я добился, чтобы она могла вести достойное человека существование, мне удавалось вновь и вновь приводить ее в норму. Правда, спустя некоторое время она каждый раз возвращалась в прежнее состояние, но я в силу своего тогдашнего неведения объяснял это тем, что ее гипноз никогда не достигал степени сомнамбулизма с амнезией. Теперь несколько раз за нее принимался Бернгейм, но тоже ничего не мог поделать. Он добродушно признался мне, что добивался больших терапевтических успехов с помощью внушения лишь в своей больничной практике, но не с частными пациентами. Я имел с ним много вдохновляющих бесед и взял на себя перевод на немецкий язык двух его книг о внушении и его лечебной воздействии на пациента. В 1886-1891 годах я мало занимался научной работой и почти ничего не публиковал. Моей задачей тогда было найти себе место в новой профессии и обеспечить свое материальное положение, а также состояние моей быстро возраставшей семьи. В 1891 году появилась первая из работ о параличе мозга у детей, сделанная совместно с моим другом и помощником д-ром Оскаром Pjj3. В том же году я получил предложение принять участие в работе над медицинским справочником и изложить учение об афазии, в котором тогда господствовала чисто локализаторская точка зрения Вернике-Лихтгейма. Небольшая критико-теоретическая книга «К пониманию афазии» была плодом этих усилий. Теперь следует, однако, рассказать, как получилось, что научные исследования снова стали главным интересом моей жизни. II Дополняя свое предыдущее изложение, должен указать, что с самого начала я, помимо гипнотического внушения, применял гипноз с другой целью. Я пользовался им для того, чтобы при обследовании больных выяснить историю возникновения симптомов, о которой больной в состоянии бодрствования часто вообще не мог рассказать мог рассказать лишь весьма неполно. Этот метод не только оказался более результативным, чем прямо внушаемый приказ или запрет, он удовлетворял также любопытство врача, имевшего право узнать что-то о происхождении феномена, который он стремился устранить путем однообразной процедуры внушения. 9 К этому методу я пришел следующим образом. Еще в лаборатории Брюкке я познакомился с д-ром Йозефом Брейером, одним из самых уважаемых домашних врачей Вены, который в прошлом также занимался наукой, так что оставил до сих пор не утерявшие ценности работы о физиологии дыхания и об органе равновесия. Это был человек выдающегося ума, четырнадцатью годами старше меня; мы скоро сблизились, он стал моим другом и помощником в трудных жизненных ситуациях. Мы привыкли делиться всем, что представляло научный интерес. Разумеется, я при таком обмене получал больше. Дальнейшее развитие психоанализа стоило мне впоследствии его дружбы. Это была не малая цена, но другого выхода не было. Еще до моей поездки в Париж Брейер рассказал мне о случае истерии, которую он лечил особым образом в 1880-1882 годах, что позволило ему глубоко заглянуть в происхождение и смысл истерических симптомов. То есть это случилось в пору, когда работы Жане еще не появились. Он несколько раз читал мне отрывки из истории болезни, в результате чего у меня создалось впечатление, что этот случай может дать для понимания неврозов больше всех прежних. Я решил сообщить об этой находке Шарко, когда окажусь в Париже, и так действительно и сделал. Но мастер не проявил к моим первым намекам никакого интереса, так что я больше к этой теме не возвращался и оставил ее при себе. Вернувшись в Вену, я снова обратился к наблюдениям Брейера и попросил его рассказать мне о них больше. Пациентка была молодая девушка, необычайно образованная и одаренная, которая заболела, ухаживая за своим нежно любимым отцом. Когда Брейер занялся ею, болезнь ее представляла собой пеструю картину параличей с контрактурами, задержками и состояниями психической спутанности. Случайное наблюдение позволило врачу установить, что от подобного помутнения сознания ее можно было освободить, побудив выразить словами аффективную фантазию, которая ею владела. На основе опыта Брейер выработал метод лечения. Он погружал ее в глубокий гипноз и каждый раз велел ей рассказывать о том, что ее угнетало. После того как таким образом удалось справиться с приступами депрессивной спутанности, он применил тот же метод для снятия торможений и физических нарушений. В бодрствующем состоянии девушка так же мало, как и другие больные, способна была сказать, как появились ее симптомы, и не могла найти никакой связи между ними и какими-либо впечатлениями своей жизни. Во время гипноза она тотчас же обнаруживала искомую связь. Выяснилось, что все ее симптомы восходили к переживаниям, которые произвели на нее впечатление во время ухода за больным отцом, так что они имели смысл и соответствовали остаткам или реминисценциям этих аффективных ситуаций. Обычно бывало так, что у постели больного отца ей приходилось подавлять какую-то мысль и желание; на их месте позднее возникал симптом. Как правило, однако, симптом был не отражением какой-то одной-единственной «травматической» сцены, но результатом суммирования многих подобных ситуаций. Теперь, когда больная под гипнозом вновь галлюцинаторно вспоминала такую же ситуацию и задним числом доводила до конца подавленный тогда душевный акт при свободном проявлении аффектов, симптом проходил и больше не возникал. Благодаря этому методу доктору Брейеру удалось в ходе долгой и трудной работы освободить свою больную от всех ее симптомов. Больная выздоровела и оставалась с тех пор здоровой, даже способной к значительным достижениям. Но что-то в результатах этого гипнотического лечения оставалось покрыто мраком, который Брейер никогда для меня не прояснял; я не мог также понять, почему он так долго держал в тайне свое, как мне казалось, бесценное открытие, вместо того чтобы обогатить им науку. Но был еще один вопрос: можно ли было обобщать результат, полученный на одномединственном случае болезни? Открытые им отношения казались мне столь фундаментальными, что я и не мог себе представить, как они могут не проявиться в каком-нибудь другом случае истерии, если на каком-то одном они были уже доказаны. Однако решить тут мог лишь опыт. Итак, я начал повторять опыты Брейера на своих больных и ничем другим вообще не занимался, особенно после того, как визит к Бернгейму в 1889 году показал мне ограниченность воздействия гипнотического внушения. После того как много лет подряд опыт давал лишь подтверждение результатов во всех случаях истерии, к которым только можно было применить такой способ лечения, и я уже располагал обширным материалом наблюдений, аналогичных брейеровским, я 10 предложил ему совместную публикацию, чему он вначале резко сопротивлялся. Наконец он уступил, к тому же тем временем появились работы Жане, которые предвосхитили часть его результатов, касавшихся объяснения истерических симптомов жизненными впечатлениями и их снятия путем гипнотического воспроизведения in statu nascendi1 (1В момент процесса – лат.). . В 1893 году мы опубликовали предварительное сообщение: «О психическом механизме истерического феномена». В 1895 году последовала наша книга «Исследования истерии». Если в результате сказанного выше у читателя возникает впечатление, что «Исследования истерии» в существенной части своего материального содержания являются духовной собственностью Брейера, то это совпадает с точкой зрения, которую я всегда выражал и которую хочу высказать и на сей раз. Что касается теории, изложенной в этой книге, мою долю участия в ее разработке сейчас оценить уже трудно. Эта скромная попытка не особенно выходит за рамки непосредственного описания впечатлений от опытов. Она не ставит задачей обосновать природу истерии, а только лишь характеризует ее симптомы. При этом она подчеркивает значение эффектной жизни, важность различия между бессознательными и сознательными (лучше бы сказать: могущими быть осознанными) душевными актами, вводит динамический фактор, устанавливая, что симптом возникает в результате противодействия аффекту, и фактор экономический, поскольку рассматривает тот же симптом как результат преобразования некоего количества энергии, обычно обращенной на что-то другое (так называемая конверсия). Брейер назвал наш метод катарсическим; терапевтическая задача предполагала, что энергию аффекта, породившую симптом и пошедшую по неверному пути и там как бы защемленную, надо направить по нормальному пути, где ее можно было бы отвести (освободить). Практический результат катарсического метода оказался отличным. Недостатки, выявившиеся позднее, были недостатками любого гипнотического метода. Еще и сейчас целый ряд психотерапевтов придерживаются метода катарсиса по Брейеру и хвалят его. Он был испытан снова в качестве ускоренного лечебного метода Э. Зиммелем при лечении военных невротиков в немецкой армии во время мировой войны. О сексуальности в теории катарсиса говорится немного. В историях болезни, которые я включил в «Исследования», моменты сексуальной жизни играют определенную роль, однако оцениваются так же, как другие аффективные возбуждения. О своей получившей известность первой пациентке Брейер рассказывает, что сексуальная сторона у нее на удивление не развита. Из «Исследований истерии» нелегко понять, какую роль играет сексуальность в этиологии неврозов. Последовавший за этим этап развития, переход от катарсиса к собственно психоанализу, я уже не раз описывал столь подробно, что затруднительно сказать тут что-либо новое. Этот этап начался с отходом Брейера от совместной работы, так что я стал распорядителем всего его наследства. Между нами довольно рано выявились расхождения во мнениях, однако они не приводили к разрыву. В вопросе о том, когда душевный процесс становится патогенным, то есть не может быть улажен нормальным образом, Брейер предпочитал, так сказать, физиологическую теорию; он считал, что такие процессы уклоняются от нормального развития, возникая в чрезвычайных – гипноидных – состояниях души. Тем самым намечался новый вопрос о происхождении таких гипноидных состояний. Я же, напротив, предполагал здесь скорее игру сил, воздействие стремлений и тенденций, какие наблюдаются и в нормальной жизни. Так «гипноидная истерия» оказалась противопоставлена «защитному неврозу». Но эти и другие подобные противоречия не заставили бы его отойти от работы, если бы не добавились другие моменты. В том числе, конечно, и то, что он как терапевт и семейный врач пользовался большим спросом и в отличие от меня не мог посвятить все свои силы работе над методом катарсиса. Кроме того, на него произвел впечатление прием, который встретила наша книга в Вене и в стране. Его уверенность в себе и способность к сопротивлению оказались несоизмеримы с его духовным уровнем. Когда, например, «Исследования» подверглись резкой критике Штрюмпеля, я мог лишь посмеяться над такой степенью непонимания, он же чувствовал себя уязвленным и обескураженным. Больше всего, однако, на его решение повлиял тот факт, что моя собственная работа пошла дальше в направлении, которого он никак не мог принять. Теория, которую мы пытались обосновать в «Исследованиях», была еще далеко не полной, 11 прежде всего проблемы этиологии, вопроса о том, на какой основе возникает патогенный процесс, мы почти не касались. Теперь с быстрым накоплением опыта я убеждался, что для явлений невроза существенны не всякие эффектные возбуждения, сплошь и рядом они сексуальной природы, это либо актуальные сексуальные конфликты, либо последствия ранних сексуальных переживаний. К такому результату я не был готов, мои ожидания тут были ни при чем, я приступил к исследованию невротиков, совершенно об этом не думая. Когда в 1914 году я писал «Историю психоаналитического движения», мне пришли на память некоторые высказывания Брейера, Шарко и Хробака, на основе которых я мог бы прийти к подобному пониманию раньше. Однако я тогда совершенно не понимал, что подразумевали эти авторитеты, они сказали мне больше, чем знали сами и что готовы были бы поддержать. Услышанное от них как бы еще дремало во мне, не оказывая никакого воздействия, пока исследование катарсиса не привело к пониманию, казавшемуся мне оригинальным. Точно так же я даже не знал тогда, что, возводя истерию к сексуальности, возвращался к древнейшим временам медицины и солидаризировался с Платоном. Я узнал про это лишь впоследствии из одной статьи Хевелокка Эллиса. Моя поразительная находка привела меня теперь к следующему важному шагу. Я вышел за рамки истерии и начал исследовать сексуальную жизнь так называемых неврастеников, во множестве приходивших ко мне на прием. Этот эксперимент, правда, не прибавил мне популярности как врачу, но он привел меня к выводам, которые и сейчас, спустя почти тридцать лет, остались непоколебленными. Пришлось преодолевать всяческую ложь и скрытность, но, когда это удавалось, оказывалось, что у всех этих больных имелись тяжелые искажения сексуальной функции. Когда, с одной стороны, такие искажения становились частыми, с другой стороны, выявлялась неврастения, частое совпадение того и другого само по себе, конечно, еще ничего не доказывало, однако нельзя было и ограничиться просто грубой констатацией. Напрашивалась необходимость более тонких наблюдений, чтобы из пестрой путаницы болезненных явлений, которые объединялись термином «неврастения», выявить два в основе своей различных типа, которые могли быть всячески перемешаны, но наблюдались и в чистом виде. У одного типа центральным феноменом был приступ страха со всеми его эквивалентами, рудиментарными формами и хроническими симптомами замещения; поэтому я называл его также неврозом страха. Для другого типа я ограничился обозначением неврастения. Теперь можно было установить, что каждому из этих типов соответствовало в качестве этиологического момента свое отклонение в сексуальной жизни (coitus interruptus1 (1Прерванное сношение – лат.), сорванное возбуждение, иногда сексуальное возбуждение, а иногда повторяющаяся мастурбация, учащенная поллюция). Для некоторых особенно характерных случаев, когда в картине болезни наблюдался удивительный переход от одного типа явлений к другому, удалось также доказать, что причиной была соответствующая перемена сексуального режима. Если удавалось устранить искажения и заменить их нормальной сексуальной деятельностью, результатом оказывалось заметное улучшение состояния. Так я пришел к выводу, что неврозы вообще следует считать результатом нарушения сексуальной функции, причем так называемые актуальные неврозы — их прямым токсическим выражением, а психоневрозы — психическим выражением этих же нарушений. Моя совесть врача была удовлетворена таким результатом. Я надеялся, что это заполнит пробел в медицине, которая, имея дело с биологически столь важной функцией, не желала принимать в расчет других повреждений, кроме как вызванных инфекцией или грубым анатомическим нарушением. Кроме того, с медицинской точки зрения было полезно рассматривать сексуальность не только как явление психологическое. У нее была и своя соматическая сторона, можно было предполагать здесь свой особый химизм и объяснять сексуальное возбуждение наличием особых, хотя и неизвестных веществ. Наверно, неслучайным было также и то, что настоящие спонтанные неврозы ни с какой другой группой болезней не имели такого сходства, как с явлениями интоксикации и воздержания, вызванными добавлением или лишением определенных токсически действующих веществ или базедовой болезнью, зависимость которой от деятельности щитовидной железы известна. Впоследствии у меня больше не было случая вернуться к исследованиям актуальных 12 неврозов. Никто другой также не продолжал эту область моей работы. Оглядываясь сегодня на полученные тогда мною результаты, я могу охарактеризовать их как первую, грубую схематизацию, очевидно, более сложного комплекса явлений. В целом они и сегодня еще представляются мне правильными. Я бы с удовольствием подверг когда-нибудь психоаналитическому экзамену еще и случаи чисто старческой неврастении; к сожалению, этого не удалось сделать. Чтобы предупредить возможность недоразумения, я хотел бы подчеркнуть, что совершенно не собираюсь отрицать существования при неврастении психического конфликта и невротических комплексов. Я утверждаю лишь, что симптомы у таких больных не детерминированы психически и не могут быть устранены путем анализа, они должны рассматриваться как токсические последствия нарушенного сексуального химизма. В течение нескольких лет после выхода «Исследований», когда я пришел к этим выводам об этиологической роли сексуальности в развитии неврозов, я выступил с несколькими докладами в медицинских обществах, но каждый раз встречал лишь недоверие и возражения. Брейер еще раз-другой пытался употребить свой большой личный авторитет, чтобы склонить чашу весов на мою сторону, но ничего не добился, и нетрудно было заметить, что признание сексуальной этиологии противоречит и его собственным склонностям. Он мог бы опровергнуть меня или смутить, указав на свою первую пациентку, у которой сексуальные моменты вроде бы не играли никакой роли. Но он этого не сделал; я долго этого случая не понимал, пока сам не нашел ему правильного объяснения и, опираясь на некоторые его прежние замечания, сумел реконструировать результат его лечения. По окончании катарсической работы у девушки вдруг возникло состояние «перенесенной любви», которую он уже не связывал с ее болезнью, а потому в замешательстве от нее отстранился. Ему было явно неприятно вспоминать об этой кажущейся неудаче. Его отношение ко мне колебалось между признанием и горькой критикой, затем добавились случайные обстоятельства, без которых не обходится в таких напряженных ситуациях, и мы разошлись. Следствием моих дальнейших занятий формами общей нервозности было теперь то, что я изменил технику катарсиса. Я отказался от гипноза и попробовал заменить его другим методом, поскольку мне хотелось в своем лечении выйти за рамки истерических состояний. К тому же в результате дальнейшего опыта у меня появились два больших сомнения относительно самого применения гипноза в целях катарсиса. Во-первых, даже самые замечательные результаты оказывались вдруг как будто стертыми, если омрачались личные отношения с пациентом. Они, правда, восстанавливались потом, когда удавалось найти путь к примирению, но из этого следовало, что личные аффективные отношения оказываются сильнее всей катарсической работы, и именно этим моментом не удавалось овладеть. Но потом в один прекрасный день опыт помог мне прояснить то, что я давно предполагал. Однажды я освободил от страданий одну из самых податливых моих пациенток, с которой во время гипноза можно было выделывать удивительные кунштюки, вернув ее к истокам ее болезненного состояния, и тут, пробудившись, она обвила руками мою шею. Непредвиденное появление кого-то из обслуживающего персонала избавило нас от тягостных объяснений, но мы тогда по молчаливому согласию отказались от продолжения гипнотического лечения. У меня хватило трезвости, чтобы не объяснять этот случай своей личной неотразимостью, и я решил, что теперь понимаю природу мистической стихии, которая таилась за гипнозом. Чтобы исключить ее или по крайней мере изолировать, я должен был отказаться от гипноза. Однако гипноз сослужил катарсическому лечению огромную службу, поскольку он расширял поле сознания пациентов и наделял их знанием, которого в бодрствующем состоянии у них не было. Казалось, нелегко будет найти ему замену. Выйти из этого замешательства мне помогло воспоминание об одном эксперименте, который я часто наблюдал у Бернгейма. Когда испытуемая персона пробуждалась от сомнамбулизма, она, казалось, не помнила ничего, что с ней было в этом состоянии. Бернгейм, однако, утверждал, что она это все-таки знает, и, когда он требовал от нее вспомнить, когда он уверял, что она все знает, ей нужно теперь только это сказать, и при этом клал ей руку на лоб, забытые воспоминания действительно возвращались, вначале, правда, медленно, но затем шли целым потоком, причем совершенно отчетливые. Я решил сделать 13 то же самое. Мои пациентки должны были «знать» все, что обычно позволял им вспомнить лишь гипноз, и мои уверения, мое поощрение, поддержанные, допустим, наложением руки, должны были помочь им вернуть в сознание забытые факты и связи. Это, конечно, выглядело делом более трудным, чем гипноз, но могло оказаться, наверное, очень поучительным. Итак, я отказался от гипноза и ограничился лишь тем, что пациентка лежала на моей кушетке, за которой сидел я, так что я ее видел, но сам оставался невидим. III Мои ожидания оправдались, я обходился без гипноза, но вместе со сменой техники изменился и сам метод катарсиса. Гипноз прикрывал игру сил, которая теперь открылась, и понимание этого дало теории надежные основания. Как же, однако, получалось, что больные до такой степени забывали факты внешних и внутренних переживаний своей жизни и могли их вспомнить, лишь если к ним применялась описанная выше техника? На эти вопросы исчерпывающий ответ давало наблюдение. Все забытое было в той или иной степени тягостным, иногда страшным, иногда болезненным, иногда постыдным для достоинства личности. Мысль об этом сама собой вытеснялась: именно потому она и забывалась, то есть не сохранялась в сознании. И чтобы вернуть это снова в сознание, нужно было преодолеть в больном что-то, что сопротивлялось, нужно было применить собственное усилие, чтобы подтолкнуть, вынудить его. Усилие, требовавшееся от врача, было по-разному велико для разных случаев, оно росло в прямой зависимости от тягостности того, что надлежало вспомнить. Степень врачебного усилия соответствовала, очевидно, мере сопротивления больного. Теперь нужно было лишь перевести в слова то, что ты сам чувствовал, и ты уже владел теорией вытеснения. Теперь патогенный процесс можно было легко реконструировать. Ограничимся простым примером: в душевной жизни индивида возникало определенное желание, которому, однако, мощно сопротивлялись другие. Возникавший при этом душевный конфликт должен был протекать, согласно нашим ожиданиям, так, чтобы обе динамические величины — назовем их для наших целей «влечение» и «сопротивление» – некоторое время боролись друг с другом при сильнейшем участии сознания, пока влечение не подавлялось, его желание лишалось притока энергии. Это было бы нормальным разрешением. Но при неврозах – по неизвестным пока причинам – конфликт получал другое разрешение. «Я», так сказать, при первом столкновении закрывалось, непристойному побуждению преграждался доступ к сознанию и к прямому двигательному проявлению, при этом оно, однако, сохраняло всю силу своей энергии. Этот процесс я назвал вытеснением; это было новое слово, ничего подобного в душевной жизни прежде не было известно. Оно было, очевидно, первичным защитным механизмом, сравнимым с попыткой бегства, которая лишь предшествовала последующему нормальному исполнению приговора. С первым актом вытеснения оказывались связаны дальнейшие. Во-первых, «я» должно было защищаться от всегда возможного натиска вытесненных побуждений, непрерывно тратя энергию на противодействие и при этом истощаясь, во-вторых, вытесненное, ставшее теперь бессознательным, могло обеспечить возможность проявления и замещенного удовлетворения окольными путями, и, таким образом, желанного вытеснения не получалось. При конверсионной истерии этот окольный путь вел к телесной иннервации, вытесненное возбуждение прорывалось в каком-нибудь месте и создавало симптомы, которые были, таким образом, результатом компромисса, а именно компенсационного удовлетворения, однако искаженного и отвлеченного сопротивлением «я» от своей цели. Учение о вытеснении стало основой понимания неврозов. Теперь следовало по-иному определить терапевтическую задачу, ее целью уже являлось не «снятие реакции» аффекта, пошедшего по неверному пути, а обнаружение вытеснений и их устранение с помощью суждений, которые могли основываться на принятии или отбрасывании отклоненного в свое время. Я отразил новое понимание вещей, назвав процесс исследования и лечения уже не катарсисом, а психоанализом. Поставив вытеснение как бы в центр, можно связать с ним все части психоаналитического учения. 14 Но сначала я хочу сделать еще одно замечание полемического характера. По мнению Жане, истеричка – это бедняга, неспособная справиться со своими душевными проявлениями по причине конституционных слабостей. Результатом оказывался душевный разлад и сужение сознания. Согласно же результатам психоаналитических исследований, эти явления означали успех динамических факторов, душевного конфликта и совершавшегося вытеснения. Я думаю, это различие достаточно значительно и должно положить конец все еще продолжающимся разговорам, будто все ценное в психоанализе ограничивается лишь заимствованием идей Жане. Мое изложение должно показать читателю, что психоанализ в историческом плане абсолютно независим от находок Жане, равно как и содержательно весьма от них отличается и выходит далеко за их пределы. Кроме того, из работ Жане никогда не могли бы быть извлечены выводы, которые сделали психоанализ столь важным для гуманитарных наук и привлекли к нему всеобщий интерес. Сам я лично всегда говорил о Жане с уважением, поскольку его открытия в значительной мере совпадали с открытиями Брейера, которые были сделаны раньше, хотя и опубликованы позднее. Но когда психоанализ стал темой дискуссий и во Франции, Жане повел себя плохо, показал слабое знание предмета и применял некрасивые аргументы. В конце концов он разоблачил себя в моих глазах и сам лишил ценности свои работы, провозгласив, что, говоря о «бессознательных» душевных актах, он подразумевал не более чем une facon de parler1 (1Речевой оборот – франц.). Психоанализ же, благодаря изучению патогенных вытеснений и других явлений, о которых еще будет упомянуто, отнесся к понятию «бессознательного» всерьез. Для него все психические процессы были прежде всего бессознательными, элемент сознания мог потом к этому добавиться или не добавиться. При этом, разумеется, не обошлось без возражений философов, для которых понятия «сознательный» и «психический» были идентичны и которые уверяли, что не могут себе представить такую нелепость, как «бессознательно душевное». Но тут ничего нельзя было поделать, оставалось просто, пожав плечами, игнорировать эту идиосинкразию философов. Изучение патологического материала, который философам не был известен, относительно частоты и силы таких побуждений, о которых человек ничего не знал и которые надо было принимать, как любой другой факт внешнего мира, не оставляло иного выбора. Можно было исходить далее из того, что относящееся к собственной душевной жизни относится и к жизни других. Психические действия приписывались ведь и другой личности, хотя непосредственно было неизвестно, как она сознает, и приходилось об этом догадываться, исходя из высказываний и действий. Но что верно для других, должно быть действительно и для собственной персоны. Если развить этот аргумент и сделать из него вывод, что собственные скрытые акты принадлежат также некоему второму сознанию, то приходишь к концепции сознания, о котором ничего не известно, бессознательного сознания, что вряд ли намного лучше, чем признание бессознательного психического. Если же утверждать вместе с прочими философами, что надо считаться с патологическими процессами, но только лежащие в их основе акты следует называть не психическими, а психоидными, то расхождения оборачиваются бесплодным терминологическим спором, в результате которого приходишь к выводу, что лучше все-таки оставить понятие «бессознательное психическое». Вопрос же, что такое это бессознательное само по себе, имеет не больше смысла и значения, чем другие, прежние, о том, что такое сознательное. Труднее было бы вкратце изложить, как пришел психоанализ к тому, чтобы еще и расчленить признанное им бессознательное, разделить его на предбессознательное и собственно бессознательное. Возможно, тут стоит ограничиться лишь замечанием, что показалось правомерным дополнить теории, явившиеся непосредственным результатом опыта, еще и гипотезами, нужными, чтобы овладеть материалом, и применимыми к таким вещам, которые не могли явиться предметом непосредственного наблюдения. Ведь и в других науках это было принято. Подразделение бессознательного связано с попыткой представить себе душевный аппарат построенным как некоторое число инстанций или систем, об отношениях которых друг к другу говорится как о явлениях пространственных, без попытки, однако, связать их с реальной анатомией мозга. (Так называемая топическая точка зрения.) Такие и им подобные представления относятся к спекулятивной надстройке психоанализа, каждый раздел которой может быть без 15 ущерба и сожаления пожертвован или заменен другим, как только будет доказана его недостаточность. Есть еще достаточно тем, больше связанных с опытом, о которых стоило бы рассказать. Я уже упоминал, что изучение причин и поводов для невроза все чаще указывало на конфликты между сексуальными побуждениями личности и сопротивлением против сексуальности. В поисках патогенных ситуаций, в которых происходило вытеснение сексуальности и из которых возникали симптомы замещений вытесняемого, постоянно приходилось обращаться к раннему периоду жизни больных, и, наконец, к первым годам детства. Подтвердилось то, о чем всегда говорили поэты и знатоки человеческой природы: что впечатления этого раннего периода, хотя по большей части и подверженные амнезии, оставляют неизгладимый след в развитии индивидуума, особенно тем, что они закладывают предпосылки для позднейших невротических заболеваний. Поскольку же в случае этих детских переживаний речь всегда идет о сексуальном возбуждении и о реакции на них, мы оказывались перед фактом инфантильной сек, суальности, которая опять была чем-то новым и которая вступала в противоречие с одним из сильнейших предрассудков человека. Детство должно ведь быть «невинным», свободным от половых влечений, борьба же с демоном «чувственности» начиналась лишь вместе с пубертантным периодом бури и натиска. Когда же приходилось убеждаться в наличии сексуальной деятельности у детей, это рассматривалось как знак дегенерации, преждевременной испорченности или курьезная прихоть природы. Немногое из сообщенного психоанализом встретило такой всеобщий отпор, такой взрыв возмущения, как утверждение, что сексуальная функция начинается с началом жизни и существенно дает себя знать уже у детей. В то же время никакое другое положение психоанализа не доказывается так легко и полно. Прежде чем углубиться дальше в оценку инфантильной сексуальности, я должен упомянуть об ошибке, которой оказался на время подвержен и которая вскоре оказала роковое влияние на всю мою работу. Характер моего тогдашнего технического метода требовал от многих моих пациентов воспроизводить сцены из своего детства, содержанием которых был сексуальный соблазн со стороны взрослых. У пациенток-женщин роль соблазнителя почти всегда приписывалась отцу. Я доверился этим сообщениям и предположил, что нашел в этих переживаниях сексуального соблазна в детстве источник позднейших неврозов. Некоторые случаи, в которых подобные отношения к отцу, дяде или старшему брату продолжались до возраста надежных воспоминаний, утверждали меня в моем доверии. Когда кто-либо с сомнением покачивал головой по поводу моей доверчивости, я не мог ему ничего возразить, но хочу заметить, что это было время, когда я намеренно шел навстречу критике, чтобы оставаться беспристрастным и восприимчивым для новых данных, которые добавлялись ежедневно. Когда позднее мне пришлось убедиться, что этих сцен соблазнения на самом деле не было никогда, это были только фантазии, которые сочинили мои пациенты и к которым я, может быть, их сам подтолкнул, я некоторое время пребывал в растерянности. Мое доверие к собственной технике и ее результатам подверглось тяжкому удару: ведь я же считал эту технику корректной, и ее содержание, несомненно, было связано с симптомами, из которых я исходил в своем исследовании. Придя в себя, я сделал из своего опыта правильный вывод, что невротические симптомы связаны не прямо с действительными переживаниями, а с желательными фантазиями и что для неврозов психическая реальность значит больше материальной. Я и сегодня не считаю, что вынудил у своих пациентов эти фантазии о соблазне, «внушил» их. Тогда я впервые столкнулся с Эдиповым комплексом, которому суждено было приобрести впоследствии такое большое значение, но который я еще не распознал в столь фантастическом одеянии. Соблазнение в детском возрасте также осталось элементом этиологии, хотя и в более скромных масштабах. Соблазнителями были, однако, по большей части старшие дети. Таким образом, моя ошибка была того же самого рода, какую делали те, кто принимал легендарные истории о временах императорского Рима, рассказанные Ливием, за историческую правду, вместо того чтобы увидеть в них то, чем они были, – реакцию против воспоминаний о жалких, должно быть, не всегда славных временах и делах. После того как ошибка выяснилась, путь к изучению детской сексуальности был свободен. Возникла возможность применить 16 психоанализ к другой области знания, разгадать на основе его данных до сих пор еще неизвестную область биологических процессов. Сексуальная функция существовала с самого начала жизни, однако в первое время она не была связана с другими жизненно важными функциями и потому оставалась от них независимой; ей предстояло проделать еще долгий и сложный путь развития, прежде чем стать тем, что является нормальной сексуальной жизнью взрослых. Первоначально же она выражалась как деятельность целого ряда компонентов влечения, которые были зависимы от эрогенных зон тела и частично выступали как пары противоположностей (садизм – мазохизм, желание подглядывать – страсть к эксгибиционизму), независимо друг от друга стремились к получению наслаждения и по большей части находили для себя объект в собственном теле. Таким образом, они вначале не центрированы и автоэротичны. Позднее в них стали проявляться связи; первая стадия организации проходила под господством орального компонента, затем следовала садистско-анальная фаза, и лишь наступавшая позднее третья фаза несла с собой примат гениталиев, тем самым сексуальная функция становилась на службу размножению. В ходе этого развития многие элементы влечения отбрасывались как ненужные для этой конечной цели или получали другое применение, другие же отвлекались от своей цели и переводились в генитальную организацию. Энергию сексуальных влечений – и только ее – я назвал либидо. Теперь я должен был предположить, что не всегда описанный здесь процесс развития либидо проходит гладко. Чрезмерное усиление отдельных компонентов или преждевременный опыт удовлетворения приводит к фиксации либидо на определенных участках развития. К этим участкам теперь и возвращается либидо в случае позднейшего вытеснения (регрессия), отсюда и происходит прорыв к симптому. Позднее удалось вдобавок понять, что локализация участков фиксации является также решающей для выбора невроза, для формы, в которой затем проявляется болезнь. Наряду с организацией либидо происходит процесс поиска объекта, который играет большую роль в душевной жизни. Первым объектом любви после стадии автоэротизма для обоих полов становится мать, чей питающий орган, видимо, поначалу не воспринимается отдельно от собственного тела. Позднее, но еще в первые детские годы устанавливается отношение Эдипова комплекса, в результате чего мальчик концентрирует свои сексуальные желания на личности матери и в нем развиваются враждебные реакции против отца как соперника. Аналогичным путем ориентируется маленькая девочка1, все вариации и следствия Эдипова комплекса приобретают особое значение, дает о себе знать природная бисексуальная конституция, и число одновременно наличествующих стремлений возрастает. (1Добавление 1935 г.: Исследования об инфантильной сексуальности были получены на мужчинах, и выведенная отсюда теория ориентирована на ребенка мужского пола. Ожидать полного параллелизма между обоими полами было достаточно естественно, но здесь возникла неточность. Дальнейшие исследования и размышления открыли глубокие различия в половом развитии между мужчиной и женщиной. Для маленькой девочки мать тоже первый сексуальный объект, однако, чтобы обрести цель нормального развития, женщина должна сменить не только сексуальный объект, но и ведущую генитальную зону. Результатом оказываются трудности и возможные задержки, с которыми мужчина не сталкивается). Так длится все время, покуда ребенок не начинает осознавать разницу между полами; это пора сексуального исследования, когда создаются типичные сексуальные теории, которые, будучи зависимы от несовершенства собственного телесного устройства, множат как правильные, так и ошибочные выводы и не могут решить проблемы половой жизни (загадка сфинкса: откуда берутся дети). Таким образом, первый вывод объекта у ребенка инцестуозный. Все описанное здесь развитие проходит быстро. Примечательной особенностью сексуальной жизни у людей является ее двухэтапный характер с паузой между этапами. Первой своей вершины она достигает на четвертом-пятом году жизни, затем это раннее цветение сексуальной жизни проходит, деятельные до сих пор стремления подвергаются вытеснению, и до периода половой зрелости наступает латентный период, во время которого формируются реакции, связанные с моралью, стыдом и отвращением2. (2Добавление 1935 г.: Латентный период есть феномен физиологический. Однако к полному прекращению сексуальной жизни он может привести лишь в 17 тех культурных организациях, которым свойственно подавление инфантильной сексуальности. Этого не бывает у большинства примитивных народов). По-видимому, такая двухэтапность сексуального развития из всех живых существ присуща только человеку; возможно, она биологически обслуживает его предрасположенность к неврозу. С наступлением зрелости вновь оживают влечения и замещения объектов раннего периода, в том числе и чувства, составляющие Эдипов комплекс. В сексуальной жизни при половой зрелости борются друг с другом побуждения раннего периода и торможения латентного периода. Еще на вершине инфантильного сексуального развития формируется своего рода генитальная установка, в которой роль, однако, играют только мужские гениталии, женские остаются как бы необнаруженными (так называемый фаллический примат). Противоположность полов в эту пору характеризуется не словами мужской или женский, а обладающий пенисом или кастрированный. Связанный с этим комплекс кастрации играет чрезвычайно важную роль для складывания характера и невроза. В этом кратком изложении своих выводов относительно сексуальной жизни людей я ради лучшего понимания собрал вместе множество результатов, полученных в разное время и публиковавшихся в виде дополнений или поправок в следовавших одно за другим изданиях моих «Трех лекций по теории сексуальной жизни». Надеюсь, там нетрудно будет теперь увидеть, в чем состоит часто подчеркиваемое и вызывающее протест расширение понятия сексуальности. Это расширение двоякого рода. Во-первых, сексуальность освобождается от своих слишком тесных связей с гениталиями и характеризуется как широкая, стремящаяся к наслаждению телесная функция, которая лишь во вторую очередь служит продолжению жизни; во-вторых, к сексуальным побуждениям причисляются все те чисто нежные и дружеские побуждения, для которых в нашем языке употребляется многозначное слово «любовь». Я, однако, думаю, такое расширение не вводит ничего нового, оно лишь восстанавливает существовавшее, оно обозначает отмену нецелесообразного сужения этого понятия, к которому мы были склонны. Отделение сексуальности от гениталий имеет то преимущество, что оно позволяет нам рассматривать сексуальные проявления у детей и извращенцев под тем же углом зрения, что и у нормальных взрослых, тогда как первыми до сих пор вообще пренебрегали, а ко вторым относились с моральным возмущением, но без понимания. Психоаналитический подход объясняет даже самые странные и отталкивающие извращения как выражение частных сексуальных влечений, которые освободились от примата гениталий и, как в доисторические времена развития либидо, самостоятельно устремились на поиск наслаждения. Важнейшая из этих перверсий, гомосексуализм, вряд ли заслуживает такого названия. Она восходит к конституциональной бисексуальности и к последствиям фаллического примата; психоанализ позволяет выявить у каждого элемент гомосексуального выбора объекта. Когда говорили о «полиморфной перверсии» у детей, это было лишь описание, использовавшее общеупотребительные выражения; моральной оценки при этом не следовало высказывать. Подобные оценочные суждения вообще чужды психоанализу. Говоря о других якобы расширениях, можно указать на психоаналитические исследования, показывающие, что все эти тонкие движения чувств первоначально были вполне сексуальными стремлениями, которые затем оказались «приторможены» или «сублимированы». Благодаря этой способности сексуальных влечений поддаваться влияниям и отвлечениям возможно также применять их для разнообразных культурных достижений, в которые они вносят значительный вклад. Поразительные результаты относительно сексуальности детей были первоначально получены путем исследований взрослых, но впоследствии, примерно в 1908 году, появилась возможность до деталей и в любой степени подтвердить их прямыми наблюдениями детей. В самом деле, настолько легко убедиться в регулярных сексуальных действиях детей, что впору с удивлением спросить себя, как получилось, что люди могли не замечать этих фактов и так долго поддерживали желательные для себя легенды про асексуальное детство. Это можно объяснить тем, что большинство взрослых забыли собственное детство. IV Учения о сопротивлении и о вытеснении, о бессознательном, об этиологическом значении сексуальной жизни и важности детских переживаний являются главными составными частями 18 учения о психоанализе. К сожалению, я здесь мог охарактеризовать лишь отдельные элементы, не сказав о том, как они сочетаются и взаимодействуют. Теперь наступила пора обратиться к изменениям, которые постепенно претерпела техника аналитического исследования. Первоначальный способ преодолевать сопротивление, применяя напор и убеждение, был необходим, чтобы врач мог для начала сориентироваться, чего здесь следует ожидать. Но применять его долго было слишком утомительно для обоих участников, и были некоторые очевидные сомнительные стороны. Так что на смену ему пришел другой метод, в известном смысле ему противоположный. Вместо того чтобы побуждать пациента говорить что-нибудь на определенную тему, теперь ему предлагалось отдаться свободным ассоциациям, то есть говорить, что ему только придет на ум, когда он не думает ни о какой сознательной цели. Он должен только обещать, что действительно будет сообщать все, что возникнет в результате его самонаблюдения, и не будет поддаваться критическому желанию устранять отдельные догадки под' тем предлогом, что они недостаточно важны, не относятся к делу или вообще не имеют никакого смысла. От пациента не нужно было настойчиво требовать честности в изложении, поскольку она являлась предпосылкой аналитического лечения. То, что этот процесс свободных ассоциаций при соблюдении основного правила психоанализа оправдал возлагавшиеся на него ожидания, то есть вытесненный и устраненный в результате сопротивления материал возвращался в сознание, может показаться удивительным. Нужно, однако, помнить, что свободные ассоциации на самом деле не свободны. Пациент остается под влиянием аналитической ситуации, хотя он и не ориентирует усилия своей мысли на определенную тему. Можно с основанием предположить, чт.0 ему придет на ум именно то, что связано с этой ситуацией. Его сопротивление против репродукции вытесненного будет теперь проявляться двояким образом. Во-первых, в виде критических возражений, на которых стоит метка основного правила психоанализа. Но если он, следуя правилу, преодолеет эти задержки, то сопротивление станет выражаться по-другому. Оно проявится в том, что пациент никогда сам не вспомнит вытесненного, а вспомнит лишь то, что будет близко ему как своего рода намек, и чем больше сопротивление, тем дальше этот заместитель вытесненного, о котором он рассказывает, отходит от того, что надо, собственно, найти. Аналитик, который вслушивается в это сосредоточенно, но без напряжения и которого опыт, в общем, уже подготовил к тому, что произойдет, может теперь оценить материал, который поставляет ему пациент, двояким образом. Ему удается либо, если сопротивление невелико, самому по намекам разгадать, что было вытеснено, либо, при более сильном сопротивлении, по мыслям, которые приходят пациенту в голову и как будто далеки от темы, распознать сущность этого сопротивления, о чем он затем сообщает пациенту. Вскрытие сопротивления является, однако, первым шагом к его преодолению. Так в рамках аналитической работы формируется искусство толкования, и, хотя для успешного овладения им требуются такт и опыт, этому, однако, нетрудно научиться. Метод свободных ассоциаций имеет большое преимущество перед прежними, и не только в том, что экономит усилия. Он подвергает пациента наименьшему принуждению, никогда не теряет контакта с нынешней реальностью, обеспечивает достаточные гарантии того, что ни один момент в структуре невроза не останется незамеченным и ничего не будет привнесено в него из собственных ожиданий. В существенной мере пациенту передоверяется здесь определять ход анализа и расположение материала, поэтому выстроить в систему отдельные симптомы и комплексы становится невозможно. В прямую противоположность гипнотическому или побуждающему методу здесь элементы целого узнаешь в разное время и в разных местах процесса. Для постороннего слушателя – который на самом деле присутствовать при этом не вправе – аналитическое лечение было бы поэтому совершенно непонятным. Другое преимущество этого метода заключается в том, что он, в сущности, никогда не должен отказывать. Теоретически рассуждая, всегда должна существовать возможность внезапной мысли, когда ты не заботишься о том, какой она должна быть. Только в одном случае это регулярно не удается, но именно потому, что это один случай, его тоже можно растолковать. Теперь я приближаюсь к описанию момента, который добавляет существенную черту к картине анализа и как с технической, так и с теоретической точки зрения может иметь огромнейшее 19 значение. При всяком аналитическом курсе лечения помимо всякого участия врача возникают интенсивные эмоциональные отношения пациента лично к психоаналитику, которые не могут быть объяснены реальными обстоятельствами. Они бывают положительными или отрицательными, могут варьироваться от страстной, чувственной влюбленности до крайней степени неприятия, отталкивания и ненависти. Это явление, которое я вкратце называю переносом, вскоре сменяет у пациента желание выздороветь и, покуда оно проявляется в мягкой, умеренной форме, может способствовать влиянию врача и помочь аналитической работе. Если оно потом перерастает в страсть или враждебность, то становится главным инструментом сопротивления. Бывает также, что оно парализует способность пациента к внезапным мыслям и вредит успеху лечения. Но было бы бессмысленно пытаться его избежать; анализ невозможен без переноса. Не следует думать, что перенос порождается анализом и что он наблюдается только в связи с ним. Анализ лишь вскрывает и обособляет перенос. Это общечеловеческий феномен, от него зависит успех врача. Нетрудно распознать в нем тот же самый динамический фактор, который гипнотизеры называют внушаемостью, из него исходит гипнотический отчет, на непредсказуемость которого жаловался и метод катарсиса. Там, где этой склонности к переносу чувства нет или где этот перенос становится целиком негативным, как при Dementia praecox1 и паранойе, невозможно также и психическое влияние на больного. (1Преждевременное слабоумие (лат.), одно из обозначений шизофрении. – Прим. перев.). Совершенно справедливо, что психоанализ тоже пользуется методом внушения, как и другие психотерапевтические методы. Различие, однако, в том, что здесь они — внушение или перенос — не играют решающей роли в успехе лечения. Они скорее применяются для того, чтобы побудить больного к выполнению психической работы — преодолению своего сопротивления переносу, что означает длительное изменение его душевной экономии. Аналитик помогает больному осознать перенос и снимает его, убеждая больного в том, что он своим отношением к переносу оживляет отношения чувств, ведущих свое происхождение от самых ранних объектных привязанностей, из вытесненного периода детства. Благодаря такому повороту перенос из сильнейшего оружия сопротивления становится лучшим инструментом аналитического лечения. При всем при том овладение им дается с особым трудом и является важнейшим элементом аналитической техники. Метод свободных ассоциаций и связанное с ним искусство толкования позволили психоанализу добиться успеха, который как будто не имел большого практического значения, но на самом деле не мог не означать появления в науке совершенно новых взглядов и ценностей. Оказалось возможным доказать, что сны полны смысла, и разгадать этот смысл. Еще в античной древности снам придавали большое значение как предсказаниям будущего; современная наука знать о сновидениях не желала, оставляя их области суеверий, объявляя чисто «телесным» проявлением, своего рода судорогой обычно дремлющей душевной жизни. Казалось невозможным, чтобы кто-то, занимающийся серьезной научной работой, выступил в качестве «толкователя сновидений». Но если не заботиться о таком осуждении снов, если подойти к ним как к непонятному симптому, безумной или навязчивой идее, вникнув в их иллюзорное содержание и рассматривая их образы как объекты свободных ассоциаций, тогда мы придем к другому результату. Многочисленные мысли сновидца позволяли получить представление, о мыслительном образе, который нельзя уже было больше назвать абсурдным или запутанным, который соответствовал полноценной работе и для которого явное содержание сновидения было лишь искаженным, сокращенным и неверно понятым переводом, по большей части переводом в визуальные образы. В этих скрытых мыслях сновидения заключался смысл сновидения, явное содержание сновидения было лишь обманом, фасадом, с которым можно было связать ассоциации, но не толкование. Теперь нам предстояло ответить на целый ряд вопросов, важнейшими среди которых были: мотивировано ли возникновение сновидения, при каких условиях оно может осуществиться, какими путями всегда многозначительные мысли сна переводятся в часто бессмысленные сновидения и др. В своей книге «Толкование сновидений», опубликованной в 1900 году, я попытался решить все эти проблемы. Здесь можно упомянуть лишь самый небольшой фрагмент 20 этого исследования: если исследовать скрытые мысли, о которых узнаешь из анализа сновидений, среди них оказываются такие, которые резко отличаются от других, понятных и хорошо знакомых видящему сон. Эти другие остаются от состояния бодрствования (дневные остатки); но в отдельных из них зачастую узнаешь весьма непристойные побуждения, которые чужды видевшему этот сон в состоянии бодрствования, которые он отвергает категорически, с удивлением и возмущением. Эти побуждения и составляют, собственно говоря, образы снов, они несут энергию, порождающую сны, и пользуются как материалом дневными остатками; возникающее таким образом сновидение создает для них ситуацию удовлетворения, оно для них означает исполнение желаний. Такой процесс был бы невозможен, если бы что-то в природе состояния сна не благоприятствовало ему. Психической предпосылкой сна является ориентация «я» на желание сна и отвлечение привязанностей от всех интересов жизни; поскольку одновременно перекрывается доступ к двигательной сфере, «я» может также уменьшить усилия, которые обычно помогают ему уравновешивать вытеснения. Благодаря тому, что ночью вытеснение таким образом ослабляется, неосознанные побуждения, пользуясь сновидениями, проникают в сознание. Но сопротивление «я» вытеснению не прекращается совсем и во время сна, оно только становится меньше. Остаток его существует в виде цензуры сновидений и запрещает неосознанному побуждению выражаться в формах, которые бы ему, в сущности, и соответствовали. Строгость цензуры сновидений поневоле ослабляет и изменяет скрытые мысли сновидения, в результате чего не удается распознать предосудительный смысл сна. Этим объясняется искажение сновидений, которому явное содержание снов обязано наиболее примечательными чертами. Вот что означает фраза: сновидение есть (тайное) исполнение некоего (вытесненного) желания. Мы теперь уже знаем, что сновидение устроено так же, как невротический симптом, это компромиссное образование между притязаниями вытесненного инстинкта и сопротивлением цензурирующей власти «я». Ввиду сходного генезиса оно так же непонятно, как и симптом, и в такой же степени нуждается в толковании. Общую функцию сновидения легко выявить. Оно нужно для того, чтобы на свой лад ослабить и отсечь внешние или внутренние раздражители, которые могли бы привести к пробуждению, и таким образом обезопасить сон от помех. Защита от внешнего раздражителя осуществляется таким образом, что он переосмысливается и перетекает в какую-нибудь безобидную ситуацию, внутренний раздражитель влечения спящий стремится сохранить и обеспечивает ему удовлетворение через сновидения – в той мере, в какой скрытым мыслям сновидений не удается обойти цензурные ограничения. Но если такая опасность грозит и сновидение становится слишком определенным, тогда спящий прерывает сон и в ужасе просыпается (страшный сон). Точно так же функция сна не срабатывает, когда внешний раздражитель настолько силен, что от него уже не избавиться (пробуждающий сон). Процесс, который под воздействием цензуры сновидений переводит скрытые мысли в явное содержание сновидений, я называю работой сновидения. Она состоит в своеобразной обработке предсознательного мыслительного материала, при котором его составные части сгущаются, психические акценты смещаются, целое переводится в визуальные образы, драматизируется и дополняется двусмысленной вторичной обработкой. Работа сновидения служит отличным примером процесса в самых глубинных бессознательных слоях душевной жизни, который заметно отличается от известных нам нормальных мыслительных процессов. Она выявляет также целый ряд архаических черт, например употребление здесь преимущественно сексуальной символики, которая потом снова обнаруживается в других областях духовной деятельности. Поскольку неосознанное побуждение сновидения вступает в связь с дневным остатком, с интересом, который не удалось осуществить наяву, возникшее в результате сновидение имеет двоякую ценность для аналитической работы. Толкуемое сновидение оказывается, с одной стороны, как бы осуществлением вытесненного желания, с другой стороны, оно может продолжить досознатель-ную дневную деятельность мысли и наполняться любым содержанием, выражая намерение, предостережение, размышление и опять же исполнение желаний. Анализ использует его в двояких целях, для понимания как сознательных, так и бессознательных процессов у анализируемого. Он использует также и то обстоятельство, что сновидение открывает доступ к 21 забытому содержанию детской жизни, так что инфантильную амнезию можно в большинстве случаев излечить, пользуясь толкованием сновидений. Сновидение здесь отчасти выполняет ту работу, которую прежде делал гипноз. Напротив, я никогда не делал утверждения, которое мне часто приписывают, будто толкование сновидений показывает, что все они имеют сексуальное содержание или восходят к сексуальным влечениям. Нетрудно увидеть, что голод, жажда, потребность в мочеиспускании и испражнении точно так же порождают сновидения, связанные с удовлетворением, как и какие-нибудь сексуальные или эгоистические раздражители. На маленьких детях удобно показывать правильность нашей теории сновидений. У них разные системы психики еще не вполне обособлены, вытеснения еще как следует не сформировались, поэтому' от них часто слышишь о сновидениях, которые есть не что иное, как откровенное исполнение каких-то не исполненных днем желаний. Под влиянием императивных потребностей подобные сновидения инфантильного типа могут возникать и у взрослых. Так же как толкованием сновидений, анализ воспользовался изучением столь частых мелких ошибок и симптоматических действий человека, которым я посвятил свою работу «К психопатологии обыденной жизни», вышедшую сначала в виде книги в 1904 году. Суть этой книги, у которой было много читателей, сводится к доказательству, что эти феномены не являются чем-то случайным, что они не могут быть объяснены лишь чисто физиологически, у них есть смысл, они могут быть истолкованы и в конечном счете указывают на задержанные или вытесненные побуждения и желания. Особая ценность «Толкования сновидений», равно как и этой книги, состоит, однако, не в том, что они создали основу для аналитической работы, а в другом. До сих пор психоанализ занимался лишь устранением патологических явлений и для их объяснения часто должен был прибегать к гипотезам, значение которых не связывалось с важностью обсуждаемого материала. Сновидение же, к которому он обратился потом, не было болезненным симптомом, это было явление нормальной душевной жизни, оно могло возникнуть у любого здорового человека. Но если сновидение строится так же, как симптом, если его объяснение требует тех же понятий, таких, как вытеснение желаний, возникновение замещений и компромиссов, различных психических систем для овладения сознательным и бессознательным, тогда психоанализ уже не вспомогательная область психопатологии, это скорее основа для нового и фундаментального исследования души, необходимая также и для понимания нормального. Его предпосылки и результаты можно перенести и на другие области душевной и духовной жизни, открыть широкий путь, путь к целому миру. V Я прерываю рассказ о внутреннем развитии психоанализа и обращаюсь к его внешней судьбе. Все, что я до сих пор говорил о его приобретениях, было, в общем, связано с успехом моей работы, для более связного изложения я упоминал и позднейшие результаты, не отделяя от собственного вклада вклад моих учеников и приверженцев. Спустя десять с лишним лет после разрыва с Брейером у меня не было ни одного приверженца. Я находился в полной изоляции. В Вене меня избегали, за границей обо мне ничего не знали. «Толкование сновидений» (1900) почти не. получило отклика в специальных изданиях. В статье «К истории психоаналитического движения» я приводил как пример позиции психиатрических кругов в Вене разговор с неким ассистентом, который написал книгу, направленную против моего учения*, даже не читая моего «Толкования сновидений», поскольку в клинике ему сказали, что не стоит тратить на это сил. Этот человек, ставший с тех пор внештатным профессором, позволил себе отрицать содержание той беседы и вообще поставить под сомнение достоверность моего воспоминания. Я подтверждаю каждое слово своего рассказа. Когда я понял, что это все неизбежно, я стал менее чувствительным. Постепенно кончилась и изоляция. Сначала в Вене вокруг меня сложился небольшой кружок учеников; после 1906 года стало известно, что и цюрихские психиатры – Э. Блейлер*, его ассистент К. Г. Юнг* и другие – проявили интерес к психоанализу. Завязались личные отношения, на Пасху 1908 года друзья молодой науки встретились в Зальцбурге, договорились регулярно повторять такие приватные конгрессы, а также издавать журнал, который стал выходить под названием «Ежегодник 22 психоаналитических и психопатологических исследований», под редакцией К. Г. Юнга. Издателями были Блейлер и я; потом, когда началась мировая война, издание было приостановлено. Одновременно с подключением к работе швейцарцев интерес к психоанализу пробудился по всей Германии, о нем появилась обширная литература, он стал предметом оживленных дискуссий на научных конгрессах. Отношение никогда не было одобрительным или благожелательно-выжидательным. После самого краткого знакомства с психоанализом немецкая наука оказалась едина в своем неприятии. Я, конечно, и сейчас не могу знать наверняка, каким будет окончательный приговор потомства о ценности психоанализа для психиатрии, психологии и гуманитарных наук. Но я полагаю, когда фаза, которую мы переживаем, обретет своего историка, тот вынужден будет признать,' что поведение тогдашних представителей немецкой науки не принесло ей славы. Я имею при этом в виду не факт отрицания и не безапелляционность, с какой все это говорилось; и то и другое легко понять, этого можно было ожидать, и это по крайней мере не должно бросать никакой тени на характер противников. Но для той степени высокомерия и недобросовестного пренебрежения логикой, для грубости и безвкусности нападок нет извинения. Меня можно упрекнуть, что слишком уж это по-детски: спустя пятнадцать лет давать такую волю своим чувствам; я бы не стал этого делать, если бы не добавилось кое-чего еще. Годы спустя, когда во время мировой войны враждебный хор стал упрекать немецкую нацию в варварстве и в этом упреке соединили все, о чем я говорил, я болезненно почувствовал, что по своему опыту не могу на это возразить. Один из противников во всеуслышание похвалялся, что он заставляет своих пациентов замолчать, когда они заводят речь на сексуальные темы, и, должно быть, на этом основании счел себя вправе судить об этиологической роли сексуальности при неврозах. Если не говорить об аффективном сопротивлении, которое так легко объясняется психоаналитической теорией, что здесь для нас все очевидно, мне кажется, главное препятствие для понимания заключено в том, что противники психоанализа видели в нем продукт моей спекулятивной фантазии и не хотели верить, что для его создания потребовалась долгая, терпеливая, не имеющая никакой предварительной опоры работа. А раз, по их мнению, анализ не имел ничего общего с наблюдением и опытом, они считали себя вправе, ничего не проверяя, просто его отбросить. Другие, не столь твердо в этом уверенные, повторяли классический маневр сопротивления: лучше не заглядывать в микроскоп, чтобы не видеть того, что они оспаривали. Вообще достойно интереса, сколь некорректно ведут себя многие люди, когда им приходится судить о новых для них вещах. Много лет, да еще и сегодня я слышал суждения благожелательных критиков, что, мол, до такого-то предела психоанализ справедлив, но вот в таком-то пункте он берет через край, слишком уж обобщает. При этом я знаю, что труднее всего определить эту границу и что сами критики еще за несколько дней или недель до того вообще совершенно не представляли себе проблемы. Официальная анафема психоанализу привела к тому, что аналитики лишь еще теснее сплотились. На втором конгрессе в Нюрнберге в 1910 году они по предложению Ш. Ференци* образовали «Международный психоаналитический союз», в котором выделились местные группы и который имел президента. Этот союз пережил мировую войну, он существует и по сей день и объединяет местные группы Вены, Берлина, Будапешта, Цюриха, Лондона, Голландии, НьюЙорка, пан-Америки, Москвы и Калькутты. Первым президентом я предложил избрать К. Г. Юнга, это был, как мне стало ясно позднее, поистине несчастливый шаг. У психоаналитиков появился тогда второй журнал, «Центральный листок психоанализа», под редакцией Адлера* и Штекеля*, а вскоре затем и третий, «Имаго», который Г. Закс* и О. Ранк*, по профессии не врачи, посвятили применению психоанализа в гуманитарных науках. Вскоре Блейлер опубликовал свою работу в защиту психоанализа («Психоанализ Фрейда», 1910). Хотя было весьма отрадно услышать наконец в этом споре слово справедливости и честной логики, тем не менее работа Блейлера не могла меня полностью удовлетворить. Он слишком заботился о видимости беспристрастности; отнюдь не случайно, что именно этому автору наша наука обязана введением понятия «амбивалентность». В позднейших работах Блейлер занял столь отрицательную позицию по отношению ко всей аналитической системе, подверг сомнению или 23 неприятию столь существенные части этой системы, что мне оставалось лишь с недоумением спросить себя, какой же остаток он готов признать. Тем не менее он и позднее не только сердечно высказывался в поддержку «глубинной психологии», но и построил на ее основе грандиозную концепцию шизофрении. Блейлер, впрочем, не долго оставался в «Международном психоаналитическом союзе», он покинул его в результате разногласий с Юнгом, и Бургхёльцли был для психоанализа потерян. Официальное противодействие не могло остановить распространения психоанализа ни в Германии, ни в других странах. В другом месте («К истории психоаналитического движения») я проследил этапы этого распространения и назвал людей,, выступивших в качестве его представителей. В 1909 году Г. Стэнли Холл* пригласил Юнга и меня в Америку, чтобы там, в Кларковском университете, Ворчестер, Массачусетс, президентом которого он являлся, читать в течение недели лекции (на немецком языке) в рамках торжеств по случаю двадцатилетия со дня основания этого учреждения. Холл пользовался заслуженным уважением как психолог и педагог, который уже несколько лет как ввел в свой курс психоанализ; в нем было что-то от «делателя королей», которому нравилось утверждать и низвергать авторитеты. Мы встретили там также Джеймса Дж. Патнэма*, невролога из Гарварда, который, несмотря на свой возраст, стал энтузиастом психоанализа и употребил весь авторитет своей всеми уважаемой личности на защиту его культурной ценности и чистоты его намерений. Этому превосходному человеку, реакция которого на насильственно-невротические методы определялась прежде всего этическими соображениями, мешала единственно лишь мысль о том, как привязать психоанализ к определенной философской системе и поставить его на службу моральным целям. Непреходящее впечатление произвела на меня также встреча с философом Уильямом Джеймсом*. Я не могу забыть маленькой сцены, когда он во время нашей, прогулки вдруг остановился, передал мне свою сумку и попросил меня пройти вперед, сказав, что нагонит меня, как только справится с внезапным приступом Angina pectoris. Через год он умер от болезни сердца; с тех пор я всегда желаю себе такого же бесстрашия перед лицом близкой кончины. Мне тогда было всего 53 года, я чувствовал себя молодым и здоровым, кратковременное пребывание в Новом Свете оказалось для моего самочувствия вообще благотворным; в Европе я чувствовал себя словно бы отверженным, здесь я ощущал себя на равных с лучшими людьми. Это было как бы воплощение мечты, которая казалась невероятной, когда я поднялся на кафедру в Ворчестере, чтобы прочесть свои «Пять лекций о психоанализе». Итак, психоанализ больше не был бредом, он стал полноценной частью реальности. Со времени нашего посещения он в Америке уже не терял под собой почвы, стал необычайно популярным среди неспециалистов и многими официальными психиатрами был признан важной составной частью медицинского образования. К сожалению, он там оказался еще и сильно разбавлен. Разного рода злоупотребления, которым он там подвергался, прикрывались моим именем, к тому же не хватало возможности основательно разработать технику и теорию. Кроме того, в Америке он столкнулся с бихевиоризмом*, который наивно провозглашал, что может вообще покончить с психологической проблемой. В Европе в 1911-1913 годах было две волны отхода от психоанализа, возглавлявшихся людьми, которые до тех пор играли важную роль в молодой науке, это Альфред Адлер и К. Г. Юнг. Оба выглядели довольно опасными и быстро снискали себе многих приверженцев. Однако сила их определялась не содержанием собственных работ, а соблазном освободиться от результатов психоанализа, которые казались непристойными, хотя даже его фактический материал уже не отрицался. Юнг пытался перетолковать и аналитические факты, исходя из абстрактного, внеличного и внеисторического, благодаря чему он надеялся обойтись без детской сексуальности, Эдипова комплекса, а также без анализа детства. Адлер отходил от психоанализа как будто еще дальше, он вообще отвергал значение сексуальности, выводил характер и образование неврозов исключительно из стремления человека к власти и его потребности компенсировать природную неполноценность, а все психологические приобретения психоанализа игнорировал. Но все отвергнутое им волей-неволей вернулось в его замкнутую систему под другим именем; его «мужской протест» есть не что иное, как неправомерно 24 сексуализированное вытеснение. Критика встретила обоих еретиков весьма мягко; я добился лишь того, что и Адлер, и Юнг отказались от права называть свои учения «психоанализом». Сейчас, спустя десятилетие, можно констатировать, что обе эти попытки не причинили психоанализу вреда. Если общность основана на согласии по некоторым кардинальным пунктам, само собой разумеется, что из него исключаются те, кто отходит от этой общей основы. Но часто отход былых учеников ставился мне в вину как свидетельство моей нетерпимости или же в этом видели выражение особого тяготеющего надо мной рока. Чтобы возразить, достаточно указать, что покинувшим меня, таким, как Юнг, Адлер, Штекель и немногие другие, противостоит большое число других, таких, как Абрахам*, Эйтингон*, Ференци, Ранк, Джонс*, Брилль, Закс, пастор Пфистер*, ван Эмден, Рейк и др., с которыми меня более пятнадцати лет связывает тесное сотрудничество, а часто и ничем не омраченная дружба. Я назвал здесь лишь старших из моих учеников, уже создавших себе имя в психоаналитической литературе; то, что я не называю других, не означает пренебрежения к ним, и как раз среди молодых и пришедших позже есть таланты, подающие большие надежды. Но я вправе утверждать о себе, что нетерпимый, уверенный в своей непогрешимости человек никогда не сумел бы привлечь к себе такую группу духовно значительных личностей, тем более если он не располагал никакими практическими соблазнами, как я. Мировая война, разрушившая столь много других организаций, ничего не могла поделать с нашим «интернационалом». Первая встреча после войны состоялась в 1920 году в Гааге, на нейтральной почве. Трогателен был прием, который оказало голландское гостеприимство изголодавшимся и обедневшим центральноевропейцам; насколько я знаю, тогда в первый раз в разрушенном мире дружески встретились за общим столом англичане и немцы, соединенные научным интересом. Война усилила интерес к психоанализу в западных странах и даже в Германии. Наблюдение за военными невротиками наконец раскрыло врачам глаза на роль психогенеза для невротических расстройств, некоторые наши психологические концепции, такие, как «польза болезни», «бегство в болезнь», быстро обрели популярность. На первый после катастрофы конгресс, состоявшийся в Будапеште в 1918 году, союзные правительства центральных держав прислали официальных представителей, которые высказались в пользу создания психоаналитических станций для лечения военных невротиков. До этого уже не дошло. Далеко идущие планы одного из наших лучших участников, д-ра Антона фон Фрейнда, который хотел открыть в Будапеште центр аналитической науки и терапии, тоже вскоре рухнули из-за последовавших, вскоре политических переворотов и ранней смерти этого независимого человека. Часть его замыслов осуществил позднее Макс Эйтингон, создавший в 1920 году в Берлине психоаналитическую поликлинику. В короткий период господства большевиков в Венгрии Ференци еще мог осуществлять успешную педагогическую деятельность в университете как официальный представитель психоанализа. После войны наши противники любили провозглашать, что опыт дает решающий аргумент против справедливости аналитических положений. Военные неврозы могут служить доказательством, что сексуальные моменты не играют роли в этиологии невротических аффектаций. Однако это был легковесный и поспешный триумф. Потому что, с одной стороны, никто не мог провести основательного анализа какого-либо случая военного невроза, так что попросту не было известно ничего определенного об их мотивации, и из такого незнания нельзя было извлекать никаких выводов. С другой же стороны, психоанализ давно вывел понятие нарциссизма и нарциссического невроза, содержанием которого являлась обращенность либидо на собственное «я» вместо объекта. Иными словами, обычно психоанализ упрекали в непозволительном расширении понятия сексуальности; но если для полемики так удобнее, ему забывают это прегрешение и ставят ему в упрек сексуальность в самом узком смысле. История психоанализа для меня распадается на два этапа, если не считать катарсической предыстории. На первом я был один и выполнял работу сам, так было с 1895/96 по 1906-й или 1907-й год. На втором этапе, который продолжается и по сей день, все большее значение приобретал вклад моих учеников и сотрудников, так что сейчас я, предупрежденный тяжелой 25 болезнью о близком конце, с внутренним спокойствием могу думать о прекращении моей собственной деятельности. Именно этим объясняется то, что я в этом автобиографическом очерке с такой же подробностью описываю развитие психоанализа на втором этапе, как и его постепенное возникновение на первом, когда он целиком определялся моей деятельностью. Я только считаю себя вправе упомянуть те новые достижения, в которых доля моего участия все еще значительна, прежде всего в области нарциссизма, учения о влечениях и его применения к психозам. Я хотел бы добавить, что с накоплением опыта все больше выявлялась роль Эдипова комплекса как ядра неврозов. Он был в той же мере вершиной инфантильной сексуальной жизни, сколь и узловым пунктом, с которым было связано все дальнейшее развитие. Поэтому труднее стало ожидать, что с помощью анализа можно открыть специфический для невроза момент. Следовало сказать себе, как это очень хорошо сумел сделать Юнг в свой ранний аналитический период, что неврозы не имеют какого-либо особого, исключительно им присущего содержания и что срыв у невротиков происходит на тех же самых вещах, с которыми нормальные люди счастливо справляются. Это понимание отнюдь не означало разочарования. Оно прекрасно согласовывалось с другим, утверждавшим, что глубинная психология, к которой пришли благодаря психоанализу, как раз и была психологией нормальной душевной жизни. У нас получилось то же, что бывает у химиков, когда большие количественные различия вещества объясняются качественными особенностями при комбинировании определенных элементов. В случае Эдипова комплекса либидо связывалось с отношением к родителям. Но этому предшествовало время без всяких подобных объектов. Отсюда основополагающая для теории либидо концепция состояния, когда либидо заполняет собственное «я» и берет его само в качестве объекта. Это состояние можно назвать «нарциссизмом» или любовью к себе. Последующие размышления показали, что он, в сущности, никогда полностью не исчезает; в течение всей жизни «я» остается крупным резервуаром либидо, откуда исходит привязанность к объектам и куда либидо может вернуться от объектов вновь. Таким образом, нарциссическое либидо постоянно преобразуется в объект либидо, и наоборот. Прекрасный пример того, до какой степени может доходить это-преобразование, демонстрирует нам сексуальная или сублимированная влюбленность, доходящая до самопожертвования. Если до сих пор в процессе вытеснения внимание уделялось лишь вытесняемому, такие представления показывают, что и вытесняющему следует отдать должное. Считалось, что вытеснение вызывается действующим в «я» инстинктом самосохранения (инстинкт «я») и осуществляется в либидозных влечениях. Теперь, когда выяснилась либидозная природа самого инстинкта самосохранения, проявляющегося как нарциссическое. либидо, процесс вытеснения предстал как процесс внутри самого либидо; нарциссическое либидо противостоит объекту-либидо, интерес самосохранения защищается от притязаний любви к объекту, а значит, и от собственной сексуальности. Ни в чем не нуждается психология так настоятельно, как в основательном учении о влечениях, исходя из которого можно было бы двигаться дальше. Однако ничего подобного у нас нет, психоанализ должен сам нащупывать учение о влечениях. Первоначально оно противопоставляло влечения «я» (самосохранение, голод) либидозным инстинктам (любовь), затем заменило его новым противопоставлением, нарциссического и объект-либидо. Однако это явно не было еще последним словом, с биологической точки зрения как будто недопустимо было ограничиваться одним-единственным видом влечений. В своих последних работах («По ту сторону принципа удовольствия», «Массовая психология и анализ человеческого "я"», «Я и Оно») я дал волю долго подавляемой склонности к спекуляциям и предложил там, в частности, новое решение проблемы влечений. Я объединил самосохранение и сохранение рода понятием эрос и противопоставил ему бесшумно действующее влечение к смерти или разрушению. Влечение в самом общем виде рассматривается как своего рода эластичность живущего, как стремление восстановить однажды возникшую ситуацию, которая была отменена внешней помехой. Эта, в сущности, консервативная природа влечения объяснялась явлениями необходимости повторения. Совместное и противоположное действие 26 эроса и влечения к смерти составляет для нас картину жизни. Вопрос в том, насколько опыт подтверждает пригодность такой конструкции. Хотя она порождена стремлением зафиксировать некоторые из важнейших теоретических представлений психоанализа, она далеко выходит за рамки психоанализа. Я не раз слышал пренебрежительный разговор, что, мол, нечего ждать от науки, основанной, как психоанализ, на столь неопределенных понятиях, как «либидо» и «влечения». Но этот упрек основан на полном игнорировании реального положения дел. Ясные термины и резко очерченные определения возможны лишь в гуманитарных науках, поскольку их фактический материал стремятся рассмотреть в рамках некой интеллектуальной системы. Для естественных наук, к которым относится и психоанализ, такая ясность основных понятий излишня, даже невозможна. Зоология и ботаника начинали не с корректных и достаточных определений животного и растения, биология и сейчас еще не в состоянии наполнить достоверным содержанием понятие жизни. Да что там, даже физика не смогла бы получить развития, если бы она дожидалась, пока такие ее понятия, как «вещество», «сила», «гравитация» и другие, будут определены ясно и точно. Основные представления или важнейшие понятия естественно-научных дисциплин всегда остаются поначалу неопределенными, предварительно объясненными лишь ссылками на явления, из которых они выведены, и лишь дальнейший анализ материала наблюдений может сделать их ясными, содержательными и непротиворечивыми. Я всегда воспринимал как грубую несправедливость тот факт, что к психоанализу не хотели подходить как к любой другой естественной науке. Это нежелание принимало форму самых резких выражений. Психоанализу ставили в упрек любую неполноту и недостаточность, тогда как наука, основанная на наблюдениях, не может развиваться иначе, как только постепенно вырабатывая свои результаты и шаг за шагом решая свои проблемы. Более того, когда мы добивались признания роли сексуальной функции, в котором ей так долго отказывали, психоаналитическую теорию заклеймили за «пансексуализм», когда мы подчеркивали не замеченную прежде роль случайных впечатлений ранней юности, мы в ответ услышали, что психоанализ отрицает конституциональный и наследственный фактор, что нам никогда не приходило в голову. Нам возражали любой ценой и любыми средствами. Еще на ранней стадии своей деятельности я предпринял попытку сделать некоторые обобщения, основанные на психоаналитических наблюдениях. В 1911 году в небольшой статье «Формулировка двух принципов психических явлений» я подчеркнул, разумеется не считая это оригинальным, примат принципа удовольствия-неудовольствия для душевной жизни и его снятие через так называемый «принцип реальности». Позднее я отважился на попытку некой «метапсихологии». Так я назвал подход, при котором всякий процесс душевной деятельности рассматривался в трех координатах: динамики, топики и экономии, и считал это пределом, которого может достигнуть психология. Попытка осталась незавершенной, я ограничился несколькими заметками («Влечения и их судьбы», «Вытеснение», «Бессознательное», «Печаль и меланхолия» и т. д.) и понял, что время для таких теоретических разработок еще не пришло. В своих последних обобщающих работах я попытался расчленить наш душевный аппарат на основе аналитического рассмотрения патологических случаев и разложил его на «я», «оно», и сверх-«я». Сверх-«я» является наследником Эдипова комплекса и представляет этические требования человека. Я не хотел бы создавать впечатления, будто в этот последний период своей работы оставил терпеливые наблюдения и целиком отдался умозрительным теориям. Наоборот, я продолжал вплотную заниматься аналитическим материалом и никогда не прекращал разработку специальных, клинических или технических тем. Да и там, где я отходил от наблюдения, я всячески старался не вдаваться в собственно философию. Природная неспособность весьма облегчала мне такую сдержанность. Я всегда был открыт для идей Г. Т. Фехнера* и в важнейших пунктах опирался на этого мыслителя. Значительные совпадения психоанализа с философией Шопенгауэра — он подчеркивал не только примат аффективности и первостепенное значение сексуальности – возникли не благодаря моему знакомству с его учением. Я прочел Шопенгауэра уже очень поздно. Что касается Ницше, другого философа, чьи предчувствия и предвидения порой удивительнейшим образом совпадали с результатами, трудно давшимися психоанализу, то именно по этой причине я его долго избегал: для меня важней был не приоритет, а непредвзятость. 27 Неврозы были первым, а долгое время и единственным объектом анализа. Никто из аналитиков не сомневался, что медицинская практика, отделяющая эти аффектации от психозов и связывающая их с органическими нервными поражениями, не права. Учение о неврозах является составной частью психиатрии, это необходимое введение в нее. Аналитическое же изучение психозов, кажется, исключено из-за терапевтической безнадежности таких усилий. Психические больные обычно лишены способности к позитивному переносу, так что главное средство аналитической техники здесь неприменимо. Но все-таки какие-то возможности, оказалось, здесь существуют. Перенос порой отсутствует не настолько полно, чтобы с его помощью нельзя было немного продвинуться; при циклических расстройствах, легких параноидальных изменениях, частичной шизофрении с помощью анализа достигался несомненный успех. По меньшей мере науке пошло на пользу, что диагноз во многих случаях мог долго колебаться между психоневрозом и Dementia ргаесох; попытка лечения смогла привести к столь важным выводам, прежде чем ее пришлось прекратить. Но, что особенно важно, в психозах лежит на поверхности и очевидно каждому многое из того, что при неврозах приходится с большим трудом извлекать из глубины. Поэтому психиатрическая клиника подтверждает аналитические выводы самыми показательными примерами. Таким образом, скоро психоанализ неизбежно должен был найти себе дорогу к объектам психиатрического наблюдения. Весьма рано (1896) я сумел установить в одном случае параноидального помешательства те же этиологические моменты и наличие именно тех самых аффективных комплексов, что и при неврозах. Юнг объяснил загадочные стереотипы помешательства явлениями из истории жизни больного; Блейлер установил механизмы действий различных психозов, сходные с теми, что анализ выявил у невротиков. С тех пор уже не прекращались усилия аналитиков понять психозы. Особенно с тех пор, как стали пользоваться понятием нарциссизма, удавалось то в одном, то в другом месте заглянуть через стену. Больше всего успехов в объяснении меланхолии добился Абрахам. Правда, в этой области сейчас не все полученные результаты могут служить терапии; но и чисто теоретические достижения немаловажны, и вполне можно ожидать их практического применения. Психиатры тоже не смогут долго противиться доказательной силе своего же клинического материала, В немецкой психиатрии происходит своего рода penetration pacifique1 (1Тихое проникновение – франц.) аналитической точки зрения. Не переставая заверять, что они не собираются становиться психоаналитиками, принадлежать к «ортодоксальной» школе, особенно же не собираются верить в сверхмогущество сексуального момента, многие из более молодых исследователей усваивают ту или иную часть аналитического учения как свою собственность и применяют их к материалу всякий по-своему. Судя по всему, в этом направлении предстоит дальнейшее развитие. VI Сейчас я с некоторой дистанции прослежу, как реагировали на приход психоанализа во Франции, долгое время не воспринимавшей его. Было впечатление, будто повторялась все та же самая картина, однако здесь были свои особенности. Громко звучали возражения, невероятные по своему простодушию, вроде того, что для французской деликатности оскорбителен был педантизм и топорность психоаналитических именований (как тут не вспомнить бессмертного лессинговского шевалье Рико де Марлинье!*). Другое высказывание звучит серьезнее; оно, кажется, как будто даже достойно профессора психологии в Сорбонне: что Genia latin1 (1Латинский гений – франц.) вообще не выносит психоаналитического образа мышления. Это звучало как откровенное отмежевание от англосаксонских союзников, которые считались сторонниками психоанализа. Послушать, так можно было подумать, будто Genie tevto-nique2 (2Тевтонский гений – франц.) сразу прижал к сердцу новорожденный психоанализ, словно возлюбленное дитя. Во Франции интерес к психоанализу был проявлен в литературных кругах. Чтобы понять это, необходимо вспомнить, что в «Толковании сновидений» психоанализ вышел за рамки чисто медицинской проблематики. Между его появлением в Германии и во Франции лежит период разнообразного применения психоанализа в области литературы и искусствоведения, истории религии и древнейшей истории, в области мифологии, этнографии, педагогики и т. д. 28 Все эти области имели мало отношения к медицине, они оказались связаны с ней именно через посредство психоанализа. Поэтому я не вправе сейчас подробно обсуждать здесь эту тему. Но я не могу и совсем проигнорировать ее, ибо, с одной стороны, это необходимо, чтобы дать правильное представление о существе и ценности психоанализа, с другой стороны, я ведь собирался здесь представить мое собственное творчество. Многие из этих применений восходят к самому началу моей работы. Время от времени я позволял себе отклоняться в сторону, чтобы удовлетворить такого рода внемедицинский интерес. Другие, не только врачи, но тоже специалисты в своих областях, шли затем по моему следу и далеко углублялись в соответствующие области. Поскольку моя программа должна быть ограничена моими собственными работами в области применения психоанализа, я могу предложить здесь читателю лишь совершенно недостаточную картину его применении и значения. Целый ряд идей был связан для меня с Эдиповым комплексом, в распространенности которого я постепенно убеждался. Если выбор этой страшной темы и отражение ее в творчестве, потрясающее воздействие ее поэтических интерпретаций, вообще сама суть трагедии судьбы всегда оставались загадкой, то теперь все объяснилось пониманием, что здесь выразилась закономерность душевного процесса во всем его аффективном значении. Судьба и предсказания были лишь материализацией внутренней необходимости; то, что герой совершал грех вопреки своему намерению и не подозревая об этом, растолковывалось как истинное выражение бессознательной природы его преступных устремлений. От понимания этой трагедии судьбы оставался уже один шаг до объяснения гамлетовской трагедии характера, которой восхищались столетиями, не понимая ее смысла и не разгадав замысла поэта. Примечательно, что этот созданный поэтом невротик терпит срыв на Эдиповом комплексе, как и его многочисленные сотоварищи в реальном мире, ибо Гамлет оказался поставлен перед задачей отомстить другому сразу за два деяния, которые составляют содержание Эдипова стремления, причем собственное неясное чувство вины может действовать на него парализующе. «Гамлет» написан Шекспиром вскоре после смерти его отца1. (1Добавление 1935 г.: От этой своей конструкции я хотел бы теперь самым решительным образом отказаться. Я больше не верю, что актер Уильям Шекспир из Стрэтфорда был автором произведения, которое ему так долго приписывалось. С тех пор как была опубликована книга «Shakespeare. Identified in Edvard de Vere, the 17th Earl of Oxford» (1920) Дж. Т. Лунея, я почти убежден, что за этим псевдонимом на самом деле скрывается Эдвард де Вер, граф Оксфордский). Мои первые опыты анализа этой трагедии были потом основательно разработаны Эрнестом Джонсом. Тот же пример Отто Ранк использовал в качестве исходного пункта для исследования о. выборе материала у драматического писателя. В своей большой книге «Мотив инцеста» он сумел показать, как часто писатели выбирают для изображения именно мотивы Эдиповой ситуации, и проследил разновидности, вариации и смягченные случаи использования этого материала в мировой литературе. Отсюда недалеко было и до желания взяться вообще за анализ литературного и художественного творчества. Стало ясно, что мир фантазии представляет собой «щадящую.зону», которая создается при болезненном переходе от принципа удовольствия к принципу реальности, чтобы можно было заменить удовлетворение влечений, от которых приходится отказаться в действительной жизни. Художник, подобно невротику, уходил он неблагоприятной действительности в этот фантастический мир, однако в отличие от невротика умел найти оттуда обратную дорогу и вновь обрести в действительности прочную опору. Их творения, их произведения были фантастическим удовлетворением бессознательных желаний, совсем таким же, как сновидение, с которым его объединяет также характер компромисса, потому что и здесь приходится избегать открытого конфликта с силами вытеснения. Однако в отличие от асоциальных, нарциссических сновидений они ориентированы на участие других людей, они могли оживить и удовлетворить в них те же бессознательные побуждения. Кроме того, они удовлетворяли также жажду восприятия красивой формы в качестве «соблазнительной премии». Что удалось сделать психоанализу, так это, исходя из взаимоотношения жизненных впечатлений, случайностей судьбы и произведений художника, реконструировать его природу и определяющие ее влечения, то есть общечеловеческое в нем. С этой целью я, например, взял 29 Леонардо да Винчи в качестве объекта работы, которая основана на одном-единственном, им же самим рассказанном детском воспоминании и прежде всего должна объяснить его картину «Святая Анна»*. Мои друзья и ученики предприняли впоследствии множество подобных аналитических исследований о художниках и их произведениях. Не оправдались опасения, что добытое таким образом аналитическое понимание повредит удовольствию от произведения искусства. Однако перед дилетантом, который, вероятно, ждет от анализа слишком многого, следует признаться, что двух проблем, которые, наверно, его больше всего интересуют, он объяснить не может. Анализ никак не может объяснить художественный талант, и ему не дано раскрыть средства, которыми работает художник, художественную технику. На примере небольшой, самой по себе не особенно примечательной новеллы В. Йенсена «Градива»* я сумел показать, что сочиненные видения могут быть растолкованы так же, как реальные, что, следовательно, в поэтическом творчестве действуют те же самые механизмы бессознательного, знакомые нам по работе сновидений. Моя книга «Остроумие и его отношение к бессознательному»* – прямое ответвление от «Толкования сновидений». Единственный друг, который тогда принимал участие в моей работе*, заметил как-то, что мои толкования сновидений порой производят впечатление «остроты». Чтобы разобраться в этом впечатлении, я предпринял исследование острот и обнаружил, что суть остроты заключается в ее технических средствах, а они те же самые, что и способы «работы сновидений», то есть сгущение, смещение, изображение через противоположность, через самое малое и т. д. На этом основано экономическое исследование того, каким образом возникает большое удовольствие у слушателя остроты. Ответ гласил: благодаря моментальному снятию усилий по вытеснению, при соблазне получить премию удовольствия (пред-удовольствие). Выше я уже говорил о своих работах по психологии религии, которые начались в 1907 году, когда было установлено поразительное сходство между вынужденными действиями и религиозными упражнениями (ритуалы). Еще не зная более глубоких связей, я охарактеризовал вынужденный невроз как искаженную личную религию, а религию, так сказать, как универсальный вынужденный невроз. Позднее, в 1912 году, настойчивое указание Юнга на далеко заходящие аналогии между духовной продукцией невротиков и примитивных народов заставило меня обратить внимание на эту тему. В четырех статьях, которые составили книгу, озаглавленную «Тотем и табу», я показал, что у примитивных народов страх инцеста выражен еще сильнее, чем у культурных, и породил совершенно особые защитные правила; исследовал отношение запретов-табу, в форме которых выступают первые моральные ограничения, к амбивалентности чувств; обнаружил, что примитивная мировая система анимизма основана на переоценке душевной реальности, на «всесилии мысли», которая лежит и в основе магии. Я провел последовательное сравнение с вынужденным неврозом и показал, насколько большую роль в этих характерных аффектациях еще играют предпосылки примитивной духовной жизни. Особенно же меня привлек тотемизм, эта первая система организации примитивных племен, в которой начала социального порядка соединены с рудиментарной религией и неумолимых властью некоторых немногочисленных запретов-табу . «Почитаемое» существо здесь первоначально всегда животное, от которого клан, как он считает ведет также свое происхождение. По разным признакам можно заключить, что все, в том числе и народы, Находящиеся на высокой ступени развития, когда-то прошли через стадию тотемизма. Главыми моими литературными источниками в этой работе были прежде всего знаменитые труды Дж Д. Фрэзера* («Тотемизм и экзогамия», 1910, «Золотая ретвь», 1900) – кладовая ценных фактов и точек зрения. Но для прояснения проблемы тотемизма Фрэзер давал мало; он неоднократно и основательно менял свои взгляды на этот предмет, а другие этнологи и историки, пoxoже были в таких вещах столь же ненадежны, сколь и разноречивы. Я исходил из того, что существовало весьма примечательное сходство между обоими правилами табу при тотемизме, а именно не убивать тотем и не вступать в половую связь с женщиной из племени того же тотема, и обоими основаниями Эдипова комплекса, связанными с устранением отца и женитьбой на матери. Это вызывало искушение сопоставить тотемическое животное с отцом, что примитивные племена и сами настойчиво подчеркивают, поскольку почитают его за прародитиля племени. С 30 психоаналитической стороны мне тогда помогли два факта: одно счастливое наблюдение над ребенком, которое позволяло говорить об инфантильном возвращении тотемизма, и анализ ранних животных фобий у детей, из которых так часто видно что животное замещало отца и на него сдвигалось основанное на Эдиповом комплексе почитание отца. Недоставало совсем немногого, чтобы распознать в отце-yбийстве ядро тотемизма и исходный пункт образования религий. Этот недостающий фрагмент был получен благодаря знакомству с работой У. Робертсона Смита «Религия семитов» – этот гениальный человек, физик и исследователе Библии, указал как на важный элемент тотемистской религии на так называемое поедание тотема. Раз в году тотемное животное, обычно обожествляемое, торжественно умерщвляется при участии всего племени, поедается и затем оплакивается. С этим оплакиванием связывается целое празднество. Если добавить сюда предположение Дарвина, что люди первоначально жили ордами, каждая из которых подчинялась одному-единственному, сильному, жестокому и ревнивому человеку, то можно позволить себе вывести из всех этих компонентов гипотезу или, лучше сказать, видение следующего процесса: отец первобытной орды как неограниченный деспот претендовал на всех женщин, а опасных соперников-сыновей убивал или изгонял. Но однажды эти сыновья сговорились, победили, убили и вместе съели отца, который был их врагом, но вместе с тем их идеалом. После содеянного они не могли стать его наследниками, поскольку один стоял на пути другого. Под воздействием неудачи и раскаяния они научились находить друг с другом согласие, объединились в братский клан, на основе тотемизма, который должен был исключить повторение подобного действия, и вместе отказались от владения женщинами, ради которых они убили отца. Они теперь ориентировались на женщин чужого племени; так сложилась тесно связанная с тотемизмом экзогамия. Поедание тотема было торжественным поминовением жестокого деяния, а отсюда и сознанием вины человечества (наследственный грех), одновременно с которым возникли социальная организация, религия и моральные ограничения. Независимо от того, могло ли так быть в истории или не могло, возникновение религии связывалось здесь с отцовским комплексом и строилось на амбивалентности, которая в нем господствует. После того как отца перестали заменять тотемическим животным, грозный и ненавидимый, почитаемый и вызывающий зависть праотец сам становится праобразом Бога. Строптивость и любовь к отцу борются в сыне друг с другом, приводя ко все новым компромиссам, которые, с одной стороны, означают расплату за убийство отца, с другой — вроде бы демонстрируют выгоду от' него. Подобная концепция религии бросает особенно яркий свет на психологические основы христианства, где церемония пожирания тотема немного замаскирована под причастие. Я хочу настоятельно подчеркнуть, что это последнее толкование исходит не от меня, оно встречается уже у Робертсона Смита и у Фрэзера. Т. Рейк и этнолог Г. Рохейм в многочисленных и заслуживающих внимания работах, основываясь на идеях книги «Тотем и табу», продолжили их, углубили или поправили. Я сам позднее возвращался к ней еще несколько раз, исследуя «бессознательное чувство вины», которое играет такую большую роль и как мотив невротических заболеваний, а также пытаясь теснее связать социальную психологию с психологией личности («Я и Оно», «Массовая психология и анализ человеческого «я»). Архаическое наследие времен первобытного существования человеческой орды я использовал и для объяснения подверженности гипнозу. Мое участие в других применениях психоанализа, вызвавших самый широкий интерес, незначительно. От фантазий отдельного невротика широкая дорога ведет к таким созданиям массовой и народной фантазии, как мифы, легенды и сказки. Мифология стала областью деятельности Отто Ранка; толкование мифов, их связи с известными бессознательными детскими комплексами, замена астральных объяснений человеческой мотивировкой во многих случаях знаменовали успех его аналитических исследований. Многочисленных исследователей в близких мне кругах нашла также тема символики. Символика принесла психоанализу многих врагов; иные слишком трезвые исследователи никогда не могли простить ему признания символики, как, например, в «Толковании сновидений». Но не анализ открыл эту символику, она была давно известна в других областях и играет там (в фольклоре, мифах, легендах) даже большую роль, чем в «языке сновидений». 31 К применению анализа в педагогике сам я лично отношения не имел; но ведь было естественно обратить внимание воспитателей на результаты аналитических исследований сексуальной жизни и душевного развития детей, чтобы они по-новому увидели свои задачи. Неутомимым борцом за это направление в педагогике показал себя протестантский пастор О. Пфистер в Цюрихе, который сумел соединить применение анализа также с опорой на всегда сублимированную религиозность; наряду с ним работали госпожа д-р Хуг-Хельмут и д-р С. Бернфельд в Вене, а также многие другие 1. (1Добавление 1935 г.: С тех пор именно детский анализ добился мощного взлета благодаря работам г-жи Меланин Клейн и моей дочери Анны Фрейд). Применение анализа для профилактического воспитания здоровых и для корректировки еще не невротических, но сбившихся в своем развитии детей дало практически важные результаты. Теперь уже невозможно запрещать врачам пользоваться психоанализом и не допускать до него любителей. В действительности же врач, не получивший специального образования, в области анализа — любитель, несмотря на свой диплом, а неврач при соответствующей подготовке и возможности при необходимости опереться на врача может выполнить и задачу аналитического лечения неврозов. Благодаря такому развитию, успеху которого было бы уже бессмысленно сопротивляться, слово «психоанализ» успело стать многозначным. Первоначально оно означало определенный терапевтический метод, сейчас же стало названием целой науки, науки о бессознательной душевной деятельности. Эта наука редко может одна, сама по себе полностью решить проблему; но она как будто призвана внести важный вклад в самые разные области знания. Область применения психоанализа столь же широка, как область применения психологии, к которой психоанализ в весьма значительной степени примыкает. Так что, оглядываясь на дело своей жизни, я могу сказать, что проделал разнообразную работу и проложил немало новых путей, из которых в будущем что-то должно получиться. Но мне самому не должно знать, много ли это или мало. Однако позволю себе высказать надежду, что я открыл дорогу важному прогрессу нашего познания. 1924 Добавление Издатель этого сборника «Автобиографий», насколько я знаю, не предполагал, что одна из них спустя некоторое время потребует продолжения. Возможно, здесь это первый такой случай. Поводом написать его послужило пожелание американского издателя предложить публике эту небольшую работу в новом издании. Она появилась сначала в Америке в 1927 году (у Брентано) под заглавием «An Autobiografical Study»1 (1 «Автобиографическое исследование» – англ.), но, к сожалению, под одной обложкой с другим эссе и под общим с ним названием «The Problem of LayAnalysis»2 (2 «Проблема любительского анализа» – англ.). Две темы проходят через эту работу: тема моей судьбы и история психоанализа. Они здесь глубочайшим образом переплетены. «Автобиография» показывает, как психоанализ стал содержанием моей жизни, а кроме того, исходит из вполне оправданного предположения, что, кроме моих научных занятий, ничто остальное в моей личной жизни не заслуживает такого же интереса. Незадолго до того, как я стал писать «Автобиографию», возникло ощущение, что из-за рецидива злокачественной болезни моя жизнь приближается к скорому концу; лишь искусство хирургов в 1923 году спасло меня, и я остался жизне- и работоспособен, хотя здоровье мое уже до конца никогда не выправлялось. За более чем десятилетие, прошедшее с тех пор, я не прекращал своей работы и публикаций в области психоанализа, что видно из моего завершенного XII томом Собрания сочинений (в Международном психоаналитическом издательстве, Вена). Но сам я вижу одно существенное отличие от раннего этапа. Нити, которые переплелись друг с другом в моем развитии, начали отделяться одна от другой, интересы, возникшие позднее, отошли на задний план, а на передний вновь вышли более ранние, первоначальные. Хотя за это десятилетие мною был проделан новый важный этап аналитической работы, например пересмотрена проблема страха в работе «Задержка, симптом и страх» (1926), и в 1927 году мне удалось полностью объяснить сексуальный «фетишизм», но все-таки правильно будет сказать, что с тех пор, как я установил два вида влечения (эрос и влечение к смерти) и разложил психическую личность на 32 «я», сверх-«я» и «оно» (1923), я больше не вносил решающего вклада в психоанализ, а то, что я написал потом, могло бы без потерь остаться ненаписанным или было бы скоро сделано кем-то другим. Это связано с произошедшим во мне поворотом, с некоторой стадией регрессивного развития, если угодно. После того как всю жизнь я посвятил естественным наукам, медицине и психотерапии, мой интерес обратился к той культурной проблеме, которая когда-то вряд ли захватила бы пробудившегося к размышлению юношу. Уже на взлете психоаналитической работы, в 1912 году, я в книге «Тотем и табу» предпринял попытку использовать только что обретенное аналитическое понимание для исследования происхождения религии и нравственности. Два позднейших эссе, «Будущее одной иллюзии» (1927) и «Неудовлетворенность культурой» (1930), продолжили это направление работы. Мне становилось все яснее, что события человеческой истории, взаимодействия между человеческой природой, культурным развитием и теми остатками древнейших переживаний, которые стала представлять религия, суть лишь отражения динамических конфликтов между «я», «оно» и сверх-«я», которые психоанализ изучает на отдельном человеке, то есть те же самые процессы, но повторенные на более обширной сцене. В «Будущем одной иллюзии» я говорил о религии в основном негативно; позднее я нашел формулу, которая более справедлива к ней: ее власть основана, вообще говоря, на истинном ее содержании, но эта истина не материального, а исторического свойства. Эти основанные на психоанализе, но далеко выходящие за его рамки работы встретили у публики, пожалуй, больший отклик, нежели сам психоанализ. Возможно, отчасти благодаря им возникла недолговечная иллюзия, будто ты принадлежишь к числу авторов, которых столь великая нация, как немецкая, готова была слушать. Шел 1929 год, когда Томас Манн, один из тех, кто больше всех имел право говорить от лица немецкого народа, определил мое место в современной духовной истории в словах столь же благожелательных, сколь и глубоких. Некоторое время спустя в ратуше Франкфурта-на-Майне чествовали мою дочь Анну, представлявшую меня при вручении присужденной мне премии им. Гёте за 1930 год. Это была вершина моей гражданской жизни; вскоре после этого рамки нашего отечества сузились, и нация не захотела нас знать. На этом я позволю себе закончить свой автобиографический рассказ. Все остальное, что касается моей личности, моей борьбы, разочарований и успехов, общественности знать более подробно не обязательно. И без того я в некоторых своих работах — о толковании сновидений, о повседневной жизни — был откровеннее и честнее, чем это позволяют себе обычно люди, описывающие свою жизнь для современников и потомков. Благодарности за это я не услышал; по своему опыту я никому не посоветовал бы следовать моему примеру. Еще несколько слов о судьбах психоанализа в нашем столетии. Уже не подлежит сомнению, что он будет существовать, он доказал свою жизнеспособность и способность к развитию как отрасль науки и как терапевтический метод. Число его приверженцев, организованных в Международный психоаналитический союз (МПС), заметно возросло; к таким уже давним местным организациям, как группы в Вене, Берлине, Будапеште, Лондоне, Голландии, Швейцарии, добавились новые в Париже, Калькутте, две в Японии, множество групп в Соединенных Штатах, в самое последнее время по одной в Иерусалиме, Южной Африке и две в Скандинавии. Эти местные группы финансируют за счет собственных средств учебные институты, в которых осуществляется обучение психоанализу на основе единого плана, и амбулатории, где опытные аналитики, равно как их ученики, дают нуждающимся бесплатное лечение, или же они прилагают усилия по созданию таких институтов. Члены МПС раз в два года собираются на конгрессы, где читаются научные доклады и решаются организационные вопросы. Тринадцатый такой конгресс, который я сам уже не смог посетить, состоялся в 1934 году в Люцерне. При всем общем, что связывает участников, работают они в разных направлениях. Одни уделяют главное внимание объяснению и углублению психоаналитических знаний, другие стараются обеспечить связь с терапевтической медициной и психиатрией. С практической точки зрения часть аналитиков поставила перед собой цель добиться признания психоанализа в университетах и введения его в медицинские учебные планы, другие решают остаться вне этих организаций и не хотят поступаться педагогическим значением психоанализа ради медицинского. 33 Время от времени вновь оказывается, что кое-кто из людей, занимающихся анализом, решает возвысить одну-единственную психоаналитическую тему за счет всех других. Но целое все же производит отрадное впечатление серьезной научной работы высокого уровня. 1935 Література: Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия / Пер. с нем.; Сост., послесл. и коммент. А.А. Гугнина. – М.: Прогресс, 1992. – 569 с. (С.91-148). 2. Зигмунд Фрейд. Основні категорії психоаналізу. (Перекладено за виданням: Sigmund Freud. Abriss der Psychoanalise. – Zurich, 1954). Психоаналіз грунтується на припущенні, яке неможливо перевірити філософськими міркуваннями і яке підтверджується лише подальшими практичними результатами. З того, що ми називаємо своєю психікою (духовним життям), по-справжньому нам відомі лише дві речі: поперше, фізичний орган – головний і спинний мозок (нервова система), й по-друге, безпосередні прояви нашої свідомості, що їх не годен нам з’ясувати жоден опис. Все інше, що перебуває між цими полюсами нашого знання, залишається нам невідоме, невідомий нам і взаємозв’язок між ними. І коли б ми навіть створили відповідну науку, вона у кращому разі дала б нам докладний опис наших психічних процесів, але не розуміння їх сутності. Отож обидва наші припущення стосуються згаданих полюсів – кінців чи початків – нашого знання. Перше припущення стосується локалізації. Уявімо собі, що духовне життя є функцією апарату, який має певну просторову протяжність і складається з багатьох частин, на зразок підзорної труби, мікроскопа тощо. Послідовна розробка такого уявлення, попри певні давніші спроби, є річчю безумовно новою. Сутність психічного апарату ми збагнули, дослідивши індивідуальний розвиток людини. Найдавнішу з-поміж тих частин чи інстанцій психіки ми назвали ід. Її сутністю є все спадкове, вроджене, конституйоване будовою тіла, передусім – фізіологічні потяги, що саме у поведінці тіла знаходять свій щонайперший прояв. Під впливом довколишнього середовища певна частина ід набула специфічного розвитку. Якийсь шар нервової тканини, що його первісним завданням було сприймання зовнішніх подразників і реагування на них, перетворився на своєрідного посередника між ід і довколишнім світом. Цю сферу нашого духовного життя ми назвали его. Основні характеристики его. На підставі сформованих раніше зв’язків між чуттєвими подразненнями і дією м’язів, его здійснює вибір між тою чи тою реакцією на згадані подразнення. Стосовно зовнішнього світу воно виконує функції самозахисту: розпізнає подразники, накопичує (у пам’яті) досвід про них, ухиляється від надто сильних подразників (шляхом утечі), зберігає контакт із подразниками помірними (шляхом пристосування), і врешті, навчається цілеспрямовано змінювати довколишній світ на свою користь (шляхом активної діяльності). Ті самі функції воно виконує і стосовно світу внутрішнього, тобто стосовно ід: опановує його потяги, вирішує, чи слід ті потяги задовольнити, чи, може, перенести їх задоволення на відповідніший момент і в кращі зовнішні умови, або й притлумити їх узагалі. Усю цю свою діяльність воно здійснює на підставі успадкованого чи набутого досвіду. Зростання подразнень трактується ним як прикрість, зменшення – як приємність. Власне, приємністю або прикрістю є не так абсолютна сила тих подразнень, як ритм їхньої зміни. Его прагне приємності й уникає прикрості. Відповіддю на очікуване, сподіване зростання прикрості є сигнал ляку, його причина – як внутрішня, так і зовнішня – називається небезпекою. Через певні проміжки часу его пориває зв’язки із зовнішнім світом і поринає у стан сну, в якому його організація зазнає істотних змін. Саме перебування у тому стані й дає нам підстави зробити висновок про вельми специфічний поділ духовної енергії у тій його організації. 34 Розвиваючись упродовж усього свого дитинства під впливом батьків, людина витворює у своєму его спеціальну інстанцію, яка називається суперего. Тією мірою, якою суперего відокремлюється від его й протистоїть йому, стає воно у людській психіці третьою владою, від якої залежить его. Діяльність его лише тоді ефективна, коли вона одночасно задовольняє вимоги ід, суперего й довколишньої реальності, тобто коли здатна ці вимоги між собою якось узгоджувати. Взаємини між его і суперего унаочнюються взаєминами між дитиною та її батьками: батьки, очевидно, впливають на дитину не лише як конкретні особи, а й як нащадки певного роду, нації, раси, представники певного суспільного середовища. Подібним чином засвоює суперего й подальші впливи учителів, загальновизнаних взірців, суспільних ідеалів. Так що й ід, і суперего, попри фундаментальну різницю між ними, відбивають вплив минулого: ід – минулого успадкованого, суперего – минулого, переважно засвоєного від інших. Тим часом его характеризується принципово власним досвідом, тобто тим, що актуально й спонтанно переживається з дня на день. Ця загальна схема влаштування психіки стосується також вищих, людиноподібних тварин. Існування суперего слід визнати скрізь, де існує, як у людей, тривалий період залежності дітей від дорослих. Слід визнати також як неминучий поділ на ід та его. Психологія тварин, однак, не вийшла ще на цю безмірно цікаву проблему. Вчення про потяги. У компетенції ід перебувають основоположні, вроджені життєві потреби людської істоти. Такі завдання, як збереження життя чи захист від небезпеки, де запобіжну реакцію виконує почуття страху, не належать до компетенції ід. Це вже функції его, яке мусить знаходити найвдаліші і найбезпечніші способи задоволення тих потреб з урахуванням довколишніх обставин. Що ж стосується суперего, то воно здатне породжувати нові потреби, хоч головною його функцією є обмеження розмаїтих потреб і прагнень задовольнити їх будь-яким чином. Приховані сили, що спонукають до задовольняння потреб, називаються потягами. Вони представляють вимоги тіла стосовно духовного життя. Природа їхня консервативна, дарма що вони є головною причиною будь-якої активності. Кожен стан, що його осягнула певна істота, породжує прагнення повернутись до нього в разі його втрати. Можна таким чином означити безмежну кількість найрізноманітніших потягів – стикаємося з ними на кожному кроці. Для нас, однак, важливо було б звести усі ці потяги до кількох основоположних. Досвід показує, що потяги можуть змінювати свою спрямованість (шляхом зміщення мети), а також – взаємозаступатися внаслідок перенесення енергії одного потягу на інший. Цей останній процес не цілком зрозумілий. По тривалих ваганнях і зволіканнях ми зійшлися на двох основоположних потягах – еротичному й деструктивному. (Суперечність між інстинктом самозбереження й інстинктом продовження роду, як і між любов’ю до себе й любов’ю до зовнішнього об’єкту, криється, зокрема, і всередині самого еросу.) Метою першого потягу, еротичного, є створення дедалі більших цілостей і їх консервація, тобто створення певних сув’язей, тимчасом як метою другого, деструктивного, є руйнування будьяких сув’язей, нищення їх у той чи той спосіб. Можемо припустити, що кінцевою метою потягу до деструкції є зведення всього живого до неорганічного стану. Відтак можемо назвати цей потяг потягом до смерті. Визнаючи, що живий світ постав пізніше від неживого і постав власне з нього, можемо сказати також, що означений вище потяг до смерті є потягом до попереднього стану. Це, однак, не стосується еросу (чи любовного потягу). Бо тоді ми мусили б зробити висновок, що жива субстанція була колись єдністю, яка зазнала деструкції і прагне тепер до нового поєднання. (Подібні фантазії полюбляють поети, однак історія живої матерії не дає нам підстав для таких припущень.) В усіх біологічних функціях обидва потяги протидіють один одному або ж поєднуються. Так, споживання їжі є нищенням об'єкта, кінцева мета цього акту – остаточне поглинання; подібним чином і сексуальний акт є агресією, що має на меті якнайщільніше поєднання. Означена взаємодія і протидія двох основоположних потягів власне й забезпечує усю різнобарвність 35 життєвих явищ. Аналогія між цими потягами і пануючим у неорганічному світі притягуванням і відштовхуванням виводить нас за межі живої природи. (Уявлення про основоположні сили чи потяги, що їх уперто заперечують аналітики, знаходимо ще у давньогрецького філософа Емпедокла). Зміни у комбінації названих потягів дають вельми цікаві наслідки. Так, надмір сексуальної агресивності перетворює коханця на сексуального вбивцю, а брак її робить його боязким, або й імпотентним. Навіть мови не може бути про те, щоб обмежити сферу дії котрогось із потягів тою чи тою сферою духовного життя. Зустрічаємо ці потяги скрізь. Наша основоположна ідея полягає в тому, що вся можлива енергія еросу, яку надалі називатимемо лібідо, криється в іще не розрізненому ід – его і служить нейтралізації одночасно існуючих деструкційних нахилів. (На жаль, нам бракує терміну типу лібідо на означення енергії деструкційних потягів. Відтак у подальших студіях досить легко буде простежити історію лібідо, значно складніше буде розібратися з потягом деструктивним). Цей потяг, як потяг до смерті, діючи всередині організму, залишається німим; проявляється він допіру тоді, коли спрямовується назовні. Для існування індивідуума це необхідно; система м’язів забезпечує подібну переорієнтацію. Проте з появою суперего агресивні потяги замикаються всередині его і починають діяти там автодеструкційно. Це одна з небезпек гігієни, на яку наражається людина у процесі свого культурного розвитку. Тамування агресивності загалом нездорове, воно здатне спричиняти недуги. Перетворення потамованої агресивності в автодеструкцію шляхом спрямування агресії на власну особу нерідко виказують люди у нападі шалу, коли рвуть на собі волосся, б’ють себе по обличчю, – хоча зрозуміло, що значно охочіше вони проробили б усе це з кимсь іншим. За цих обставин частина автодеструкційного потягу залишається всередині індивіда, спричиняючи врешті його загибель. Це трапляється, коли лібідо індивіда зужите чи невдало спрямоване. Загалом можемо припустити, що індивід помирає внаслідок своїх внутрішніх конфліктів, тимчасом як рід – внаслідок безуспішної боротьби із зовнішнім світом, до змін у якому він не встигає пристосуватись. Важко що-небудь сказати про поведінку лібідо в ід чи в суперего. Все, що ми про це знаємо, стосується его, в якому первісно нагромаджується весь можливий вміст лібідо. Такий стан ми назвали абсолютно первісним нарцисизмом. Він триває доти, доки его не почне сприймати образи предметів з погляду лібідо, перетворюючи таким чином нарцисичне лібідо у предметне. Протягом усього життя его залишається таким собі величезним резервуаром, з якого до окремих об’єктів посилаються імпульси лібідо і яким вловлюються аналогічні імпульси від них, – приблизно так діє протоплазмове тіло зі своїми квазі-щупальцями. Лише в стані щонайглибшої закоханості основний вміст лібідо переміщується на предмет, який до певної міри займає місце «я». Істотною рисою лібідо є його рухомість, легкість, із якою воно переміщується з одного предмета на інший. Протилежністю цього є фіксація лібідо на певних об'єктах, що подеколи може тривати ціле життя. Джерела лібідо, безумовно, соматичні; не походить воно з якихось органів чи частин тіла. Найчіткіше це видно з тієї частки лібідо, яка, відповідно до спрямованості свого потягу, називається сексуальним збудженням. Спеціальні частини тіла, з яких начебто походить це лібідо, ми називаємо ерогенними зонами, однак насправді ціле тіло є такою зоною. Усе, що ми знаємо про ерос, а відтак і про його показник – лібідо, здобуто нами в процесі досліджень сексуальної функції, котра аж ніяк не у нашій теорії, а лише у популярному сприйнятті ототожнюється з еросом. Невдоволеність у культурі. Перекладено за виданням: Zurich, 1956. Sigmund Freud. Das unbehagen in der Kultur. – Теорія потягів розвинулась рівною мірою з усіх елементів теорії психоаналізу. її настільки 36 не вистачало для цілості, що вона врешті мусила виникнути. На початку, ще цілком безпорадний, я звернувся до слів поета й філософа Шіллера про те, що «голод і любов» рухають світом. «Голод» можна було розуміти як утілення тих потягів, метою яких є підтримування життя кожної окремої істоти. Що ж до «любові», то, спрямована на певні об’єкти, вона виконує цілком іншу функцію, всіляко заохочувану природою, – збереження виду. Ось так, на самому початку протиставивши потяги его й потяги до певних об’єктів, я ввів термін лібідо на позначення енергії тих останніх і виключно для них. Таким чином у найзагальніших рисах було сформульоване протиставлення потягів его і потягів «лібідальних», себто любовних, спрямованих на певні об’єкти. Один із тих лібідальних потягів, а саме потяг садистський, відрізнявся, однак, від усіх інших тим, що його спрямованість небагато спільного мала з любов’ю; щось поєднувало його радше з потягами его, а також із потягами до володіння без лібідальних інтенцій. Проте й ця суперечність вирішувалася. Садизм, безумовно, належав до сексуального життя; жорстокі забави тут, очевидно, були лише замінником пестощів. Наслідком такої боротьби між інстинктом самозбереження й вимогами лібідо, війни, у якій его перемагає ціною важких страждань і зречень, є неврози. Кожен психоаналітик визнає, що й сьогодні така концепція не виглядає давно подоланим непорозумінням. А проте зміни у цій концепції відбулись принципові, як тільки ми почали досліджувати не те, що витіснюється, а те, що витіснює, не потяги до певних об’єктів, а саме его. Вирішальне значення мало введення терміну нарцисизм, тобто визнання, що й саме его окуповане згаданим лібідо, що воно, виявляється, є його первісною оселею і навіть, до певної міри, головним штабом. Спрямовуючись на певні об’єкти, таке нарцистичне лібідо стає лібідо об’єктним, яке, у свою чергу, може знов перетворюватись на лібідо нарцистичне. Поняття нарцисизму відкрило шлях до аналітичного з’ясування травматичних неврозів та багатьох психозоподібних афектацій. При цьому тлумачення субституційних (заміщувальних) неврозів як спроб его захиститись від сексуальності залишалося в силі, однак під загрозою опинялось поняття лібідо. А що потяги его, як уже говорилося, були лібідальні, певен час видавалося неминучим пов’язування лібідо з енергією потягів узагалі, – як це й пропонував свого часу Юнг. Опиралася цій теорії лише моя не підкріплена жодними аргументами впевненість, що всі потяги не можуть зводитись до одного виду. Перший крок у бік обгрунтування такого свого погляду я зробив у праці «Суть насолоди» (Jenseits des Lustprinzips, 1920), звернувши увагу на консервативний характер потягів. Почавши з міркувань про початок життя й біологічні аналогії, я дійшов висновку, що, крім потягу, спрямованого на збереження живої субстанції й поєднання її у дедалі більші сукупності, має існувати ще один, протилежний, потяг, спрямований на розклад тих сукупностей і зведення їх до первісногб неорганічного стану. Поряд з еросом, отже, існує потяг до смерті; їх взаємо- і протидія з’ясовує нам усі життєві феномени. А проте показати дію гіпотетичного потягу до смерті виявилося справою нелегкою, тимчасом як зовнішні прояви еросу були цілком явні й виразні. Можна, звісно, було припустити, що потяг до смерті тихцем працює углибині живої істоти над її розкладом. Але подібні аргументи малопереконливі. Більш переконливим виглядало припущення, що частина потягів спрямовується проти зовнішнього світу, унаочнюючись у вигляді агресії і деструкції. Потяг до смерті включався б таким чином у діяльність еросу, знищуючи інші живі істоти чи речі, замість руйнування самого суб’єкта. І навпаки, зменшення агресивності щодо оточення посилювало б автодеструкцію. Можна було припустити також, що обидва потяги рідко, або й ніколи не виступають окремо, а лише в розмаїтих взаємопереплетіннях, через що й розрізнити їх неможливо. Так, у садизмі, що зараховується здавен до потягів сексуальних, знаходимо винятково сильне поєднання любовного потягу й деструкційного, тимчасом як у мазохізмі сексуальність поєднується з автодеструкцією. В обох випадках, проте, загалом невловимий потяг до смерті унаочнюється досить виразно. І все ж ця гіпотеза про потяг до смерті чи, інакше кажучи, потяг деструкційний наразилася на опір навіть з боку психоаналітиків. Справді, існує тенденція все, що тільки є в любові ворожого й небезпечного, приписувати її власній двоїстій сутності. Викладені тут ідеї я обстоював спершу 37 лише як попередні припущення, але з часом вони настільки мене захопили, що я вже не годен міркувати інакше. Гадаю, в теоретичному плані вони не гірші й не кращі за будь-які інші, тобто є неминучим у науковій роботі спрощенням – без ігнорування фактів чи, тим більше, насильства над ними. І все ж мені важко збагнути, чому, помічаючи у садизмі і мазохізмі суміш деструкційного потягу з еротикою, ми не помічали значно поширеніших проявів нееротичної агресивності й деструкції, не надавали їм належного значення у з’ясуванні життєвих явищ. Річ, очевидно, в тому, що позбавлена еротичного забарвлення жага нищення мало привертає нашу увагу. Пригадую свою власну негативну реакцію на перші повідомлення у психоаналітичній літературі про ідею деструкційного потягу – минуло чимало часу, перш ніж я сам прийняв цю ідею. Отже, й упередженість інших не повинна надто нас дивувати. Як чемні діти, вони неохоче слухають про вроджену схильність людини до «злого», до агресивності, жорстокості, нищення. Бог сотворив людину за власним – досконалим – образом і подобою, а тому ніхто й чути не хоче нагадувань про те, як важко – попри запевнення «Christian Science» – поєднати безумовне існування зла з усемогуттям чи всеблагістю Бога. Найкращим виправданням для Бога міг би бути диявол – зіграв би ту саму роль козла відпущення, що її в ідеальному арійському світі відіграють «жиди». Але й тоді на Бога все одно лягає відповідальність за існування диявола і втілюваного ним зла. Враховуючи усі ці проблеми, тільки й лишається низько схилитися перед глибоко моральною людською натурою. Це допомагає здобути повсюдну повагу і багато за що дістати прощення1. Напрочуд наочно принципи зла ототожнюються з деструкційним потягом у гетівського Мефістофеля: «Бо всяка річ, що постає, Кінець кінцем нічим стає... А все, що ви звете гріхом, Чи згубою, чи просто злом, – Ото моя стихія рідна». Своїм супротивником диявол називає не добро чи святість, а творчу силу природи, що множить життя, тобто ерос: «В землі, в воді, в повітрі, – всюди Мільйони родяться життів, В теплі і в холоді, в сирому і в сухому...» (Переклад Миколи Лукаша). 1 Терміном libido ми позначаємо прояви сил еросу – аби відрізнити їх від енергії потягу до смерті. Потяг цей, мусимо визнати, розпізнається доволі важко: перебуває мовби за спиною еросу і, змішуючись із ним, не привертає нашої уваги. Лише в тих випадках садизму, коли цей потяг начебто не переслідує еротичної мети, а проте сексуальний потяг повною мірою задовольняється, маємо змогу щонайглибше проникнути в його суть та у стосунок цього потягу до еросу. Бо навіть там, де цей потяг не має видимих сексуальних цілей, навіть у найсліпішому шалі нищення бачимо, що задоволення цього потягу поєднується з неабиякою нарцистичною насолодою, сповнюючи прадавні мрії его про всемогутність. Притлумлений, опанований, спрямований на зовнішні об’єкти деструкційний потяг дає змогу его забезпечувати свої життєві потреби й опановувати природу. А що визнання цього потягу має передусім теоретичний характер, неминучими є й певні теоретичні застереження. Таким, відповідно до наших сьогоднішніх поглядів, бачиться нам стан справ. Подальші дослідження й міркування, слід сподіватися, принесуть остаточну ясність. У ході своїх студій я дійшов висновку, що схильність до агресії є первісним, питомим людським потягом. Ще раз стверджую, що та схильність є найсерйознішою перешкодою для культури. Займаючись цими своїми дослідженнями, мені не раз доводилося стикатися з думкою, що культура, мовляв, – це окремий, відрубний процес, який розгортається десь понад людством; багато хто й досі перебуває під впливом подібних уявлень. Тим часом мусимо визнати, що процес цей підпорядкований еросу, який поєднує в одне ціле окремих людей, родини, роди, племена, народи. Чому так відбувається – невідомо, але відбувається це під дією еросу. Сама лише необхідність вигода спільної праці не втримала б такі велетенські маси людей укупі, вони мають бути поєднані лібідально. Цій культуротворчій програмі протистоїть, однак, природний людський потяг до агресії, ворожість кожного до всіх і всіх до кожного. Згаданий агресивний потяг є наслідком і головним проявом потягу до смерті, котрий, як ми вже казали, виступає поруч із еросом, ділить із ним владу над світом. 38 Отже, суть розвитку культури видається нам загалом зрозумілою. Бачимо у ній боротьбу між еросом і танатосом, потягом до життя і потягом до смерті, боротьбу, що точиться у кожному людському індивіді. Боротьба є істотною рисою життя взагалі, а тому й розвиток культури можемо коротко схарактеризувати як життєву боротьбу людського роду. І цей бій гігантів наші няньки намагаються замінити казочками про небеса! Але чому у родичів наших, тварин, ми подібної боротьби не бачимо? О, цього я не знаю. Цілком вірогідно, що декотрі з-поміж них – бджоли, мурахи, терміти – вели таку боротьбу протягом тисячоліть, перш ніж створили ті державні інституції, той розподіл функцій та обов’язків кожної особи, що викликає сьогодні наш подив. Але цікаво, що в жодній із тих комашиних держав, у жодній з існуючих там ролей ми не почували б себе щасливо. Звичайно, у певних видів тварин впливи зовнішнього світу і внутрішні протиборчі потяги могли зрівноважитися й тим самим зупинити розвиток виду. У первісних людей чергова активізація лібідо могла в свою чергу викликати активізацію і ще більший опір деструктивного потягу. Існує чимало питань, на які поки що нема відповіді. Але нас цікавить інша проблема. Якими засобами послуговується культура, щоб погамувати спрямовану проти неї агресивність, знешкодити її, можливо, взагалі елімінувати? Декотрі зпоміж тих засобів ми вже знаємо, але не найголовніший. З’ясувати його можемо, приглянувшись до розвитку окремої особи. Що з нею відбувається при нейтралізації її прагнення до агресії? Щось вельми цікаве, чого ми не могли вгадати, хоч лежить воно досить близько. Відбувається інтроекція, «овнутрішнення» агресії. Відсилається вона, по суті, туди, звідки прийшла, тобто спрямовується проти власного его. Перебирає її собі та частина его, котра в ролі суперего протиставляє себе решті і проявляє ту саму сувору агресивність, яку его залюбки б спрямувало проти інших осіб. Напругу між суворим суперего й підпорядкованим йому его ми називаємо почуттям вини, й виражається воно як потреба кари. Культура опановує таким чином небезпечну жагу агресії – ослаблюючи особу, роззброюючи її й наглядаючи за нею через спеціальну інстанцію в ній самій – наче через військову залогу у здобутому місті. Виникнення почуття вини психоаналітик уявляє собі інакше, ніж інші психологи, хоч і він не береться тут геть усе розтлумачити. На перший погляд, питання, здавалося б, не складне: винними (а побожні сказали б: «грішними») ми почуваємося тоді, коли вчинили щось, що нам видається «злим». І лише пізніше помічаємо, як мало дає нам ця відповідь. Адже, наприклад, і той, хто згаданого «зла» не вчинив, усе одно може почуватися винним від самого лише наміру те «зло» вчинити. Чому, виникає в такому разі питання, самий лише намір прирівнюється до його здійснення? Обидва випадки передбачають, між іншим, розуміння зла як чогось несхвального, чогось, що мало б бути з учинків виключене. Як людина доходить до такого розуміння? Припущення про первісну, природну, так би мовити, здатність розрізняти добро і зло ми, звичайно, всерйоз розглядати не можемо. Зло часто не є чимось шкідливим чи небезпечним для его, навпаки, часто є чимось таким, що дає йому втіху, чого его прагне. Розрізняння добра і зла, отже, є стороннім впливом. А що власні чуття не вивели б людину на цей шлях, мусить існувати якийсь механізм здійснення того впливу. Відкривається він нам у людській безпорадності й залежності кожного індивіда від інших; можемо назвати це страхом утрати любові. Якщо людина втрачає любов чи прихильність іншої людини, від якої залежить, то втрачає й захист від усіляких небезпек, а головне – наражається на небезпеку з боку тієї іншої, сильнішої людини, здатної ствердити свою перевагу у формі кари. Отже, злом є передусім те, за що людину карають позбавленням прихильності; зі страху перед втратою цієї прихильності людина намагається зла уникати. З цієї причини, власне, й не має істотного значення, чи зло вже здійснене, чи лише задумане; в обох випадках небезпека виникає лише тоді, коли влада, авторитет викриє те «зло» – їх реакція в обох випадках буде подібною. Ми називаємо такий стан «докорами сумління», хоча, по суті, він тої назви не заслуговує, оскільки відчуття провини на цьому рівні є лише страхом утрати прихильності, «громадським» занепокоєнням. Усе це стосується передусім малих дітей, хоча й у дорослих мало що змінюється від того, що місце батька чи обох батьків займає ширша людська сукупність. Ось чому, власне, 39 більшість із них зважується чинити «зло», пов'язане з тою чи тою для них приємністю, – якщо тільки мають певність, що влада про це не довідається чи, принаймні нічого не зможе їм заподіяти. Занепокоєння пов'язане лише з небезпекою викриття. Сьогоднішнє суспільство безумовно мусить із таким станом справ рахуватися. Істотна зміна настає лише тоді, коли авторитет інтерналізується, себто овнутрішнюється появою суперего. Феномени сумління підносяться за його допомогою на вищий щабель, і, по суті, лише тепер можна по-справжньому говорити і про саме сумління, і про почуття вини. Завдяки суперего зникає страх викриття, а отже й зникає різниця між лихим учинком і самим лише бажанням такого вчинку, бо ж від суперего нічого не можна сховати, навіть думку. Реальна загроза, здавалося б, зникає, оскільки нова влада, суперего, начебто не має підстав погано ставитися до его, з яким вона внутрішньо зв’язана. А проте генетичний вплив усього проминулого й подоланого проявляється тут у тому, що все, по суті, залишається, як і раніш. Суперего батожить грішне его уявним відчуттям страху і пантрує нагоду якось його покарати через зовнішній світ. На цьому вищому щаблі розвитку сумління виявляє певну характерну рису, якої раніш не було і яку нелегко витлумачити. Поводить воно себе тим суворіше й непримиренніше, чим людина доброчесніша, через що, власне, ті, хто найдалі просунувся по шляху святості, найдужче себе звинувачують у всіляких гріхах. Доброчесність втрачає таким чином частину належної їй винагороди, а покірне і схильне до самозречень его не удостоюється довіри свого ментора і, схоже, намарно силується її здобути. Тут нам можуть заперечити, що все це – штучні проблеми. Чутлива й непримиренна совість якраз і є характерною рисою моральних людей. Коли святі почувають себе грішниками, в тому є сенс, оскільки вони як ніхто зазнають спокус, а відомо ж бо, що відкинуті спокуси дужчають, тимчасом як улягання спокусам принаймні на якийсь час їх ослаблює. Ще один цікавий факт із багатої на проблеми царини етики – зміцнення влади сумління у суперего внаслідок життєвих невдач та опору середовища. Поки в людини усе гаразд, її совість спокійна й доволі толерантна щодо огріхів его, але досить трапитися нещастю, щоб людина приглянулася до себе, відчула свою гріховність, підвищила вимоги до свого сумління й наклала на себе всілякі обітниці і покути. Цілі народи так поводилися і все ще поводяться. Втім, це легко можна пояснити первісним, інфантильним типом сумління; сумління такого типу не зникає і після інтроекції в суперего, існуючи поруч із ним, поза ним. Доля стає тут своєрідним заступником батьківської інстанції; коли на когось падає нещастя, це означає, що та верховна сила його більше не любить; позбавлений її прихильності, він скоряється перед цією заступницею батьків, схованою в суперего, батьків, про яких людина у щасті хотіла забути. Особливо виразно можемо спостерігати це явище у випадку глибоко релігійної свідомості, яка сприймає долю виключно як вираз Господнього промислу. Народ ізраїльський вважав себе обраним дитям Божим, і коли небесний отець послав на свій люд лихо за лихом, той все одно не зрікся його й не засумнівався у силі та справедливості свого Господа, а лише дав пророків, які викривали гріховність народу, і витворив із почуття провини найсуворіші приписи своєї жрецької релігії. Знаменно, що дикуни поводяться цілком інакше: зазнавши нещастя, вони покладають вину не на себе, а на фетиш, який не сповнив своїх обов’язків, відповідно й покара спрямовується на нього. Отже, почуття провини може походити з двох джерел – зі страху перед авторитетом і з пізнішого страху перед суперего. Один страх відбиває охоту від спроб задовольняти потяги, другий – навпаки, додає охоти, оскільки, незважаючи на загрозу кари, існування заборонених бажань все одно неможливо приховати від суперего. Ми з’ясували також, у чому полягає суворість суперего, а відтак і що таке вимоги сумління. По суті, суперего відбиває суворість зовнішнього авторитету, який воно само усуває, а почасти й заміщає. Крім того, ми вже розуміємо, у якому взаємозв’язку перебувають відмова від потягів та почуття вини. На початку відмова від потягів є наслідком страху перед зовнішнім авторитетом: щоб не втратити його прихильності, індивід зрікається спроб ті свої потяги задовольнити. Після такого зречення рахунок, можна сказати, вирівнюється, і жодного почуття вини, відповідно, не виникає. Інша річ – страх перед суперего. Самої відмови від спроб задовольнити потяги тут уже не досить, адже бажання лишаються, і їх від 40 суперего не приховаєш. Отож, попри зречення, почуття вини все одно виникає; рахунок з нічийного змінюється на користь суперего, що проявляється у вигляді сумління. Відмова від спроб задовольнити потяги не дає уже визвольного ефекту, доброчесна стриманість не винагороджується уже нічиєю прихильністю як компенсацією за нещастя, що чигає зовні, – втрату прихильності й кару з боку зовнішнього авторитету. Виникає, отже, стан великого внутрішнього нещастя, напруга від почуття провини. Усі ці зв’язки такі заплутані й водночас важливі, що, попри небезпеку самоповторення, я все-таки спробую їх розглянути ще з одного боку. Часова послідовність тут мала б бути такою: спершу – відмова від потягів, яка є наслідком страху перед агресією зовнішнього авторитету, тобто страху перед утратою його прихильності, котра, власне, й запобігає агресії та покарі; згодом – поява внутрішнього авторитету й відмова від потягів, обумовлена страхом перед ним, страх перед докорами сумління. У цьому другому випадку лихі наміри прирівнюються до лихих учинків, звідси – почуття вини, потреба кари. Поки що все ніби ясно, але яким чином загострюється сумління під впливом нещастя (накинутого ззовні зречення), чому найсуворіше сумління – у найліпших і найпокірніших? Ми вже з’ясовували ці питання, а все ж залишається враження, що до кінця з’ясувати їх нам так і не вдалося. І ось у цьому контексті виникає ідея, чужа повсякденному людському мисленню, а проте вельми характерна для психоаналізу. Стверджує вона, зокрема, що на початку сумління (точніше – занепокоєність, яка згодом стає сумлінням) є й справді причиною відмови від задовольняння потягу, однак згодом залежність змінюється. Кожне зречення стає динамічним джерелом сумління, посилює його суворість і нетерпимість. Простежуючи процес виникнення сумління, приходимо, отже, до парадоксального висновку: сумління є результатом відмови від потягу, тобто накинене нам ззовні зречення творить сумління, яке згодом вимагає нових зречень. Суперечність цієї тези з загальновизнаною генезою сумління не така вже й, зрештою, велика, у певний спосіб її можна зробити ще меншою. Щоб краще собі уявити суть проблеми, звернімось до агресивного потягу, припустивши, що маємо справу з відмовою від агресії. (Ясна річ, це лише тимчасове припущення.) Відмова від потягу впливає на сумління наступним чином: кожен елемент агресії, від задовольняння якого ми відмовляємось, переймається суперего й посилює його агресивність супроти его. На перший погляд, це начебто не узгоджується з твердженням, що первісно агресивність сумління € наслідком суворості зовнішнього авторитету, а отже й нічого спільного з відмовою не має. Цю неузгодженість, однак, можна усунути, якщо первинну агресивність суперего вивести з іншого джерела. Дитина розвиває в собі неабияку агресивність супроти авторитету, який перешкоджає їй задовольняти найперші, а отже найважливіші потяги, хоч би в якій формі те перешкоджання здійснювалось. При цьому вона змушена відмовлятись і від потамування тієї мстивої агресивності. У цій нелегкій ситуації послуговується відомими механізмами: інтерналізує, тобто овнутрішнює шляхом ідентифікації той недоторканий авторитет, котрий стає таким чином суперего й опановує всю агресивність, яка залюбки спрямувалася б проти нього дитиною. Дитяче его задовольняється маловтішною роллю приниженого авторитету – скажімо, батька. Маємо справу, по суті, з досить поширеною оберненою ситуацією: «Коли б я був батьком, а ти дитиною, я б тобі показав!» Відношення суперего до его є відтворенням деформованих уявою реальних взаємин між усе ще однорідним его та зовнішнім об’єктом. Явище це – типове. Цікаво, однак, що первісна суворість, властива чи приписувана суперего, є (принаймні, значною мірою) виразом власної агресивності супроти нього. Якщо все це так, то можна зробити висновок, що сумління постало внаслідок пригнічення агресивного потягу і що надалі воно загострюється від подібних актів. Тож котрий із-поміж двох поглядів є слушним? Давніший, що обмежувався аналізом генези, чи новий, обгрунтований теорією? Як свідчать безпосередні спостереження, обидва погляди правомірні: не заперечують один одного, а в певному пункті навіть сходяться, оскільки мстива агресивність дитини співобумовлена мірою «виховавчої» агресивності, очікуваної від батька. Досвід, проте, показує, що немає прямої залежності між суворістю суперего, розвинутою в дитині, та суворістю зовнішнього ставлення до неї. Часом і при дуже м’якому вихованні дитина має дуже суворе сумління. А проте й перебільшувати цю незалежність не варто: досвід показує, що суворе 41 виховання відчутно впливає на формування дитячого суперего. Йдеться, очевидно, про те, що в цьому процесі взаємодіють як уроджені, конституціональні чинники, так і впливи середовища, реального оточення. Немає у тому нічого дивного, це нормальна етіологічна умова подібних процесів. Можна сказати також, що коли дитина реагує на перші серйозні пригнічення потягів із надмірною агресивністю (чому відповідає зростання суворості суперего), діє вона у цілковитій згоді з вимогами філогенезу, адже в первісні часи батько був справді жахливим, через що є підстави й нині приписувати йому найвищу міру агресивності. Відмінності між двома поглядами на генезу сумління робляться ще меншими, коли переходимо від розвитку особи до розвитку виду. Натомість з’являється інша, істотна відмінність між згаданими процесами. Важко відкинути припущення, що почуття вини у людей походить від комплексу Едіпа, тобто є наслідком убивства батька синами-змовниками. Погамування подібної агресивності, її пригнічення спричиняє почуття вини у дитини. Я не здивуюсь, якщо хтось у цьому місці обурено заперечить: «Але ж почуття вини буде в обох випадках – і в разі убивства теж! Щось тут сумнівно: або почуття вини не виводиться з пригніченої агресивності, або ж уся та історія про вбивство батька є дитячою казочкою і діти первісних народів не вбивали своїх батьків частіше, ніж діти сучасні. А якщо це не казка, то все в тій історії мало б бути, як і нині, а саме: людина чує вину, якщо зробила щось, чого не можна виправдати. І якраз такими сьогоднішніми повсякденними випадками й повинен займатися психоаналіз». Усе це так, отож спробуємо дати додаткові пояснення. Не відкриємо, зрештою, надто великих секретів. Те почуття вини, що виникає по здійсненні злочину, правильніше було б назвати жалем, каяттям, скрухою. Стосується воно лише одного вчинку і передбачає існування сумління, готовність відчути провину ще перед скоєнням злочину. Однак таке розуміння скрухи не прояснює нам, звідки походить сумління й почуття вини загалом. У повсякденні потреба вдоволення потягу сягає, як правило, такої сили, що врешті реалізується всупереч обмеженій протидії сумління, після чого згадана потреба слабшає й рівновага сил знову поновлюється. Психоаналіз відтак має рацію, оминаючи виникнення почуття вини зі скрухи, – хоч би як часто траплялись подібні випадки і хоч би яке велике було їх практичне значення. Якщо людське почуття вини виводиться з убивства прабатька, а у випадку Едіпа маємо справу лише зі скрухою, то що є її джерелом, – адже ні сумління, ні почуття вини, згідно з нашим припущенням до того випадку не існувало? Відповідь на це питання з'ясовує нам таємницю почуття вини й кінчає, як мені здається, з нашими клопотами. Згадана скруха є наслідком первісної амбівалентності почуттів до батька. Сини ненавиділи його, але й любили; задовольнивши ненависть через агресію, вони відчули скруху як прояв любові. Ця скруха конституювала суперего шляхом його ідентифікації з батьком, надала йому батькове право карати за вчинений проти нього акт агресії, створила обмеження проти можливих повторень подібних учинків. А що агресивні нахили щодо батька проявлялися і надалі, у нових поколіннях, почуття вини зберігалось і зміцнювалося з кожним пригніченим і транспонованим на суперего актом агресії. Цим самим, гадаю, ми остаточно з’ясовуємо роль любові у виникненні сумління, а заразом і гірку неминучість почуття вини. По суті, вирішальним тут є не вбивство батька чи утримання від такого акту – в обох випадках почуваємось винними, тому що почуття вини є наслідком амбівалентності, вічної боротьби між еросом і потягом до деструкції чи смерті. Цей конфлікт виникає щоразу, як тільки люди постають перед проблемою співіснування. Поки рід залишається єдиною формою людської спільноти, той конфлікт виявляється у комплексі Едіпа, конституює сумління, породжує перше почуття вини. У міру розширення спільноти конфлікт розвивається у формах, пов’язаних із минулим, і посилюється, – від чого й почуття вини глибшає. А що культура є проявом внутрішнього еротичного потягу, який спонукає людей поєднуватись у якнайтісніші спільноти, то й осягати свою мету культурі доводиться коштом дальшого поглиблення почуття провини. Те, що почалося з батька, кінчається в масі. Якщо культура є невідворотним процесом 42 розвитку від родини до людства, то таким самим невідворотним є й тісно пов'язаний із нею процес наростання почуття провини – як наслідок вродженого конфлікту амбівалентності, як похідна від одвічного протиборства любові й жадання смерті, – процес цей може дійти до нестерпного для особи рівня... Можемо лише скрушно зітхнути, усвідомлюючи, що є люди, яким дано майже без зусиль видобувати з виру своїх почуттів щонайглибше знання, до якого нам, тобто всім іншим, доводиться торувати дорогу через болісну непевність, навпомацки. 1930 З німецької переклала Анастасія БЕРЕЗІНСЬКА. Література: Всесвіт, № 5, 1991. – С.164-170. 3. Лев Выготский. Искусство и психоанализ. (Глава IV работы Л. С. Выготского «Психология искусства» (1925). Текст дан по изданию: Выготский Л. С. Психология искусства. – М., 1968. – С. 95-113). Уже рассмотренные нами прежде две психологические теории искусства показали с достаточной ясностью, что до тех пор, пока мы будем ограничиваться анализом процессов, происходящих в сознании, мы едва ли найдем ответ на самые основные вопросы психологии искусства. Ни у поэта, ни у читателя не сумеем мы узнать, в чем заключается сущность того переживания, которое связывает их с искусством, и, как легко заметить, самая существенная сторона искусства в том и заключается, что и процессы его создания и процессы пользования им оказываются как будто непонятными, необъяснимыми и скрытыми от сознания тех, кому приходится иметь с ними дело. Мы никогда не сумеем сказать точно, почему именно понравилось нам то или другое произведение; словами почти нельзя выразить сколько-нибудь существенных и важных сторон этого переживания, и, как отмечал еще Платон (в диалоге «Ион»), сами поэты меньше всего знают, каким способом они творят. Не надо особой психологической проницательности для того, чтобы заметить, что ближайшие причины художественного эффекта скрыты в бессознательном и что, только проникнув в эту область, мы сумеем подойти вплотную к вопросам искусства. С анализом бессознательного в искусстве произошло то же самое, что вообще с введением этого понятия в психологию. Психологи склонны были утверждать, что бессознательное, по самому смыслу этого слова, Єсть нечто, находящееся вне нашего сознания, т. е. скрытое от нас, неизвестное нам, и, следовательно, по самой природе своей оно есть нечто непознаваемое. Как только мы познаем бессознательное, оно сейчас же перестанет быть бессознательным, и мы опять имеем дело с фактами нашей обычной психики. Мы уже указывали в первой главе, что такая точка зрения ошибочна и что практика блестяще опровергла эти доводы, показав, что наука изучает не только непосредственно данное и сознаваемое, но и целый ряд таких явлений и фактов, которые могут быть изучены косвенно, посредством следов, анализа, воссоздания и при помощи материала, который не только совершенно отличен от изучаемого предмета, но часто заведомо является ложным и неверным сам по себе. Так же точно и бессознательное делается предметом изучения психолога не само по себе, но косвенным путем, путем анализа тех следов, которые оно оставляет в нашей психике. Ведь бессознательное не отделено от сознания какой-то непроходимой стеной. Процессы, начинающиеся в нем, имеют часто свое продолжение в сознании, и, наоборот, многое сознательное вытесняется нами в подсознательную сферу. Существует постоянная, ни на минуту не прекращающаяся, живая динамическая связь между обеими сферами нашего сознания. Бессознательное влияет на наши поступки, обнаруживается в нашем поведении, и по этим следам 43 и проявлениям мы научаемся распознавать бессознательное и законы, управляющие им. Вместе с этой точкой зрения отпадают прежние приемы толкования психики писателя и читателя, и за основу приходится брать только объективные и достоверные факты, анализируя которые можно получить некоторое знание о бессознательных процессах. Само собой разумеется, что такими объективными фактами, в которых бессознательное проявляется всего ярче, являются сами произведения искусства, и они-то и делаются исходной точкой для анализа бессознательного. Всякое сознательное и разумное толкование, которое дает художник или читатель тому пли иному произведению, следует рассматривать при этом как позднейшую рационализацию, т. е. как некоторый самообман, как некоторое оправдание перед собственным разумом, как объяснение, придуманное постфактум. Таким образом, вся история толкований и критики как история того явного смысла, который читатель последовательно вносил в какое-нибудь художественное произведение, есть не что иное, как история рационализации, которая всякий раз менялась по-своему, и те системы искусства, которые сумели объяснить, почему менялось понимание художественного произведения от эпохи к эпохе, в сущности, очень мало внесли в психологию искусства как таковую, потому что им удалось объяснить, почему менялась рационализация художественных переживаний, но как менялись самые переживания – этого такие системы открыть не в силах. Совершенно правильно говорят Ранк и Сакс, что основные эстетические вопросы остаются неразрешимыми, «пока мы при нашем анализе ограничиваемся только процессами, разыгрывающимися в сфере нашего сознания... Наслаждение художественным творчеством достигает своего кульминационного пункта, когда мы почти задыхаемся от напряжения, когда волосы встают дыбом от страха, когда непроизвольно льются слезы сострадания и сочувствия. Все это ощущения, которых мы избегаем в жизни и странным образом ищем в искусстве. Действие этих аффектов, очевидно, совсем иное, когда они исходят из произведений искусства, и это эстетическое изменение действия аффекта от мучительного к приносящему наслаждение является проблемой, решение которой может быть дано только при помощи анализа бессознательной душевной жизни». Психоанализ и является такой психологической системой, которая предметом своего изучения избрала бессознательную жизнь и ее проявления. Совершенно понятно, что для психоанализа было особенно соблазнительно попробовать применить свой метод к толкованию вопросов искусства. До сих пор психоанализ имел дело с двумя главными фактами проявления бессознательного – сновидением и неврозом. И первую и вторую форму он понимал и толковал как известный компромисс или конфликт между бессознательным и сознательным. Естественно было попытаться взглянуть и на искусство в свете этих двух основных форм проявления бессознательного. Психоаналитики с этого и начали, утверждая, что искусство занимает среднее место между сновидением и неврозом и что в основе его лежит конфликт, который уже «перезрел для сновидения, но еще не сделался патогенным» В нем так же, как и в этих двух формах, проявляется бессознательное, но только несколько иным способом, хотя оно совершенно той же природы. «Таким образом, художник в психологическом отношении стоит между сновидцем и невротиком; психологический процесс в них по существу одинаков, он только различен по степени...» Легче всего представить себе психоаналитическое объяснение искусства, если последовательно проследить объяснение творчества поэта и восприятие читателя при помощи этой теории. Фрейд указывает на две формы проявления бессознательного и изменения действительности, которые подходят к искусству ближе, чем сон и невроз, и называет детскую игру и фантазии наяву. «Несправедливо думать, – говорит он, – что ребенок смотрит на созданный им мир несерьезно; наоборот, он относится к игре очень серьезно, вносит в нее много одушевления. Противоположение игре не серьезность, но – действительность. Ребенок прекрасно отличает, несмотря на все увлечения, созданный им мир от действительного и охотно ищет опоры для воображаемых объектов и отношений в осязаемых и видимых предметах действительной жизни... Поэт делает то же, что и играющее дитя, он создает мир, к которому относится очень серьезно, т. е. вносит много увлечения, в то же время резко отделяя его от дейсвительности». 44 Когда ребенок перестает играть, он не может, однако, отказаться от того наслаждения, которое ему прежде доставляла игра. Он не может найти в действительности источник для этого удовольствия, и тогда игру ему начинают заменять сны наяву или те фантазии, которым предается большинство людей в мечтах, воображая осуществление своих часто любимых эротических или каких-либо иных влечений. «...Вместо игры он теперь фантазирует. Он строит воздушные замки, творит то, что называют «снами наяву». Уже фантазирование наяву обладает двумя существенными моментами, которые отличают его от игры и приближают к искусству. Эти два момента следующие: во-первых, в фантазиях могут проявляться в качестве их основного материала и мучительные переживания, которые, тем не менее, доставляют удовольствие, случай как будто напоминает изменение аффекта в искусстве. Ранк говорит, что в них даются «ситуации, которые в действительности были бы чрезвычайно мучительны; они рисуются фантазией, тем не менее, с тем же наслаждением. Наиболее частый тип таких фантазий – собственная смерть, затем другие страдания и несчастья. Бедность, болезнь, тюрьма и позор представлены далеко не редко; не менее редко в таких снах выполнение позорного преступления и его обнаружение». Правда, Фрейд в анализе детской игры показал, что и в играх ребенок претворяет часто мучительные переживания, например когда он играет в доктора, причиняющего ему боль, и повторяет те же самые операции в игре, которые в жизни причиняли ему только слезы и горе. Однако в снах наяву мы имеем те же явления в неизмеримо более яркой и резкой форме, чем в детской игре. Другое существенное отличие от игры Фрейд замечает в том, что ребенок никогда не стыдится своей игры и не скрывает своих игр от взрослых, «а взрослый стыдится своих фантазий и прячет их от других, он скрывает их как свои сокровеннейшие тайны, и охотнее признается в своих проступках, чем откроет свои фантазии. Возможно, что он вследствие этого считает себя единственным человеком, который имеет подобные фантазии, и не имеет представления о широком распространении подобного же творчества среди других». Наконец, третье и самое существенное для понимания искусства в этих фантазиях заключается в том источнике, из которого они берутся. Нужно сказать, что фантазирует отнюдь не счастливый, а только неудовлетворенный. Неудовлетворенные желания – побудительные стимулы фантазии. Каждая фантазия – это осуществление желания, корректив к неудовлетворяющей действительности. Поэтому Фрейд полагает, что в основе поэтического творчества, так же как в основе сна и фантазий, лежат неудовлетворенные желания, часто такие, «которых мы стыдимся, которые мы должны скрывать от самих себя и которые поэтому вытесняются в область бессознательного». Механизм действия искусства в этом отношении совершенно напоминает механизм действия фантазии. Так, фантазия возбуждается обычно сильным, настоящим переживанием, которое «будит в писателе старые воспоминания, большей частью относящиеся к детскому переживанию, исходному пункту желания, которое находит осуществление в произведении... Творчество, как «сон наяву», является продолжением и заменой старой детской игры». Таким образом, художественное произведение для самого поэта являемся прямым средством удовлетворить неудовлетворенные и неосуществленные желания, которые в действительной жизни не получили осуществления. Как это совершается, можно понять при помощи теории эффектов, развитой в психоанализе. С точки зрения этой теории аффекты «могут остаться бессознательными, в известных случаях должны остаться бессознательными, причем отнюдь не теряется действие этих аффектов, неизменно входящее в сознание. Попадающее таким путем в сознание наслаждение или же чувство ему обратное скрепляется с другими аффектами или же с относящимися к ним представлениями... Между обоими должна существовать тесная ассоциативная связь, и по пути, проложенному этой ассоциацией, перемещается наслаждение и соединенная с ним энергия. Если эта теория правильна, то должно быть возможно и ее применение на нашей проблеме. Вопрос разрешался бы приблизительно так: художественное произведение вызывает наряду с сознательными аффектами также и бессознательные, гораздо большей интенсивности и часто противоположно окрашенные. Представления, с помощью которых это совершается, должны быть так избраны, чтобы у них наряду с сознательными 45 ассоциациями были бы достаточные ассоциации с типичными бессознательными комплексами аффектов. Способность выполнить эту сложную задачу художественное произведение приобретает в силу того, что при своем возникновении оно играло в душевной жизни художника ту же роль, что для слушателя при репродукции, т. е. давало возможность отвода и фантастического удовлетворения общих им бессознательных желаний». На этом основании целый ряд исследователей развивает теорию поэтического творчества, в которой сопоставляет художника с невротиком, хотя вслед за Штеккелем называет смехотворным построение Ломброзо и проводимое им сближение между гением и сумасшедшим. Для этих авторов поэт совершенно нормален. Он невротик и «осуществляет психоанализ на своих поэтических образах. Он чужие образы трактует как зеркало своей души. Он предоставляет своим диким наклонностям вести довлеющую жизнь в построенных образах фантазии». Вслед за Гейне они склонны думать, что поэзия есть болезнь человека, спор идет только о том, к какому типу душевной болезни следует приравнять поэта. В то время как Ковач приравнивает поэта к параноику, который склонен проецировать свое «Я» вовне, а читателя уподобляет истерику, который склонен субъективировать чужие переживания, Ранк склонен в самом художнике видеть не параноика, а истерика. Во всяком случае, все согласны с тем, что поэт в творчестве высвобождает свои бессознательные влечения при помощи механизма переноса или замещения, соединяя прежние аффекты с новыми представлениями. Поэтому, как говорит один из героев Шекспира, поэт выплакивает собственные грехи в других людях, и знаменитый вопрос Гамлета: что ему Гекуба или он ей, что он так плачет о ней, – Ранк разъясняет в том смысле, что с представлением Гекубы у актера соединяются вытесненные им массы аффекта, и в слезах, оплакивающих как будто несчастье Гекубы, актер на самом деле изживает свое собственное горе. Мы знаем знаменитое признание Гоголя, который утверждал, что он избавлялся от собственных недостатков и дурных влечений, наделяя ими героев и отщепляя таким образом в своих комических персонажах собственные пороки. Такие же признания засвидетельствованы целым рядом других художников, и Ранк отмечает, отчасти совершенно справедливо, что, «если Шекспир видел до основания душу мудреца и глупца, святого и преступника, он не только бессознательно был всем этим — таков, быть может, всякий, – но он обладал еще отсутствующим у всех нас остальных дарованием видеть свое собственное бессознательное и из своей фантазии создавать, повидимому, самостоятельные образы». Совершенно серьезно психоаналитики утверждают, как говорит Мюллер-Фрейенфельс, что Шекспир и Достоевский потому не сделались преступниками, что изображали убийц в своих произведениях и таким образом изживали свои преступные наклонности. При этом искусство оказывается чем-то вроде терапевтического лечения для художника и для зрителя – средством уладить конфликт с бессознательным, не впадая в невроз. Но так как психоаналитики склонны все влечения сводить к одному и Ранк даже берет эпиграфом к своему исследованию слова поэта Геббеля: «Удивительно, до какой степени можно свести все человеческие влечения к одному», – у них по необходимости вся поэзия сводится к сексуальным переживаниям как лежащим в основе всякого поэтического творчества и восприятия; именно сексуальные влечения, по учению психоанализа, составляли основной резервуар бессознательного, и тот перевод фондов психической энергии, который совершается в искусстве, есть по преимуществу сублимация половой энергии, т. е. отклонение ее от непосредственно сексуальных целей и превращение в творчество. В основе искусства лежат всегда бессознательные и вытесненные, т. е. несоглашающиеся с нашими моральными, культурными и т. п. требованиями, влечения и желания. Именно потому запретные желания при помощи искусства достигают своего удовлетворения в наслаждении художественной формой. Но именно при определении художественной формы сказывается самая слабая сторона рассматриваемой нами теории – как она понимает форму. На этот вопрос психоаналитики никак не дают исчерпывающего ответа, а те попытки решения, которые они делают, явно указывают на недостаточность их отправных принципов. Подобно тому как во сне пробуждаются такие желания, которых мы стыдимся, так же, говорят они, и в искусстве находят свое выражение только такие желания, которые не могут быть удовлетворены прямым путем. Отсюда понятно, что 46 искусство всегда имеет дело с преступным, стыдным, отвергаемым. И подобно тому, как во сне подавленные желания проявляются в сильно искаженном виде, так же точно в художественном произведении они проявляются замаскированные формой. «После того как научным изысканиям, – говорит Фрейд, – удалось установить искажение снов, нетрудно увидеть, что сны представляют такое же осуществление желаний, как и «сны наяву», всем нам хорошо знакомые фантазии». Так же точно и художник, для того чтобы дать удовлетворение своим вытесненным желаниям, должен облечь их в художественную форму, которая с точки зрения психоанализа имеет два основных значения. Во-первых, эта форма должна давать неглубокое и поверхностное, как бы самодовлеющее удовольствие чисто чувственного порядка и служить приманкой, обещанной премией или, правильнее сказать, предварительным наслаждением, заманивающим читателей в трудное и тяжелое дело отреагирования бессознательного. Другое ее назначение состоит в том, чтобы создать искусственную маскировку, компромисс, позволяющий и обнаружиться запретным желаниям, и, тем не менее, обмануть вытесняющую цензуру сознания. С этой точки зрения форма исполняет ту же самую функцию, что искажение в сновидениях. Ранк прямо говорит, что эстетическое удовольствие равно у художника, как и воспринимающего, есть только Vorlust, которое скрывает истинный источник удовольствия, чем обеспечивает и усиливает его основной эффект. Форма как бы заманивает читателя и зрителя и обманывает его, так как он полагает, что все дело в ней, и обманутый этой формой читатель получает возможность изжить свои вытесненные влечения. Таким образом, психоаналитики различают два момента удовольствия в художественном произведении: один момент – предварительного наслаждения и другой – настоящего. К этому предварительному наслаждению аналитики и сводят роль художественной формы. Следует внимательно разобраться в том, насколько исчерпывающе и согласно с фактами эта теория трактует психологию художественной формы. Сам Фрейд спрашивает: «Как это удается писателю? – это его сокровеннейшая тайна; в технике преодоления того, что нас отталкивает... лежит истинная poetica. Мы можем предположить двух родов средства: писатель смягчает характер эгоистических «снов наяву» изменениями и затушевываниями и подкупает нас чисто формальными, т. е. эстетическими, наслаждениями, которые он дает при изображении своих фантазий... Я того мнения, что всякое эстетическое наслаждение, данное нам писателем, носит характер этого «преддверия наслаждения» и что настоящее наслаждение от поэтического произведения объясняется освобождением от напряжения душевных сил». Таким образом, и Фрейд спотыкается на том же самом месте о пресловутое художественное наслаждение, и как он разъясняет в своих последних работах, «хотя искусство, как трагедия, возбуждает в нас целый ряд мучительных переживаний, тем не менее конечное его действие подчинено принципу удовольствия так же точно, как и детская игра». Однако при анализе этого удовольствия теория впадает в невероятный эклектизм. Помимо двух уже указанных нами источников удовольствия многие авторы называют еще целый ряд других. Так, Ранк и Сакс указывают на экономию аффекта, которому художник не дает моментально бесполезно разгореться, но заставляет медленно и закономерно повышаться. И эта экономия аффекта оказывается источником наслаждения. Другим источником оказывается экономия мысли, которая, сберегая энергию при восприятии художественного произведения, опять-таки источает удовольствие. И наконец, чисто формальный источник чувственного удовольствия эти авторы видят в рифме, в ритме, в игре словами, которую сводят к детской радости. Но и это удовольствие, оказывается, опять дробится на целый ряд отдельных форм: так, например, удовольствие от ритма объясняется и тем, что ритм издавна служит средством для облегчения работы, и тем, что важнейшие формы сексуального действия и сам половой акт ритмичны и что «таким путем определенная деятельность при помощи ритма приобретает известное сходство с сексуальными процессами, сексуализируется». Все эти источники переплетаются в самой пестрой и ничем не обоснованной связи и в целом оказываются совершенно бессильными объяснить значение и действие художественной 47 формы. Она объясняется только как фасад, за которым скрыто действительное наслаждение, а действие этого наслаждения основывается в конечном счете скорее на содержании произведения, чем на его форме. «Неоспоримой истиной считается, что вопрос: «Получит ли Ганс свою Грету?» – является главной темой поэзии, бесконечно повторяющейся в бесконечных вариантах и никогда не утомляющей ни поэта, ни его публики», и различие между отдельными родами искусства в конечном счете сводится психоанализом к различию форм детской сексуальности. Так, изобразительное искусство объясняется и понимается при этом как сублимирование инстинкта сексуального разглядывания, а пейзаж возникает из вытеснения этого желания. Из психоаналитических работ мы знаем, что «у художников стремление к изображению человеческого тела заменяет интерес к материнскому телу и что интенсивное вытеснение этого желания инцестуозного переносит интерес художника с человеческого тела на природу. У писателя, не интересующегося природой и ее красотами, мы находим сильное вытеснение страсти к разглядыванию». Другие роды и виды искусства объясняются приблизительно так же, совершенно аналогично с другими формами детской сексуальности, причем общей основой всякого искусства является детское сексуальное желание, известное под именем комплекса Эдипа, который является «психологическим базисом искусства. Особенное значение в этом отношении имеет комплекс Эдипа, из сублимированной инстинктивной силы которого почерпнуты образцовые произведения всех времен и народов». Сексуальное лежит в основе искусства и определяет собой и судьбу художника, и характер его творчества. Совершенно непонятным при этом истолковании делается действие художественной формы; она остается каким-то придатком, несущественным и не очень важным, без которого, в сущности говоря, можно было бы и обойтись. Наслаждение составляет только одновременное соединение двух противоположных сознаний: мы видим и переживаем трагедию, но сейчас же соображаем, что это происходит не в самом деле, что это только кажется. И в таком переходе от одного сознания к другому и заключается основной источник наслаждения. Спрашивается, почему всякий другой, не художественный рассказ не может исполнить той же самой роли? Ведь и судебная хроника, и уголовный роман, и просто сплетня, и длинные порнографические разговоры служат постоянно таким отводом для неудовлетворенных и неисполненных желаний. Недаром Фрейд, когда говорит о сходстве романов с фантазиями, должен взять за образец откровенно плохие романы, сочинители которых угождают массовому и довольно невзыскательному вкусу, давая пищу не столько для эстетических эмоций, сколько для открытого изживания скрытых стремлений. И становится совершенно непонятным, почему «поэзия пускает в ход... всевозможные ласки, изменение мотивов, превращение в противоположность, ослабление связи, раздробление одного образа в многие, удвоение процессов, опоэтизирование материала, в особенности же символы». Гораздо естественнее и проще было бы обойтись без всей этой сложной деятельности формы и в откровенном и простом виде отвлечь и изжить соответствующее желание. При таком понимании чрезвычайно снижается социальная роль искусства, и оно начинает казаться нам только каким-то противоядием, которое имеет своей задачей спасать человечество от пороков, но не имеет никаких положительных задач для нашей психики. Ранк указывает, что художники «принадлежат к вождям человечества в борьбе за усмирение и облагораживание враждебных культуре инстинктов», что они «освобождают людей от вреда, оставляя им в то же время наслаждение». Ранк совершенно прямо заявляет: «Надо прямо сказать, что по крайней мере в нашей культуре искусство в целом слишком переоценивается». Актер – это только врач, и искусство только спасает от болезни. Но гораздо существеннее то непонимание социальной психологии искусства, которое обнаруживается при таком подходе. Действие художественного произведения и поэтического творчества выводится всецело и без остатка из самых древних инстинктов, остающихся неизменными на всем протяжении культуры, и действие искусства ограничивается всецело узкой сферой индивидуального сознания. Нечего и говорить, что это роковым образом противоречит всем самым простейшим фактам 48 действительного положения искусства и его действительной роли. Достаточно указать на то, что и самые вопросы вытеснения – что именно вытесняется, как вытесняется обусловливаются всякий раз той социальной обстановкой, в которой приходится жить и поэту и читателю. И поэтому, если взглянуть на искусство с точки зрения психоанализа, сделается совершенно непонятным историческое развитие искусства, изменение его социальных функций, потому что с этой точки зрения искусство всегда и постоянно, от своего начала и до наших дней, служило выражением самых древних и консервативных инстинктов. Если искусство отличается чем-либо от сна и от невроза, то прежде всего тем, что его продукты социальны в отличие от сновидений и от симптомов болезни, и это совершенно верно отмечает Ранк. Но он оказывается совершенно бессильным сделать какие-либо выводы из этого факта и оценить его по достоинству, указать и объяснить, что именно делает искусство социально ценным и каким образом через эту социальную ценность искусства социальное получает власть над нашим бессознательным. Поэт просто оказывается истериком, который как бы вбирает в себя переживания множества совершенно посторонних людей, и оказывается совершенно неспособным выйти из узкого круга, который создан его собственной инфантильностью. Почему все действующие лица в драме непременно должны рассматриваться как воплощение отдельных психологических черт самого художника? Если это понятно для невроза и для сна, то это делается совершенно непонятным для такого социального симптома бессознательного, каким является искусство. Психоаналитики сами не могут справиться с тем огромным выводом, который получился из их построения. То, что они нашли, в сущности, имеет только один смысл, чрезвычайно важный для социальной психологии. Они утверждают, что искусство по своему существу есть превращение нашего бессознательного в некие социальные формы, т. е. имеющие какой-то общественный смысл и назначение формы поведения. Но описать и объяснить эти формы в плане социальной психологии психоаналитики отказались. И чрезвычайно легко показать, почему это случилось именно так: два основных греха заключает в себе психоаналитическая теория с точки зрения социальной психологии. Первым является ее желание свести во что бы то ни стало все решительно проявления человеческой психики к одному сексуальному влечению. Этот пансексуализм кажется совершенно необоснованным в особенности тогда, когда он применяется к искусству. Может быть, это было бы и верно для человека, рассматриваемого вне общества, когда он замкнут в узком круге своих собственных инстинктов. Но как можно согласиться с тем, что у общественного человека, участвующего в очень сложных формах социальной деятельности, не могут возникать и существовать всевозможного рода другие влечения и стремления, которые не менее чем сексуальные, могут определять его поведение и даже господствовать над ним? Чрезмерное преувеличение роли полового чувства кажется особенно очевидным, как только мы от масштаба индивидуальной психологии переходим к психологии социальной. Но даже для личной психики кажутся чрезмерной натяжкой те допущения, которые делает психоанализ. «По утверждению некоторых психоаналитиков, там, где художник рисует прекрасный портрет своей матери или в поэтическом образе воплощает любовь к матери, скрыто исполненное страха инцестуозное желание (комплекс Эдипа). Когда скульптор создает фигуры мальчиков или поэт воспевает горячую юношескую дружбу, психоаналитик сейчас же готов усмотреть в этом гомосексуализм в самых крайних формах... При чтении таких аналитиков создастся впечатление, будто вся душевная жизнь состоит только из дочеловеческих страшных влечений, как будто все представления, волевые движения, сознание только мертвые куклы, которые тянут за ниточки ужасные инстинкты». И в самом деле, психоаналитики, указывая на чрезмерно важную роль бессознательного, сводят совершенно на нет всякое сознание, которое, по выражению Маркса, составляет единственное отличие человека от животного: «Человек отличается от барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт или же что его инстинкт осознан». Если прежние психологи чрезмерно преувеличивали роль сознания, утверждая его всемогущество, то психоаналитики перегибают палку в другой конец, сводя роль сознания к нулю и утверждая за ним только способность служить слепым орудием в руках бессознательного. Между тем элементарнейшие исследования показывают, что и в сознании могут происходить совершенно такие же процессы. Так, 49 экспериментальные исследования Лазурского о влиянии различного чтения на ход ассоциаций показали, что «уже тотчас после прочтения рассуждения наступает в уме распадение прочитанного отрывка, комбинации различных его частей с находившимся ранее в уме запасом мыслей, понятий и представлений». Здесь мы имеем совершенно аналогичный процесс распадения и ассоциативного комбинирования прочитанного с прежним душевным запасом. Неучет сознательных моментов в переживании искусства стирает совершенно грань между искусством как осмысленной социальной деятельностью и бессмысленным образованием болезненных симптомов у невротиков или беспорядочным нагромождением образов во сне. Легче и проще всего обнаружить все эти коренные недостатки рассматриваемой теории на тех практических применениях психоаналитического метода, которые сделаны исследователями в иностранной и русской литературе. Здесь сейчас же открывается необычайная бедность этого метода и его полная несостоятельность с точки зрения социальной психологии. В исследовании о Леонардо да Винчи Фрейд пытается вывести всю его судьбу и все его творчество из его основных детских переживаний, относящихся к самым ранним годам его жизни. Он говорит, что ему хотелось показать, «каким образом художественная деятельность проистекает из первоначальных душевных влечений». И когда он заканчивает это исследование, он говорит, что боится услышать приговор, что он просто написал психологический роман и сам должен сознаться, что он не переоценивает достоверности своих выводов. Для читателя достоверность эта положительно приближается к нулю, поскольку от начала и до самого конца ему приходится иметь дело с догадками, с толкованиями, с сопоставлениями фактов творчества и фактов биографии, между которыми прямой связи установить нельзя. Создается такое впечатление, что психоанализ располагает каким-то каталогом сексуальных символов, что символы эти всегда – во все века и для всех народов – остаются одни и те же и что стоит на манер снотолкователя найти соответствующие символы в творчестве того или другого художника, чтобы по ним восстановить Эдипов комплекс, страсть к разглядыванию и т. п. Получается дальше впечатление, что каждый человек прикован к своему Эдипову комплексу и что в самых сложных и высоких формах нашей деятельности мы вынуждены только вновь и вновь переживать свою инфантильность, и, таким образом, все самое высокое творчество оказывается фиксированным на далеком прошлом. Человек как бы раб своего раннего детства, он всю жизнь разрешает и изживает те конфликты, которые создались в первые месяцы его жизни. Когда Фрейд утверждает, что у Леонардо «ключ ко всей разнообразной деятельности духа и неудачливости таился в детской фантазии о коршуне» и что эта фантазия, в свою очередь, раскрывает в переводе на эротический язык символику полового акта, – против такого упрощенного толкования восстает всякий исследователь, который видит, как мало в творчестве Леонардо эта история с коршуном способна раскрыть. Правда, и Фрейд должен признать «известную долю произвольности, которую психоанализом нельзя раскрыть». Но если исключить эту известную долю, вся остальная жизнь и все остальное творчество окажутся всецело закабаленными детской половой жизнью. С исчерпывающей ясностью этот недостаток обнаруживается в исследовании о Достоевском Нейфельда: «Как жизнь, так и творчество Достоевского, – говорит он, – загадочны... Но волшебный ключ психоанализа раскрывает эти загадки... Точка зрения психоанализа разъясняет все противоречия и загадки: вечный Эдип жил в этом человеке и создавал эти произведения». Поистине гениально! Не волшебный ключ, а какая-то психоаналитическая отмычка, которой можно раскрыть все решительно тайны и загадки творчества. В Достоевском жил и творил вечный Эдип, но ведь основным законом психоанализа считается утверждение, что Эдип живет в каждом решительно человеке. Значит ли это, что, назвав Эдипа, мы разрешили загадку Достоевского? Почему должны мы допустить, что конфликты детской сексуальности, столкновения ребенка с отцом оказались более влиятельными в жизни Достоевского, чем все позднейшие травмы и переживания? Почему не могли мы допустить, что такие, например, переживания, как ожидание казни, как каторга и т. п., не могли служить источником новых и сложных мучительных переживаний? Если мы даже допустим вместе с Нейфельдом, «что писатель ничего иного и не может изобразить, как свои собственные бессознательные конфликты», то все же мы никак не поймем, почему эти бессознательные конфликты могут образоваться только из конфликтов раннего детства. «Рассматривая жизнь этого 50 большого писателя в свете психоанализа, мы видим, что его характер, сложившийся под влиянием его отношений к родителям, его жизнь и судьба зависели и целиком определялись его комплексом Эдипа. Извращенность и невроз, болезнь и творческая сила – качество и особенность его характера, все можем мы свести на родительский комплекс и только на него». Нельзя представить себе более яркого опровержения защищаемой Нейфельдом теории, чем сказанное только что. Вся жизнь оказывается нулем по сравнению с ранним детством, и из комплекса Эдипа исследователь берется вывести все решительно романы Достоевского. Но беда в том, что при этом один писатель окажется роковым образом похожим на другого, потому что тот же Фрейд учит, что Эдипов комплекс есть всеобщее достояние. Только совершенно отвернувшись от социальной психологии и закрыв глаза на действительность, можно решиться утверждать, что писатель в творчестве преследует исключительно бессознательные конфликты, что всякие сознательные социальные задания не выполняются автором в его творчестве вовсе. Удивительный пробел окажется тогда в психологической теории, когда она захочет подойти с этим методом и с этими взглядами ко всей области неизобразительного искусства. Как будет она толковать музыку, декоративную живопись, архитектуру, все то, где простого и прямого эротического перевода с языка формы на язык сексуальности сделать нельзя? Эта громадная зияющая пустота самым наглядным образом отвергает психоаналитический подход к искусству и заставляет думать, что настоящая психологическая теория сумеет объединить те общие элементы, которые, несомненно, существуют у поэзии и музыки, и что этими элементами окажутся элементы художественной формы, которую психоанализ считал только масками и вспомогательными средствами искусства. Но нигде чудовищные натяжки психоанализа не бросаются в глаза так, как в русских работах по искусству. Когда профессор Ермаков поясняет, что «Домик в Коломне» надо понимать как «домик колом мне», или что александрийский стих означает Александра, а Мавруша означает самого Пушкина, который происходит от мавра, – то во всем этом ничего, кроме нелепой натяжки и ничего не объясняющей претензии, при всем желании увидеть нельзя. Вот для примера сопоставление, делаемое автором между пророком и домиком. «Как труп в пустыне лежал пророк; вдова, увидев бреющуюся Маврушу, – «ах, ах» и шлепнулась. Упал измученный пророк – и нет серафима, упала вдова – и простыл след Мавруши... Бога глас взывает к пророку, заставляя его действовать: «Глаголом жги сердца людей!» Глас вдовы – «ах, ах» – вызывает постыдное бегство Мавруши. После своего преображения пророк обходит моря и земли и идет к людям; после того как открылся обман, Мавруше не остается ничего другого, как бежать за тридевять земель от людей». Совершенная произвольность и очевидная бесплодность таких сопоставлений, конечно, способна только подорвать доверие к тому методу, которым пользуется профессор Ермаков. И когда он поясняет, что «Иван Никифорович близок к природе: – как велит природа – он Довгочхун, т. е. долго чихает, Иван Иванович искусственен, он Перерепенко, он, может быть, вырос сверх репы», – он окончательно подрывает доверие к тому методу, который не может избавить нас от совершенно абсурдного истолкования двух фамилий, одной – в смысле близости к природе, другой – в смысле искусственности. Так изо всего можно вывести решительно все. Классическим образцом таких толкований останется навсегда толкование пушкинского стиха Передоновым в классе на уроке словесности: «С своей волчицею голодной выходит на дорогу волк...» Постойте, это надо хорошенько понять. Тут аллегория скрывается. Волки попарно ходят. Волк с волчицею голодной: волк сытый, а она голодная. Жена всегда после мужа должна есть, жена во всем должна подчиняться мужу». Психологических оснований для такого толкования есть ровно столько же, сколько и у толкований Ермакова. Но небрежность к анализу формы составляет почти всеобщий недостаток всех психоаналитических исследований, и мы знаем только одно исследование, близкое к совершенству в этом отношении: это исследование – «Остроумие» Фрейда, которое тоже исходит из сближения остроты со сновидением. Это исследование, к сожалению, стоит только на грани психологии искусства, потому что сами по себе комический Юмор и остроумие, в сущности говоря, принадлежат скорей к общей психологии, чем к специальной психологии искусства. Однако произведение это может считаться классическим образцом всякого аналитического исследования. Фрейд исходит из чрезвычайно тщательного 51 анализа техники остроумия и уже от этой техники, т. е. от формы, восходит к соответствующей этой остроте безличной психологии, при этом он отмечает, что при всем сходстве острота для психолога коренным образом отличается от сновидения. «Важнейшее отличие заключается в их социальном соотношении. Сновидение является совершенно асоциальным душевным продуктом; оно не может ничего сказать другому человеку... Острота является, наоборот, самым социальным из всех душевных механизмов, направленных на получение удовольствия». Этот тонкий точный анализ позволяет Фрейду не валить в одну кучу все решительно произведения искусства, но даже для таких трех близко стоящих форм, как остроумие, комизм и юмор, указать три совершенно разных источника удовольствия. Единственной погрешностью самого Фрейда является попытка толковать сновидения вымышленные, которые видят герои литературного произведения как действительные. В этом сказывается тот же наивный подход к произведению искусства, который обнаруживает исследователь, когда по «Скупому рыцарю» хочет изучить действительную скупость. Так, практическое применение психоаналитического метода ждет еще своего осуществления, и мы можем только сказать, что оно должно реализовать на деле и в практике те громадные теоретические ценности, которые заложены в самой теории. Эти ценности в общем сводятся к одному: к привлечению бессознательного, к расширению сферы исследования, к указанию на то, как бессознательное в искусстве становится социальным. Нам придется еще иметь дело с положительными сторонами психоанализа при попытке наметить систему воззрений, которые должны лечь в основу психологии искусства. Однако практическое применение сможет принести какую-либо реальную пользу только в том случае, если оно откажется от некоторых основных и первородных грехов самой теории, если наряду с бессознательным оно станет учитывать и сознание не как чисто пассивный, но и как самостоятельно активный фактор, если оно сумеет разъяснить действие художественной формы, разглядевши в ней не только фасад, но и важнейший механизм искусства; если, наконец, отказавшись от пансексуализма и инфантильности, оно сможет внести в круг своего исследования всю человеческую жизнь, а не только ее первичные и схематические конфликты. И наконец, последнее: если оно сможет дать правильное, социально-психологическое истолкование и символике искусства, и его историческому развитию и поймет, что искусство никогда не может быть объяснено до конца из малого круга личной жизни, но непременно требует объяснения из большого круга жизни социальной. Искусство как бессознательное есть только проблема; искусство как социальное разрешение бессознательного – вот ее наиболее вероятный ответ. Література: Классический психоанализ и художественная литература / Сост. и общая ред. В.М. Лейбина. – СПб.: Питер, 2002. – 445 с. (С.349-368) – (Серия «Хрестоматия по психологи»). 4. Пол Клайн Фрейд, Зигмунд (Freud, Sigmund) Родился: 1856, Фрайбер, Моравия; скончался: 1939, Лондон, Англия. Интересы: психоанализ, терапия. Образование: магистр, Венский университет, 1881. Профессиональная деятельность: доцент Венского университета, 1885; профессор неврологии Венского университета, 1902-38; почетный доктор права университета Кларка, 1909; иностранный член Королевского Общества; основатель Венского психоаналитического общества; редактор International Journal of Psychoanalysis, Imago. Основные публикации. 1896 The Aetiology of Hysteria, 3, 187-221. 1900 The Interpretation of Dreams. 1901 The Psychotherapy of Everyday Life. 1905 Three Essays on Sexuality, 7, 135-143. 52 1909 Analysis of a phobia in a 5 year old boy, IO, 3-149. 1911 Psychoanalytic notes on an autobiographical account of a case of paranoia (Dementia Paranoides). 1913 Totem and Taboo. 1923 The Ego and the Id, 3-66. 1925 Some physical consequences of the anatomical distinction between the sexes, 19, 243-258. 1927 The future of an illusion, 21, 3-56. 1931 Female sexuality, 21,221-43. 1933 Femininity, 22, 112-135. 1933 New Introductory Lectures on Psychoanalysis. 1939 Moses and Monotheism. 1966 The Standard Edition of the Complete Psychological Works of SigmundFreud. Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis. Рекомендуемая литература. Grunbaum A. (1984) The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique. University of California Press. KlineP. (1981) Fact and Fantasy in Freudian Theory. Routledge. Зигмунд Фрейд получил образование по специальности врача в Вене в 1880-х. Он публиковал статьи в области неврологии и афазии, но не имел возможности получить академическую должность из-за господствующего антисемитизма. В результате он занялся психиатрией, работал с Шарко в Париже и размышлял, сначала вместе с доктором Брейером, над идеей психоанализа. Начиная с 1890 и до своей смерти в Англии в 1939, Фрейд играл основную роль в развитии идей психоанализа и его институтов, хотя по мере развития этого направления сюда внесли свой немалый вклад и другие ученые. Следует иметь в виду, что психоанализ – это и теория, и терапевтический метод, основанный на ней. В этой статье я коснусь главным образом теории. Когда Фрейд впервые представил результаты своего психоаналитического метода – лечения беседой, в ходе которого пациентам, лежащим на знаменитой кушетке, предлагалось излагать свободные ассоциации аналитику, его встретили насмешками, скептицизмом и враждебностью. Представление о детской сексуальности, о том, что сексуальные влечения являются важной побудительной силой человеческого поведения, Эдипов комплекс и тот факт, что людьми управляет не разум, а бессознательные влечения, – все это оскорбляло европейский викторианский «дух времени». Эту обиду Фрейд интерпретировал как сопротивление мучительной истинности этих идей. Фрейд объявил, что он открыл эти истины при помощи своего психоаналитического метода, опирающегося принципы свободных ассоциаций и анализ сновидений. Все это составило фундамент его теории и в настоящее время весьма критически оценивается наукой. В 20-е и 30-е психоаналитическую терапию стали рассматривать как мощное средство для лечения психических расстройств, и постепенно идеи Фрейда нашли признание, особенно со стороны образованной части общества. Слава Фрейда была так велика, что нацисты не решились ликвидировать его практику и разрешили ему эмигрировать в Англию после того, как он порекомендовал им сделать это, – ирония, конечно, но, к счастью, она спасла его. Фрейд был принят в Королевское общество и к концу жизни считался одним из величайших мыслителей своего времени и возможно, стоял в одном ряду с Дарвином и Эйнштейном. Психоаналитическая теория охватывает все аспекты человеческого разума и пытается описать буквально все. Это притягательно, особенно для тех, кто не имеет научной подготовки, и тех, кто жаждет объяснить всю сложность человеческого поведения и опыта. Но это является также и слабым местом психоанализа с точки зрения критериев научности Поппера. Она не может предсказывать, а дает только post hoc объяснения. По причине этого дефекта психоанализ был изгнан научной психологией в царство теорий, имеющих только исторический интерес. Айзенк был одним из наиболее суровых его критиков как за псевдонаучную методологию, так и за неэффективность психоаналитической терапии. 53 Хотя споры по поводу теории и терапии Фрейда не утихают до сих пор, в Соединеных Штатах и во Франции психоаналитическая терапия продолжает практиковаться, хотя и в современном облике. Это происходит потому, что, несмотря на упомянутые проблемы, идеи психоанализа согласуются с человеческим опытом и объясняют реальный мир – в отличие от современных психологических теорий, ограничивающихся рамками лаборатории. Творчество Фрейда обширно, но основные идеи можно сформулировать кратко и четко. Наиболее существенным является тот факт, что беесознательные побуждения и желания оказывают значительное влияние на нашу жизнь и, если они не осознаны, а осознать их можно только при помощи психотерапии, контроль над ними невозможен. У здоровой личности существует динамический баланс между силами «Я», связанными с реальностью и, в значительной степени, осознанными, силами «сверх-Я», включающими моральные аспекты, и силами «Оно», представляющими хранилище бессознательных влечений и скрытых, подавленных желаний. Неврастеники управляются своим «сверх-Я», психопаты – своим «Оно», поскольку защитные механизмы их «Я» нарушены. В действительности цель психотерапии состоит в замещении активности «Оно» на активность «Я». Идея о бессозиательных защитных механизмах «Я» является одной из ключевых в понимании человеческого поведения. Например, расизм можно рассматривать как проекцию скрытых желаний, неистовство защитников прав животных означает, что их чувства к животным результат не до конца вытесненного Эдипова комплекса. Существование защитных механизмов означает, что примитивные интервью и опросники, столь любимые социальной психологией, обречены на провал. Следует заметить, что в настоящее время имеются обширные экспериментальные данные в пользу защитных механизмов, и эта концепция сейчас широко используется в психологии личности в некой расширенной форме. Фрейд хорошо известен своими идеями о детской сексуальности, проходящей через оральную, анальную и фаллическую стадии до наступления, после латентного периода, зрелой формы генитальной сексуальности. Эти идеи являются частью его теории развития, кульминационной точкой которой – в этом Фрейд видел свое основное открытие – является Эдипов комплекс, рассматриваемый им как универсальный. Мальчик желает убить своего отца и спать со своей матерью. Эти чувства подавляются страхом перед возможной местью со стороны отца, возникает так называемый кастрационный комплекс. Страх кастрации приводит мальчика к идентификации с его отцом, так формируется «сверх-Я», ребенок усваивает ценности и мораль родителей. Для девочек развитие происходит похожим образом. Здесь важен не страх перед кастрацией, а зависть к пенису, вера девочки в то, что и она была кастрирована. Эдипов комплекс глубинным образом воздействует на нашу эмоциональную жизнь и cчитaeтcя корнем неврозов. Этот аспект теории Фрейда сейчас, в конце XX в., пользуется дурной славой. Современные женщины находят оскорбительным то, что их считают управляемыми завистью к пенису и низшими по отношению к мужчинам. Фрейд считал развитие «сверх-Я» и, следовательно, моральных ценностей у женщин не таким сильным, как у мужчин, так как последние управляются страхом кастрации. Кроме того, утверждение, что дети обнаруживают сексуальное влечение, рассматривается как отталкивающее в свете рассуждений о сексуальном домогательстве, которые так модны сейчас во многих типах психиатрии. Это отчасти верно потому, что Фрейд первоначально также полагал, что его пациенты подверглись сексуальному домогательству, но впоследствии отказался от этой точки зрения и пришел к выводу о воображаемой природе первоначальной травмы. Иными словами, современная психиатрия этого типа регрессировала на сотню лет, как если бы психоанализ никогда не существовал. Выражаясь словами Фрейда, это превосходный пример того, сопротивления, с которым, как был уверен Фрейд, его теория всегда будет встречаться. На ранней стадии психоанализа Фрейд разработал теорию сновидений, которая была центральной и служила основой для его достижений в терапии. Сновидения рассматриваются как «царская дорога» к бессознательному, поскольку их содержание всегда отражает подавленные желания. Эта маскировка, работа сна, служит примером работы бессознательного, первичных процессов, которые обычно спрятаны. Таким образом, анализ сновидений направлен на бессознательные влечения пациентов. 54 Как уже упоминалось, одной из привлекательных сторон в теории Фрейда является широта ее охвата. Исходя из относительно малого числа уже рассмотренных концепций, Фрейд мог объяснить широкий аспект человеческого поведения. Вот несколько примеров, демонстрирующих такое толкование. Юмор и остроумие рассматриваются как запретные желания. Работа шутки сродни работе сна. Шутка – это агрессивное или сексуальное высказывание. Согласно воззрениям Фрейда, никаких шуток не существует. В шутках, как и в вине, содержится истина. Фрейд также отказывает в праве на существование случайности. И оговорка, и случайно вырвавшееся слово выражают подавленные желания. Для Фрейда нет мелочей, все имеет значение. Чье письмо не отправлено, чей адрес забыт, чья посуда разбита, чья одежда запачкана томатным соусом? Эти вопросы необходимо задать и на них необходимо дать ответ, что и делает теория Фрейда. Наконец, антропология и религия: Фрейд использовал Эдипов комплекс для объяснения феноменов тотемизма и_табу, для объяснения религиозных убеждений. В заключение следует сказать о том, что теория Фрейда является одной из самых влиятельных научных теорий XX в. Недавно на ее научные положения и их применение в терапии вновь обрушилась критика, например, Айзенк считает, что она оказывает гибельное воздействие на науку психологию. Несмотря на эту критику, психоанализ продолжает развиваться и в Америке, и в Европе. Он пользуется популярностью, особенно среди_образованной интеллигенции вне психологических кругов, как подход к рассмотрению человека в целом. Похоже, что современная психология не нуждается ни в полном отвержении теории Фрейда, ни в ее полном принятии, как требовал классический психоанализ. Сейчас, в связи с современными исследованиями в области генетики и биохимии, настало время перейти к научному объяснению человеческой психологии. Література: Психология: Биографический библиографический словарь / Под ред. Ноэль Шихи, Энтони Дж. Чепман, Уэнди А. Конрой; Пер. с англ. – СПб.: Евразия, 1999. – 832 с. (С.683-686). 5. Ярошевский М. Г. Зигмунд Фрейд – выдающийся исследователь психической жизни человека. (Вступительная статья М. Г. Ярошевского к изданию: Фрейд 3. Психология бессознательного. – М., 1989. – С. 3-28). Среди психологов XX века австрийскому доктору Зигмунду Фрейду принадлежит особое место. Его главный труд «Толкование сновидений» увидел свет в 1900 г. С тех пор в психологии восходили, сменяя друг друга, различные научные авторитеты. Но ни один из них не вызывает поныне такой негаснущий интерес, как Фрейд, как его учение. Объясняется это тем, что его работы, изменившие облик психологии в XX столетии, осветили коренные вопросы устройства внутреннего мира личности, ее побуждений и переживаний, конфликтов между ее вожделениями и чувством долга, причин душевных надломов, иллюзорных представлений человека о самом себе и окружающих. Известно, что главным регулятором человеческого поведения служит сознание. Фрейд открыл, что за покровом сознания скрыт глубинный, «кипящий» пласт не осознаваемых личностью могущественных стремлений, влечений, желаний. Будучи лечащим врачом, он столкнулся с тем, что эти неосознаваемые переживания и мотивы могут серьезно отягощать жизнь и даже становиться причиной нервно-психических заболеваний. Это направило его на поиски средств избавления своих пациентов от конфликтов между тем, что говорит их сознание, и потайными слепыми, бессознательными побуждениями. Так родился фрейдовский метод исцеления души, названный психоанализом. Не ограничившись изучением и лечением невропатов, упорной работой по становлению их психического здоровья, Фрейд создал теорию, объяснявшую переживания и поведение не только больного, но и здорового человека. Эта теория приобрела в странах Запада столь великую популярность, что многие там и в наши дни убеждены, что «психология – это и есть Фрейд». 55 Фрейдовская теория во многих зарубежных странах прочно вошла в учебники по психологии, психотерапии, психиатрии. Она оказала воздействие на другие науки о человеке – социологию, педагогику, антропологию, этнографию, а также на искусство и литературу. На русском языке первые переводы книг этого ученого появились еще до революции. Они продолжали выходить и в первые послереволюционные годы, пользуясь успехом не только у специалистов-психологов, но также и у врачей, учителей, деятелей культуры. Это были годы, когда молодая советская психология только становилась на ноги. Она стремилась впитать в себя учение Маркса. Под этим углом зрения оценивались зарубежные теории – в том числе фрейдизм. И здесь обнаружилось несоответствие между очень многими представлениями Фрейда о душевной жизни человека, о движущих силах его поведения и тем, как объясняет эту жизнь, эти силы марксистская философия, ставшая компасом для советской науки. Попытки отдельных психологов объединить Фрейда и Маркса были отвергнуты. Для этого имелись веские доводы, ибо методология этих учений, их объяснения механизмов психического развития принципиально различны. При этом, однако, все конкретное содержание исследований Фрейда также оказалось перечеркнутым. С тех пор, с середины 20-х годов, труды Фрейда больше не издавались. В существо его теории и методов перестали вникать. Забвению подверглось требование марксизма: не смешивать честный, серьезный поиск истины, открытые ученым проблемы и факты, разработанные им методики, с одной стороны, и то, как это преломилось в его идеях, несовместимых с нашим мировоззрением, – с другой. Сам Фрейд признавал, что есть проблемы, до которых «нельзя долететь, но надо дойти хромая, и в этих случаях не грех хромать». Немало таких проблем он впервые увидел, вызвав к ним обостренный интерес ученого мира. Не случайно наш всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии Петр Леонидович Капица в речи на одном из международных симпозиумов, касаясь высшей нервной деятельности человека, сказал, что «основателями этой базисной науки считаются И. П. Павлов и Зигмунд Фрейд. Они первые положили эксперимент в основу изучения процессов мышления. Ими были найдены закономерности восприятия человеком внешней среды, возникновения условных рефлексов, влияния подсознания на деятельность человека».1 (1Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. – М., 1977. – С. 329). Советский читатель должен знать об учении Фрейда не понаслышке, а из первых рук, с тем, чтобы выработать самостоятельное, а не извне навязанное представление о нем. Знакомясь с работами Фрейда, с его представлениями о том, как устроена душевная жизнь, каковы ее сокровенные механизмы, мы тем самым расширяем границы сферы познания человека, его внутреннего мира. Такие фрейдовские термины, как «либидо», «супер-эго», «идентификация», «сублимация» и другие, можно услышать в западных странах в речи не только психолога или врача-психотерапевта, но и любого образованного человека, и хорошо, что наш читатель теперь будет знакомиться с Фрейдом по первоисточникам. О фрейдизме опубликованы сотни книг, сложилась огромная библиотека, которая продолжает расти. Издано множество материалов, освещающих деятельность Фрейда и его школы, включая протоколы психоаналитических сеансов. Созданы энциклопедии психоанализа. Прослеживаются биографии некоторых пациентов Фрейда и т. п. Вместе с тем очевидна сильная оппозиция этому учению со стороны многих научных и философских школ. Но какой бы острой критике и даже злобным нападкам оно не подвергалось, учение Фрейда вновь и вновь становится предметом дискуссий, порождает новые направления, так как в нем отразилась реальность психической жизни. Говоря об отражении, следует помнить, что его диалектико-материалистическое понимание предполагает различную степень приближения мысли к реальности. Ведь нередко эта реальность воссоздается неадекватно, в превращенных формах. Со многими неадекватно установленными современной наукой данными читатель встретится и в произведениях Фрейда. Мы увидим, как он, будучи мужественным исследователем, порой решительно расставался с прежде принятыми им положениями, тогда как ряд своих излюбленных идей продолжал фанатически культивировать, вопреки тому, что их безнадежную слабость показали не только противники психоанализа, но и его верные приверженцы. 56 Ежедневно по 8-10 часов на протяжении многих десятилетий Фрейд занимался врачебной практикой. На фактах, почерпнутых в клинической практике, он проследил сложность и многоплановость структуры личности, значение в ее истории внутренних конфликтов и кризисов, последствия неудовлетворенных желаний. Фрейдом был введен в научный оборот ряд идей и проблем, показавших, что уровень сознания неотделим от других глубинных уровней психической активности, не изучив взаимодействие которых невозможно понять природу человека. Фрейд разработал ряд гипотез, моделей, понятий, запечатлевших своеобразие психики и прочно вошедших в арсенал современного научного знания о ней. К ним относятся, в частности, понятия о защитных механизмах (психологической защите), фрустрации, идентификации, рационализации, вытеснении, фиксации, катарсисе, силе «я» и др. (см. ниже). Эти понятия обогатили также психотерапевтическую практику. Изучение Фрейдом роли сексуальных переживаний и сопряженных с ними душевных травм дало толчок развитию новых областей знания, в частности сексологии. Фрейдом было показано, сколь важно, прослеживая становление характера человека – его строение и динамику, учитывать детские годы и испытанное ребенком в этом периоде, в особенности отношения в семье, от которых зависит формирование его характера, его мотивационной сферы. Жизненность, практическая значимость поставленных Фрейдом проблем вытекает также из того, что в круг научного анализа им были вовлечены феномены, которые традиционная психология не привыкла принимать в расчет: чувства вины, полноценности, тревожности, уход от реальной ситуации в область грез, возникновение внутренней тенденции к агрессивности. Наша психология ищет свои ответы на сложные, интимные вопросы, поставленные Фрейдом. В науке же постановка вопроса – не менее трудная, не менее творческая задача, чем поиски ответов. Не соглашаясь с предложенным Фрейдом толкованием собранных им фактов, его теоретическими обобщениями, советские исследователи освещают их с других научных позиций. Вместе с тем, развивая свой подход к соотношению сознания и бессознательной психики, к противоречиям и конфликтам в развитии личности, они опираются на наследие прошлого. Чтобы критически переосмыслить это наследие, необходимо сперва им овладеть. Следует иметь в виду, что на современном этапе фрейдизм представляет собой не единую целостную систему, а множество различных научных школ и направлений, у которых имеются не только фанатичные приверженцы, но и не менее страстные противники. Чтобы понять ситуацию в мировой психологии, соотношение в ней различных научных сил, нужно знать учение самого Фрейда, знать, как оно сложилось и приобрело столь глубокое влияние на различные подходы к психике человека – самого сложного явления в известной нам вселенной. Зигмунд Фрейд – создатель направления, которое приобрело известность под именем глубинной психологии и психоанализа, родился 6 мая 1856 г. в небольшом моравском городе Фрейбурге (ныне Пршибор, ЧССР) в семье небогатого торговца шерстью. В 1860 г. семья переехала в Вену, где будущий знаменитый ученый прожил около 80 лет. В большой семье было 8 детей, но только Зигмунд выделялся своими исключительными способностями, удивительно острым умом и страстью к чтению. Поэтому родители стремились создать для него лучшие условия. Если другие дети учили уроки при свечах, то Зигмунду выделили керосиновую лампу. Чтобы дети ему не мешали, им не позволяли при нем музицировать. Он окончил гимназию с отличием в 17 лет и поступил в знаменитый Венский университет. Вена тогда была столицей Австро-Венгерской империи, ее культурным и интеллектуальным центром. В университете преподавали выдающиеся профессора. Обучаясь в университете, Фрейд вошел в студенческий союз по изучению истории, политики, философии (это в дальнейшем сказалось на его концепциях развития культуры). Но особый интерес для него представляли естественные науки, достижения которых произвели в середине прошлого века настоящую революцию в умах, заложив фундамент современного знания об организме, о живой природе. В великих открытиях этой эпохи – законе сохранения энергии и установленном Дарвином законе эволюции органического мира – черпал Фрейд убеждение в том, что научное знание есть знание причин явлений под строгим контролем опыта. На оба закона опирался Фрейд, когда перешел впоследствии к изучению человеческого поведения. Организм он представлял как 57 своего рода аппарат, заряженный энергией, которая разряжается либо в нормальных, либо в патологических реакциях. В отличие от физических аппаратов, организм является продуктом эволюции всего человеческого рода и жизни отдельного индивида. Эти принципы распространялись на психику. Она также рассматривалась, во-первых, под углом зрения энергетических ресурсов личности, служащих «горючим» ее действий и переживаний, во-вторых, под углом зрения развития этой личности, несущей память и о детстве всего человечества, и о собственном детстве. Фрейд, таким образом, воспитывался на принципах и идеалах точного, опытного естествознания – физики и биологии. Он не ограничивался описанием явлений, а искал их причины и законы (такой подход известен под именем детерминизма, и во всем последующем творчестве Фрейд является детерминистом). Этим идеалам он следовал и тогда, когда перешел в область психологии. Его учителем был выдающийся европейский физиолог Эрнст Брюкке.1 (1У Брюкке учились и в его лаборатории работали ученые из многих стран, в том числе отец русской физиологии и научной психологии И. М. Сеченов). Под его руководством студент Фрейд работал в венском физиологическом институте, просиживая по многу часов за микроскопом. Под старость, будучи всемирно признанным психологом, он писал одному из своих друзей, что никогда не был так счастлив, как в годы, потраченные в лаборатории на изучение устройства нервных клеток спинного мозга животных. Умение сосредоточенно работать, всецело отдавая себя научным занятиям, выработанное в этот период, Фрейд сохранил на последующие десятилетия. Он намеревался стать профессиональным научным работником. Но вакантного места в физиологическом институте у Брюкке не было. Тем временем ухудшилось материальное положение Фрейда. Трудности обострились в связи с предстоящей женитьбой на такой же бедной, как и он, Марте Бернайс. Науку пришлось оставить и искать средства к существованию. Имелся один выход – стать практикующим врачом, хотя к этой профессии он никакого тяготения не испытывал. Он принял решение заняться частной практикой в качестве невропатолога. Для этого пришлось сперва пойти работать в клинику, так как медицинского опыта у него не было. В клинике Фрейд основательно осваивает методы диагностики и лечения детей с пораженным мозгом (больных детским параличом), а также различных нарушений речи (афазии). Его публикации об этом становятся известны в научных и медицинских кругах. Фрейд приобретает репутацию высококвалифицированного врача-невропатолога. Своих больных он лечил принятыми в то время методами физиотерапии. Считалось, что поскольку нервная система представляет собой материальный орган, то и болезненные изменения, которые в ней происходят, должны иметь материальные причины. Поэтому устранять их следует посредством физических процедур, воздействуя на больного теплом, водой, электричеством и др. Очень скоро, однако, Фрейд стал испытывать неудовлетворенность этими физиотерапевтическими процедурами. Эффективность лечения оставляла желать лучшего, и он задумался над возможностью применить другие методы, в частности гипноз, используя который некоторые врачи добивались хороших результатов. Одним из таких успешно практикующих врачей был Иосиф Брейер, который стал во всем покровительствовать молодому Фрейду. Они совместно обсуждали причины заболеваний своих пациентов и перспективы лечения. Больными, которые к ним обращались, были главным образом женщины, страдавшие истерией. Болезнь проявлялась в разных симптомах – страхах (фобиях), потере чувствительности, отвращении к пище, раздвоении личности, галлюцинациях, спазмах и др. Применяя легкий гипноз (внушенное состояние, подобное сну), Брейер и Фрейд просили своих пациенток рассказывать о событиях, которые некогда сопровождали появление симптомов болезни. Выяснялось, что когда больным удавалось вспомнить об этом и «выговориться», симптомы хотя бы на время исчезали. Такой эффект Брейер назвал древнегреческим словом «катарсис» (очищение). Древние философы использовали это слово, чтобы обозначить переживания, вызываемые у человека восприятием произведений искусства (музыки, трагедии). Предполагалось, что эти произведения очищают душу от омрачающих ее аффектов, принося тем самым «безвредную радость». Брейером этот термин был перенесен из эстетики1 в психотерапию. (1Проблема катарсиса в искусстве широко обсуждалась в тогдашней литературе, в частности в работах Я. Бернейса – родственника Фрейда). За понятием о катарсисе крылась гипотеза, согласно которой симптомы болезни возникают 58 вследвие того, что больной прежде испытал напряженное, аффективно окрашенное влечение к какому-либо действию. Симптомы (страхи, спазмы и т. д.) символически замещают это нереализованное, но желаемое действие. Энергия влечения разряжается в извращенной форме, как бы «застревая» в органах, которые начинают работать ненормально. Поэтому предполагалось, что главная задача врача – заставить больного вновь пережить подавленное влечение и тем самым придать энергии (нервно-психической энергии) другое направление, а именно – перевести ее в русло катарсиса, разрядить подавленное влечение в рассказе врачу о нем. В этой версии о травмировавших больного и потому вытесненных из сознания, аффективно окрашенных воспоминаниях, избавление от которых дает лечебный эффект (исчезают расстройства движений, восстанавливается чувствительность и т. д.), содержался зародыш будущего психоанализа Фрейда. Прежде всего, в этих клинических исследованиях «прорезалась» идея, к которой неизменно возвращался Фрейд. На передний план отчетливо выступили конфликтные отношения между сознанием и неосознаваемыми, но нарушающими нормальный ход поведения психическими состояниями. О том, что за порогом сознания теснятся былые впечатления, воспоминания, представления, способные влиять на его работу, давно было известно философам и психологам. Новые моменты, на которых задержалась мысль Брейера и Фрейда, касались, во-первых, сопротивления, которое сознание оказывает неосознаваемому, в результате чего и возникают заболевания органов чувств и движений (вплоть до временного паралича), во-вторых, обращения к средствам, позволяющим снять это сопротивление, сперва – к гипнозу, а затем – к так называемым «свободным ассоциациям», о которых речь пойдет дальше. Гипноз ослаблял контроль сознания, а порой и совсем снимал его. Это облегчало загипнотизированному пациенту решение задачи, которую Брейер и Фрейд ставили, – «излить душу» в рассказе о вытесненных из сознания переживаниях. Особенно успешно использовали гипноз французские врачи, для изучения опыта которых Фрейд на несколько месяцев съездил в Париж к знаменитому неврологу Шарко (ныне его имя сохранилось в связи с одной из физиотерапевтических процедур – так называемым душем Шарко). Это был замечательный врач, прозванный «Наполеоном неврозов». У него лечилось большинство королевских семей Европы. Фрейд – молодой венский доктор – присоединился к большой толпе практикантов, которая постоянно сопровождала знаменитость во время обходов больных и при сеансах их лечения гипнозом. Случай помог Фрейду сблизиться с Шарко, к которому он обратился с предложением перевести его лекции на немецкий. В этих лекциях утверждалось, что причину истерии, как и любых других заболеваний, следует искать только в физиологии, в нарушении нормальной работы организма, нервной системы. В одной из бесед с Фрейдом Шарко заметил, что источник странностей в поведении невротика таится в особенностях его половой жизни. Это наблюдение запало в голову Фрейда, тем более что и он сам, да и другие врачи сталкивались с зависимостью нервных заболеваний от сексуальных факторов. Через несколько лет, под впечатлением этих наблюдений и предположений, Фрейд выдвинул постулат, придавший всем его последующим концепциям, каких бы психологических проблем они ни касались, особую окраску и навсегда соединивший его имя с идеей всесилия сексуальности во всех человеческих делах. Эта идея о роли сексуального влечения как главного двигателя поведения людей, их истории и культуры придала фрейдизму специфическую окраску, прочно ассоциировала его с представлениями, сводящими все бессчетное многообразие проявлений жизнедеятельности к прямому или замаскированному вмешательству сексуальных сил. Такой подход, обозначаемый термином «пансексуализм», стяжал Фрейду во многих странах Запада огромную популярность – притом далеко за пределами психологии. В этом принципе стали усматривать своего рода универсальный ключ ко всем человеческим проблемам. По этому поводу известный советский психолог Л. С. Выготский еще в 20-х годах писал: «Творчество Достоевского раскрывается тем же ключом, что и тотем и табу первобытных племен; христианская церковь, коммунизм, первобытная орда – все в психоанализе выводится из одного источника... Здесь психоанализ не продолжает, а отрицает методологию марксизма».1 (1Выготский Л. С. Собр. соч. – М, 1982. – Т. 1. – С. 332). Но если бы психоанализ ограничивался таким подходом, ложность которого давно доказали различные научные школы, исходя не только из философских аргументов, но и из анализа 59 реальных феноменов социокультурного развития человечества, то пришлось бы признать загадкой длительность и силу его влияния на современную мысль, на многие направления исследований поведения в различных областях знания. Какой смысл имело бы обращение к текстам Фрейда, если бы в любых формах психической регуляции поведения и в любых порождениях культуры, при взгляде на них глазами Фрейда, не видели ничего кроме причудливых рудиментов сексуальных влечений? Конечно, трезвое, спокойное изучение этих влечений и сопряженных с ними комплексов переживаний средствами позитивной науки является, вопреки ханжеской морали, важным делом в плане как познания характера и поведения людей, так и их полового воспитания. Науке об этой сфере – сексологии – принадлежит законное место среди других дисциплин, изучающих биосоциальную природу человека. Нет ничего более ошибочного при оценке исторической роли Фрейда, как видеть в нем главного апологета секса и первого лидера науки сексологии – с одной стороны, считать эту роль исчерпанной его вкладом в проблематику этой науки – с другой. Такой образ Фрейда культивировали как его противники, так и многие приверженцы психоанализа как панацеи от всех человеческих бед, коренящихся якобы в темном, иррациональном половом инстинкте, спасти от пагубного влияния которого на социальную жизнь явился новый мессия – Фрейд. В различных гипотезах и представлениях Фрейда потаенным силам сексуальности действительно было придано могущественное влияние на судьбу человека, и для того, чтобы считать Фрейда трубадуром этих сил, он сам дал достаточно оснований. Однако, подобно тому как применительно к поведению своих пациентов Фрейд в их реакциях искал скрытый от их сознания реальный смысл, в суждениях самого Фрейда, его теориях заключалось гораздо больше, чем это им самим осознавалось. И именно «зашифрованные» идеи, а не версия о всемогуществе полового влечения, стали животворным источником его влияния на науку о человеке. Чтобы понять смысл его влияния, надо иметь в виду, что в научном творчестве, его результатах следует различать субъективное и объективное. Ряд своих постулатов Фрейд оценивал как незыблемые (такие, как эдипов комплекс, страх кастрации у мальчиков и т. п.). С подобными феноменами он встречался в своей клинической практике. Фрейду представилось, что он здесь имеет дело не с симптомами, наблюдаемыми у отдельных лиц, страдающих психоневротическими расстройствами, а с проявлением глубинных начал человеческой природы. И сколько бы возражений ни выдвигалось против этих догм психоанализа, его создатель оставался поразительно слеп к любой критике. Заметив (и здесь он не был одинок, многие врачи до Фрейда писали об этом) сексуальную этиологию неврозов у своих пациентов, Фрейд отождествил любые скрытые от сознания вожделения человека с сексуальными. Этим он и взбудоражил интеллектуальный мир. Сексуально озабоченный невропат Фрейда стал своего рода моделью поведения человека в любых ситуациях и культурах. Тем самым это поведение получило превратную трактовку. Объективное научное знание превратилось в миф, которому оставалось только верить, «став на колени». Однако окажись учение Фрейда не более чем сугубо мифологической конструкцией, оно не вошло бы в запас научных представлений, а метод психоанализа не оказался бы одним из самых влиятельных среди множества техник психотерапии. А ведь именно такова историческая реальность. С ней приходится считаться, и ее следует объяснить. Выше была приведена та оценка вклада Фрейда в создание учения о высшей нервной деятельности, которую дал академик П. Л. Капица. Процитирую мнение другого лауреата Нобелевской премии Альберта Эйнштейна, писавшего 80-летнему Фрейду: «Я рад, что это поколение имеет счастливую возможность выразить Вам, одному из величайших учителей, свое уважение и свою благодарность. До самого последнего времени я мог только чувствовать умозрительную мощь Вашего хода мыслей, с его огромным воздействием на мировоззрение нашей эры, но не был в состоянии представить определенное мнение о том, сколько оно содержит истины. Недавно, однако, мне удалось узнать о нескольких случаях, не столь важных самих по себе, но исключающих, по-моему, всякую иную интерпретацию, кроме той, которая дается теорией вытеснения. То, что я натолкнулся на них, чрезвычайно меня обрадовало: всегда радостно, когда большая и прекрасная концепция оказывается совпадающей с реальностью».1 60 (1Цит. по: Freud S. Ausgewahlte Schriften. Bd. 1. L, 1969. S. 12). Уже само по себе то, что ученый, который произвел великий переворот в науке, считает ход фрейдовских мыслей оказавшим «огромное воздействие на мировоззрение нашей эры», требует от нас обратиться к источнику этого воздействия. Нетрудно понять, что упор на сексуальный фактор (по поводу которого во времена Фрейда уже существовала огромная литература) сам по себе не мог произвести революцию в психологии, радикально изменить систему понятий этой науки. Ведь действие этого фактора легко объяснимо чисто физиологическими причинами – функционированием половых желез, работой центров вегетативной нервной системы и т. п. На почве физиологии стоял первоначально и Фрейд, прежде чем перешел в зыбкую, не имеющую прочных опорных точек область психологии. На отважный шаг в эту темную область его направила, как отмечалось, практика лечения истерии. Но решился он на него не сразу. Даже гипноз, применение которого, казалось бы, не оставляло сомнений в том, что воздействие врача на пациента носит психологический характер, объяснялся многими врачами как чисто физиологическое явление. Именно так думал Шарко, которым восхищался Фрейд. Однако дальнейшие раздумья Фрейда поколебали его убеждения в правильности принятого школой Шарко мнения. Он становится участником споров между французскими врачами по поводу того, считать ли гипноз эффектом внушения, которому подвержены все люди, или же загипнотизировать, как учил Шарко, можно только нервнобольных (истериков). На Фрейда большое впечатление произвело так называемое постгипнотическое внушение. При нем человеку в состоянии гипноза внушалась команда совершить после пробуждения какое-либо действие, например, раскрыть зонтик. Проснувшись, он выполнял команду, хотя дождя не было, и поэтому его действие оказывалось бессмысленным. На вопрос же о том, почему он это сделал, человек, не зная истинной причины, подыскивал ответ, который был призван каким-то образом придать его нелепому поведению разумность: «Я хотел проверить, не испорчен ли мой зонтик» и т. п. Подобные факты указывали не только на то, что человек может совершать поступки, мотивы которых он не осознает, но и на его стремление придумать эти мотивы, подыскать рациональные основания своим поступкам. Впоследствии Фрейд назвал подобное оправдание человеком своих действий рационализацией. Все это заставляло задуматься над проблемой неосознаваемых побуждений, которые реально движут людьми, однако в их сознании адекватной проекции не получают. Перед глазами невропатологов выступила весьма странная с точки зрения тогдашних взглядов картина. Люди, воспитанные в духе своего времени, на идеалах точного естествознания, главная формула которого гласила «нет действия без причины», считали, что причиной является расстройство нервной системы. Однако расстройства, с которыми они повседневно имели дело, оказывались необычными. Пациент говорил одно, а двигало им, побуждало действовать совсем другое. Опыты же с гипнозом (вроде внушенной команды открыть после пробуждения зонтик) убедительно свидетельствовали, что человек способен неумышленно придумывать мотивы своего поведения. Какой же был механизм этих странных реакций – физиологический или психологический? Ни физиология, ни психология ответить на этот вопрос не могли. Физиология говорила о рефлексах, нервных функциях, мышечных реакциях и т. п. Но ни одно из ее понятий не могло объяснить причины болезненных состояний. Психология говорила о сознании, способности мыслить, подчинять действие заранее принятой цели и т. д. И с этой – психологической – стороны поиск причин поведения невротика также ничего не давал. А без знания причин оставалось действовать вслепую. Фрейда это не устраивало – не только как врача, желающего действовать рационально, но и как натуралиста, непреклонно верившего в то, что все происходящее в организме включено в «железную» цепь причин и следствий, стоит под необратимыми законами природы. Ведь он был учеником Гельмгольца и Дарвина. От них воспринял идеалы естественнонаучного познания, и прежде всего принцип детерминизма – зависимости явлений от производящих их факторов. Фрейд ощущал бессилие этого принципа перед тем, что требовала клиника неврозов. Его наблюдения за случаями, когда длительное лечение истерии благодаря применению гипноза давало положительный эффект, указывали, что источник страдания скрыт в сфере, неведомой ни физиологии, ни психологии. Практика требовала отказаться от прежних подходов и продвигаться либо к новой физиологии, либо к новой психологии. 61 Не сразу молодые невропатологи Брейер и Фрейд произвели выбор. Совместно они подготовили книгу «Исследования истерии». Она вышла в 1895 г. Иногда ее оценивают как первую главу в истории созданного Фрейдом психоанализа. Для этого имеются известные основания, поскольку в указанной книге можно различить намеки на многие представления будущего психоанализа: и о динамике вытесненных из сознания влечений, из-за которых возникают расстройства движений, восприятий и т. п., и об очистительной роли погружения в прошлое с целью восстановить события и обстоятельства, нанесшие душевную травму. Это были достоверные клинические факты, установленные Брейером и Фрейдом. Но из фактов как таковых теория не возникает. Как уже говорилось, Брейер и Фрейд пришли в клинику после нескольких лет работы в физиологической лаборатории. Оба были естествоиспытателями до мозга костей и, прежде чем занялись медициной, уже приобрели известность своими открытиями в области физиологии нервной системы. Поэтому и в своей медицинской практике они, в отличие от обычных врачейэмпириков, руководствовались теоретическими идеями передовой физиологии. В то время нервная система рассматривалась как энергетическая машина. Брейер и Фрейд мыслили в терминах нервной энергии. Они предполагали, что ее баланс в организме нарушается при неврозе (истерии), возвращаясь к нормальному уровню благодаря разряду этой энергии, каким является катарсис. Будучи блестящим знатоком строения нервной системы, ее клеток и волокон, которые годами изучал с помощью скальпеля и микроскопа, Фрейд предпринял отважную попытку набросать теоретическую схему процессов, происходящих в нервной системе, когда ее энергия не находит нормального выхода, а разряжается на путях, ведущих к нарушению работы органов зрения, слуха, мышечного аппарата и другим симптомам болезни. Сохранились записи с изложением этой схемы, получившей уже в наше время высокую оценку физиологов. Но Фрейд испытывал крайнюю неудовлетворенность своим проектом (он известен как «Проект научной психологии»). Фрейд вскоре расстался и с ним, и с физиологией, которой отдал годы напряженного труда. Это вовсе не означало, что он с тех пор считал обращение к физиологии бессмысленным. Напротив, Фрейд полагал, что со временем знания о нервной системе шагнут столь далеко, что для его психоаналитических представлений будет найден достойный физиологический эквивалент. Но на современную ему физиологию, как показали его мучительные раздумья над «Проектом научной психологии», рассчитывать не приходилось. Он не предполагал, что через два десятилетия Павлов откроет в лабораторном эксперименте простейший физиологический механизм невротической реакции. Один описанный Фрейдом случай привлек внимание И. П. Павлова и дал импульс к разработке весьма продуктивной главы его учения о высшей нервной деятельности – концепции экспериментальных неврозов. О возникновении этой концепции Павлов рассказал на одной из своих знаменитых «сред».1 (1Еженедельно по средам он собирал сотрудников своей лаборатории, чтобы обсудить ход текущих опытов, рассмотреть новые планы, поделиться соображениями по общенаучным вопросам). Цитирую по протоколу: «Иван Петрович сообщает о том, что именно натолкнуло его на мысль производить неврозы сшибками. В одной из своих ранних работ Фрейд описал случай невроза у девушки, которая много лет перед тем должна была ухаживать за больным отцом, обреченным на смерть, которого она очень любила и старалась поэтому казаться веселой, скрывая от него опасность болезни. Психоанализом Фрейд установил, что это легло в основу позже развившегося невроза. Рассматривая это как трудную встречу процессов возбуждения и торможения, Иван Петрович как раз и положил в основу метода вызывания экспериментальных неврозов на собаках это трудное столкновение двух противоположных процессов».2 (2Павловские среды. – М.; Л., 1949. – Т. 1. –С. 112). Через много лет Фрейд случайно узнал о том, что Павлов, создавая свое учение об экспериментальных неврозах, отталкивался от его пионерской работы. Об этом ему сообщил выдающийся нейрофизиолог Ральф Джерард, который в своей публикации свидетельствует: «Я посетил Павлова незадолго до его кончины, и он сказал мне, что его эксперименты по изучению условнорефлекторно вызываемых неврозов были стимулированы чтением одной работы Фрейда. Через неделю я выехал из Ленинграда в Вену, где сообщил об этом Фрейду. Сердито фыркнув, он воскликнул: «Это могло бы мне чрезвычайно помочь, если бы он сказал это несколькими 62 десятилетиями раньше».1 (1Warden F., Swazey I, Adelman G. (eds.). The Neurosciences: Path of Discovery. Cambridge and London, 1975. P. 469). Возможно, что он вспомнил при этом о неудаче, постигшей его в попытках физиологически объяснить невроз. Вместе с тем, оставаясь в пределах этого объяснения, он не смог бы создать принесший ему всемирную славу психоанализ. В понятиях, которыми оперировал Павлов, отражалась динамика нервных физиологических процессов – возбуждения и торможения. Они образуют ту канву, без которой не мог бы возникнуть психологический «узор». Но сам этот «узор» жизнь создает по особым законам. Поиском этих законов занята психология. В течение многих столетий она считалась служанкой философии. Однако в середине прошлого века картина изменилась. Психология обрела самостоятельность, прочно заняв собственное место среди других наук. В ту пору, когда к ней обратился Фрейд, психология считалась наукой о сознании. Под ним понималось прямое знание субъекта о том, что происходит в его собственной душе. Именно это знание принималось за незыблемый краеугольный камень психологии. Фрейд, опираясь на свой клинический опыт, его подорвал. Ведь его больные страдали именно оттого, что не знали о своих влечениях, о том, что некогда вызвало душевную боль. Лишь подавив контроль сознания (в частности, применив гипноз), удавалось найти следы некогда травмировавших личность событий. В смелом вторжении в дебри бессознательной психики и заключался пионерский шаг Фрейда. Попытка вывести психику из работы «нервной машины» Фрейду не удалась. Но и добытые в ту эпоху психологические представления были бессильны пролить свет на патологическое поведение людей, лечением которых был повседневно занят Фрейд, ибо эти представления охватывали лишь то, что подвластно сознанию. Фрейд открыл третью альтернативу. Ключ к тайнам душевной жизни он стал искать не в физиологии и не в психологии сознания, а в психологии бессознательного. Мы увидим, что, вступив в эту область, он сделал немало ошибочных шагов, предложил немало решений, не выдержавших испытания научными средствами. Но эти заблуждения не должны дать повод пренебречь его новаторскими исканиями. Работа в клинике требовала применения методических средств, позволяющих проникнуть в скрытые от сознания психические пласты. На первых порах главным и единственным орудием, как мы знаем, был гипноз. Фрейд не владел им столь мастерски, как Брейер. Неудовлетворенность гипнозом побудила его искать другие средства. На одно из них Фрейда натолкнул феномен, приобретший в дальнейшем в психоанализе особое значение под именем «трансфера» (перенесения). Общение врача с пациентом приобретало особую эмоциональную окраску, когда этот пациент переносил свои неизжитые бессознательные желания, сохранявшиеся с детских лет, на личность самого врача. Фрейд установил этот факт, наблюдая за одной из пациенток доктора Брейера, которая стала выражать по отношению к последнему чувства страха, любви и другие, некогда испытываемые по отношению к родителям. Брейера это привело в смятение, и он отказался от дальнейшей терапии. Фрейд же, подвергнув это явление изучению, увидел в нем способ разъяснить больному истинные причины его невроза. Установив перенос бессознательных детских влечений с тех лиц, которые некогда их вызывали, на терапевта, последний мог обнажить смысл этих переживаний, довести их до сознания больного, помочь тем самым их изжить, освободиться от них (благодаря тому, что стал понимать, что же его мучает). Трансфер, вслед за гипнозом, выступил как еще один способ проникновения в область подавленных, вытесненных влечений. Но главным терапевтическим средством, изобретенным Фрейдом и ставшим на многие годы «основой основ» психоанализа, стали так называемые «свободные ассоциации». Понятие «ассоциации» – одно из древнейших в психологии. Его можно встретить (как и понятие о катарсисе) у Платона и Аристотеля. Подобно тому как ствол дерева, развиваясь, обрастает новыми кольцами, эти понятия, передавая от эпохи к эпохе мудрость веков, обогащались новым содержанием. Закон образования ассоциаций веками считался главным законом психологии. Он гласил, что если какие-либо объекты воспринимаются одновременно или в непосредственной близости, то впоследствии появление одного из них влечет за собой осознание другого. Так, взглянув на какую-либо вещь, человек вспоминает ее отсутствующего владельца, поскольку прежде эти два объекта воспринимались одновременно, в силу чего между их следами в 63 мозгу упрочилась связь-ассоциация. Различным видам ассоциаций было посвящено множество психологических трактатов. Когда психология превратилась в науку, ассоциации стали изучать экспериментально, чтобы определить законы памяти, воображения и других умственных процессов. Выяснялось, с какими представлениями ассоциируются у испытуемых различные слова, сколько раз нужно повторить список слов, чтобы между ними возникли связи, позволяющие его целиком либо частично запомнить и т. п. Во всех случаях ставилась задача изучить работу сознания. Фрейд же использовал материал ассоциаций в других целях. Он искал в этом материале путь в область неосознаваемых побуждений, намеки на то, что происходит в «кипящем котле» аффектов, влечений. Для этого, полагал он, ассоциации следует вывести из-под контроля сознания. Они должны стать свободными. Так родилась главная процедура психоанализа, его основной технический прием. Пациенту предлагалось, находясь в расслабленном состоянии (обычно лежа на кушетке), непринужденно говорить обо всем, что ему приходит в голову, «выплескивать» свои ассоциации, какими бы странными возникающие мысли ни казались. В тех случаях, когда пациент испытывал замешательство, начинал запинаться, повторял несколько раз одно и то же слово, жаловался на то, что не в состоянии припомнить что-либо, Фрейд останавливал на этих реакциях свое внимание, предполагая, что в данном случае его больной, сам того не подозревая, сопротивляется некоторым своим тайным мыслям, притом сопротивляется не умышленно, как бывает в тех случаях, когда человек стремится намеренно что-либо утаить, а неосознанно. Для этого, конечно, должны быть какие-то причины особой, «тормозящей» активности психики. Еще раз подчеркнем, что такая особая, обладающая большой энергией сопротивляемость, открытая Фрейдом в его медицинском опыте, в кропотливом анализе реакций его пациентов, явилась принципиально важным новым словом в понимании устройства человеческой психики. Выявилась удивительная сложность этого устройства, присутствие в его работе особого внутреннего «цензора», о котором самому человеку не известно. И тем не менее этот незримый, неосознаваемый самим субъектом цензор бдительно следит за тем, что происходит в сознании, пропуская в него или не пропуская различные мысли и представления. Необычность такого подхода, утвердившегося в психологической науке после Фрейда, очевидна. Вера в то, что поведение человека находится под надежным контролем сознания, веками считалась неоспоримой. «Находиться под контролем сознания» значило не что иное, как отдавать себе ясный отчет о своих желаниях, побуждениях, стимулах к действию. Осознание целей, наличие придуманного плана, который регулирует действия, направленные на достижение этой цели, действительно является той решающей особенностью человеческих поступков, которая отличает их от действий остальных живых существ. Из этого, однако, не следует прямолинейный взгляд на человеческую личность как свободную от противоречий между желаемым и должным, между порой несовместимыми влечениями к объектам, имеющим различную привлекательность, и т. п. Обыденная человеческая жизнь полна конфликтов различной степени напряженности, достигающей порой истинного драматизма. Наше сознание — не простой созерцатель этой драмы, безучастный к ее исходу. Оно ее активное «действующее» лицо, которое вынуждено выбирать и накладывать вето, защищать от влечений и мыслей, способных (как, например, при тяжелом заболевании или душевном конфликте) сделать жизнь несносной и даже погубить личность. Именно личность как особую психическую целостность, даже при сохранении ее физического существования. Это дает право прийти к важному для понимания учения Фрейда заключению. Как уже сказано, его учение прославилось прежде всего тем, что проникло в тайники бессознательного, или, как иногда говорил Фрейд, «преисподню» психики. Однако если ограничиться этой оценкой, то можно упустить из виду другой важный аспект: открытие Фрейдом сложных, конфликтных отношений между сознанием и неосознаваемыми психическими процессами, бурлящими за поверхностью сознания, по которой скользит при самонаблюдении взор субъекта. Сам человек, полагал Фрейд, не имеет перед собой прозрачной, ясной картины сложного устройства собственного внутреннего мира со всеми его подводными течениями, бурями, взрывами. И здесь на помощь призван прийти психоанализ с его методом «свободных ассоциаций». Этот метод позволяет субъекту при помощи психотерапевта осознать свои влечения, хотя и подавленные, но продолжающие «взрывать» поведение, влиять на его ход. На понятии о 64 влечении (потребности, мотиве, побуждении) как моторе и «горючем» всех действий, мыслей, переживаний человека и сосредоточилась напряженная творческая работа Фрейда на протяжении десятилетий. Напомним еще раз, что он прошел естественнонаучную школу, что он воспитывался на трудах великого Гельмгольца, открывшего закон сохранения и превращения энергии, и великого Дарвина, открывшего закон эволюции животного царства. Напомним также, что его пионерский шаг заключался в переходе из области физики и биологии в область психологии. Перейдя к изучению человеческой души, он опирался на созданное науками о природе. Он использовал и понятие об энергии, сложившееся в недрах физики, и понятие об инстинкте, разработанное Дарвином. Однако оба понятия были им радикально преобразованы. Этого требовал тот новый мир явлений, в изучение которого он теперь погрузился. Фрейд придает термину «энергия» значение психологического «заряда», служащего источником влечения. Этот «заряд» изначально заложен в организме и в этом смысле подобен инстинкту. Следуя биологическому стилю мышления, Фрейд выделял два инстинкта, движущие поведением, – инстинкт самосохранения, без которого живая система рухнула бы, и сексуальный инстинкт, обеспечивающий сохранение не индивида, а всего вида. Именно этот второй инстинкт был возведен Фрейдом в его теперь уже не биологической, а психологической теории на царственное место и окрашен именем либидо, ставшим своего рода паролем всего психоанализа. Бессознательное трактовалось как сфера, насыщенная энергией либидо, слепого инстинкта, не знающего ничего, кроме принципа удовольствия, которое человек испытывает, когда эта энергия разряжается. Поскольку же сознание, в силу запретов, налагаемых обществом, готово препятствовать этому, энергия либидо ищет обходные пути, прорываясь в умственных и телесных реакциях – порой безобидных, а порой патологических, приобретающих характер психоневроза, в частности истерии. Подавленное, вытесненное сексуальное влечение и расшифровывалось Фрейдом по свободным от контроля сознания ассоциациям его пациентов. Такую расшифровку он и назвал психоанализом. При этом из свободных ассоциаций невротиков Фрейд извлек материал, истолкованный в том смысле, что они в детстве были совращены взрослыми. Затем он пришел к выводу, что реального совращения не было и речь должна идти о детских фантазиях на сексуальные темы. Тем не менее по-прежнему осью, вокруг которой вращался изобретенный им психоанализ, оставался принцип редукции (сведения) всего реального драматизма отношений между сознанием и бессознательной психикой к сексуальному влечению — его энергии и динамике. Именно этот принцип придал всем построениям Фрейда специфическую окраску, породив и ныне не утихающие споры о правоте и степени научности этих построений. Эти споры обострились, когда Фрейд присоединил к общей идее о всемогуществе сексуальности новые, еще более сомнительные темы, где эта идея конкретизировалась в ряде мифов, о которых речь пойдет дальше. Открыв роль глубинных, неосознаваемых мотивов в регуляции человеческого поведения, утвердив тем самым новую ориентацию в психотерапии неврозов, Фрейд представил свое открытие ученому миру в категориях и схемах, легко уязвимых для критики, которая вместе с плевелами повыбрасывала и зерна, проросшие впоследствии в ряд продуктивных гипотез и представлений. Но твердая убежденность Фрейда (до 20-х годов) в том, что главным объяснительным принципом всех побуждений, страстей и бед человеческих следует считать либидо, восстановила против него подавляющее большинство тех, с кем он вел исследования бессознательной психики, начиная от Брейера, решительно рассорившегося со своим вчерашним соавтором. Порвав с Брейером, Фрейд наряду с тремя испытанными им методами лечения истерии (гипнозом, анализом трансфера и свободных ассоциаций) решил испытать психоанализ с целью выявить причины собственных душевных конфликтов и невротических состояний. Конечно, ни один из прежних методов для этого не был пригоден. И тогда он обратился к изучению собственных сновидений, результаты которого изложил в уже упоминавшейся книге «Толкование сновидений» (1900). Ее он неизменно считал своим главным трудом, хотя того пансексуализма, с которым обычно связывается имя Фрейда, в ней нет. Впрочем, уже до этого труда Фрейд напал на мысль о том, что «сценарий» сновидений при его кажущейся нелепости – не что иное, как код потаенных желаний, которые удовлетворяются в 65 образах-символах этой формы ночной жизни. Это предположение настолько поразило Фрейда, что он запомнил, при каких обстоятельствах оно пришло ему на ум. Это было в четверг вечером 24 июля 1895 г. в северо-восточном углу террасы одного из венских ресторанов. По этому поводу Фрейд иронически заметил, что на этом месте следовало бы прибить табличку: «Здесь доктором Фрейдом была открыта тайна сновидений». Естественно поэтому, что и собственные сны Фрейд рассматривал после пробуждения, исходя из сложившейся уже у него гипотезы о символике образов. В книге описывались приемы построения этих образов: их сгущение в некий причудливый комплекс, замена целого частью, олицетворение и т. п. При этом полагалось, что существуют символы (полета, падения, видения воды, острых предметов, выпавшего зуба и т. п.), имеющие универсальный смысл для всех людей. Проверка данного положения независимыми авторами не подтвердила этот вывод. Фрейд объяснял образы сновидений как разряды аффектов. По его мнению, говоря словами одного советского психолога, «сновидение, подобно луне, светит отраженным светом». Источник энергии скрыт в бессознательном, в аффектах страха, влечениях и других переживаниях, вытесненных из дневной жизни. Они говорят о себе на особом символическом языке, словарь и способ построения которого Фрейд попытался восстановить. Он предполагал, что сновидения относятся к тому же разряду явлений, с которыми приходится иметь дело врачу, лечащему симптомы истерии. Поскольку образы сновидений посещают здоровых людей, то обращение к механизму порождения этих образов (тщательно разобранному Фрейдом) представилось «царством бессознательного», как древний, архаический слой психической жизни, скрытый за сеткой сознания современного индивида. Идея о том, что на наше повседневное поведение влияют неосознаваемые мотивы, была блестяще продемонстрирована Фрейдом в книге «Психопатология обыденной жизни» (1901 г.). Различные ошибочные действия, забывание имен, оговорки, описки обычно принято считать случайными, объяснять их слабостью памяти. По Фрейду же в них прорываются скрытые мотивы. Если, например, открывая заседание, председатель объявляет его закрытым, то это не простая оговорка, а выражение его нежелания обсуждать на этом заседании неприятный для него вопрос. Заменяя в беседе слово «организм» на слово «оргазм», субъект выражает потаенную мысль. Подобные примеры читатель найдет в работе Фрейда, согласно которой ничего случайного в психических реакциях человека нет. Все причинно обусловлено. Причины и здесь, подобно тому как об этом говорят свободные ассоциации и сновидения, скрыты от сознания субъекта. Их следует искать в исходящих из глубин его психики напряженных импульсах, влечениях, позывах, которые получают выражение в явлениях, имеющих при видимой бессмысленности личностный смысл симптома или символа. В другой работе – «Остроумие и его отношение к бессознательному» (1905) шутки или каламбуры интерпретируются Фрейдом как разрядка напряжения, созданного теми ограничениями, которые накладывают на сознание индивида различные социальные нормы. Конечно, среди этих норм имеются обусловленные исторически складывающимися типами семейнобрачных отношений, характером сексуальных связей или запретов. Реальны и конфликтные ситуации, создаваемые столкновением интересов индивида и общества, своеобразием принятых в этом обществе моральных санкций. Поэтому среди вытесненных влечений могут оказаться также и имеющие сексуальную направленность. Но это вовсе не означает, что они монопольно царят над всеми движущими поведением человека потребностями, как это со все большей настойчивостью утверждал Фрейд. Именно этот подход он отстаивал в «Трех очерках по теории сексуальности» (1905), где весь анализ психоневрозов вращался вокруг подавленного сексуального влечения как главной причины страхов, неврастении и других болезненных состояний. Здесь же предлагалась схема психосексуального развития личности – от младенческого возраста до стадии, на которой возникает естественное половое влечение к лицу противоположного пола. Одной из излюбленных версий Фрейда становится эдипов комплекс как извечная формула отношений мальчика к родителям. В греческом мифе о царе Эдипе, убившем своего отца и женившемся на матери, скрыт, по мнению Фрейда, ключ к тяготеющему над каждым мужчиной сексуальному комплексу: 66 мальчик испытывает влечение к матери, воспринимая отца (с коим он себя идентифицирует) как соперника, который вызывает и ненависть, и страх. Под этот древнегреческий миф Фрейд стремился подвести как можно большее количество клинических случаев и фактов истории культуры. Продолжая практику психотерапевта, Фрейд обратился от индивидуального сведения к социальному. В памятниках культуры (мифах, обычаях, искусстве, литературе и т. д.) он искал выражение все тех же комплексов, все тех же сексуальных инстинктов и извращенных способов их удовлетворения. Следуя тенденциям биологизации человеческой психики, Фрейд распространил на объяснение ее развития так называемый биогенетический закон. Согласно этому закону, индивидуальное развитие организма (онтогенез) в краткой и сжатой форме повторяет основные стадии развития всего вида (филогенез). Применительно к ребенку это означало, что, переходя от одного возраста к другому, он следует за теми основными этапами, которые прошел человеческий род в своей истории. Руководствуясь этой версией, Фрейд утверждал, что ядро бессознательной психики современного ребенка образовано из древнего наследия человечества. В фантазиях ребенка и его влечениях воспроизводятся необузданные инстинкты наших диких предков. Никакими объективными данными, говорящими в пользу этой схемы, Фрейд не располагал. Она носила чисто умозрительный, спекулятивный характер. Современная детская психология, располагая огромным экспериментально проверенным материалом об эволюции поведения ребенка, полностью отвергает эту схему. Против нее однозначно говорит и тщательно проведенное сравнение культур многих народов. Оно не обнаружило тех комплексов, которые, согласно Фрейду, как проклятие висят над всем человеческим родом и обрекают на невроз каждого смертного. Фрейд надеялся, что, черпая сведения о сексуальных комплексах не в реакциях своих пациентов, а в памятниках культуры, он придаст своим схемам универсальность и вящую убедительность. В действительности же его экскурсы в область истории лишь укрепили в научных кругах недоверие к притязаниям психоанализа. Его обращение к данным, касающимся психики «первобытных людей», «дикарей» (Фрейд опирался на литературу по антропологии), ставило целью доказать сходство между их мышлением и поведением и симптомами неврозов. Об этом говорилось в его работе «Тотем и табу» (1913). С тех пор Фрейд стал на путь приложения понятий своего психоанализа к коренным вопросам религии, морали, истории общества. Это был путь, оказавшийся тупиковым. Не от сексуальных комплексов, не от либидо и его превращений зависят социальные отношения людей, а именно характер и строй этих отношений определяют, в конечном счете, психическую жизнь личности, в том числе и мотивы ее поведения. Не эти культурно-исторические изыскания Фрейда, а его идеи, касающиеся роли неосознаваемых влечений как при неврозах, так и в обыденной жизни, его ориентация на глубинную психотерапию стали центром объединения вокруг Фрейда большого сообщества врачей, психиатров, психотерапевтов. Прошло то время, когда его книги не вызывали никакого интереса. Так, потребовалось 8 лет, чтобы была раскуплена книга «Толкование сновидений», отпечатанная тиражом 600 экземпляров. В наши дни на Западе столько же экземпляров продается ежемесячно. К Фрейду приходит международная слава. В 1909 г. он приглашен в США, его лекции прослушали многие ученые, в том числе патриарх американской психологии Уильям Джемс. Обняв Фрейда, он сказал: «За вами будущее». В 1910 г. в Нюрнберге собрался Первый международный конгресс по психоанализу. Правда, вскоре среди этого сообщества, которое объявило психоанализ особой наукой, отличной от психологии, начались распри, приведшие к его распаду. Многие вчерашние ближайшие сподвижники Фрейда порвали с ним и создали собственные школы и направления. Среди них были такие, в частности, ставшие крупными психологами исследователи, как Альфред Адлер и Карл Юнг. Большинство рассталось с Фрейдом из-за его приверженности принципу всемогущества сексуального инстинкта. Против этого догмата говорили как факты психотерапии, так и их теоретическое осмысление. Вскоре и самому Фрейду пришлось вносить коррективы в свою схему. К этому вынудила жизнь. 67 Грянула Первая мировая война. Среди военных врачей имелись и знакомые с методами психоанализа. Пациенты, которые теперь у них появились, страдали от неврозов, сопряженных не с сексуальными переживаниями, а с травмировавшими их испытаниями военного времени. С этими пациентами сталкивается и Фрейд. Его прежняя концепция сновидений невротика, возникшая под впечатлением лечения венских буржуа в конце XIX века, оказалась непригодной, чтобы истолковать психические травмы, возникшие в боевых условиях у вчерашних солдат и офицеров. Фиксация новых пациентов Фрейда на этих травмах, вызванных встречей со смертью, дала ему повод выдвинуть версию об особом влечении, столь же могучем, как сексуальное, и потому провоцирующем болезненную фиксацию на событиях, сопряженных со страхом, вызывающих тревогу и т. п. Этот особый инстинкт, лежащий, наряду с сексуальным, в фундаменте любых форм поведения, Фрейд обозначил древнегреческим термином Танатос, как антипод Эросу – силе, обозначающей, согласно философии Платона, любовь в широком смысле слова, стало быть, не только половую любовь.1 (1Тем самым значение либидо расширялось до любовного влечения к окружающим и любым предметам, а также духовным ценностям). Под именем Танатоса имелось в виду особое тяготение к смерти, к уничтожению либо других, либо себя. Тем самым агрессивность возводилась в ранг извечного, заложенного в самой природе человека биологического побуждения. Представление об исконной агрессивности человека еще раз обнажило антиисторизм концепции Фрейда, пронизанной неверием в возможность устранить причины, порождающие насилие. Вместе с тем, как отмечал Л. С. Выготский (см. его предисловие к работе Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия»), проблема смерти и сопряженных с ней испытаний требует как философскогб, так и естественнонаучного осмысления. Наряду с социальными обстоятельствами (военные неврозы) у Фрейда имелись и личные мотивы обращения к этой проблеме. В начале 20-х годов на него обрушилась тяжелая болезнь, вызванная тем, что он был злостным курильщиком сигар. Терпеливо перенося одну мучительную операцию за другой, он продолжал напряженно работать. В 1915-1917 гг. он выступил в Венском университете с большим курсом, опубликованным под названием «Вводные лекции в психоанализ». Курс требовал дополнений, их он опубликовал в виде 8 лекций в 1933 г. В этот же последний период творчества Фрейда увидели свет его работы, запечатлевшие изменения, которые претерпели его взгляды на структуру человеческой личности («Психология масс и анализ Я» (1921), «Я и Оно» (1923))1. (1Фрейд продолжал также публиковать сочинения по проблемам религии: «Будущее одной иллюзии» (1927), «Моисей и монотеизм» (1939). Остался незаконченным его «Очерк экологии», вышедший из печати в 1940 г.). Организация психической жизни выступала теперь в виде модели, имеющей своими компонентами различные психические инстанции, обозначенные терминами: «оно» («ид»), «я» («эго») и «сверх-я» («супер-эго»). Под «оно» («ид») понималась наиболее примитивная инстанция, которая охватывает все прирожденное, генетически первичное, подчиненное принципу удовольствия и ничего не знающее ни о реальности, ни об обществе. Она изначально иррациональна и аморальна. Ее требованиям должна удовлетворять инстанция «я» («эго»). «Эго» следует принципу реальности, вырабатывая ряд механизмов, позволяющих адаптироваться к среде, справляться с ее требованиями. «Эго» – посредник между стимулами, идущими как из этой среды, так и из глубин организма, с одной стороны, и ответными двигательными реакциями – с другой. К функциям «эго» относится самосохранение организма, запечатление опыта внешних воздействий в памяти, избегание угрожающих влияний, контроль над требованиями инстинктов (исходящих от ид). Особое значение придавалось «сверх-я» («супер-эго»), которое служит источником моральных и религиозных чувств, контролирующим и наказующим агентом. Если ид предопределено генетически, а «я» – продукт индивидуального опыта, то «супер-эго» – продукт влияний, исходящих от других людей. «Оно» возникает в раннем детстве (связано, согласно Фрейду, с комплексом Эдипа) и остается практически неизменным в последующие годы. «Сверх-я» («суперэго») образуется благодаря механизму идентификации ребенка с отцом, который служит для него моделью. Если «я» («эго») примет решение или совершит действие в угоду «оно» («ид»), но в противовес «сверх-я» («супер-эго»), то «оно» испытывает наказание в виде укоров совести, 68 чувства вины. Поскольку «сверх-я» черпает энергию от «ид», постольку «сверх-я» часто действует жестоко, даже садистски. На новом этапе эволюции психоанализа Фрейд объяснял чувство вины у неврастеников влиянием «сверх-я». С помощью такого подхода объяснялся феномен тревожности, занимавший теперь большое место в психоанализе. Различались три вида тревожности: вызванная реальностью, обусловленная давлением со стороны бессознательного «оно» («ид») и со стороны «сверх-я» («супер-эго»). Соответственно задача психоанализа усматривалась в том, чтобы освободить «я» (эго) от различных форм давления на него и увеличить его силу (отсюда понятие о «силе Я»). От напряжений, испытываемых под давлением различных сил, «я» («эго») спасается с помощью специальных «защитных механизмов» – вытеснения, рационализации, регрессии, сублимации и др. Вытеснение означает непроизвольное устранение из сознания чувств, мыслей и стремлений к действию. Перемещаясь в область бессознательного, они продолжают мотивировать поведение, оказывают на него давление, переживаются в виде чувства тревожности и т. д. Регрессия – соскальзывание на более примитивный уровень поведения или мышления. Сублимация — один из механизмов, посредством которого запретная сексуальная энергия, перемещаясь на несексуальные объекты, разряжается в виде деятельности, приемлемой для индивида и общества. Разновидностью сублимации является творчество. Трехкомпонентная модель личности позволяла разграничить понятие о «я» и о сознании, истолковать «я» как самобытную психическую реальность и тем самым как фактор, играющий собственную роль в организации поведения. Правда, вводя этот фактор и ориентируясь на него как на главную опору в психотерапевтической процедуре избавления субъекта от невроза, Фрейд не отступал от своего давнего сравнения отношения «я» к «оно» с отношением всадника к своей лошади. Наездник определяет цель и направление движения, но энергия последнему придается лошадью, то есть исходит из того же самого котла влечений и аффектов, который заложен в организме как биологической системе. Принцип антагонизма биологического и социального (сведенного к воображаемому типу связей между людьми различного пола, возникшему в праисторические времена и перешедшему через поколения в структуру современной семьи) препятствовал пониманию того, что, говоря словами А. А. Ухтомского, «природа наша делаема и возделываема». Предвзятое положение о том, что мотивационные ресурсы личности начисто исчерпываются энергией нескольких квазибиологических влечений, которые «я» как ядро личности вынуждено подчинять тирании навязанного ему с детства квазисоциального «сверх-я», лишило Фрейда возможности объяснить динамику, развития Я, пути наращивания его собственных сил, его преобразований в континууме жизненных встреч с социальным миром. Проведя демаркационную линию между «я» и сознанием, показав, что «я» как психическая (а не гносеологическая) реальность – это особая подсистема в системе личности, решающая свои задачи благодаря тому, что оперирует собственными психологическими (а не физиологическими) «снарядами», указав на драматизм ее отношений с другими подсистемами личности, Фрейд столкнул психологию с областью, которая хотя и имеет жизненно важное значение для бытия человека в мире, однако оставалась для науки неизведанной. В своих завершающих «Лекциях по введению в психоанализ» Фрейд сосредоточился на проблеме отношения психоанализа к религии, науке и, наконец, к мировоззрению, понятому как обобщающая интеллектуальная конструкция, исходя из единообразных принципов которой решаются основные проблемы бытия и познания. Он утверждал, что психоанализ в качестве специальной науки не способен образовать особое мировоззрение, что он заимствует свои мировоззренческие принципы у науки. Между тем в действительности как ряд общих положений самого Фрейда, так и многие концепции его учеников имели определенную мировоззренческую направленность, что отчетливо выражено как в их притязаниях на решение общих проблем, касающихся поведения человека, его отношения к природе и социальной среде, так и в объяснении генезиса и закономерностей развития культуры. Считая свои теоретические построения строго научными, Фрейд подверг острой критике религиозное мировоззрение, а также субъективно-идеалистическую философию. Будучи бескомпромиссным атеистом, считая религию несовместимой с опытом и разумом, Фрейд считал ее формой массового невроза, имеющего в 69 основе психосексуальные отношения и отражающего желания и потребности детства. Тем самым он оставлял без внимания общественно-исторические истоки и функции религии, своеобразную представленность в религиозном сознании ценностных ориентации, порожденных жизнью людей в реальном, земном мире, иррациональное переживание этими людьми своей зависимости от природных и социальных сил. Вместе с тем психоанализ дал импульс изучению сопряженных с религией личностных смыслов и переживаний, разработке проблем психологии религии. Решительно отграничивая религиозное мировоззрение от научного, Фрейд с полным основанием усматривает своеобразие научного мышления в том, что оно представляет собой особого рода деятельность, которая в неустанном поиске адекватной реальности истины дает подлинную, а не иллюзорную картину этой реальности. Наконец, наряду с религиозным и научным мировоззрением Фрейд выделяет еще одну его форму – философию. Он подвергает острой критике приобретшую на Западе доминирующее влияние субъективно-идеалистическую философию, исповедующую интеллектуальный анархизм. Игнорируя принцип согласованности знания с внешним миром, это направление, согласно Фрейду, несмотря на попытки найти поддержку в новейших достижениях естественных наук (в частности, теории относительности), обнажает свою несостоятельность при первом же соприкосновении с практикой. Затем Фрейд обращается к другому философскому направлению — марксизму, сразу же отмечая, что «живейшим образом сожалеет о своей недостаточной ориентированности в нем». Заслуживает внимания признание Фрейдом того, что исследования Маркса завоевали неоспоримый авторитет. Фрейд не касается вопроса о влиянии марксистских идей на психоаналитическое направление, связанное с его именем. Между тем именно в ту эпоху ряд приверженцев его концепции (в том числе и некоторые практикующие психоаналитики) обратились к марксистскому учению о влиянии социальных условий на формирование личности с целью преодолеть версию классического психоанализа предопределенности поведения человека древними инстинктами. Возник неофрейдизм, опиравшийся в критике Фрейда на представления, отразившие влияние Маркса. Фрейд неоднократно оговаривается, что его мнение по поводу марксистской философии носит дилетантский характер. И это верно. Именно это обстоятельство побудило Фрейда свести марксизм к доктрине, ставящей все проявления человеческой жизни в фатальную зависимость от экономических форм. Соответственно свое рассмотрение этого учения Фрейд по существу ограничивает указанным тезисом. С одной стороны, Фрейду приходится признать, что события в сфере экономики, техники, производства действительно изменяют ход человеческой истории, что сила марксизма в «проницательном доказательстве неизбежного влияния, которое оказывают экономические отношения людей на их интеллектуальные, этические и эстетические установки». С другой стороны, Фрейд возражает против того, чтобы считать «экономические мотивы» единственными детерминантами поведения. Но марксизм, как известно (вопреки тому, каким представлял его Фрейд), объясняя своеобразие и многообразие духовной жизни личности, никогда не относил всю сложность мотивационной сферы людей за счет диктата экономики. Полагая, будто, согласно марксизму, этим диктатом аннигилируется роль психологических факторов, Фрейд неадекватно оценивал историко-материалистичес-кое воззрение на активность сознания как фактора, не только отражающего, но и преобразующего в качестве регулятора практических действий социальный мир. Именно принцип историзма позволяет понять истинную природу человеческих потребностей, влечений, мотивов, которые, вопреки Фрейду, преобразуются в процессе созидания материальных и духовных ценностей, а не изначально предопределены биологической конституцией организма. Отрицание социокультурных законов, которым подчинено поведение людей, неизбежно привело Фрейда к психологическому редукционизму, к сведению движущих пружин человеческого бытия к «инстинктивной предрасположенности» в виде психоэнергетики и психодинамики. Видя преимущество марксизма в том, что он «безжалостно покончил со всеми идеалистическими системами и иллюзиями», Фрейд в то же время инкриминирует марксизму создание новых иллюзии, прежде всего стремление вселить веру в то, что за короткий срок удастся изменить человеческую сущность и создать общество всеобщего благоденствия. Между тем марксистская теория общественно-исторического развития, открыв общие законы этого развития, никогда не 70 предрекала ни сроки перехода от одной стадии к другой, ни конкретные формы реализации этих законов. Если марксистская теория обращалась к развитию общества как целостной системы, изменяющейся по присущим ей законам, то Фрейд, как это явствует из его критических замечаний, принимал за основу самодвижения социальной системы изъятый из этой целостности компонент, а именно – влечения человека. Поэтому и изменившая облик мира социальная революция в России трактуется Фрейдом не в контексте всемирно-исторического развития человечества, а как эффект перенесения «агрессивных наклонностей бедных людей на богатых». Неверно и мнение Фрейда, будто смысл большевистской революции в обещании создать такое общество, где «не будет ни одной неудовлетворенной потребности». За этим мнением Фрейда скрыта его трактовка потребностей как нескольких изначально заложенных в биологическом устройстве человека величин, тогда как марксизм исходит из положения, согласно которому сами потребности являются продуктом истории, изменяясь и обогащаясь с прогрессом культуры. Признавая критический дух марксизма и то, что для него опорой послужили принципы строгого научного знания, Фрейд в то же время усматривал в русском большевизме зловещее подобие того, против чего марксизм борется, а именно – «запрет на мышление», поскольку «критические исследования марксистской теорией запрещены». Известно, с какой настойчивостью с первых же послереволюционных лет В. И. Ленин учил молодых марксистов мыслить самостоятельно, критически и всесторонне оценивать реальные социальные процессы, решительно перечеркивать свои прежние представления, когда они оказываются неадекватными новым запросам времени. Догматизм и «запрет на мышление» стали насаждаться во времена сталинщины, за которую исполненная критического духа философия Маркса ответственность не несет. Ленинский подход, реализующий принципы этой философии, утверждается ныне в советском обществе, где доминирующим становится новое мышление, которое не только не запрещает, но, напротив, требует самостоятельного, критического осмысления действительности, творческих инициатив, решительной борьбы с попытками читать произведения Маркса подобно тому, как верующие мусульмане – Коран. Размышляя о будущем человечества, Фрейд сопоставлял ситуацию в капиталистических странах («цивилизованных нациях») с «грандиозным экспериментом в России». Что касается первых, то они, писал Фрейд, ждут спасения в сохранении христианской религиозности. Но ведь религия, с его точки зрения, лишь иллюзия, невроз, «который каждый культурный человек должен был преодолеть на своем пути от детства к зрелости». Что же касается «русского эксперимента», то он – по Фрейду – «выглядит все же предвестником лучшего будущего». Отступая от своей веры в неизменность человеческой природы, Фрейд завершал свою последнюю лекцию о психоанализе выражением надежды на то, что с увеличением власти человека над природой «новый общественный строй не только покончит с материальной нуждой масс, но и услышит культурные притязания отдельного человека». Сочетание справедливых социальных порядков с прогрессом науки и техники – таково условие расцвета личности, реализации ее притязаний как самого ценного и высшего творения культуры. Тем временем социально-психологическая ситуация в Европе становилась все более тревожной. В 1933 г. в Германии к власти пришел фашизм. Среди сожженных идеологами «нового порядка» книг оказались и книги Фрейда. Узнав об этом, Фрейд воскликнул: «Какого прогресса мы достигли! В Средние века они сожгли бы меня, в наши дни они удовлетворились тем, что сожгли мои книги». Он не подозревал, что пройдет несколько лет, и в печах Освенцима и Майданека погибнут миллионы евреев и других жертв нацизма, и среди них – четыре сестры Фрейда. Его самого, всемирно известного ученого, ждала бы после захвата Австрии нацистами та же участь, если бы при посредничестве американского посла во Франции не удалось добиться разрешения на его эмиграцию в Англию. Перед отъездом он должен был дать расписку в том, что гестапо обращалось с ним вежливо и заботливо и что у него нет оснований жаловаться. Ставя свою подпись, Фрейд спросил: нельзя ли к этому добавить, что он может каждому сердечно рекомендовать гестапо? В Англии Фрейда встретили восторженно, но дни его были сочтены. Он мучился от болей, и по его просьбе его лечащий врач сделал два укола, положившие конец страданиям. Это произошло в Лондоне 21 71 сентября 1939 г. В заключение отметим, что сознание являлось, в конечном счете, главным рычагом терапии, главной опорой доктора Фрейда, имя которого в истории культуры навсегда поглотило понятие о бессознательном. Рациональный анализ иррациональных побуждений и, тем самым, избавление от них – таково было его кредо. Но разве возможен иной рациональный анализ, кроме осознанного? И не случайно в одной из своих завершающих публикаций Фрейд признал, что прежде из-за ненадежности критерия сознательности он недооценивал его. «Здесь, – отмечал он, – дело обстоит так же, как с нашей жизнью, – она немногого стоит, но это все, что у нас есть. Без света этого качества сознательности мы бы затерялись в потемках глубинной психологии». Ему долго пришлось блуждать в этих потемках, прежде чем поставить знак равенства между ценностью сознания и ценностью нашей жизни. Наука о человеке призвана рассказать ему больше, чем он сам о себе знает. Сперва она раскрыла механизмы его восприятия окружающего мира, работы его сознания. Ее следующим шагом было проникновение в глубины неосознаваемой душевной жизни. Фрейд первым отважился на этот шаг, и в этом историческое значение его психоанализа. Мы видели, сколь извилисты были его пути, со всеми его прозрениями и просчетами. Десятилетия погружаясь в ежедневное изучение психических недугов, он в работе по их исцелению обогатил знание о человеческой личности широким спектром различной ценности подходов, проблем и понятий. Не приемля умозрительные мифологические концепции Фрейда, современная научная психология и психотерапия усвоили его уроки, отбирая в них все будоражащее творческую мысль. Література: Отечественный психоанализ / Сост. и общая ред. В.М. Лейбина. – СПб.: Питер, 2001. – 445 с. (С.404-439) – (Серия «Хрестоматия по психологи»). 6. Пратусевич Ю.М. Психоанализ Зигмунда Фрейда и современная физиология мозга. Психоанализ как клиническая концепция есть совокупность методов психотерапии неврозов, основанных на выявлении бессознательных следов аффективных переживаний и действий человека, обусловленных неосознаваемыми мотивами. В 1882 г. венский невропатолог Йозеф Брейер (Josef Breuer) показал, что можно излечить случаи истерии, если, погрузив больного в гипнотическое состояние, заставлять его припоминать те аффективные переживания или конфликты, которые когда-то испытывались им, а затем были на длительное время забыты. Как показал опыт, всплывание этих переживаний в сознании вело к их осмысливанию, «отреагированию» и выздоровлению больного. Этот особый метод гипнотерапии впоследствии* был назван J.Breuer и S.Freud катартическим – от древнегреческого термина «катарсис» (katharsis) – очищение, впервые примененного Аристотелем к учению о трагедии: трагедия, вызывая у зрителя страх, гнев, сострадание, заставляет его переживать эти чувства, тем самым как бы «очищая» его душевное состояние и просветляя его чувства. (* Ст. Breuer J. und Freud S. Studien uber Hysterie Leipzig und Wien, Frans Deuticke, 1895. – 269 S.). На приоритет в открытии катартического метода претендовал не только J.Breuer, но и известный французский психолог и психиатр P.Janet. В своей книге «Психологический автоматизм»,* опубликованной в 1899 г., Жанэ описывает клинический эксперимент с больной Мари, ослепшей на левый глаз. (* Janet P. L'automatisme psychologique. Paris: Aican, 1889. (Русский перевод: Жанэ, Пьер. Психический автоматизм. – М., 1913). Погрузив ее в состояние гипнотического сна и внушив ей, что ее возраст менее шести лет, Жанэ обнаружил, что слепота после этого исчезла. Тогда Жанэ в гипнозе выясняет причину болезни – первый раз слепота появилась после того, как Мари принудили спать с мальчиком ее возраста, у которого на левой стороне лица была сыпь. Мари была этим сильно напугана. Тогда Жанэ воспроизводит в гипнозе эту ситуацию: «Я заставил ее вновь увидеть мальчика, которого она боялась, и убедил, что он очень славный и у него нет никакой сыпи... После двух сеансов я одержал победу: она свободно 72 ласкала воображаемого мальчика. Чувствительность левой стороны восстановилась, и, когда я ее разбудил, Мари прекрасно видела левым глазом»*. (* Janei P. L'autematisrRe psvchologiijue. – Paris. – Alcan. – 1889. – p.439-440.). В других опытах на Мари Жанэ восстанавливает под гипнозом не только первичную травмирующую ситуацию, приведшую к заболеванию, но и устраняет после серии гипнотических внушений восстановленные им переживания, ставшие в прошлом причиной потери чувствительности. В этой же книге Жанэ упомянул работу Буррю (Bourru) и Бюро (Burot), изложенную в монографии «Изменение личности»*, в которой авторы предложили способ лечения, очень близкий к катартическому – связанный с воспроизведением в гипнозе травмирующей ситуации и реакции на нее больного. (*Bourru II., Burot P. Les variations de la parsonnalito. – Paris Bailliere. – 1888.). Фрейд узнал о катартическом методе Брейера еще в ноябре 1882 г., но не решался использовать гипноз для лечения неврозов. Лишь в декабре 1887 г. он приступил к лечению истерии одним гипнотическим внушением. Этим методом он пользовался до мая 1889 г. Фрейд в Вене вместе с Брейером разрабатывает стройную теорию истерии и катартический метод гипнотерапии. В 1893 г. Фрейд существенно изменил этот метод. Он показал, что выявление аффективных переживаний, ставших бессознательными, возможно и без применения гипноза. Для этого достаточно было предлагать больному длительно, и совершенно спокойном, «пассивном» состоянии, высказывать все те мысли и ассоциации, которые, казалось бы, случайно приходят ему в голову, ничего не задерживая и по возможности ничего активно не изменяя в их течении. Такое длительное «свободное ассоциирование» приводило обычно к тому, что круг ассоциаций сужался вокруг определенных аффективных следов, комплексов, и в памяти больного появлялись давно забытые аффективные переживания, относящиеся иногда к очень раннему возрасту. Подобные переживания, как свидетельствовал опыт, лишь казались целиком исчезнувшими из психики. Сравните описание в монографии Penfield WW., Roberts L.* «вспышек пережитого» («flash back»), переживания «уже виденного» («deja vecu») и «уже пережитого» («deja vecu») при электрической стимуляции височной доли правого полушария. (*См. Пенфильд В., Робертс Л. Речь и мозговые механизмы: Пер. с англ. – Л.: Медицина, 1964. – С.42-58.). На самом деле указанные переживания были только забыты или активно устранены, «вытеснены» из сознания в том случае, если они были слишком активны, неприемлемы или травматичны. По мнению 3. Фрейда, став «бессознательными», они продолжали оказывать влияние на психическую жизнь больного, проявляясь каждый раз, когда бодрственность сознания оказывалась ослабленной: в состоянии сна или предсонном состоянии, при отвлечении внимания, утомлении, при развитии припадка истерии и прочих состояниях, связанных с торможением функции коры головного мозга. Характерным при этом, пишет Фрейд, было то, что во всех этих состояниях бессознательные аффективные «комплексы» проявлялись часто не открыто, а в замаскированном, извращенном, «зашифрованном» виде, подвергаясь переработке, замещаясь родственными образами или связанными с ними по какому-нибудь частному признаку ассоциациями. Такое «переработанное» проявление комплексов может иметь место в сновидении, случайных оговорках, списках, а также в патологических состояниях: в построении истерических симптомов, в которых истерик часто обходными путями выражает вытесненные аффективные представления – в бреде, страхах и т.п. Прослеживая длительное течение «свободных ассоциаций», направляемых этими аффективными комплексами, и анализируя смысл всех указанных форм их непрямого, замаскированного проявления, психоанализ приводит к тому, что задержанные, вытесненные комплексы оживают, доходят до сознания и осмысливаются больным и благодаря этому изживаются им путем «отреагирования». С таким изживанием, «отреагированием» вытесненных комплексов, по-видимому, связан терапевтический эффект примененного Фрейдом психоаналитического метода. Поэтому психоаналитический метод применим к лечению тех форм психических заболеваний, в основе которых лежат функциональные «психогенные» факторы: истерия, состояние страхов (так называемые фобии), навязчивые состояния и т.д. Другими словами, речь идет о психоневрозах. Для понимания клинического аспекта теории психоанализа, его терапевтической практики 73 требуется рассмотреть происхождение и формирование идей Фрейда (как создателя психоанализа) в связи с основными этапами его жизни. Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 г. во Фрейберге в Моравии (ныне на территории Чехословакии). Медицинское образование получил в Вене в Институте физиологии Венского университета, куда поступил в 1876 г. и где в течение 6 лет слушал лекции профессора Эрнста Брюкке (Brucke), у которого он работал в физиологической лаборатории. Под руководством Брюкке он изучал нервные клетки, выполнив ряд работ по их анатомии, гистологии, физиологии, предвосхищающих открытие нейронов. Затем в Венском институте анатомии мозга под руководством профессора Мейнарта он проводил исследования по сравнительной анатомии мозга. Одновременно в 1882 г. он сдал выпускные экзамены на медицинском факультете Венского университета и получил диплом врача. Материальные затруднения заставляют его отказаться от научной карьеры и согласиться в 1882 г. на место врача в Венской народной больнице. Он работал там в психиатрическом отделении у Мейнарта, изучая органические поражения центральной нервной системы (афазии, детские параличи и др.). В качестве врача по нервным болезням Фрейд пытался найти новое терапевтическое средство, изучая действие кокаина. В 1885 г. благодаря своим работам по нервному расстройству речи Фрейд получил приглашение читать лекции на кафедре невропатологии в Венском университете. Здесь в 1885 г. Фрейд получает стипендию в 600 флоринов и использует ее для поездки в Париж, чтобы прослушать там курс лекций известного французского профессора-невропатолога Жана Мартена Шарко (J.M.Charcot) и поработать в его клинике «Сальпетриер». В Сальпетриере возникает интерес Фрейда к истерии. Фрейд был поражен искусством Шарко с помощью гипноза и внушения на глазах у публики добиваться исчезновения истерических симптомов (параличей, локальной потери чувствительности, потери обоняния, фобий). Шарко показывал, что с помощью внушения (в состоянии гипноза и в условиях бодрствования) можно произвольно вызвать у больных истерией психогенные параличи и другие истерические симптомы, чтобы затем продемонстрировать, как врач может произвольно их устранять. Эти эксперименты Шарко произвели на Фрейда огромное впечатление. Его исследование различий между параличами органическими и истерическими* показывает, что он сразу же понял, что представления Шарко о психической детерминированности истерии открывают путь к созданию концепции истерии, полностью основанной на психическом детерминизме. (*Freud S. Quelgues considerations pur une etude comparative des paralysies motorices organiques // Archives de Neurologie. – 1893. – T. XXVI. – P.29-43). Возвратившись в 1886 г. в Вену, Фрейд начинает рассматривать возможность лечения истерии гипнотическим внушением. Как мы упоминали, до декабря 1887 г. Фрейд не решался пользоваться гипнозом, а метод катарсиса, предложенный Вгеuег’ом, применил для лечения истерии лишь осенью 1889 г. после вторичного посещения Франции в 1889 г. Это было вызвано, пишет его биограф Jones*, отрицательным отношением Шарко к методу Брейера. (*Jones E.La vie et l'oeuvre de Sigmund Freud.T.I., Paris, 1958). В июле 1889 Фрейд в Нанси у Бернгейма (Bernheim) изучает гипноз с целью усовершенствовать свою технику гипноза. Опыты с применением гипноза, на которых он присутствовал у Бернгейма в Нанси, сыграли огромную роль в открытии Фрейдом психоанализа. Он писал в своей автобиографии через 36 лет, что именно Бернгейму он обязан «наиболее глубоким впечатлением по поводу возможности существования мощных психических процессов, остающихся скрытыми от сознания людей»*. (*Freud S. (1925) Va vie ei la psychoanalyse. Paris; Jallimard, 1972. – P.23-24). В первом эксперименте, связанном с постгипнотическим внушением, Бернгейм предварительно загипнотизированному больному дал инструкцию выполнить после пробуждения определенное действие. Когда больной проснулся после гипнотического сна, он реализовал приказ гипнотизера, хотя и не смог вспомнить мотив своего поступка. Во втором эксперименте Бернгейм опрашивал пациентов, длительно находившихся до этого в сомнамбулической фазе гипноза. Казалось, что пациенты, наверняка, полностью забыли обо всем, 74 что с ними происходило в сомнамбулическом состоянии. Однако Бернгейм продемонстрировал возможность «оживления» их воспоминаний, используя чисто психологические приемы опроса: настойчивость, внушение, увещевание. Данные эксперименты позволили Фрейду сделать два важных вывода. Во-первых, они доказали, что определенные представления могут быть содержанием психической жизни человека, могут определять его действия, фигурировать в процессах памяти, хотя человек их не осознавал. Следовательно, есть основание думать, что путешествие в Нанси и встреча с Бернгеймом оказались для Фрейда важным этапом в выработке представлений о бессознательном. Во-вторых, была доказана возможность устранения постгипнотической амнезии с помощью одной лишь суггестии в состоянии бодрствования, что указывало на чисто психогенную природу постгипнотической амнезии. Но если эта амнезия рассматривалась как один из главных признаков развития гипнотического состояния, то этим самым подтверждались представления Бернгейма об исключительно психологическом характере гипноза. Однако интерпретировать явления гипноза с помощью чисто психологических категорий ни Шарко, ни Бернгейм оказались не в состоянии. Внушение сводилось для них к определенному нейрофизиологическому механизму, содержание которого они не представляли. Возвратившись в Вену из Парижа в августе 1889 г., где он с Бернгеймом присутствовал на конгрессе гипнотизма, Фрейд начинает вместе с Брейером разрабатывать теорию истерии и ее психотерапии (1890-1894). Результатом этой работы явилась упомянутая выше их совместная монография «Исследования истерии», опубликованная в 1895 г. Книга выдержала только в Вене четыре издания и была переведена на английский и французский языки. Четвертую главу этой книги «О психотерапии истерии», написанную Фрейдом, мы впервые предлагаем на русском языке читателю. Й. Брейер по личным соображениям отстраняется от дальнейшей работы над терапией истерии. Фрейд же начинает думать об особых межличностных отношениях, складывающихся между врачом и больным. Он приходит к выводу, что эти отношения лежат в основе лечения. Он продолжает самостоятельно клинические эксперименты, модифицировав метод гипноза. В 1895 г. Фрейд пишет «Проект научной психологии», в котором делает попытку объяснить психическую жизнь человека с позиции механистического анатомо-физиологического детерминизма. Это объяснение, однако, не удовлетворило Фрейда, и при его жизни эта работа не была напечатана (опубликована на английском языке в 1954 г. через 15 лет после смерти автора). Во второй половине XIX в. естествознание выводило психические явления из устройства тела и совершающихся в нем физиологических процессов. Фрейд пытался отыскать причину психических явлений в строении нервных клеток, нейрогистологией которых он занимался у Э. Брюкке, считая, что тем самым он остается на твердой анатомо-физиологической почве. Но экспериментальные факты неврологической клиники, в частности те, что он наблюдал в Сальпетриере у Шарко, в Нанси у Бернгейма, в своей практике в клинике нервных болезней в Вене, вынуждали его признать самостоятельную роль психической активности. Известно, что такие крупные исследователи-врачи, как Г. Гельмгольц и И.М. Сеченов, признавали самостоятельную роль психического. Гельмгольц в «Физиологической оптике», исследуя развитие у ребенка пространственного видения, приходит к выводу, что оно должно принять в его голове форму умозаключительных процессов, хотя в этом возрасте (1 год) ребенок не умеет сознательно рассуждать. Между тем образ пространственного видения и строящиеся на его основе двигательные акты обнаруживают род рассуждений относительно удаления, направления, величины и прочих пространственных признаков видимых предметов, однако этот образец невыводим из устройства сетчатки глаза. Этот рассудочный характер выражен в чувственных актах ребенка настолько убедительно, что Гельмгольц правомерно определяет пространственный образ как «бессознательное умозаключение» (ubbew-usste Schlusse). Аналогичным образом, рассматривая целесообразное действие человека, И.М. Сеченов указывает на роль «бессознательных ощущений или чувствований». Крупный французский психоневролог П. Жанэ (PJanet), ученик Ж. Шарко, работавший у 75 него одновременно с Фрейдом, рассматривая побуждения своих пациентов, их мотивы, выдвинул понятие о «психической энергии» как детерминанте поведения человека. Чтобы понять эту новую детерминанту человеческого поведения, значение в нем бессознательной мотивации (учение о которой складывалось в недрах физиологии), нам необходимо рассмотреть учение голландского философа-материалиста Бенедикта Спинозы (16321677) об аффектах, переживаниях человека. Учение об аффектах было им изложено в его главном сочинении «Этика» (1677). В противоположность дуалистическому учению о человеке Рене Декарта (1596-1650), Спиноза развил монистическое учение о человеке. Декарт в своем психологическом сочинении «Трактате о Страстях души» (1649) считает, что в человеке сочетается материальный безжизненный механизм тела с нематериальной мыслящей и творящей душой. Согласно монистическому учению Спинозы, субстанциальна только природа, являющаяся причиной самой себя, а психическое (мышление, воля, сознание, страсти, аффекты) не имеют субстанциальности. Человек, по мнению Спинозы, это целостное природное существо, в котором телесное (физиологическое) и психическое (мышление и страсти) находятся в единстве и не могут быть разделены на самостоятельные сущности. Поведением человека, пишет Спиноза, движет стремление к самосохранению. Последнее является могучей побудительной, мотивационной силой, заложенной природой в каждом существе. Спиноза развивает идею Декарта о том, что страсти души рождаются из стремления тела к самосохранению, формулируя движущее начало человеческого поведения. Это начало — влечение, т.е. психическое состояние, выражающее неосознанную или мало осознанную потребность (мотив) человека. По учению Спинозы, «это стремление, когда оно относится... вместе и к душе и к телу, оно называется влечением (appetitus), которое поэтому есть не что иное, как самая сущность человека»*. (*Спиноза Б. Избранные произведения. Т. I. – М.: Госполитиздат, 1957. – С.464). Таким образом, влечение для Спинозы является психофизиологическим феноменом. Осознанная потребность превращается в конкретное желание: «Желание есть влечение с сознанием его»*. (*Там же. – С.464). То, что Спиноза назвал «влечением», теперь относится к категории мотивации, точнее к несознаваемым мотивам. Итак, в феномене мотивации (влечении, по Спинозе) наблюдается единство психического и физиологического, что может дать ключ к пониманию и психофизиологической регуляции поведения человека. Аффектом Спиноза называет как состояние человеческой души, имеющей смутные или ясные идеи, так и связанное с этим состояние человеческого тела. Отсюда аффект, являющийся одновременно душевным и телесным состоянием, — есть выражение стремления человека к самосохранению. Основных аффектов, переживаемых человеком, учит Спиноза, три: удовольствие или радость, неудовольствие или печаль, и желание или вожделение. В действительности же, по мнению Спинозы, существует бесчисленное множество сугубо индивидуальных аффектов (чревоугодие, пьянство, разврат, скупость, честолюбие и т.п.), которые, возникнув в результате тех или иных причин, могут слагаться друг с другом разными способами, образуя все новые разновидности аффектов, страстей. Спиноза различает аффект и страсть: любая страсть есть, безусловно, аффект, но не всякий аффект есть страсть. Страстью являются лишь пассивные аффекты, которые связаны со смутными идеями, возникающими на основе чувственного познания. Аффекты-страсти могут заполнить все сознание человека, так что он будет бессилен противиться им, будет в рабстве у страстей. Это, по Спинозе, могущество и власть над человеком природы. Познавая аффекты, человек меньше страдает от влечений и желаний, вытекающих из аффектов, т.к. он уже понимает аффект как звено в цепи всеобщей мировой детерминации. Тело, согласно Спинозе, представляет динамическую психофизическую систему. Душевные состояния, бурно протекающие эмоциональные переживания в виде аффектов радости и печали, увеличивают или уменьшают способность тела к действию: «Под аффектами я разумею состояния (corporis affectiones), которые увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию, благоприятствуют ей или ограничивают ее, а вместе с тем и идеи этих состояний»*. (*Спиноза Б. Там же. – С.456). Положительные аффекты увеличивают способность тела к действию, а души – к познанию. Спиноза писал о телесной сущности любых аффектов, т.е. мотивов в современном понимании. Без чувств, аффектов, считал Спиноза, не может быть человеческого поведения, оно всегда имеет 76 аффективную составляющую. Учение Спинозы о роли аффектов в человеческой деятельности интересно сравнить с аналогичным высказывание В.И. Ленина: «...Без «человеческих эмоций» никогда не бывало, нет и быть не может человеческого искания истины»*. (*Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т.25. – С.112). Резюмируя учение Спинозы об аффектах, правомерно утверждать, что в пяти разделах «Этики» Спиноза формулирует важнейшее представление о мотивациях (аффектах), определяющих причины и механизмы активного поведения человека. Физиологическая концепция возникновения мотиваций (страстей, желаний, хотений) была предложена в 1863 г. И.М. Сеченовым в «Рефлексах головного мозга». «...Страсть, — пишет Сеченов, — с точки зрения своего развития, принадлежит к отделу усиленных рефлексов. Начало страсти лежит... в элементарных чувственных наслаждениях ребенка»*. (*Сеченов И.М. Избр. произведения. – М., 1953. – С.101). Одновременно с развитием страстных психических образований, пишет Сеченов, появляются желания. Психическая сторона рефлекса, т.е. ощущение, представление и пр., независимо от примешанного к ней страстного элемента, становится яснее и ярче путем ассоциации и анализа, а страстность, наоборот, во многих случаях исчезает, так как даже приятные впечатления, часто повторяясь, надоедают. «Желание в страстном психическом акте — то же, что мысль в обыкновенном, — первые две трети рефлекса. Томительная сторона желания есть в свою очередь источник страсти, выражающейся лишь отлично от наслаждения»*. (*Там же. – С.105). Очень важна точка зрения И.М. Сеченова на психофизиологические основы любви, относящаяся к 1863 г. Ее интересно будет в дальнейшем сравнить с концепцией Фрейда, опубликованной в 1900 г. в «Толковании сновидений». В 5-6 лет ребенок «отделил свою особу от внешнего мира и, конечно, бессознательно, уже любит себя, или, правильнее сказать, любит себя в наслаждении»*. (* Там же. – С. 106). В более старшем возрасте мальчик влюбляется в женщину, «В любви к женщине, – развивает свою концепцию Сеченов, – есть инстинктивная сторона – половое стремление. Это ее начало, потому что любовь начинается, как известно, в мальчике лишь во время созревания половых органов. Вопрос, ассоциирует ли мальчик уже первые половые ощущения с образом женщины невольно, или эта ассоциация подготовлена знанием наперед, решить я не берусь. Известно только, что при нашем воспитании детей последнее случается, наверно, у 9/10 всех мальчиков. Как бы то ни было, а ассоциация существует уже рано, и каким бы путем она не приобреталась, во всяком случае, в основе ее нет, конечно, ничего произвольного. Равным образом трудно указать на условия, почем у ранние половые ощущения ассоциируются непременно вот с образом такой-то женщины, а не другой или не со всеми... В такой идеал, когда он начинает сильно занимать воображение, вкладывается обыкновенно все, что любишь не только в женщинах, но даже и в рыцарях. Когда же, наконец, идеал более или менее определился и мальчику случилось встретить женщину, похожую по его мысли на этот идеал, то он, как говорится, переносит свою мечту на эту женщину, и начинает ее любить в ней. По-нашему, он ассоциировал свой страстный идеал с реальным образом. Это и есть так называемая платоническая любовь. В ней половой характер чрезвычайно бледен на том основании, что рядом с яркими, следовательно, страстными зрительными и слуховыми ощущениями, лежат неопределившиеся еще темные половые желания»*. (*Сеченов И.М. Там же. – С.107-108). Анализируя далее влюбленность, Сеченов делает важный вывод: «Любя женщину, человек любит в ней, собственно говоря, свои наслаждения; но, объективируя их, он считает все причины своего наслаждения находящимися в этой женщине, и таким образом в его сознании, рядом с представлением о себе, стоит сияющий всякими красотами образ женщины. Он должен любить ее больше себя, потому что в свой идеал я никогда не внесу из собственных страстных ощущений те, которые для меня неприятны. В любимую женщину вложена только лучшая сторона моего наслаждения»*. (*Там же. – С.108). Обладание же предметом любви, по рефлекторной концепции И.М. Сеченова, ведет со временем к исчезновению страсти: «Но вот мужчина начинает обладать своим идеалом. Страсть 77 его вспыхивает еще живее, ярче, потому что место темных, неопределенных, половых стремлений заступают теперь яркие, трепетные ощущения любви, да и самая женщина является в небывалом дотоле блеске. Проходят месяцы, год, много два, и обыкновенно страсть уже потухла, даже в тех счастливых случаях, когда с обеих сторон действительность соответствовала идеалам. Отчего это? Да на основании закона, по которому яркость страсти поддерживается лишь изменчивостью страстного образа. В год, в два, при жизни, очень близкой друг к другу, сумма возможных перемен и с той и с другой стороны давным-давно исчерпалась, и яркость страсти исчезла. Любовь, однако, не уничтожилась: от частого повторения рефлекса, в котором психическим содержанием является представление любовницы с теми или другими, или со всеми ее свойствами, образ ее сочетается, так сказать, со всеми движениями души любовника, и она стала действительно половиной его самого. Эта любовь по привычке – дружба»*. (*Сеченов И.М. Там же. – С.108-109). Разбирая желание, Сеченов пишет, что желание «является каждый раз, когда страстный рефлекс остается без конца, без удовлетворения... Желание есть, конечно, не что иное, как страстная сторона мысли». Отсюда Сеченов заключает: «... Желание, как ощущение, имеет всегда более или менее томительный, отрицательный характер; напротив, ощущения, сопровождающие поступок, т.е. удовлетворение страстного желания, имеют всегда яркий, положительный характер»*. (*Там же. – С.110). И.М. Сеченов различает желание и хотение: «Если в сознании, в форме мысли, дан почти бесстрастный психический рефлекс, то страстную, стремительную сторону его к концу, т.е. к удовлетворению страсти, я назову хотением. Я хочу сделать то-то. При ясно выраженной страстности та же сторона рефлекса пусть будет желание»*. (*Там же. – С.110-111). По Сеченову, бесстрастное хотение – акт самой воли, по своей мощи он безграничен. Вместе с тем, как мы видели из определения, хотение имеет, по Сеченову, рефлекторную природу: «Определенными внешними влияниями вызываются последовательно ряды ассоциированных мыслей, и конец рефлекса вытекает логически из сильнейшей»*. (*Там же. – С.111). Рассуждая дальше о соотношении хотения и желания, Сеченов делает вывод о том, что бесстрастное хотение, каким бы независимым от внешних влияний ни казалось, оно в сущности так же зависит от них, как любое ощущение. Там, где причина, лежащая в основе хотения, неуловима, – результат хотения не имеет характера силы. Наоборот, в борьбе с сильным и страстным желанием, из которого бесстрастное хотение выходит победителем, в основе последнего, по мнению И.М. Сеченов, лежит или мысль с очень страстным субстратом, или мысль очень крепкая от частоты повторения рефлекса, т.е. привычка. Таким образом, детерминантами человеческого развития и поведения в учении И.М. Сеченова о рефлексах головного мозга выступали: 1) среда (способность организма воспринимать через рецепторы раздражения среды и взаимодействовать с ней) и 2) мотивация (аффекты, страсти, желания, хотения). Однако в дальнейшем уровень детерминации в учении об условных рефлексах И.П. Павлова был чисто биологический. В этом учении всесторонне была развита теоретически и экспериментально первая детерминанта поведения, сформулированная И.М. Сеченовым. Вторая сеченовская детерминанта – мотивы, влечения, аффекты, страсти, эмоции, желания, хотения – как источник активности индивида (личности) – не получила своего развития в павловской концепции поведения. Желания, стремления, аффекты, страсти, хотения становятся в психоанализе Фрейда основной детерминантой поведения. Мотив является, по Фрейду, одной из главных психических реалий. Рефлекторная же теория стремилась свести образ (основной предмет гештальтпсихологии) к следам внешних раздражений, действия – к рефлексам, мотивацию – к биологическим импульсам. В 1900 г. Фрейд опубликовал главную свою монографию «Толкование сновидения», положившую начало развитию психоанализа и сформулировавшую учение Фрейда о бессознательном. Психоанализом был назван Фрейдом примененный им метод психотерапии, который произошел из так называемого катартического метода, опубликованный им совместно с J. Breuer в «Исследованиях истерии» в 1895 г. Как мы уже говорили, катартическая терапия была 78 изобретена Брейером в 1882 г., который, пользуясь ею, впервые вылечил истеричную больную и установил определенный взгляд на патогенез ее симптомов. Под влиянием Брейера Фрейд стал снова применять этот метод и испробовал его на большом числе больных. Катартический метод основывался на предположении о том, что в гипнозе больной переносится в то психическое состояние, в котором первый раз появился невротической симптом. У гипнотизированного больного возникали тогда воспоминания, мысли и импульсы, выпадавшие до того из сознания. И, когда он при проявлениях интенсивного аффекта сообщал врачу эти свои душевные переживания, то невротический симптом оказывался преодоленным и возвращение его становилось невозможным. Этому повторяющемуся факту оба автора дали в упомянутой монографии объяснение, видя в невротических симптомах замену подавленных и не достигших сознания психических процессов, т.е. конверсию (превращение) их в невроз. Терапевтическое влияние своего метода авторы объясняли изживанием «ущемленного» до того аффекта, связанного с подавленными душевными актами (процесс «отреагирования»). Простая схема психотерапии усложнялась, как правило, всякий раз, так как оказывалось, что в образовании невротического симптома принимало участие не одно травмирующее впечатление, а целый ряд их. Таким образом, главный признак этого метода состоял в том, что при нем терапевтическое влияние зависит не от внушения запрета врача, а, наоборот, симптому исчезнут сами, если психотерапевту удастся дать другое направление течению душевных процессов, до того приводивших к образованию невротических симптомов. Изменения, внесенные в катартический метод Брейера, ограничились вначале, как мы упомянули выше, изменением техники выявления аффективных переживаний. Но это повело к новым результатам и в дальнейшем привело к иному, хотя и не противоречащему прежнему, пониманию психотерапии неврозов. В катартическом методе уже не было внушения. Фрейд же предпринял дальнейший шаг, отказавшись и от гипноза, заменив его методом «свободных ассоциаций». Применяя психоаналитический метод, Фрейд заставлял своих больных улечься удобно на спине на софе, а сам усаживался на стуле позади них так, чтобы они его не видели. Они лежат с открытыми глазами. Фрейд избегает прикосновения к больным и всего того, что напоминает гипноз. Сеанс психоанализа протекает в виде беседы между двумя одинаково бодрствующими лицами, из которых больной избегает какого-либо мускульного напряжения и всякого отвлечения внимания от собственных душевных переживаний, на которых пациент непрерывно должен концентрировать свое внимание. Так как гипнабельны, независимо от умения врача, примерно от четверти до одной десятой невротиков, зависит это также и от доброй воли пациента и большинство больных не удается загипнотизировать никаким способом, то отказ от гипноза обеспечил психоанализу возможность применять психотерапию неврозов на неограниченном числе больных. Как мы упоминали, техника психоанализа Фрейда требовала от пациентов, чтобы они концентрировали внимание на первых приходящих в голову мыслях. Для этого они должны были дать себе полную свободу в том, что говорят, как это делают, например, в разговоре, переходя без всякой последовательности с одной мысли на другую. Раньше, чем потребовать от них подробного изложения истории болезни, Фрейд настаивал, чтобы они ему рассказывали все, что им при этом приходит в голову, даже если они думают, что это неважно, или не относится к делу, или бессмысленно. Но с особенной настойчивостью Фрейд от них требовал, чтобы они не устраняли из своего рассказа ни одной мысли или чего-нибудь, возникшего у них в голове, только потому, что им стыдно или неприятно сказать. Собирая этот материал мыслей пациентов, которым обычно пренебрегают, Фрейд сделал наблюдение, ставшее решающим для психоаналитической концепции. Уже во время рассказа истории болезни у больного оказываются изъяны воспоминаний оттого ли, что были забыты фактические события или оттого, что перепутаны временные отношения или разорваны причинные связи, благодаря чему наблюдаются непонятные эффекты. Без какой-нибудь амнезии не бывает невротической истории болезни. Если заставить рассказывающего больного заполнить изъяны его памяти напряженной работой внимания, то можно заметить, что возникающие по этому поводу мысли вытесняются всеми средствами критикой до того, что ему в конце концов 79 становится не по себе, когда действительно появилось воспоминание. Из этого факта Фрейд сделал заключение, что амнезия является результатом процесса названного им вытеснением, причиной которого он считает неприятное чувство. Глубинная бессознательная психическая энергия, вызвавшая это вытеснение проявляется в сопротивлении против лечения. Вытеснение – один из видов психологической защиты. Отбрасываемые обычно под всевозможными предлогами, пришедшие в голову мысли Фрейд считал «отпрысками» вытесненных психических образований (мыслей и душевных движений); искажениями их вследствие имеющегося сопротивления их воспроизведению. Чем больше сопротивление, пишет Фрейд в «Толковании сновидений», тем глубже это искажение. Во взаимоотношении между случайными мыслями, приходящими в голову, и вытесненным психическим материалом и заключается их ценность для терапевтической техники психоанализа. Если обладаешь методом, позволяющим проникнуть от этих случайных мыслей к вытесненному, от искажений к искаженному, то удается и без гипноза сделать доступным сознанию бывшее прежде бессознательным в психической жизни. Под бессознательным Фрейд понимал нереализованные влечения, которые в результате конфликта с требованиями социальных норм не допускались в сознание, отчуждались с помощью механизма вытеснения, обнаруживая себя в обмолвках, оговорках, сновидениях и пр. Гипотеза бессознательного и вызываемые им деформации: симптомы истерии, равно как и симптомы вообще (оговорки, забывания), а также сновидения являются реализацией желания. Таким образом, в глубинах психики индивида существуют бессознательные психические силы (главной из которых является либидо – сексуальное влечение), которые Фрейдом рассматриваются как доминирующий мотив человеческого поведения. Бессознательное отличается от сознания тем, что отражаемая им реальность сливается с переживаниями субъекта, его отношениями к миру, поэтому в бессознательном невозможен произвольный контроль осуществляемых субъектом действий и оценка их результатов. В бессознательном действительность переживается субъектом через такие формы уподобления, отождествления себя с другими людьми и явлениями, как непосредственное эмоциональное чувствование, идентификация, эмоциональное заражение, объединение различных явлений в один ряд через сопричастие, а не через выявление логических противоречий и различий. Фрейд подчеркивает, что в бессознательном прошлое, настоящее и будущее сосуществуют, объединяясь в одном психическом акте, например, в сновидении. Бессознательное находит свое выражение в ранних формах познания ребенком действительности, в первобытном мышлении, интуиции, аффектах, панике, гипнозе, сновидениях, привычных действиях, субсенсорном восприятии, непроизвольном запоминании, а также в стремлениях, чувствах и поступках, причины которых не осознаются субъектом. Резюмируя, можно сделать вывод, что Фрейд термином бессознательное обозначал особую область психики, сосредоточившей в себе вечные влечения, мотивы, стремления, смысл которых определяется инстинктами и недоступен сознанию. Эта область психики неоднократно описывалась в художественной литературе. Так, главный персонаж романа А.С. Грина «Бегущая по волнам» Томас Гарвей очарован и пленится Несбывшимся и – вопреки всему – упрямо стремится к нему: «Я вспомнил мои разговоры с ним о власти Несбывшегося... Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?»*. (*Грин А.С. Бегущая по волнам. Золотая цепь: Романы. – Рига: Лиесма, 1985. – С.149). Большую роль играет бессознательное в искусстве. Этот факт анализирует Л.С. Выготский. Бессознательное делается предметом изучения не само по себе, пиши г он. ло косвенным путем, путем анализа тех следов, которые оно оставляет в нашей психике, т.к. бессознательное не отделено от сознания какой-то непроходимой стеной. Процессы, начинающиеся в 80 бессознательном, имеют часто свое продолжение в сознании, и, наоборот, многое сознательное вытесняется нами в подсознательную сферу. Существует постоянная, ни на минуту не прекращающаяся живая динамическая связь между обоими сферами нашего сознания – сознательным и бессознательным. «Бессознательное влияет на наши поступки, обнаруживается в нашем поведении, и по этим следам и проявлениям мы научаемся распознавать бессознательное и законы, управляющие им»*. (*Выготский Л.С. Психология искусства. – 3-е изд. – М.: Искусство, 1986. – С.92). Фрейд называет две формы проявления бессознательного и изменения действительности, которые ближе к искусству, чем сон и невроз, и указывает на детскую игру и фантазию наяву. «Несправедливо думать, – пишет он, – что ребенок смотрит на созданный им мир несерьезно; наоборот, он относится к игре очень серьезно, вносит в нее много одушевления. Противоположение игре не серьезность, но – действительность. Ребенок прекрасно отличает, несмотря на все увлечения, созданный им мир от действительного и охотно ищет опоры для воображаемых объектов и отношений в осязаемых и видимых предметах действительной жизни... Поэт делает то же, что и играющее дитя, он создает мир, к которому относится очень серьезно, то есть вносит много увлечения? в то же время резко отделяя его от действительности»*. (*Фрейд 3. Психологические этюды. Навязчивые действия и религиозные образы. Поэт и фантазия. «Культурная» сексуальная мораль и современная нервозность. – 2-е изд. – М. – 1912. – С.18). Когда ребенок перестает играть, он не хочет, однако, отказаться от того наслаждения, которое ему доставляла игра. Но т.к. он не может найти в действительности источник для этого удовольствия, то игру ему начинают заменять сны наяву или те фантазии, которым придается большинство людей в мечтах, воображая осуществление своих часто любимых эротических или каких-либо иных влечений. «...Вместо игры он теперь фантазирует. Он строит воздушные замки, творит то, что называют «снами наяву»*. (*Там же. – С. 19). Фрейд отмечает, что в фантазиях могут быть мучительные переживания, которые тем не менее доставляют удовольствие. Это во-первых. Вовторых, ребенок никогда не стыдится своих игр и не скрывает своих игр от взрослых, «а взрослый стыдится своих фантазий и прячет их от других, он скрывает их как свои сокровенные тайны и охотнее признается в своих проступках, чем откроет свои фантазии. Возможно, что он вследствие этого считает себя единственным человеком, который имеет подобно фантазии, и не имеет представления о широком представлении подобного творчества среди других»*. (*Там же. – С.20). В-третьих, Фрейд считает, что неудовлетворенные желания – побудительные стимулы фантазии. Каждая фантазия, как сновидение, – это осуществление желания, корректив к неудовлетворяющей действительности. Поэтому Фрейд полагает, что в основе поэтического творчества, так же как в основе сна и фантазией, лежат неудовлетворенные желания, часто такие, «которых мы стыдимся, которые мы должны скрывать от самих себя и которые поэтому вытесняются в область бессознательного»*. (*Там же. – С. 23). Подведем итог представлению Фрейда о бессознательном. Психика, по Фрейду, образуется из трех «слоев» – бессознательного, подсознательного и сознания. Бессознательное – это глубинный фундамент психики, определяющий всю сознательную жизнь человека и даже судьбы личностей и целых народов. Бессознательные влечения к наслаждению и смерти (инстинкт агрессии) – смысловое содержание всех эмоций и переживаний. Подсознательное (или предсознательное) – это особая пограничная область между сознанием и бессознательным. В эту область прорываются бессознательные влечения и здесь же особая психическая «инстанция», порожденная общественной жизнью человека, его «сверх-Я» (или совесть), подвергает их строгой цензуре («цензуре» сознания). Сознание, по мнению Фрейда, – это поверхностное проявление психики на стыке с внешним миром и зависит оно прежде всего от бессознательных сил. Но возвратимся к психоаналитическому методу лечения невротических заболеваний. Фрейд разработал искусство толкования. Психоаналитический метод используется не только как метод свободного рассказа пациентов о своих переживаниях (метод «свободных ассоциаций»), но и толкование сновидений больного, открывающий самый простой подход к ознакомлению с бессознательным, его непреднамеренными действиями, совершаемыми без всякого плана, и ошибочными действиями в повседневной жизни (обмолвки, оплошности, 81 ошибки, забывание и т.п.). В книге «Толкование сновидений» Фрейд указывает: После полной интерпретации сновидения оказывается, что оно всегда является исполнением какого-то желания. То же самое можно сказать о фантазии («сне наяву») и о любом симптоме, как признаке, сигнализирующем о желании. Фрейд выделяет специфические особенности сновидений: различие между формой, в которой проявляется сновидение, и структурой, выражающей это проявление. Первая – это видимое содержание, второе – это скрытое содержание. Между видимым и скрытым осуществляется вся работа сновидения. Здесь действуют механизмы сгущения и передвигания, с одной стороны, осознания смысла образов и вторичной переработки – с другой. Сгущение – это совмещение элементов, в реальности изолированных. В результате процесса передвигания на первый план выдвигается та или иная незначительная деталь, и только анализ может выявить в сновидении его наиболее важную, значимую сторону. Передвигание – это процесс последовательного упорядочивания. Как сгущение, так и передвигание маскируют и деформируют содержание сновидения. Фрейд сравнивает сновидение с ребусом. Его можно рассматривать с двух сторон: с одной стороны, это вещи, которые нам сняться («ребус» произошел от латинского слова «res» – вещь, в буквальном переводе «ребус» значит «через вещи»), с другой – оно подобно тем представленным в форме картинок загадкам, в которых каждый разрозненный элемент обозначает слово, а слова, разгадываемые одно за других, упорядоченные и объединенные, открывают нам общий смысл сновидения. Фрейд открывает язык сновидений до тех пор зримый, но нерасшифрованный и делает возможным его понимание. «Мысли и содержание сновидения – пишет Фрейд в «Толковании сновидений», – предстают перед нами, как два изображения одного и того же содержания на двух различных языках, или, вернее говоря, содержание сновидения представляется нам переводом мыслей на другой язык, знаки и правила которого мы должны изучить путем сравнения оригинала и этого перевода. Мысли сновидения понятны нам без дальнейших пояснений, как только мы их узнаем. Содержание же составлено как бы иероглифами, отдельные знаки которых должны быть переведены на язык мыслей. Мы, несомненно, впадаем в заблуждение, если захотим читать эти знаки по их очевидному значению, а не по внутреннему смыслу... правильное рассмотрение ребуса получается лишь в том случае, если мы не предъявим таких требований ко всему целому и к его отдельным частям, а постараемся заменить каждый его элемент слогом или словом, находящимся в каком-либо взаимоотношении с изображенным предметом. Слова, получаемые при этом, уже не абсурдны, а могут в своем соединении воплощать прекраснейшее и глубоко-мысленнейшее изречение. Таким ребусом является и сновидение, и наши предшественники в области толкования последнего впадали в ошибку, рассматривая этот ребус в виде композиции рисовальщика. В качестве такового он вполне естественно казался абсурдным, лишенным всякого смысла»*. (*См. настоящее издание, с.73). Психоанализ – это «talking cure», лечение разговором, говорит Фрейд в сентябре 1909 г. в своих известных пяти лекциях «О психоанализе»: «Сама больная... дала этому новому способу лечения имя «talking cure», лечение разговором, или назвала это лечение в шутку «chimney sweeping», трубочистом»*. (* См. настоящее издание, с. 181). В своем докладе на 2-м конгрессе психоаналитиков в Нюрнберге в 1910 г. Фрейд сравнивает психотерапевтические осознания патогенных переживаний с магическим заклятием духов: «...Психоневрозы представляют собой искаженные заменой удовлетворения влечения, существование которых больной вынужден скрывать перед собой и перед другими. Их существование основано на этом искажении и непонимании. Эти болезненные состояния не могут существовать, когда загадка их разрешается, и разрешение их принимается больными. Едва ли найдется нечто подобное в медицине; только в сказках говорится о злых духах, сила которых пропадает, как только назовешь их по их настоящему имени, которое они держат в тайне»*. (*Фрейд 3. Методика и техника психоанализа. – М. – Петроград, 1923. – С.41). Переживания пациента, которые в результате вытеснения не могут быть выражены им во внешней или внутренней речи (т.е. осознаны), находят искаженное выражение в невротических симптомах. Отсюда: поиск утраченного в речи пациента смысла составляет самую суть созданного 82 Фрейдом метода психоанализа. Поэтому Фрейд выдвигает формулу «исцеление через осознание». Большую роль в терапевтическом механизме психоанализа Фрейд отводит трансферу (от лат. transfere – переносить). Этим термином Фрейд обозначает перенос на личность психотерапевта эмоционального отношения пациента к значимым для него людям, перевод на аналитика аффективных потребностей пациента. Трансфер – это отношения между аналитиком и пациентом, наполненные глубоким доверием и неограниченной откровенностью, которые существуют между ребенком и матерью, между любящими друг друга взрослыми людьми, между верующим и его божеством. Фрейд пишет, что чувства любви, восхищения, уважения (позитивный трансфер), а также ненависти, страха, отвращения (негативный трансфер) самопроизвольно возникают у пациента в психоаналитическом сеансе при отсутствии в поведении психотерапевта объективных причин, которыми они могли бы быть объяснены. Важно акцентировать то, что Фрейд рассматривал трансфер как феномен переноса, присущий любым человеческим отношениям и проявляющийся не только в терапевтическом сеансе, но и обыденной жизни. Он подчеркивал, что хотя возникновение отношения трансфера предполагает наличие двух субъектов, само отношение реализуется только одним из членов пары: ребенком, влюбленным, верующим, пациентом. При этом второй член пары наделяется всеми необходимыми для реализации отношения качествами. В действительности второй член пары может не обладать этими качествами (в свое время об этом же писал Стендаль в трактате «О любви», назвав подобное отношение «стадией кристаллизации» чувства). Чем сильнее, писал Фрейд, стремление к реализации отношения, тем больше может быть разрыв между реальными и воображаемыми качествами врача-психоаналитика. Наконец, возможно состояние трансфера, когда другой субъект полностью может быть продуктом воображения. Интересна работа М.Г. Ярошевского, в которой осуществлена попытка проследить генезис психоанализа. Историки обратили внимание на удивительное сходство между некоторыми мифами Платона (428-348 до н.э.) и определенными положениями Фрейда, претендующими на то, что они извлечены из эмпирии. Так, читатель увидит, что трактовка (см. книгу «Толкование сновидений») сновидений Фрейдом полностью совпадает с их интерпретацией Платоном как исполнения желаний. Платоновское учение об Эросе (гр. Eros – бог любви) как могущественной побудительной силе, понятие о реминисценции (смутное воспоминание), теория воспоминания (диалог «Федон») совпадают с психоаналитическими концепциями Фрейда. Миф Платона о вознице-разуме, пытающемся править колесницей, в которую впряжены дикий, необузданный черный конь (вожделение, чувственность) и белый конь (пылкость, мужество), устремленный к возвышенным целям (диалог «Федр»), совпадает с представлениями Фрейда об извечной тайной войне между скрытными в глубинах психики индивида бессознательными психическими силами и сознанием с ого нормами социальной жизни. Членение Фрейдом психических сил на «Ид» (Оно), «Эго» (Я) и «Супер-эго» Сверх-Я), а также извечный конфликт этих сил может рассматриваться как схема, восходящая к Платону. Есть сходство представлений Фрейда «о вытеснении» из сознания памяти о психической травме с доктриной о болезни Артура Шопенгауэра (1787-1860) в книге «Мир как воля и представление» (1819), принимающей за основу бытия бессознательное. Бессознательной психике была посвящена известная работа Эдуарда Гартмана (1842-1906) «Философия бессознательного» (1869), считавшего основой бытия бессознательное духовное начало. Представления Фрейда о бессознательном психическом, сосредоточившем в себе вечные влечения, мотивы, стремления, определяемые инстинктами, имеют сходство с концепциями Шопенгауэра и Гербарта. Мы уже говорили о влиянии на представления Фрейда Спинозы, Генльмгольца, Сеченова, выдвигавших концепции о бессознательных явлениях в психике. Однако впервые бессознательное стало предметом конкретного научного исследования только у Фрейда в психоанализе с 1900 г., когда он сформулировал свое учение о бессознательной психике. Таким образом, проблема мотивации, объективная динамика мотивов стала основной задачей психоанализа Трансфер – основное условие успешного психоанализа – представляет собой особое отношение между аналитиком и пациентом, родственное отношение к миру как 83 субъекту, что характерно для первобытных народов, которые олицетворяют природу (вспомним чудесные мифы древней Греции), отношения, полные доверия и глубочайшей откровенности. Другими словами, психоанализ прежде всего является средством реализации субъективности. Понятие системности в физиологию мозга было введено И.П. Павловым. Приступив в начале века к созданию физиологии поведения путем развития рефлекторной теории И.М. Сеченова, И.П. Павлов ввел в практику физиологического эксперимента работу на целостном организме. Его доклад «Динамическая стереотипия высшего отдела головного мозга», сделанный на X международном психологическом конгрессе в августе 1932 года, стал важным вкладом в развитие идеи системности работы больших полушарий головного мозга. «На большие полушария как из внешнего мира, – говорилось в докладе, – так и из внутренней среды самого организма беспрерывно падают бесчисленные раздражения различного качества и интенсивности. Одним из них только исследуются (ориентировочный рефлекс), Другие уже имеют разнообразнейшие безусловные и условные действия. Все это встречается, ^сталкивается, взаимодействует и должно в конце концов систематизироваться, уравновеситься, так сказать закончиться динамическим стереотипом... В окончательном результате получается динамический стереотип, т.е. слаженная уравновешенная система внутренних процессов»*. (*Павлов И.П. Пол. собр. соч. – Т.З, кн.2. – М. – Л. — 1951. – С.240-241). В учении о динамическом стереотипе И.П. Павлов схватил одну из наиболее характерных черт «целостности» в приложении ее к процессам высшей нервной деятельности, писал П.К. Анохин. В динамическом стереотипе утрачивается значение внешнего условного стимула, и в качестве пускового момента рефлекторной деятельности выступают «следы» от предшествующих раздражений. Другими словами, речь идет о механизмах памяти. Утрачивает свое действие при этом и «закон силы» применяемых раздражителей – важнейший принцип теории условных рефлексов. В больших полушариях головного мозга наблюдаются гипнотические фазы, которые и являются причиной прекращения действия «закона силы». Идея И.П. Павлова о системности работы мозга была развита П.К. Анохиным с позиций, отразивших своеобразие системных механизмов целостного поведения, когда идет активный поиск факторов, удовлетворяющих доминирующие потребности организма. Пытаясь вслед за И.П. Павловым ответить на вопросы, «как» и «почему» ведут себя высшие животные, П.К. Анохин видел и сознавал, что рефлекторная теория принципиально не могла объяснить активность человека и животных, не могла подойти к анализу активного воздействия организма на внешнюю среду. При рассмотрении системы «субъект – объект» физиологическая наука прежде всего должна была объяснить активность, адекватность и единство во взаимоотношении субъекта и объекта. Другими словами, современной физиологии мозга требовалось ответить на вопрос, «для чего» совершается поведение, для какой цели и с помощью каких физиологических механизмов осуществляется целенаправленное поведение. Это была по существу кардинально новая постановка вопроса. П.К. Анохиным была сформулирована и разработана (1935-1974) общая теория функциональных систем. Она отразила качественное своеобразие механизмов целостного поведения высших животных и человека, определяющих их активность. Анализ развития физиологии и психологии с системных позиций привел П.К. Анохина к выводу о том, что для построения полной естественно-научной картины деятельности человеческого мозга необходимо не слияние или отождествление физиологического и психологического, а такой «концептуальный мост», который позволил бы сопоставить понятия двух наук в однозначных категориях и видеть за психологическими феноменами физиологические механизмы. Поскольку, считает Анохин, существуют специфические системные процессы организации, качественно отличные от элементарных, а предметная деятельность человека связана именно с системными процессами, постольку в основе психических явлений лежат не элементарные физиологические процессы возбуждения и торможения, а системные процессы организации отдельных процессов в одно целое – функциональные системы, моделирующие отражаемую действительность. Полезный результат действия выступает в качестве главного фактора организации функциональной системы любого уровня организации. В этом состоит его системообразующее значение. Адаптивный результат благодаря активному воздействию на 84 организм и постоянной сигнализации о его состоянии производит своеобразную мобилизацию центральных и периферических образований в функциональную систему. Центральные механизмы любой функциональной системы, обеспечивающие целенаправленное поведение, имеют однотипную архитектонику — сменяющие друг друга узловые стадии: афферентного синтеза, принятия решения, предвидения потребного результата (акцептор результата действия), эфферентного синтеза, многокомпонентного действия, направленного на достижение требуемого результата, удовлетворяющего исходную доминирующую потребность и, наконец, постоянной оценки достигнутого результата путем сравнения возвратной афферентации со свойствами акцептора результата действия, корригируя на этом основании свои действия. Любое действие человека начинается всегда с возникновения ведущей социальной (или биологической) потребности, которая преобразуется в доминирующее мотивационное возбуждение на стадии афферентного синтеза. Четыре решающих компонента афферентного синтеза, четыре типа возбуждений должны быть подвергнуты одновременной обработке с одновременным взаимодействием на уровне отдельных нейронов. Это доминирующее в данный момент мотивационное возбуждение, обстановочная афферентация, соответствующая данному моменту, пусковая афферентация и память. На основе сопоставления мотивации и обстановочной афферентации решается вопрос: «что делать», на основе активирования памяти о прежнем опыте «как делать», на основе пусковой афферентации – «когда делать». Первая стадия завершается переходом в стадию принятия решения, которое имеет императивный характер и направляет человека на удовлетворение ведущей в данный момент потребности путем ограничения излишних степеней свободы в поведении, избирается только одна конкретная линия поведения. Принятие решения ведет к формированию цели, которая по самой своей сути есть опережение реальных событий. Акцептор результата действия (следующая стадия) «является аппаратом предсказания, поскольку в нем прогнозируются свойства будущего, еще не полученного результата... Аппарат акцептора результатов действия практически является аппаратом цели. Из этого положения вытекает, что цель в нашем понимании и в наших экспериментах не является чем-то изначальным, а подготавливается сложной работой нервной системы в стадии афферентного синтеза»*. (* Анохин П.К. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональных систем. – М.: Наука, 1978. – С.119). В функциональных системах, обеспечивающих социальную сознательную деятельность человека, аппарат акцептора результата действия может функционировать многие годы («круги ожидания»), определяя активную целенаправленную деятельность человека. Следующая стадия – стадия эфферентного синтеза включает в себя динамическую интеграцию соматических и вегетативных компонентов для успешного достижения поставленной цели. Эта стадия динамически переходит в стадию выполнения целенаправленного действия. Это действие постоянно находится под контролем соответствующих механизмов акцептора результата действия (программа достижения результата). И, наконец, наступает стадия оценки достигнутого результата, когда происходит сличение афферентации от параметров результата с его моделью, закодированной в акцепторе результатов действий. Если потребность удовлетворяется по всем ранее запрограммированным свойствам подкрепляющего раздражителя, то поведенческий акт заканчивается. Результат действия оценивается с помощью активной ориентировочноисследовательской деятельности и эмоциональных ощущений. Ориентировочноисследовательская реакция (ОИР) возникает и усиливается во всех случаях, когда результат действия не соответствует свойствам сформированного на основе афферентного синтеза акцептора результата действия. При возникновении такого «рассогласования» благодаря ОИР немедленно перестраивается афферентный синтез, строится новая программа действия; поиск продолжается до тех пор, пока результаты действия не совпадут со свойствами нейродинамической модели – «цели». Основное значение эмоционального переживания в том, что оно, по П.К. Анохину, позволяет индивиду надежно и адекватно оценить свои внутренние состояния и возникшую потребность и быстро построить адекватную форму реагирования. В последнее время общая теория функциональных систем получила дальнейшее развитие, позволяющее проводить анализ нейродинамической мозговой организации психической 85 деятельности. Были развиты представления о функциональных системах психического уровня организации (Судаков К.В., 1984, 1989). Функциональные системы психической деятельности (ФСПД) образуются у человека в результате обучения его речи, письму, игре на музыкальных инструментах, при изучении им основ наук с использованием естественных (языковых) и искусственных знаковых систем (научные символы: математики, физики, химии, знаки искусства: ноты в музыке, символы изобразительного искусства; технические символы: картографии, черчения, алгоритмических языков программирования, знаков уличного движения и др.). Таким образом, ФСПД человека формируются на основе самых различных словесных инструкций (предписаний), включая общение детей с родителями, разные формы общеобразовательного и специального (производственного, художественного, музыкального и др.) обучения, самообразования, знаний, идей, разные формы предметной деятельности. Поведение человека отличается от поведения животных тем, что он создает знаки, искусственные сигнальные раздражители, прежде всего грандиозную сигналистику речи, и тем самым овладевает сигнальной деятельностью больших полушарий. «Полезными и, как правило, социально значимыми результатами деятельности функциональных систем психического уровня организации могут быть результаты, находящиеся «вне» субъекта, достигаемые им путем активной преобразующей окружающую среду деятельности, а также результаты мыслительной деятельности «внутри» субъекта — нахождение определенных слов и понятий, умозаключения, построения логических конструкций, математические операции, сложение стихотворных форм, творческие озарения и т.д.»*. (*Судаков К.В. Системный анализ процесса мышления / Под ред. К.В. Судакова. – М. – Л.: Медицина, 1989. – С.4-5). «Если основная и самая общая деятельность больших полушарий у животных и человека есть сигнализация, – писал Л.С. Выготский, – то основной и самой общей деятельностью человека, отличающей в первую очередь человека от животного с психологической стороны, является сигнификация, т.е. создание и употребление знаков. Мы берем это слово в его самом буквальном и точном значении... Активное приспособление человека к среде, изменение природы человеком не могут основываться на сигнализации, пассивно отражающей природные связи всевозможных агентов... Человек вводит искусственные стимулы, сигнифицирует поведение и при помощи знаков создает, воздействуя извне, новые связи в мозгу. Вместе с допущением этого мы предположительно вводим в наше исследование новый регулятивный принцип поведения, новое представление об определяемости реакций человека – принцип сигнификации, который состоит в том, что человек извне создает связи в мозгу, управляет мозгом и через него – собственным телом»*. (*Выготский Л.С. Собр. соч. – Т.3. – М.: Педагогика, 1983. – С.79-80). Знаковые функциональные системы в последнее, время были подвергнуты строгому физиологическому анализу. Изучались электроэнцефалографические изменения при решении интеллектуальных задач. Был подвергнут нейродинамическому анализу импринтинговый механизм формирования новых ФСПД у школьников 5-го класса при активных формах обучения математике, когда в автоматизированном контрольном уроке доминирующее мотивационное возбуждение совпадает с подкреплением позитивным результатом интеллектуальной деятельности. Без мотивации, без эмоций, переживаний состояний аффекта, хотения, желания не может быть запечатления по импринтинговому механизму. Эта важнейшая детерминанта мыслительной деятельности, операции употребления знаков является центральным и основным моментом в построении высших психических функций. Операции употребления знаков (символов) вносят в психические функции произвольность, включая в естественные кор-ково-подкорковые процессы культурно-историческую среду (знаковую систему языка), создавая тем самым произвольность внимания, памяти, восприятия, движения, мышления как сознательных, рефлексивных операций (отношения «Я» к «не-Я»). Введение операций употребления культурно-исторических знаков выводит мозговые операции за естественные пределы, включая в нейродинамические структуры функциональных систем знаковые элементы социогуманитарной среды, которые начинают использоваться как активные агенты, управляющие извне мозговыми процессами, лежащими в основе опосредствованной познавательной и поведенческой деятельности человека. С переходом к знаковым операциям мы выходим за пределы биологической природы и вступаем биологической 86 природы и вступаем в надприродную область – область человеческого общества и его социального антропогенеза. Употребление знака дало в руки человека средство аутостимуляции, чтобы овладеть своим поведением, и привело его к совершенно новой и специфической структуре поведения, впервые создающей новую форму культурно-психологического поведения. В последнее время электроэнцефалографическим методом в психофизиологическом эксперименте были сопоставлены нейродинамические мозговые организации ФСПД при решении учащимися 5 классов одинаковых математических контрольных задач при разных формах обучения. Оказалось, что при мотивированном активном обучении мозговая организация ФСПД по структуре достоверно отличалась от мозговой организации ФСПД при традиционном мало- или немотивированном обучении (по 200 ЭЭГ-признакам из 384 сопоставляемых)*. (*См. Системный анализ процесса мышления / Под ред. К.В. Судакова. – М.: Медицина, 1989. – С.286-307). Таким образом, влечение, хотение, желание, аффект материализуется в качестве нейродинамической организации ФСПД. При этом, чем адекватнее выражена доминирующая мотивация, тем лучше и больше в ФСПД проявляются межполушарные асимметрии. Как биологические мотивации (голод, жажда, страх, агрессия, половое влечение, родительские побуждения и др.), так и социальные (стремление к познанию, образованию, к определенной профессии, к предметам искусства, литературы, быта, занятию общественного положения и др.) определяют все формы поведения. Установлено, что сигналы нервные и гуморальные о доминирующей потребности адресуются прежде всего к специальным зонам головного мозга – гипоталамусу, области синего пятна, ретикулярной формации мозгового ствола и др. Возбуждение мотивационных подкорковых центров осуществляется по механизму триггера: оно возникает, накапливаясь до критического уровня, когда нейроны начинают посылать определенные разряды и сохраняют такую активность до удовлетворения потребности (Судаков К.В., 1987). При этом мотивационное возбуждение представляет собой интегрированное состояние мозга, при котором на основе восходящих межэнцефалических и диэнцефалических влияний осуществляется вовлечение в деятельность корковых образований головного мозга. Потребность, преобразованная в мотивационное возбуждение, активирует мозг, выступает, по П.К. Анохину (1968), как энергетический фактор, детерминанта поведения. Вспомним, что в конце XIX века П. Жанэ рассматривал мотивы своих пациентов как «психическую энергию», являющуюся важнейшей детерминантой их поведения. З. Фрейд вводит центральное понятие «либидо» (от лат. libido влечение, желание), обозначающее сексуальное влечение, инстинкт любви, силу сексуального возбуждения, бессознательную психическую энергию индивида, представляющую сексуальный инстинкт. Вначале Фрейд «либидо» понимал как энергию, в виде которой сексуальное влечение проявляется в душевной жизни человека, объясняя им причину неврозов, психосексуального развития нормального человека, а также его научную, художественную деятельность (как сублимацию либидо). В 20-х гг. Фрейд приравнивает либидо к Эросу (жизни) Платона и понимает под ним энергию таких влечений, как любовь в широком смысле слова (половая любовь, любовь к родителям и детям, себялюбие, человеколюбие и т.д.). По Фрейду, либидо – главная детерминанта человеческого поведения. Общая теория функциональных систем постулирует, что в каждый момент существует несколько мотиваций, но одна их них доминирует, так как обладает наибольшей энергией. Совпадение возвратной афферентации от результата с его моделью в акцепторе результата действия, т.е. удовлетворение мотивации, снимает ее доминирующий характер. При неврозе ломается механизм-, который позволяет выбирать доминирующую мотивацию, «запускающую» поведение, производить смену мотивации при ее удовлетворении. Осознание вытесненной психотравмы пациентом с позиций современной физиологии мозга ведет к исцелению, так как отщепленное, «вытесненное» переживание (психотравма), которое существовало в мозгу изолировано, вводится в связь со структурами мозга, с ФСПД человека, тем самым восстанавливается механизм смены мотиваций и управления деятельностью индивида. Восстанавливается мобилизующая энергетическая сторона мотивационных возбуждений, которая осуществляется целым набором медиаторов. Мотивация и обстановочные раздражители, активируя мозг, обеспечивают использование еще одного компонента афферентного синтеза – из- 87 влечение соответствующего опыта с помощью механизма памяти. Таким образом, согласно данным современной физиологии мозга, мотивационное возбуждение, будучи ведущим компонентом стадии афферентного синтеза ФСПД, придает функциональным системам аффективную окраску специального качества (влечение, стремление, хотение, желание и т.д.), кроме того, оно придает им социальную направленность поведения. Здесь важным обстоятельством является то, что мотивационные возбуждения проявляются не только в стадии афферентного синтеза, в которой они занимают господствующее положение, но участвуют в построении последующих стадий поведения индивида – принятие решения и формирование акцептора результата действия. Формирующийся на основе доминирующего мотивационного возбуждения нейронный аппарат предвидения и составляет так называемый направляющий компонент мотивационного возбуждения. Данный аппарат, строящийся в соответствии с доминирующей мотивацией, позволяет индивиду отличать среди множества раздражителей те, которые направлены на удовлетворение доминирующей в данный момент потребности, интереса, стремления, желания, хотения. Естественно, акцептор результата действия не только определяет предвидение результатов, но и осуществляет их оценку в конкретном фрагменте поведения и дальнейший целенаправленный поиск. Теперь экспериментально показано, как это происходит: мотивационное возбуждение активирует энграмму акцептора результата действия, сформированную предшествующим обучением, по опережающему принципу как бы «вытягивает» весь предшествующий опыт субъекта, направленный на удовлетворение данного хотения, желания, стремления. Для того чтобы извлечение опыта из памяти произошло до конечного результата, необходимы тонические активирующие влияния мотивационных центров гипоталамуса на кору головного мозга. Лишь наличие энергетических восходящих активирующих влияний «пейсмекерных» мотивационных центров гипоталамуса позволит пусковым и обстановочным раздражителям «оживить энграмму» акцептора результата действия до подкрепляющего возбуждения включительно и привести субъекта к удовлетворению его исходной доминирующей потребности. Нам теперь известно, что, если экспериментально разрушить мотивационные центры гипоталамуса при наличии предварительно выработанных навыков, условные и обстановочные раздражители вызывают только двигательные реакции, которые не заканчиваются удовлетворением желания (потребности). По-видимому, при неврозах мотивационное возбуждение не может обеспечить афферентный синтез, принятие решения, формирование аппарата «цели» и всего поведенческого акта, смену мотиваций. Достаточный уровень мотивационного возбуждения в значительной степени определяет поиск индивидом удовлетворений, способных устранить причины, вызвавшие мотивацию. Качественную, точнее, творческую роль в формировании целенаправленных поведенческих действий играют процессы активного взаимодействия мотивационного возбуждения с аппаратом памяти, с возбуждениями, вызванными действием обстановочных и пусковых раздражителей. Другими словами, в процессах афферентного синтеза взаимодействуют исходная мотивация с аппаратом прогнозирования и оценки результатов деятельности, образующего акцептор результата действия. Такова концептуальная позиция современной физиологии мозга, трактующая поведение человека. Еще около 80 лет назад Фрейд, разрабатывая мотивационную психологию, указывал, что наши сокровенные мысли рождаются не из других мыслей, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает все наши влечения и потребности, интересы и побуждения, аффекты и эмоции. За мыслью должны стоять аффективная и волевая тенденции. Именно поэтому Фрейд считает, что методически психоанализ — это «лечение разговором», включающее трансфер (перенос на врача нежных или враждебных чувств, стремлений). В последнее время в физиологии мозга была затронута проблема связи бессознательного с функциональной асимметрией мозга. Как было показано Роджером Сперри (Sperry R.W., 1966) на больных с расщепленным мозгом, существует левополушарное и правополушарное мышление. Левополушарное мышление отличается от правополушарного способом обработки информации, кодирования ее и считывания. Первое кодирует и считывает знаки-символы, второе – иконические 88 знаки-образы. Считают, что иконические мыслительные процессы правого полушария обладают свойством симультанности и не связаны с фиксацией информации в пространственных и временных координатах. Это так называемый параллельных способ обработки информации и нелокализуемость ее структурной организации (голографический принцип). Знаки-символы левого полушария обладают свойствами сукцессивности и дискретности, связаны с линейнопоследовательным синтезом и находятся в жесткой связи с пространственными и временными координатами. Процессы правополушарного мышления у пациента с расщепленным мозгом оказываются принципиально неосознаваемыми, т.к. для осознания необходима фиксация осознаваемой информации в пространственных и временных координатах, чего нет в процессах правополушарного мышления. На интересные в этом аспекте клинические факты указывает Л.Р. Зенков. В японском языке существует два способа письма: алфавитное и иероглифическое, причем в обоих способах используются одни и те же графические знаки. Оказывается, что при поражении правого полушария больной теряет способность иероглифического прочтения текста, знак не воспринимается как пиктограмма, однако сохраняется способность чтения тех же знаков в алфавитной системе. При поражении левого полушария возникают обратные расстройства чтения. Из приведенного очень краткого обзора читатель может убедиться, что концептуальные представления современной мотивационной физиологии мозга подводят естественно-научную базу под клиническую концепцию психоанализа, позволяющую физиологически интерпретировать его клиническую практику. Профессор, доктор медицинских наук Ю.М. Пратусевич. Література: Фрейд 3. О клиническом психоанализе. Избранные сочинения. – М.: Медицина, 1991. – 288 с. (С.3-38). 7. Чайченко Г.М. Несвідомі психічні процеси та їх фізіологічний аналіз. Наявність несвідомих процесів у психіці людини об’єктивно виявляється під час аналізу викликаних потенціалів мозку шляхом пред’явлення на дуже короткі проміжки часу нейтральних або емоційно забарвлених слів. Так, неусвідомлювані емоційно забарвлені слова, що мають відношення до конфліктної ситуації, спричиняють збільшення амплітуди пізніх компонентів викликаного потенціалу порівняно з нейтральними словами, що свідчить про семантичний аналіз емоційного стимулу на несвідомому рівні. Відомо, що для фіксації сприйнятої інформації у довготривалій пам’яті необхідна фокусована увага і лише в цьому разі в людини утворюється енграма. Проте існують реакції, які виробляються на неусвідомлювані подразники і далі зберігаються в довготривалій пам’яті. Це такі реакції, в яких не тільки умовний стимул, але й підкріплюючий подразник не усвідомлюються, однак підкріплюючий подразник має бути емоційно значущим для суб’єкта, наприклад, пов’язаним з негативними емоційними переживаннями. Такі умовні зв’язки дуже міцні і не згашуються тривалий час навіть у разі відміни підкріплення. У людини більшість екстероцептивних умовних рефлексів, мабуть, здійснюється на свідомому рівні завдяки наявності вибіркової іррадіації збудження та вибірковому узагальненню в другій сигнальній системі. Проте існують такі умовні рефлекси, коли умовний і безумовний подразники не відображаються в суб’єктивній формі в свідомості, тобто такі рефлекси здійснюються за типом «чистих» несвідомих психічних процесів. До цього типу реакцій належать умовні рефлекси, вироблені на подразники, сила яких недостатня для виникнення суб’єктивного відчуття в свідомості. Так, після 25-35 поєднань нечутного звуку (3-6 дБ нижче порогу слухового відчуття) з больовим подразненням цей звук викликає ШГР (так званий «субсенсорний» умовний рефлекс). Багаторазове поєднання звуку інтенсивністю 6-12 дБ нижче порогу слухового сприймання із засвічуванням очей спричинює пригнічення альфа-ритму ЕЕГ у відповідь на цей нечутний звуковий подразник. 89 Наявність субсенсорних умовних рефлексів свідчить, що рівні організації нервової діяльності, необхідні для здійснення умовнорефлекторних реакцій і виникнення відчуття, не ідентичні, хоча й близькі. Відчуття відображають вищий, ніж прості умовні рефлекси, ступінь організації нервових процесів. Аналізуючи електричну активність мозку, можна помітити, що різниця між усвідомленими та неусвідомленими реакціями полягає у величині активації мозку, яка залежить від кількості збуджених мозкових структур. Так, якщо до дії залучається невелика кількість нейронів кори й підкірки, такі реакції відбуваються як підсвідомі, а якщо реакція має перебіг при «глобальній» активації більшої частини ЦНС, то вона здійснюється за участю свідомості. Отже, підсвідомі реакції не обов’язково виникають «за шаблоном», стереотипно. Навіть при повністю автоматизованих реакціях (ходіння, удар по м’ячу тощо) підсвідомо здійснюється імовірнісна оцінка обстановки й прогнозування кожної наступної дії. Підсвідомість є своєрідним фільтром для всієї інформації, що надходить у мозок. Отже, уся вища нервова діяльність людини має двочленну структуру, тобто здійснюється на двох рівнях – свідомому та підсвідомому. Ця структура психіки забезпечує безперервність взаємодії організму та середовища. Постійна стереотипна діяльність відбувається на рівні підсвідомості, а якщо на основі оцінки інформації, що надійшла, необхідне нестандартне рішення, тоді вмикаються свідомі механізми поведінкової реакції. Підсвідомість завжди «на варті» і навіть після обмеження свідомості (наприклад, під час сну) або перемикання свідомості на розв’язання абстрактних проблем вона продовжує працювати. Свідомі й підсвідомі процеси мозку знаходяться в своєрідній «динамічній» рівновазі, яка може зміщуватися в той чи інший бік у широких межах внаслідок змін функціонального стану мозку та зовнішніх умов. За допомогою методу викликаних потенціалів мозку встановлено, що неусвідомлювані явища зовнішнього середовища можуть виявляти вплив на свідому психічну активність, зокрема на процес навчання людини. Якщо скоротити до мінімуму потік зовнішніх сигналів, це призведе до порушення функціонування свідомості. Навпаки, коли на людину весь час діють слабкі малозначущі сигнали, що вимагає безперервної праці мозку для їхнього сприйняття, аналізу та переробки на підсвідомому рівні, це створює «робочий фон», на якому здійснюється ефективна діяльність усієї ЦНС. Якщо ж сигнали, що безперервно надходять, виявляються новими, незвичними, сильними або несуть важливу для організму інформацію, то вже на рівні підсвідомості формується програма, яка підключає для відповіді на ці сигнали всі ресурси свідомості. Несвідомий характер також мають явища так званої спонтанної телепатії, які досить часто спостерігаються між близькими родичами або духовно близькими людьми. На рівні підсвідомості здійснюється й умовнорефлекторна регуляція діяльності внутрішніх органів здорової людини. Звичні подразники інтероцепторів внутрішніх органів викликають сигнали, що надходять у нову кору, де вони аналізуються на рівні підсвідомості. Ці сигнали можуть стати основою вироблення умовних рефлексів, які змінюють поведінку організму. У разі збільшення сили таких подразнень вони починають сприйматися свідомістю вже у вигляді сигналів про несприятливий стан у відповідній ділянці організму. Це викликає появу різних суб’єктивних відчуттів. Окрему групу неусвідомлюваних форм діяльності мозку становлять механізми творчості, формування гіпотез, здогадок, припущень. Цю категорію неусвідомлюваних процесів можна назвати «понадсвідомістю» (першим такий термін застосував К.С. Станіславський). На думку П.В. Симонова, неусвідомлюваність певних етапів творчої діяльності мозку виникла в процесі еволюції як необхідність протистояти консерватизму свідомості, яка одразу, як правило, відкидає гіпотези та припущення, що не узгоджуються із загальноприйнятими поняттями. З точки зору аналітичної психології К. Юнга, так званий контакт з потойбічними силами є насправді контактом людини з власною несвідомою сферою психіки. Цей контакт можливий завдяки зніманню контролю над свідомістю при певному ступені релаксації. Надзвичайно великого значення надавав підсвідомості та несвідомим потягам 3. Фрейд, автор теорії психоаналізу. Він вважав, що психоаналіз грунтується на припущенні, яке неможливо 90 перевірити філософськими міркуваннями і яке підтверджується лише подальшими практичними результатами. Психічний апарат людини складається з кількох частин. Найдавнішу з них 3. Фрейд назвав Ід. її сутністю є все спадкове, вроджене, конституційоване будовою тіла, передусім – це фізіологічні потяги, що виявляються саме в поведінці тіла. Під впливом довколишнього середовища певна частина Ід набула специфічного розвитку. Шар нервової тканини, первісним завданням якого було сприймання зовнішніх подразників і реагування на них, перетворився на своєрідного посередника між Ід і навколишнім світом. Цю сферу психічного життя людини Фрейд назвав Его. його функцією є вибір між тією чи іншою реакцією на чуттєві подразнення. Щодо зовнішнього світу Его виконує функції самозахисту: розпізнає подразники, накопичує в пам’яті досвід про них, ухиляється від надто сильних подразників (шляхом утечі), зберігає контакт із подразниками помірними (шляхом пристосування), і врешті, навчається цілеспрямовано змінювати довколишній світ на свою користь (шляхом активної діяльності). Ті самі функції Его виконує і щодо світу внутрішнього, тобто щодо Ід: опановує його потяги, вирішує, чи слід ці потяги задовольнити, чи відкласти їх задоволення до відповідного моменту або й притлумити їх взагалі. Усю цю діяльність Его здійснює на підставі успадкованого чи набутого досвіду. Зростання подразнень трактується ним як прикрість, зменшення – як приємність. Его прагне приємності та уникає прикрості. Розвиваючись у дитинстві під впливом батьків, людина створює в своєму Его спеціальну інстанцію, яка називається Супер-его. Воно стає в людській психіці третьою владою, від якої залежить Его. Діяльність Его ефективна лише тоді, коли вона одночасно задовольняє вимоги Ід, Супер-его та довколишньої реальності, тобто коли здатна якось узгоджувати ці вимоги між собою. Отже, Ід і Супер-его, попри фундаментальну різницю між ними, відображають вплив минулого: Ід – успадкованого, Супер-его – переважно засвоєного від інших. Разом з тим Его характеризується власним досвідом, тобто тим, що актуально та спонтанно переживається з дня на день. Ця загальна схема влаштування психіки, вважав Фрейд, є у вищих, людиноподібних тварин. Існування Супер-его слід визнати скрізь, де, як і у людей, має місце тривалий період залежності дітей від дорослих. Отже, поділ на Ід та Его є неминучим, У компетенції Ід перебувають основоположні, природжені життєві потреби людської істоти. Такі завдання, як збереження життя чи захист від небезпеки, де запобіжну роль виконує почуття страху, не вирішуються Ід. Це – функція Его, яке мусить знаходити найвдаліші та найбезпечніші способи задоволення таких потреб з урахуванням довколишніх обставин. Супер-его здатне породжувати нові потреби, хоча головною його функцією є обмеження розмаїтих прагнень задовольнити їх будь-яким чином. Підсвідомість зберігає інформацію, накопичену в процесі життєдіяльності, тобто все те, що стає основою поведінки, фундаментом особистості. Проте підсвідомість не конфліктує із свідомістю, як помилково вважав Фрейд. Вона є першою ланкою всіх реакцій організму, але не самостійною. Свідомість керує діяльністю підсвідомості та підпорядковує її. Основу процесів, що здійснюються на рівні підсвідомості, становить життєвий досвід, який формує систему міцних навичок, що забезпечують виникнення миттєвих реакцій, автоматизованих форм поведінки. Акумульований мозком життєвий досвід, що потрапив у підсвідомість, є основою індивідуальної оцінки впливів довколишнього середовища. Мозок ссавців можна поділити на три частини: стародавній мозок (стовбур мозку, проміжний мозок і основні ядра), який контролює стереотипні природжені поведінкові реакції, необхідні для виживання особини; давній мозок (структури лімбічної системи), що забезпечує внутрішній гомеостаз і видоспецифічні реакції, і новий мозок, який складається з нової кори (неокортекс), де відбувається складна трансформація сигналів із зовнішнього середовища і від внутрішніх органів (П. Мак-Лін). 91 Ця ідея “триєдиного мозку” є непоганою схемою ієрархічної організації головного мозку і поведінки, а також свідчить на користь ідеї 3. Фрейда про наявність морфофункціональних відділів несвідомого, підсвідомого і свідомого у психіці. Література: Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності. – К.: Либідь, 1993. – 218 с. 8. Психоанализ в России. Первое применение идей венской школы психоанализа в российской психиатрии относится к 1896 г., когда московский врач В. М. Даркшевич использовал вновь открытый катарсический метод Брейера-Фрейда (Breuer J.-Freud S.) для лечения алкоголиков и нервнобольных. Однако широкую известность в медицинских и гуманитарных кругах психоанализ в России стал обретать лишь с 1904 г., после издания «Толкования сновидений» Фрейда на русском языке. Энтузиастом и популяризатором нового терапевтического метода стал В. П. Сербский, возглавивший после смерти С.С.Корсакова (1900) Психиатрическую клинику Московского университета и собравший вокруг себя группу молодых врачей (с 1904 по 1910 г. в нее вошли Н. Е. Осипов, Ю. В. Каннабих, М. М. Асатиани, М. В. Вульф, И. А. Бирштейн, И. Д. Ермаков и др.). Концепции и методики Фрейда не всеми принимались охотно, поскольку в большинстве своем московские и петербургские психиатры были ориентированы на «физиологический» подход к проблемам души; наиболее влиятельной в России оставалась психорефлексологическая школа В. М. Бехтерева. Тем не менее к 1908 г. стало возможным говорить о существовании, по крайней мере в Москве, устойчивого объединения врачей и психологов, избравших и широко внедряющих в практику психоаналитические идеи. С осени 1908 г. при Психиатрической клинике Московского университета под руководством В. П. Сербского функционирует психотерапевтическая амбулатория, где используются психоанализ, гипноз, катарсический метод и ассоциативный эксперимент Юнга (Jung С. G.). Большое внимание уделяется идее гипноаналитической терапии (синтез гипноза и психоанализа). Все более широкое развитие получает психотерапия в клинике соматических болезней. В это же время в печати появляются первые профессиональные работы российских психоаналитиков, главным образом популяризационного характера. Н. Е. Осипов – «Психология комплексов и ассоциативный эксперимент» (1908); он же: «О психоанализе» (1910) и др. С 1913 г. публикуются статьи И. Д. Ермакова. Московские врачи используют психоаналитические методики и в прикладной сфере – приложении к социальным и культурным проблемам, к произведениям литературы и искусства (работы Н. Е. Осипова, И. А. Бирштейна и др.). На русском языке начинают издаваться труды Фрейда, Юнга, Ранка (Rank О.), Штекеля (Stekel W.) и др. 1910-1914 гг. – период максимального расцвета российского психоанализа. В 1911 г. учрежден Русский Союз невропатологов и психиатров, выборное руководство которого состояло из психоаналитиков и лиц, поддерживающих развитие психоанализа (председатель Союза – Н. Н. Баженов, секретарь – Н. А. Вырубов, товарищ секретаря – Н. Е. Осипов и др.). С 1910 по 1914 г. выходит журнал «Психотерапия», в котором количество научных работ психоаналитической ориентации возрастает за 4 года с 40 до 90 %. Кроме российских врачей в «Психотерапии» публикуются Фрейд, Адлер (AdlerA.), Штекель и др. Психоаналитические статьи все чаще появляются и в таких периодических изданиях, как «Современная психиатрия» и «Журнал невропатологии и психиатрии им С. С. Корсакова». В то же время полоса расколов в мировом психоаналитическом движении начала 10-х гг. затрагивает российскую науку. Лишь немногие из российских врачей смогли без оговорок принять сексуальную теорию Фрейда; большинство искали способы отказаться от «пансексуализма», заменить главенство либидо главенством инстинкта самосохранения (Залкинд А. Б.), социального чувства и стремления к божественности (Бирштейн И. А.). К 1912-1913 гг. часть психоаналитиков отошла от фрейдовского психоанализа к индивидуальной психологии Адлера, чья идея органического субстрата психоневрозов была традиционно ближе российской «физиологической» 92 психиатрии, а понятие «комплекса недостаточности» резонировало с одной из центральный идей русской философии – с идеей преодоления человеком собственных границ ради сближения с Богом (Соловьев В. Ф., Бердяев Н. А. и др.). Аналитическая психология Юнга особой популярности в России не приобрела. С 1914 по 1921 г. российский психоанализ переживает латентный период, начало которого связано с Первой мировой войной. В 1914 г. по экономическим причинам закрывается журнал «Психотерапия»; отдельные редкие публикации психоаналитических работ до 1915 г. появляются в «Современной психиатрии». Некоторые врачи оказываются на фронте, другие прекращают клиническую практику (известно, что в военное и послевоенное время научные исследования продолжали М. В. Вульф и Т. К. Розенталь). В 1917 г. умирает В. П. Сербский. В 1919 г. Н.Е.Осипов эмигрирует в Чехию, и с этого времени лидером и координатором российской психоаналитической деятельности становится И. Д. Ермаков. Постреволюционный период в России характеризуется возрождением интереса к естественным наукам, в том числе к проблемам психологии. Одновременно широко пропагандируется идея социалистического воспитания детей и ранней профилактики невротических заболеваний в целях создания «человека для коммунистического будущего». Над последней проблемой работает Институт мозга в Петрограде под руководством В. М. Бехтерева, где практикуются, в частности, психоанализ Фрейда и гипнокатарсический метод Франка (Frank L.). В 1918 г. В. М. Бехтерев возглавляет Психоневрологическую академию с Детским институтом в составе. Параллельно широко развивается наука о ребенке – педология, возглавляемая П. П. Блонским. Внимание новых руководителей страны и ученых, принявших социальный заказ, обращается и к идеям Фрейда. В 1921 г. И. Д. Ермаков и М. В. Вульф в целях реабилитации психоаналитического движения создают в Москве «Психоаналитическую ассоциацию исследований художественного творчества». В 1922 г. на основе Ассоциации, при поддержке Главнауки и лично Л. Д. Троцкого и Н. К. Крупской, учреждается Российское психоаналитическое общество (РПО) численностью 14 человек (председатель РПО – И. Д. Ермаков, секретарь – М. В. Вульф). Помимо психоаналитиков «первой волны» в него вошли лица, близкие к высшим кругам власти (Шмидт О. Ю., Блонский П. П.). Работа Общества организуется в двух секциях: медицинской (Вульф М. В.) и педагогической (Блонский П. П.). С этого же года начат выпуск книжной серии «Психологическая и психоаналитическая библиотека», ставшей фактически первой попыткой ознакомить широкого читателя с психоаналитическими проблемами в систематизированном виде. По 1925 г. включительно в серии выходят новейшие труды Фрейда, Джонса (Jones E.), Ференци (Ferenczi S.), Кляйн (Klein M.), Юнга и др. В 1923 г. происходит слияние РПО с Казанским психоаналитическим обществом, созданным годом раньше и возглавляемым А. Р. Лурия. В том же году Международная психоаналитическая ассоциация принимает решение включить российскую группу в свой состав (решение было подтверждено в 1924 г. на Зальцбургском конгрессе). С 1923 г. основными направлениями работы российских психоаналитиков, находившихся под сильным давлением власти и вынужденных ориентироваться на внутреннюю политику государства, становятся попытки синтеза учений Фрейда и К. Маркса, с одной стороны, и школ Фрейда и В. М. Бехтерева–И. П. Павлова – с другой, с целью создания единой «подлинно материалистической концепции личности». Одновременно продолжаются исследования ребенка, направленные на формирование «человека коммунистического будущего». В 1923 г. И. Д. Ермаков организует и возглавляет Государственный психоаналитический институт (ГПИ) с амбулаторией и клиникой; под его руководство переходит Детский дом-лаборатория, открытый в 1921 г. при Московском психоневрологическом институте (с 1923 г. его название дом-лаборатория «Международная солидарность»). В работе ГПИ и дома-лаборатории активное участие принимают М. В. Вульф, И. Д. Ермаков, П. П. Блонский, В. М. Шмидт (жена О. Ю. Шмидта) и др. К этому периоду относится возвращение в Россию С. Н. Шпильрейн и ее попытка включиться в деятельность РПО, не увенчавшаяся, однако, успехом. Дальнейшие события были определены, с одной стороны, отсутствием ожидавшихся быстрых результатов от работы Детского дома-лаборатории и, как следствие, обилием критики и 93 претензий со стороны вышестоящих инстанций – Главнауки и Наркомпроса; с другой – внутренними проблемами коллектива ГПИ, в частности недостаточной их профессиональной подготовкой. В 1924 г. ГПИ и дом-лаборатория были административно разделены. В 1925 г. Совет народных комиссаров принимает резолюцию о ликвидации ГПИ в связи с несоответствием результатов работы вложенным средствам. В 1927 г. падает влияние Л. Д. Троцкого, поддерживавшего психоаналитическое движение; эмигрирует в Германию (позднее – в Палестину) М. В. Вульф, и пост секретаря РПО занимает В. Ф. Шмидт. В том же году после двухлетнего перерыва выходит последняя книга в серии «Психологическая и психоаналитическая библиотека» (Волошинов В. Н. «Фрейдизм»: критический очерк). С этого года работа в РПО фактически прекращена; застой усугубляется в 1928 г. началом открытых преследований сторонников Л. Д. Троцкого. Попытки И. Д. Ермакова упрочить позиции психоаналитиков в этой ситуации остаются безрезультатными. В 1930 г. деятельность РПО окончательно прекращена. Часть бывших психоаналитиков с этого времени работает в качестве педологов (среди них С. Н. Шпильрейн, А. Б. Залкинд). В. Ф. Шмидт уходит на преподавательскую работу в Коммунистическую академию. А. Р. Лурия занимается прикладной психологией. И. Д. Ермаков посвящает время преимущественно психоанализу произведений литературы; со временем его труды теряют аналитическую направленность. В 1940 г. он арестован; в 1941 (по другой версии, в 1942 г.) умирает в концентрационном лагере. Сведения о психоаналитической деятельности в России в период с 1930 по 1988 г. редки и разрозненны, иногда малодостоверны. Вопреки широко распространенному мнению психоанализ (в 30-е гг.) не был уничтожен в России полностью, и всегда существовали специалисты, в той или иной степени ориентированные на этот метод и в той или иной форме пропагандировавшие его. В частности, следует упомянуть разработки таких ученых, как Ф. Е. Басейн, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, В. Н. Мясищев, В. Е. Рожнов, А. Е. Шерозия и др. И даже когда некоторые из упомянутых авторов критиковали психоанализ, достаточно искушенный читатель понимал, что в ряде случаев это был лишь единственно возможный способ изложить психоаналитическую теорию и практику для профессиональной аудитории. Специфической особенностью «латентного периода» и формирования «второй волны» психоанализа в России являлось то, что труды Фрейда и его последователей в советской период (в отличие от фашистской Германии) не сжигались, а передавались в так называемые «спецхраны», и таким образом, хотя доступ к ним и ограничивался, он никогда не был закрыт окончательно. В магазинах старой книги можно было приобрести эти работы (изданные на русском языке до 30-х гг.). С наступлением «перестройки» и провозглашением М. С. Горбачевым лозунга «Разрешено все, что не запрещено», эти работы начинают активно переиздаваться, а те или иные курсы лекций по психоанализу несколько ранее стали возможными даже в учебных заведениях закрытого типа. Например, один из первых курсов лекций по теории психоанализа в 1984 г. в Военно-медицинской академии (Ленинград) был прочитан М. М. Решетниковым. В 1988 г. в Москве создается первая «Российская психоаналитическая ассоциация» (президент – А. И. Белкин). В 1989 г. учреждается «Санкт-Петербургское психоаналитическое общество» (президент – В. В. Зеленский). В тот период времени эти общества были весьма немногочисленными (10-15 человек) и малопрофессиональными, однако они стали точками роста будущего психоанализа в России – именно благодаря им начали устанавливаться и развиваться контакты с зарубежными центрами психоанализа, появилась психоаналитическая литература, переводы и издания современных авторов, были организованы первые семинары по психоанализу с участием ведущих зарубежных специалистов. В последующие годы (отчасти в связи с выраженным идеологическим кризисом) популярность психоанализа в России росла. Запрос на психоанализ существует в России по настоящее время, что связано как с социальным кризисом, так и с пересмотром некоторых концептуальных вопросов современной российской психиатрии и психотерапии. По имеющимся данным, только за 1985-1995 гг. труды классиков психоанализа и переводы ряда современных работ были изданы в России общим тиражом более 50 млн. экземпляров. Это позволяет говорить о своеобразной моде на психоанализ, 94 сравнимой с ситуацией 30-х гг. в Европе и Америке, где в настоящее время психоанализ стал обычным явлением западной культуры, общественной и терапевтической практики. Вероятно, аналогичный путь пройдет и отечественный психоанализ. В Санкт-Петербурге создается первый в России Институт психоанализа (ректор – М. М. Решетников, 1991). С 1992 г. в нем реализуются программы систематического 4-летнего цикла психоаналитического образования, за основу которого были взяты программы Лондонского института психоанализа. В 1994 г. Институт психоанализа переучрежден в качестве «ВосточноЕвропейского института психоанализа» (ВЕИП). В настоящее время ВЕИП является ведущим методическим центром подготовки психоаналитически ориентированных специалистов и развития психоанализа в России. ВЕИП активно развивает контакты с зарубежными психоаналитическими центрами Америки и Европы; при участии ВЕИП были организованы две международные конференции: «100 лет психоанализа: российские корни, репрессии и возвращение России в мировое психоаналитическое сообщество» (1996) и «Психоанализ, литература и искусство» (1998), в которых приняли участие представители 17 зарубежных стран; в настоящее время в ВЕИП на постоянной основе работают более 30 преподавателей и обучаются около 300 студентов (второе высшее образование). Ежегодно в ВЕИП проводится от 200 до 400 часов лекционных и семинарских занятий зарубежными специалистами, что способствует систематическому профессиональному росту как преподавателей, так и студентов. В 1997 г. ВЕИП лицензирован Министерством образования России в качестве высшего учебного заведения. Одновременно с появлением ВЕИП начинают переосмысливаться пути развития российского психоанализа и его специфические отличия от западной модели. В частности, было констатировано, что на Западе интеграция психоанализа в терапевтическую и культурную практику осуществлялась на основе общественных институций и в форме преимущественно общественной аккредитации специалистов-психоаналитиков, подготовка которых велась идо настоящего времени проводится большей частью индивидуально с соблюдением большого перечня строгих правил и ограничений. Последнее обстоятельство было подвергнуто обоснованной критике как не способствующее интеграции психоанализа в российскую науку и психотерапевтическую практику, а также — как не соответствующее запросам этой практики, российской культурной и образовательной традиции. Кроме этого было учтено, что в России практически отсутствует традиция общественных институций и общественной аккредитации, что Россия остается страной с практически всеобъемлющим государственным регулированием, особенно в таких сферах, как образование, подготовка и переподготовка, сертификация, лицензирование и аккредитация специалистов, что позволяло оценить западную (историческую) модель как малоадекватную современным российским условиям. Было признано, что попытки некритического воспроизводства в России западной модели развития психоанализа, с одной стороны (с учетом масштабов страны), на многие десятилетия обеспечили бы арьергардное положение российского психоанализа в мировом психоаналитическом сообществе, а с другой – заведомо обрекали бы российский психоанализ на одно из первых мест в одном ряду с представителями так называемой «альтернативной волны», что исходно дискредитировало бы и методологию, и метод. В середине 90-х гг. психоанализ становится все более популярным среди врачей-практиков и психологов. По инициативе ВЕИП предпринимается попытка реабилитации психоанализа, находившегося под запретом с 30-х гг. Существенную роль в инициации этого процесса сыграли М. М. Решетников и Д. С. Лихачев, которые после ряда безрезультатных попыток решения этого вопроса в различных властных структурах обратились к Президенту России. По поручению Президента РФ была проведена историко-поисковая работа, которая показала реальность репрессий психоанализа (включая конкретных психоаналитически ориентированных специалистов) в России, однако официальных документов запрещающего характера выявлено не было (запрет действовал негласно). В связи с последним юридическим обстоятельством Указ Президента, который первоначально планировался как реабилитирующий, был в итоге назван «О возрождении и развитии психоанализа» (№ 1044 от 19.07.96). Указ Президента создал в России беспрецедентную ситуацию. Прежде всего он сломал 95 существовавшую более полувека стену отчуждения между все более популярным в России психоанализом и ведущими официальными учреждениями России, без участия которых никакого развития психоанализа в России быть не могло. После выхода вышеупомянутого Указа Президента РФ активизируется работа по реинтеграции психоанализа в российскую науку и психотерапевтическую практику. При Министерстве науки и технологий РФ создается рабочая группа по реализации Указа Президента (председатель – М. М. Кабанов, заместители председателя – A. В. Брушлинский, Б. Д. Карвасарский и М. М. Решетников). В разработке программы приняли участие более 20 ведущих научных центров России, в частности Министерство здравоохранения РФ, Министерство общего и профессионального образования РФ, Российская академия наук (РАН), Российская академия образования (РАО), Институт психологии РАН, Институт психологии РАО, Институт философии РАН, Институт социологии РАН, СанктПетербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. B. М. Бехтерева, Государственный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, Московский научно-исследовательский институт психиатрии, Научный центр психического здоровья РАМН, Московский городской психоэндокринологический центр, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный университет им. А. И. Герцена, Академическая школа профессиональной психологии, Институт гуманитарного образования и психоанализа и ВосточноЕвропейский институт психоанализа. Разработчиками программы было констатировано, что «современный психоанализ составляет основу одного из трех ведущих (классических) направлений в психотерапевтической науке и практике, в частности психодинамического, наряду с когнитивно-поведенческим и гуманистическим», и разработаны конкретные меры по возрождению и развитию российской школы психоанализа. В декабре 1997 г. целевая межотраслевая программа «Возрождение и развитие психоанализа в России» была принята и утверждена Министерством науки и технологий РФ, Министерством здравоохранения РФ, Министерством образования РФ и Российской академией наук в качестве одного из приоритетных направлений науки и техники по разделу «Технологии живых систем». Программой было предусмотрено проведение ряда системных мероприятий правовой, организационной, образовательной и научной направленности. Сама разработка такой программы явилась существенным шагом по реинституции психоанализа в российскую науку и практику. И хотя в связи с экономической ситуацией в стране финансирование программы было отложено на неопределенный срок, значительная часть ее в настоящее время реализуется на основе внебюджетных источников финансирования. При разработке и реализации этой программы ее авторы и исполнители исходили прежде всего из идей преодоления традиционной замкнутости психоанализа и придания этому направлению в России статуса академической науки с введением государственного образовательного стандарта по этой специальности в целом, так и (отдельно) в области клинической специализации (включая все вопросы практического, т. е. терапевтического, тренинга, персонального анализа, супервизорской подготовки, государственного лицензирования, аккредитации и сертификации специалистов). В этот же период в России начинают создаваться новые психоаналитические общества и институты психоанализа (первоначально преимущественно в естественным путем сложившихся центрах развития психоанализа в России – в Москве и Санкт-Петербурге). В частности, создается Институт гуманитарных проблем и психоанализа (ректор – П. С. Гуревич), Открытое психоаналитическое общество (президент – Б. А. Еремин), Региональная психоаналитическая общественная организация «Катексис» (президент – А. Г. Попов), общественная организация «Психодинамика» (президент – Э. Н. Потемкина), выпускники ВЕИП организуются в Профессиональное психоаналитическое общество (президент – В. А. Медведев). Созданная еще в советский период Российская психоаналитическая ассоциация реорганизуется в Русское психоаналитическое общество (президент – А. И. Белкин). Организуются Фонд возрождения русского психоанализа и Санкт-Петербургское отделение психоаналитической медицины государственной академии им. Маймонида Министерства образования РФ (президент и руководитель – М. М. 96 Решетников). Одновременно начинают появляться психоаналитические центры и в регионах РФ. В 1997 г. основные психоаналитические общества России объединились в [Национальную] Федерацию психоанализа (НФП, президент – М. М. Решетников), основными целями деятельности которой является профессионализация психоанализа, создание системы профессиональной информации и структурная организация современного психоаналитического движения. НФП возобновила издание «Психоаналитического вестника» (учрежден Российской психоаналитической ассоциацией в 1991 г.), начала проводить «Летние школы психоанализа», разработала и приняла временный российский стандарт подготовки специалистов в области клинического психоанализа. В отличие от западной модели в России были исходно разделены два существенных понятия: психоаналитическое образование, которое уже сейчас становится относительно массовым, и клинический психоаналитический тренинг, к которому после завершения психоаналитического образования обращается не более 5-10 % психоаналитически ориентированных специалистов. Такое разделение оказалось продуктивным, и (при всех закономерных трудностях реинституции психоанализа в клиническую практику) в настоящее время психоаналитическое знание уже органически имплицировано в социологию, политологию, прогнозирование, педагогику, рекламу, в деятельность социальных служб и масс-медиа и ряд других смежных дисциплин. Клинический психоанализ в России исходно рассматривался как одно из направлений в психотерапевтической науке и практике. В соответствии с уже упомянутой выше государственной программой клинический психоанализ признан «специализацией», которую могут получить только врачи-психотерапевты и дипломированные клинические психологи, получившие психоаналитическое образование в одном из имеющих государственную лицензию институтов психоанализа со сроком обучения, как минимум, 3 года, выполнившие нормативы по персональному анализу, собственной практики и ее супервизии. Таким образом, действующая модель подготовки психоаналитически ориентированных психотерапевтов и психологов (с учетом их образования, персонального анализа, накопления часов собственной практики и ее супервизии) занимает 6-8 лет. Вероятно, в дальнейшем эта модель будет модифицироваться, постепенно приближаясь к международным стандартам. Были также (в соответствии с мировой практикой) разделены понятия «психоаналитической психотерапии» и «психоанализа», но при этом они не дистанцировались друг от друга, а объединялись в едином континууме подготовки специалистов, т. е. психоаналитически ориентированная психотерапия (с низкой интенсивностью сеттинга) рассматривается как возможный первый или переходный этап к психоанализу. При этом выбор – остановиться на уровне стандарта психоаналитической психотерапии или идти по пути международных стандартов психоаналитического тренинга и сеттинга – есть у каждого специалиста. В целом, в решении этих организационных вопросов разработчики и специалисты НФП вполне осознанно ориентировались не на международные стандарты, а на острейшую потребность собственной страны в квалифицированных специалистах. При этом стандарты более высокого уровня не отвергаются, а рассматриваются как ориентиры на будущее. В настоящее время все эти проблемы активно разрабатываются ВЕИП и НФП. С 1999 г. НФП аффилирована Российской психотерапевтической ассоциацией (президент – Б. Д. Карвасарский). Главные задачи НФП в настоящее время – объединение усилий психоаналитических обществ и других учреждений психоаналитической ориентации в целях выработки: – единых стратегических подходов к проблемам общеобразовательной подготовки, клинического тренинга, сертификации и государственной аккредитации психоаналитически ориентированных специалистов, а также законодательное оформление их деятельности; – создание более эффективной системы профессиональной информации; – противодействие дискредитации психоанализа, попыткам деятельности вне правового поля и «дикому» психоанализу. Постепенно в профессиональных медицинских и психологических кругах начинает меняться отношение к психоанализу – если в начале 90-х гг. о психоанализе вообще нигде не 97 вспоминалось, то начиная с 1997 г. практически на всех научных и практических конференциях подчеркивалось его особое значение для психотерапевтической деятельности и психологического знания. Кроме психоаналитических организаций, учреждений и обществ, входящих в НФП, в России существует несколько неформальных психоаналитически ориентированных групп, однако никакой официальной информации об их структуре, членстве, целях и задачах нет. В целом современный российский психоанализ находится на этапе своего становления и развития. В настоящее время единственным сертифицированным психоаналитиком Немецкой академии психоанализа (Берлин-Мюнхен) является проф. В. Д. Вид (Институт им. В. М. Бехтерева, Санкт-Петербург). Пока еще рано говорить о какой-либо российской школе психоанализа, которая, по мнению президента НФП М. М. Решетникова, может появиться не ранее 20-х гг. следующего тысячелетия. Література: Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 2002. – 1024 с. (С.551-558). 9. Вадим Менжулін. Українські корені Зигмунда Фрейда. (Невідомі факти з життя відомого австрійського психоаналітика). 6 травня виповнюється 150 років з дня народження австрійського невролога і психіатра, засновника психоаналізу Зигмунда Фрейда (1856-1939). Фрейд займався невропатологією, а пізніше – лікуванням неврозів та істерії. 1902 року він став професором Віденського університету, де розвивав і популяризував психоаналіз, який невдовзі зажив світового розголосу. Найвідоміші його твори – «Тлумачення сновидінь», «Вступ до психоаналізу» та «Майбутнє однієї ілюзії» – викликають бурхливі дискусії як у середовищі психіатрів, так і серед філософів. 1938 року, після загарбання Австрії гітлерівською Німеччиною, Зигмунд Фрейд емігрував до Англії. Усі знають, що сам Фрейд – австрієць, а проте мало кому відомо, що його батьки походять з України. Про дослідження родоводу австрійського психіатра розповідає доцент кафедри філософіїі релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», завідувач кафедри філософії Міжнародного Соломонового університету, кандидат філософських наук і автор монографії «Міфологічна революція в психоаналізі» Вадим Менжулін. Мати Фрейда була «гарненька галичанка» – Вадиме Ігоревичу, загальновідомо, що Зигмунд Фрейд був євреєм і мешкав у Австрії. А ось звідки родом батьки Фрейда? – Коли хтось говорить про Зигмунда Фрейда, майже миттєво виникає асоціація – «психоаналіз». Це логічно: Фрейд із повним правом може вважатися головним винуватцем народження та розквіту такого грандіозного явища світової культури XX століття, як психоаналіз. Коли постає питання стосовно національності, то перша, найпоширеніша, асоціація теж є коректною: Зигмунд Фрейд був євреєм. Більше того, рідко хто помиляється із визначенням міста та країни, де він прожив переважну частину свого життя: Відень, столиця Австро-Угорщини, згодом — Австрії. А ось про зв’язок Фрейда з нашими краями згадують тільки у спеціалізованих дослідженнях, причому мимохідь. При цьому зазвичай ототожнюють Україну з Росією. Проте батьки хлопчика на ім’я Сигізмунд Шломо Фрейд, який з’явився на світ 6 травня 1856 року в місті Фрайберг (зараз – Пршибор, Чехія), були родом з України. Батько – Якоб Фрейд – народився 1815 року в місті Тисмениця Івано-Франківської області й провів там перші 25 років свого життя. Тисмениця у ті часи була багатоетнічним містом, в якому мешкали поляки, євреї та українці. У Тисмениці він вперше одружився і саме там дав життя двом старшим братам Зигмунда Фрейда – Еммануелю та Філіппу. Однак українське коріння цієї родини простягається значно глибше. Протягом багатьох 98 поколінь Фрейди мешкали в місті Бучач, що на Тернопільщині. До Тисмениці батько Якоба, Соломон Фрейд, переїхав заради продовження освіти. На відміну від свого сина, дідусь майбутнього віденського корифея залишився у Тисмениці назавжди. До речі, раніше я навіть не замислювався над тим, звідки походив Соломон Фрейд. Допомогли мені студенти філософського відділення Міжнародного Соломонового університету – Оксана Лукер’їна, Ігор Бондар та Дмитро Бутузов, які саме зараз проводять дослідження, присвячене встановленню зв’язків Фрейда з Україною. – А звідки походить мати Зигмунда Фрейда? – На момент знайомства із Якобом Фрейдом Амалія Натансон жила у Відні, однак цікаво ось що: говорячи про неї, багато біографів її сина вживають вираз «гарненька галичанка». Отже, виявляється, що мати Зигмунда Фрейда теж народилася в Україні – у місті Броди на Львівщині. До речі, за припущенням вітчизняних істориків психоаналізу (зокрема – харків’янки Л.І. Бондаренко та її колег), у Львівській області й досі можуть проживати родичі Амалії Натансон. Сама ж Амалія, перед тим як переїхати до Відня, жила в Одесі. Більше того, до столиці Австро-Угорщини Натансони перебралися не у повному складі: в Одесі залишилися брати Амалії. А коли Фрейду було вже 27 років, його батько спробував заснувати в Одесі власний бізнес і вирушив туди на певний час. Щоправда, цей бізнес-проект залишився безрезультатним. Психоаналіз одних лікує, інших травмує – Коли говорять про Фрейда, то основною його заслугою вважається заснування психоаналізу. Чи справді цей метод виправдав себе на практиці? І чи за життя Фрейда його використовували в Україні? – Через декілька років після народження психоаналізу (традиційно цей факт пов’язують із публікацією фундаментальної праці Фрейда «Тлумачення сновидінь», що відбулася у Відні у 1900 році) в Одесі з’явився центр розвитку цього новаторського напряму в психології та медицині. На території України в перші декади XX століття з явилася ціла низка талановитих та високопрофесійних психоаналітиків. У науковій біографії Фрейда є також ще один факт, що пов’язує його з Україною. 1911 року одеський психоаналітик Леонід Дрознес привіз на лікування до Фрейда 24-річного випускника Одеського університету Сергія Панкеєва – одного з найвідоміших пацієнтів Фрейда. Випадок Панкеєва великою мірою продемонстрував максимальні можливості психоаналізу. Чотирирічне лікування, на яке сам Фрейд та його послідовники посилалися та продовжують посилатися як на класичний приклад ефективності їхнього методу психотерапії, насправді виявилося недостатнім. Через декілька років після тріумфального «зцілення» Панкеєв був змушений знову звернутися по допомогу – спочатку до Фрейда, потім до інших психотерапевтів. Однак важливо не тільки це. Історія стосунків Фрейда із Панкеєвим продемонструвала справжні межі здатності австрійського психоаналітика до розуміння представників культури, з якою його так щільно пов’язувала історія власної родини, але від якої він досить сильно дистанціювався внаслідок стереотипів, що домінували у західних країнах. Саме з приводу лікування С. Панкеєва Фрейд написав: «Особистісні риси, чужий нашому розумінню національний характер дуже ускладнювали необхідність вчутися у характер хворого». Фрейд і сам усвідомлював, що справжній психоаналіз можливий тільки за тих умов, коли й аналітик, і пацієнт мислять однією мовою. Хочеться вірити, що нова хвиля популярності психоаналізу, яка розпочалася у нас в пострадянські часи, спричинить появу багатьох вітчизняних психоаналітиків, які, використовуючи найкращі аспекти вчення Фрейда та його численних послідовників, зможуть не припускатися таких помилок у лікуванні наших співвітчизників, які робив засновник психоаналізу. – Вадиме Ігоревичу, а в чому, якщо говорити коротко, полягає сам метод психоаналізу? – Якщо коротко – у пригадуванні витісненого, або усвідомленні несвідомого. На думку Фрейда, в душі кожної людини є щось таке, про що вона не хотіла б зізнаватися навіть сама собі. Оскільки ці мотиви є неприйнятними для свідомості, відбувається їхнє витіснення у несвідоме. Людина про них нібито забуває. Однак не повністю. Витіснене все ж таки деколи проривається на поверхню – у міфах та казках, творах мистецтва, сновидіннях, обмовках тощо. В нашій психіці постійно йде напружена боротьба між несвідомим, яке прагне, щоб про нього згадали, та 99 свідомістю, яка хоче, аби те, що перебуває у несвідомому, там залишилося назавжди. Нерідко напруга сягає таких масштабів, що у людини починається невроз. Завдання психоаналітика – допомогти пацієнтові цей конфлікт розв’язати. Пацієнт має усвідомити та навчитися жити з тим, що раніше ховалося у несвідомому. – На ваш погляд, які були помилки Фрейда? У чому метод психоаналізу себе не виправдав? – Як на мене, основна проблема фрейдівського варіанту психоаналізу полягає у визначенні того, що власне витісняється у несвідоме. За Фрейдом, вимальовується досить страшна картина: у всіх людей з дитинства є інцестуальне бажання (сексуальне тяжіння до родича протилежної статі), у хлопчиків – комплекс Едипа, у дівчат – Електри. Культура інцест забороняє, бажання витісняється у несвідоме, і це створює умови для виникнення неврозу. Відповідно, лікування передбачає усвідомлення пацієнтом цього прихованого мотиву. Сама по собі теза про те, що такий потяг притаманний усім людям, звучить досить сумнівно. Але справжні проблеми виникають, коли до психоаналітика звертається пацієнт, який говорить, що страждає внаслідок травматичних спогадів про акт сексуального зваблення з боку когось із родичів, що він (частіше – вона) пережив у дитинстві. Фрейдизм каже таким пацієнтам, що вони все це вигадали. Виходить приблизно так: «Ніхто вас, шановна, не зваблював, це просто ваша фантазія, зумовлена комплексом Електри!». Однак заяви потерпілих про акти зваблення у дитинстві, на жаль, іноді є зовсім не фантазіями, а реальністю. Отже, виходить, що таких пацієнтів психоаналіз не лікує, а скоріше, даруйте за сильне слово, добиває. Погодьтеся, лікувати від фантазії не зовсім те саме, що лікувати від наслідків реального травматичного досвіду. Пацієнтка говорить, що її зваблювали і їй від цього болісно, а лікар твердить, що вона сама хотіла, щоб її звабили, отже, і нафантазувала казна-що. Про ці та інші проблемні аспекти психоаналізу написано вже багато праць. Одна з найбільш резонансних – сенсаційна книжка колишнього директора фрейдівського архіву Джефрі М. Масона «Замах на правду: Фрейдове приховування теорії зваблення». Фрейдові снилося, що він – геній – Хто з філософів не погоджувався з теоріями Фрейда? Наскільки мені відомо, він розійшовся з деякими колегами, зокрема Брейєром та Адлером? – Переважна більшість філософів визнають, що Зигмунд Фрейд мав величезний вплив на світову культуру. Тож майже всі сучасні філософи, подобається їм Фрейд чи ні, звертаються до його спадщини. Однак рідко можна зустріти професійного філософа, який повністю погоджується з його теоріями. Можна сказати так: Фрейда активно цитують, обговорюють, дещо приймають, але здебільшого критикують. Згідно з домінуючою точкою зору, фрейдівські концепції є надто психологізовані та медикалізовані, їм не вистачає справжньої філософської відстороненості або всезагальності. Що ж стосується розходжень з колегами, то список можна суттєво розширити. Окрім Йозефа Брейєра та Альфреда Адлера, Фрейд за своє довге життя припинив контакти з багатьма людьми, які до того були його близькими приятелями, однодумцями та навіть палкими прихильниками. Можна згадати, наприклад, про драматичне припинення стосунків із Вільгельмом Флісом – берлінським отоларингологом, який протягом тривалого періоду (напередодні та під час створення Фрейдом власне психоаналітичного вчення) був для Фрейда не тільки єдиним близьким другом, а й духовним наставником, свого роду гуру. Дуже значні наслідки для розвитку психоаналізу мало розходження Фрейда із Карлом Юнгом, якого перший певний час вважав своїм головним спадкоємцем і навіть називав «кронпринцем» психоаналізу. Ще пригадується, як Фрейд розірвав контакти з одним зі своїх перших адептів Отто Ранком. І, знову-таки, це далеко не останній приклад. У принципі, така тенденція не є дуже дивною. Генії, як правило, важкі у спілкуванні. Вони дуже гостро відчувають свою винятковість: хочуть скрізь і завжди бути єдиними та неповторними. Відомий американський історик та соціолог науки Роберт Мертон провів ретельний аналіз текстів Фрейда і встановив, що, як мінімум, у 150 випадках їхній автор висловлювався на захист своєї наукової першості, звинувачуючи тих чи інших людей у плагіаті або стверджуючи, що будь-який зв’язок з ідеями попередників або сучасників може бути лише випадковим. Іноді Фрейд навіть бачив сновидіння, основною темою яких була його наукова першість із тих чи інших питань. – А як впливала наукова діяльність та медична практика Фрейда на його власне життя, 100 стосунки з жінками та родинну ситуацію. Чи були в житті самого психоаналітика кризові періоди, стреси чи неврози? – Фрейд віддавав роботі дуже багато сил та часу. Можна навіть сказати, був справжнім педантом та роботоголіком. Це відобразилося на його стосунках як із дружиною, так і з іншими представницями прекрасної статі. Стосунки з дружиною Мартою (у дівоцтві – Бернайс) були досить рівні. На відміну від деяких інших психоаналітиків, зокрема Карла Юнга, навколо фігури Фрейда майже немає чуток про таке брутальне зловживання авторитетом лікаря, як любовні романи з пацієнтками. Я натрапляв на припущення, що в одному випадку Фрейд усе ж таки перейшов межі дозволеного (йшлося про те, що з власною дружиною у Фрейда були значно менш теплі та відверті стосунки, ніж з її сестрою – Мінною Бернайс), однак це лише припущення, причому таке, що великого розповсюдження не набуло. Щодо серйозних та глибоких стресів, кризових періодів тощо, то у Фрейда яку геніальної творчої особистості та ще й роботоголіка вони, зрозуміло, траплялися нерідко. Мабуть, краще за всіх про це було відомо Максу Шуру – людині, яка протягом тривалого часу була його особистим лікарем. Минулого року вийшов російський переклад книжки Шура «Зигмунд Фрейд: життя та смерть». У ній, зокрема, розповідається про психологічні проблеми, від яких страждав сам засновник психоаналізу. Розмовляла Дана РОМАНЕЦЬ. Україна молода, № 81 (2868), 05.05.2006 р. 10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Самин Д.К. 100 великих ученых. – М.: Вече, 2001. – 592 с. 100 великих психологов // Автор-составитель В. Яровицкий. – М.: Вече, 2004. – 432 с. (С.96-100). Шойфет М.С. 100 великих врачей. – М.: Вече, 2004. – 528 с. Гарин В.Б., Цзегао Ли, Лисюченко В.В. 1000 имен: Деятели науки и культуры / Краткий энциклопедический справочник. – Донецк: Донеччина, 2001. – 448 с. Очкурова О., Щербак Г., Иовлева Т. 50 гениев, которые изменили мир. – Харьков: Фолио, 2005. – 510 с. – (Серия «100 знаменитых»). Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття. – К.: Либідь, 2003. – 992 с.; іл. Браун Дж. Психология Фрейда и постфрейдисты / Пер. с англ. – М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 1997. – 304 с. Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство. – К.: Академвидав, 2003. – 392 с. – (Альма-матер). Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. – К.: Либідь, 2002. – 255 с. Перрон Р. История психоанализа / Пер. с фр. Ю.В. Крижевской. – М.: ООО « Изд-во Астрель», ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 160 с. Романин А.Н. Основы психоанализа. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2003. – 320 с. Уэллс Г. Павлов и Фрейд. – М.: Изд-во иностр. лит., 1959. – 608 с. Феррис П. Зиґмунд Фрейд / Пер. с англ. Е.А. Мартинкевич. – Мн.: ООО Попурри, 2001. – 432 с. Стоун І. Бунт розуму (Розділи з роману про Зігмунда Фрейда) / Пер. з англ. – Всесвіт. – № 4, 1991. – С.3-52. Стоун І. Бунт розуму (Розділи з роману про Зігмунда Фрейда) / Пер. з англ. – Всесвіт. – № 5, 1991. – С.121-163. Лейбин В.М. Словарь-справочник по психоанализу. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»). Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: 101 Политиздат, 1990. – 494 с. (263-264). Психология: Биографический библиографический словарь / Под ред. Ноэль Шихи, Энтони Дж. Чепман, Уэнди А. Конрой; Пер. с англ. – СПб.: Евразия, 1999. – 832 с. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 2002. – 1024 с. Таланов В.Л., Малкина-пых И.Г. Справочник практического психолога. – СПб.: Сова, М.: Эксмо, 2004. – 928 с.: ил. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії: Проблема людини та її меж / Під ред. Н. Хамітова. – К.: Наукова думка, 2000. – 272 с. Ярошевский М.Г. История психологии. – М: Мысль, 1985. – 576 с. Классический психоанализ и художественная литература / Сост. и общая ред. В.М. Лейбина. – СПб.: Питер, 2002. – 445 с. – (Серия «Хрестоматия по психологи»). Отечественный психоанализ / Сост. и общая ред. В.М. Лейбина. – СПб.: Питер, 2001. – 445 с. – (Серия «Хрестоматия по психологи»). Психические состояния / Сост. и общая ред. Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 2000. – 506 с.: ил. – (Серия «Хрестоматия по психологи»). Психология сознания / Сост. и общая ред. Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.: ил. – (Серия «Хрестоматия по психологи»). Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності. – К.: Либідь, 1993. – 218 с. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: За ред. В.О. Цибенка. – К.: Вища шк., 2003. – 463 с. Фрейд З. Я и Оно / Пер. с нем. В.Ф. Полянского. – М.: МПО «Меттэм», 1990. – 56 с. Фрейд З. О клиническом психоанализе. Избранные сочинения / Сост. Ю.М. Пратусевич. – М.: Медицина, 1991. – 288 с. Фрейд З. Толкование сновидений. – К.: Здоров’я, 1991. – 384 с. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. – М.: МЦ «Система», 1991. – 84 с. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия / Пер. с нем.; Сост., послесл. и коммент. А.А. Гугнина. – М.: Прогресс, 1992. – 569 с. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – СПб.: Питер, 2002. – 384 с. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»). Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я». – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 192 с. Фрейд З. Тотем и табу / Пер. с нем. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 256 с. Фрейд З. Интерес к психоанализу: Сборник / Пер. с нем. – Мн.: ООО «Попурри», 2004. – 592 с.