Власть - неизбежный источник отношений между людьми
реклама
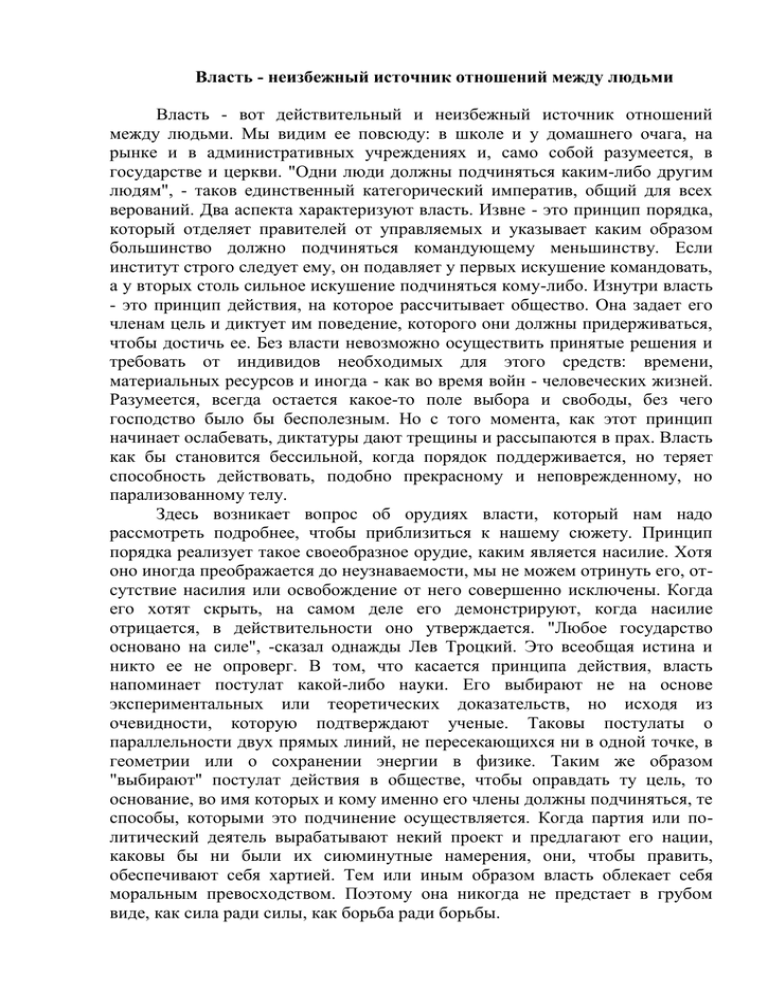
Власть - неизбежный источник отношений между людьми Власть - вот действительный и неизбежный источник отношений между людьми. Мы видим ее повсюду: в школе и у домашнего очага, на рынке и в административных учреждениях и, само собой разумеется, в государстве и церкви. "Одни люди должны подчиняться каким-либо другим людям", - таков единственный категорический императив, общий для всех верований. Два аспекта характеризуют власть. Извне - это принцип порядка, который отделяет правителей от управляемых и указывает каким образом большинство должно подчиняться командующему меньшинству. Если институт строго следует ему, он подавляет у первых искушение командовать, а у вторых столь сильное искушение подчиняться кому-либо. Изнутри власть - это принцип действия, на которое рассчитывает общество. Она задает его членам цель и диктует им поведение, которого они должны придерживаться, чтобы достичь ее. Без власти невозможно осуществить принятые решения и требовать от индивидов необходимых для этого средств: времени, материальных ресурсов и иногда - как во время войн - человеческих жизней. Разумеется, всегда остается какое-то поле выбора и свободы, без чего господство было бы бесполезным. Но с того момента, как этот принцип начинает ослабевать, диктатуры дают трещины и рассыпаются в прах. Власть как бы становится бессильной, когда порядок поддерживается, но теряет способность действовать, подобно прекрасному и неповрежденному, но парализованному телу. Здесь возникает вопрос об орудиях власти, который нам надо рассмотреть подробнее, чтобы приблизиться к нашему сюжету. Принцип порядка реализует такое своеобразное орудие, каким является насилие. Хотя оно иногда преображается до неузнаваемости, мы не можем отринуть его, отсутствие насилия или освобождение от него совершенно исключены. Когда его хотят скрыть, на самом деле его демонстрируют, когда насилие отрицается, в действительности оно утверждается. "Любое государство основано на силе", -сказал однажды Лев Троцкий. Это всеобщая истина и никто ее не опроверг. В том, что касается принципа действия, власть напоминает постулат какой-либо науки. Его выбирают не на основе экспериментальных или теоретических доказательств, но исходя из очевидности, которую подтверждают ученые. Таковы постулаты о параллельности двух прямых линий, не пересекающихся ни в одной точке, в геометрии или о сохранении энергии в физике. Таким же образом "выбирают" постулат действия в обществе, чтобы оправдать ту цель, то основание, во имя которых и кому именно его члены должны подчиняться, те способы, которыми это подчинение осуществляется. Когда партия или политический деятель вырабатывают некий проект и предлагают его нации, каковы бы ни были их сиюминутные намерения, они, чтобы править, обеспечивают себя хартией. Тем или иным образом власть облекает себя моральным превосходством. Поэтому она никогда не предстает в грубом виде, как сила ради силы, как борьба ради борьбы. Какой бы ни была власть, с которой люди имеют дело, возникает вопрос: "В каких условиях они подчиняются и почему? На какие внутренние оправдания и внешние средства опирается это господство?" Вебер в числе этих условий называет прежде всего военную силу, например, политику, связанную с армией, или экономический интерес. Далее, на основании общепризнанного права, скажем, выборов или наследования, подчинение авторитету, лицу, призванному командовать другими. Следовательно, с одной стороны, насилие в различных формах, с другой - легитимность, оправдывающая и освящающая господство. Вот апостроф из Корана, иллюстрирующий этот контраст: "Бедуины говорят: "Мы верим". Скажите: "Вы не верите". Лучше скажите: "Мы покоряемся", пока вера не вошла в ваши сердца" . Внутренняя вера, дополняющая в различных пропорциях внешнее насилие, - вот формула легитимности. Согласно тому, что мы уже знаем, Вебер рассматривает господство и в этом основа его теории - исключительно с данной позиции. Не в том смысле, что он пренебрегает экономическим или вооруженным давлением, но в том, что, чем больше доверия и любви внушают носители власти, тем более полных повиновения и возможностей командовать они достигают. Английский мыслитель Д. Раскин прав, когда он пишет: "Царь видимый может стать царем подлинным, если однажды он захочет оценить свое царствование своей истинной силой, а не географическими границами. Неважно, что Трент отделяет от вас какой-то замок, а Рейн защищает другой, меньший замок, расположенный на вашей территории. Для Вас, царя людей, важно, чтобы вы могли сказать человеку: "Иди" и он пойдет, и сказать другому: "Приди", и он придет... Для Вас, царя людей, важно знать, ненавидит ли Вас Ваш народ и умирает за Вас или любит Вас и живет благодаря Вам". Независимо от причин подчинения, оно в конце концов тождественно доверию. Ниже мы вернемся к этому вопросу, чтобы понять его психический смысл. Здесь достаточно напомнить, что зерно сомнения у миллионов людей приводит к низвержению даже самого могущественного тирана. Диктатуры противоречат не только правам человека, но и подлинной природе власти. Постоянное насилие порождает апатию, безразличие и враждебность. Нельзя забывать и об осмотрительности, которую французский мыслитель Жан де Лафонтен назвал "матерью безопасности". На столь бесплодной почве не могут зародиться ни минимальное доверие, ни глубокая вовлеченность. В подобных условиях даже незначительное меньшинство может развеять страх и подточить еще остающиеся убеждения. Особенно если оно умеет убедить массы, что они правы, отказывая в доверии, которого от них требуют. Отметим, что Вебер рассматривает господство именно под этим углом зрения и что все относящееся к интересу или силе, является для него лишь дополняющим фактором. "Чисто материальные и целерационалъные мотивы союза между носителем власти и административным управлением, пишет он, означают постоянную относительную нестабильность этого союза. Как правило, к ним добавляются другие мотивы - аффективные и ценностно рациональные. В исключительных случаях только эти последние могут быть решающими. В повседневной же жизни обычай и вместе с ним материальный, целерациональный интерес доминируют над ними, как они доминируют над другими отношениями. Но ни обычаи или интересы, ни чисто аффективные или ценностно рациональные мотивы союза не могут создать надежных основ господства. Ко всему этому в нормальной ситуации добавляется более весомый решающий фактор: верование и легитимность". Короче, власть партии над нацией, учителя над классом, вождя над массой осуществляется при том условии, что нация, класс или масса верят в них, не оспаривают их легитимность. Эта вера выражает давление общества на индивида, оно навязывает ему дисциплину и учит, что хорошо или плохо, верно или неверно, вплоть до того, что правила и ценности становятся в конце концов частью его самого, инкорпорируются в его конституцию. Он верит в то, во что от него требуют верить, и соответственно действует, побуждаемый невидимыми силами, исходящими от него самого, по крайней мере от его собственной воли. Власть, центром тяжести которой является такая дисциплина, легитимна. Немецкий социолог Юрген Хабермас дает ей более общее определение. На мой взгляд, оно в то же время исчерпывающе и поэтому я его воспроизвожу: "Легитимность политического порядка измеряется верой в нее тех, кто подчинен его господству". Именно эту веру предназначены измерять еженедельные опросы общественного мнения, касающиеся наших политиков, или то, что папа римский ищет в далеких странах, когда он собирает там тысячи и миллионы людей. И именно эту веру имеют в виду, когда говорят, что президент республики имеет "право помилования". Легитимность в этих случаях так велика, что она спонтанно принимает облик личной любви. Она переносит индивидов в другую действительность, более теплую, интимную, и они не сомневаются, что сами выбрали и создали ее. Доверие, следовательно, - главная проблема господства. Но это доверие особого рода, которое не может опираться, как в иных случаях, только на чувство и мнение. Мы не поймем его полностью, если удовлетворимся столь расплывчатыми показателями. Удивительно, что столько социологов и политологов так же мало проясняют этот вопрос, как и сам Вебер. Каким образом доверие поддерживается вопреки колебаниям в настроениях и суждениях? В том, что касается доверия, постоянство является императивом. Это хорошо видно по той заботе, с какой правители стараются обеспечить себя преемниками и утвердить определенную доктрину. В этом отношении психологическое и субъективное содержание доверия предполагает социальную форму выражения. Необходимо уточнить этот момент. Несомненно, доверие по своей природе представляет собой согласие по поводу верований и ценностей. Но если согласие возникает из обсуждения и обмена аргументами, обладающими убедительной силой, оно не может опираться на них. Ибо оно нуждалось бы тогда в постоянном испытании своего влияния, дабы сохранять сплоченность членов группы и в любой момент получать их поддержку. Вера в согласие, в консенсус между управляемыми и правящими, ее признание, напротив, опирается как раз на отсутствие дискуссии. Другими словами, ее особенность в том, что она основана на запрете, молчаливом, но вездесущем запрете на критику. Этим способом общество избавляется от беспокоящих его споров и диссонансов, во всяком случае публичных. Определенные убеждения и правила жизни выделяются в особую группу и ставятся над всеми другими подобно тому, как золото вознесено над бумажными деньгами. Можно спорить о лучшей избирательной системе, но сам принцип выборов остается неприкасаемым. Можно устанавливать определенные ограничения свобод, и кодексы их устанавливают, например, кодекс прессы. Но сама свобода неприкасаема, и никто не осмелится стереть ее с фронтонов наших мэрий. То же относится и к равенству, от каких бы искажений ни страдало оно на практике. Запрещенное для критики также не надо доказывать, как нельзя опровергать. В этой области каждый подчиняется обобщенному правилу: "Не спорь". Оно естественным образом отразилось в мысли итальянского философа Джамбаттиста Вико: "Сомнение должно быть изъято из любой доктрины, особенно из доктрины моральной". Ибо оно означает ущербность или слабость, которым можно противопоставить только силу, а не собственное убеждение. Можно было бы бесконечно перечислять примеры этого запрета, иллюстрировать его универсальность. Все спонтанно склоняются перед ним. Невидимое и неосязаемое препятствие, он проявляет свою силу принуждения в буйстве страстей, которые пробуждает в нас. Любой, кто робко пытается поставить под вопрос неоспоримое, встречает самое свирепое озлобление. Посмотрите, с какой быстротой церкви или партии отлучают за малейшее диссидентство и даже за спор, и вы поймете, о чем идет речь. В принципе утверждается, что право на критику запечатлено в наших законах и нравах. Это так, но совершенно очевидно, что запрет ограничивает это право, чтобы заставить уважать те и другие, легитимировать их власть. Это подразумевается неувядающими банальностями вроде "Права она или нет, но это моя страна", "Вне церкви нет спасения" или "Молчание - знак согласия". Сила запрета! Перед ним безмолвны совесть и воля к Проверке. "Но молчание, - писал датский философ Серен Кьеркегор, - или уроки, которые мы пытались из него извлечь, искусство молчать, является истинным условием подчинения". Молчанием, которое каждый умеет хранить в любой момент, мы делаем себя заложниками покорности и выражаем наше доверие. Я понимаю, что упрощаю дело. Тем не менее приходится признать, что запрет на критику не является достоянием лишь древней истории. Повсюду и всегда он обнаруживает - и в этом его особенность - существование легитимности и гарантирует ее. Ибо он ставит выше сомнения и возражения те верования и практику, которые необходимы для господства. Было бы неверно приравнивать такое молчание к незнанию или скрытности, которые якобы превращают нас, большинство общества, в невинных слуг силы, задрапированной символами. Не знак и не символ, власть коренится столь же в явно провозглашенном и недвусмысленном запрете, который делает ее непогрешимой в наших глазах, сколь и в насилии, призванном ее выразить. Что побуждает нас бросать на людей власти взгляд полубеспокойный, полупрезрительный? Не разрыв между их словами и делами, хотя он проявляется постоянно в той демагогии, к которой они прибегают и в которой запутываются так часто и так быстро. А также и не недостаток порядочности, иногда столь очевидный вопреки добродетельным речам, слетающим с их губ. Все они выдают себя за людей, поднявшихся до своего высокого положения благодаря беспримерным чувству ответственности и мужеству перед лицом опасностей, подстерегающих их в неопределенной и угрожающей ситуации. Нет, наше замешательство порождено неким неясным, не поддающимся определению впечатлением. Постоянно, несмотря ни на что, мы готовы признать за ними все те достоинства, которых они не имеют, и отбросив в сторону наше недоверие, следовать за ними. Но подобно священникам, побуждающим верующих грешить против собственной веры, они вынуждают нас своими бесчинствами и ложью нарушать единственное правило, придающее легитимность их авторитету. Говорить значит не соглашаться. Ибо согласное молчание есть имманентное условие подлинной власти. Австрийский философ Людвиг Витгенштейн определил его емкой формулой могущества языка: "Надо молчать о том, о чем нельзя говорить". Внедренный в каждое сознание запрет выхолащивает сомнения и глушит сердечные перебои. Ибо власть, которую оспаривают и противоречиво интерпретируют, - уже не власть. Люди и группы, которые сумели дольше всего сохранить авторитет, обязаны этим умению уберечь сферу принципов от контроверз и своевременно отвести их от нее. Вебера интересует не господство, но его уникальный характер. Экономика, семья, религия занимают определенное место в социальном порядке и соответствуют постоянным интересам и принципам. Господство диффузно и обладает особым статусом. В качестве политического института оно ставит проблему метода: как управлять? Но в качестве отношения оно зависит от повседневной покорности, которая ставит проблему легитимности: во имя чего верить, выражать доверие? Если доверия начинает не хватать, руководители и руководимые испытывают нерешительность: руль корабля, например, государство, находится на своем месте, но в машинном отделении не достает энергии. В наши дни такая ситуация наблюдается во многих странах Европы и Америки. Уже Вебера занимала эта проблема, он видел ослабление энергии в Германии, особенно в среде буржуазии. Замкнутая в своем профессиональном мире бизнеса и промышленности, она не сформировала ни кадров, ни интеллектуального инструментария, необходимых для уверенного управления нацией. В сущности оба класса были убеждены, что власть - это то ли какая-то накипь, то ли пристройка к общественному зданию. Новый подход Вебера состоял в том, что он превратил власть в решающее измерение общественного бытия, эпифеномен стал полноправным феноменом. Все остальное идет отсюда: жизненные вопросы экономики, администрации и религии регулируются изнутри некоторой формой государства, которое навязывает свои решения. Чрезвычайно поучительно видеть, как марксисты прикасались к этому феномену и все-таки упустили его. После Вебера, в свете выработанного им воззрения на общество, движущие силы общественных изменений связаны уже "не с развитием производительных сил, как мог бы выразиться Маркс, но с психологическими мотивами правящих и управляемых". Сказано немного размашисто, но главное действительно в этом. Кратко резюмируя, можно сказать, что форму, которую принимает господство, обусловливают виды легитимности, следовательно, верования. Это краеугольный камень тиории Вебера, оказавший наиболее заметное влияние на современную науку. Первый тип легитимности, которому он уделил максимальное внимание, рождается, как вы знаете, в период смуты и кризиса. Можно сказать, что он материализуется в аномальном и иногда в революционном обществе. Только перед таким обществом проблема обоснования легитимности возникает как абсолютно настоятельная, даже до появления власти. Разве не такой является она для формирующейся нации, для социального движения, мобилизующего своих сторонников, для церкви, возникающей из волнения сект вопреки установившейся традиции? Именно поэтому не замечают их необходимости и предназначения и даже считают их абсурдными. А когда вера в них распространяется в массах, их абсурдность исчезает и анафема их не достигает. Затем, у членов этого общества нет другой силы, объединяющей их, кроме прямой, личной связи между правящими и управляемыми. Интересы слишком слабы и особые компетенции слишком второстепенны, чтобы заметно содействовать такому объединению. Поэтому власть, требующая тяжелых жертв ради неопределенных результатов, заставляет признать себя лишь когда ей удается присутствовать как бы физически - так, что ее можно видеть и слышать. Как во времена войн и революций решающую роль приобретают свойства характера и чувства. Без этого участники рискуют оказаться в стороне от общего дела. Независимо от конкретных обстоятельств, в таком обществе превалирует идея, что линь исключительные индивиды в состоянии противостоять состоянию неопределенности и неведения. Идея столь же живучая, сколь та, которая предполагает, что в моменты смуты появляется вождь или спаситель. В его присутствии люди являются пленниками собственных эмоций, они подавлены собственным множеством, околдованы, уже покорны. Это зародыш власти в некотором роде сверхчеловеческой и личной. Но что она означает? Как узнать ее, кроме как по ее странному и беспокоющему характеру? Этот зародыш, "причина" или "источник" легитимности, называется харизмой. Так не называют власть определенную или определяемую, позволяющую действовать в тех или иных обстоятельствах, делать то или другое. Это просто власть как таковая - власть действовать, осуществлять изменения, доверенная одному человеку. Тем самым она требует экстра- ординарного подчинения определенной личности, ее героической силе и воплощаемому ею порядку. "Следует понять, - пишет Вебер, - что в дальнейшем, изложении термин "харизма" относится к экстраординарному качеству личности, независимо от того, является ли это качество реальным, желаемым или предполагаемым. Харизматический "авторитет" относится, следовательно, к господству над людьми, является ли оно внешним или по преимуществу внутренним, которому люди подчиняются потому, что верят в экстраординарное качество особенной личности". ЕСТЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗАКОН Локк начинает свой второй „Трактат о правительстве" словами о том, что, показав невозможность происхождения правительственной власти от власти отца, он изложит то, что ему представляется правильным пониманием происхождения государства. Он начинает с допущения того, что он называет „естественным состоянием", предшествующим всем человеческим правительствам. В этом состоянии имеет место естественный закон, а естественный закон состоит из божественных велений и не внушен никаким человеком-законодателем. Не ясно, насколько естественное состояние является для Локка простой иллюстративной гипотезой и насколько он предполагает, что оно имело историческое существование; но я боюсь, что он был склонен думать о нем как о состоянии, которое имело место в действительности. Люди вышли из естественного состояния благодаря общественному договору, который учредил гражданскую власть. Это Локк тоже рассматривает как явление более или менее историческое, но пока нас интересует именно естественное состояние. То, что Локк говорил о естественном состоянии и законе природы, в основном не оригинально, а является повторением средневековых схоластических доктрин. Так, Фома Аквинский говорит: „Каждый закон, созданный людьми, содержит свойства закона именно в той степени, в которой он происходит из закона природы. Но если он в каком-либо отношении противоречит естественному закону, то сразу же перестает быть законом; он становится всего лишь извращением закона". На протяжении всего средневековья естественный закон связывался с проклятым „ростовщичеством", то есть отдачей денег в рост. Церковная собственность почти полностью заключалась в землях, и землевладельцы чаще были должниками, чем заимодавцами. Но когда возник протестантизм, он поддерживался, особенно кальвинизм, главным образом богатыми средними сословиями, которые чаще были заимодавцами, чем должниками. Соответственно этому сначала Кальвин, потом другие протестанты и, наконец, католическая церковь санкционировали „ростовщичество". Таким образом, естественный закон стал пониматься по-иному, но никто не сомневался в его существовании. Многие теории, которые сохранили веру в естественный закон, обязаны ему своим происхождением, например теория laissez-faire (политика невмешательства) и теория прав человека. Эти теории взаимно связаны и обе уходят своими корнями в пуританизм. Две цитаты, приводимые Тоуни, иллюстрируют это. Комитет палаты общин в 1604 году заявлял: „Все рождающиеся свободными гражданами имеют право наследования — как в отношении их земли, так и в отношении их свободных занятий промышленностью — во всех сферах, где они применяют свои способности и посредством чего живут". А в 1656 году Джозеф Ли писал: „Неоспоримой максимой является, что каждый с помощью света природы и разума занимается тем, что доставляет ему наибольшую выгоду... Успех отдельных лиц будет способствовать успеху общества". За исключением слов „с помощью света природы и разума", это могло бы быть написано в XIX столетии. Повторяю, в локковской теории государства мало оригинального. В этом Локк сходен с большинством людей, прославившихся своими идеями. Как правило, человек, который первым выдвигает новую идею, настолько опережает свое время, что его считают чудаком, так что он остается неизвестным и скоро его забывают. Затем постепенно мир вырастает до понимания такой идеи, и человек, который провозглашает се, в надлежащий момент получает все почести. Так было, например, с Дарвином, а несчастный лорд Монбоддо в свое время был посмешищем. Что касается естественного состояния, то здесь Локк был менее оригинален, чем Гоббс, рассматривавший это состояние как такое, в котором существовала война всех против всех и жизнь была беспросветна, временна, а люди жили подобно зверям. Но Гоббс считался атеистом. Взгляд на естественное состояние и естественный закон, которые Локк воспринял от своих предшественников, нельзя отделить от его теологической основы; там, где он лишен этой основы, как в большей части теорий современного либерализма, он лишается ясного логического основания. Вера в счастливое „естественное состояние" в отдаленном прошлом своем восходит частью к библейским рассказам о веке патриархов, а частью к античным мифам о золотом веке. Общая вера в негодность отдаленного прошлого появилась лишь вместе с теорией эволюции. Вот что можно найти у Локка как наиболее точное определение естественного состояния: „Люди, живущие вместе в соответствии с разумом, без обычного превосходства одних над другими и с правом судить друг друга, и представляют собою, собственно, естественное состояние". Это описание не жизни дикарей, а воображаемого сообщества добродетельных анархистов, которым не нужны ни полиция, ни суд, потому что они всегда подчиняются „разуму", который совпадает с естественным законом, в свою очередь состоящим из таких законов поведения, которые, как считают, имеют божественное происхождение (например, „не убий" — это часть естественного закона, а правила поведения на дороге нет — нет). Приведем несколько цитат, которые помогут яснее понять то, что подразумевал Локк. „Для того чтобы понять право политической власти, — говорит он, — и установить ее происхождение, мы должны рассмотреть, какое состояние для людей естественно, то есть состояние абсолютной свободы, чтобы направлять свои действия и распоряжаться своей собственностью и личностью по своему усмотрению в рамках естественного закона, не спрашивая разрешения и не завися от чьей-либо воли". „Это было, конечно, состояние равенства, при котором вся власть и юрисдикция являются взаимными: ни один человек не имел больше, чем другой. Нет ничего более очевидного, чем то, что создания одних и тех же видов и уровней беспорядочно родившихся с одинаковыми природными задатками и с использованием одинаковых способностей, должны быть также равными между собой без субординации или подчинения. Если только повелитель и господин, вышедший из их среды, не декларировал каким-либо манифестом, что его воля подчиняет себе волю других, и не было даровано ему очевидным и ясным определением несомненного права владения и суверенитета". „Но хотя это (естественное состояние) является состоянием свободы оно не есть состояние своеволия: хотя человек в этом состоянии обладает бесконтрольной свободой, чтобы располагать собой или своим имуществом, все-таки у него нет свободы, чтобы убить себя или даже любое живое существо, которым он владеет, за исключением тех случаев, когда какая-то более благородная цель, чем простое самосохранение, призывает его к этому. У естественного состояния есть естественный закон, который управляет им, который связывает каждого; и разум, являющийся таким законом, учит все человечество, кто бы ни советовался с ним, что все существа равны и независимы, никто не имеет права причинить вред жизни, здоровью, свободе или имуществу1 другого, так как все мы собственность Бога". Однако вскоре выясняется, что там, где большинство людей находится в естественном состоянии, могут тем не менее встретиться люди, не живущие в соответствии с естественным законом, и что естественный закон предусматривает, кстати, что может быть предпринято, чтобы противостоять таким преступникам. Говорится, что в естественном состоянии каждый человек должен сам защищать себя и свою собственность. „Кто пролил кровь человека, заплатит своей кровью" — это часть естественного закона. Я имею право даже убить вора в то время, когда он крадет мою собственность, и это право продолжает существовать и после учреждения правительства, хотя там, где есть правительство, если вор ушел, я должен отказаться от личной мести и прибегнуть к закону. Самое большое возражение естественному состоянию заключается в том, что, пока оно существует, каждый человек — судья в своем собственном деле, так как он должен полагаться только на самого себя в защите своих прав. Для этого зла правительство служит лекарством, но оно не является естественным лекарством. Естественного состояния, согласно Локку, избегли посредством договора, создавшего государство. Никакой договор не прекращает естественного состояния, исключая лишь то, что создает государство. Различные правительства независимых государств сейчас находятся в естественном состоянии в отношении друг к другу. Естественное состояние, как сообщается в отрывке, по-видимому, направленном против Гоббса, не тождественно состоянию войны, а, пожалуй, ближе к ее противоположности. После разъяснений права убить вора на том основании, что вор, может быть, думал затеять войну против меня, Локк говорит: „И здесь мы имеем ясное различие между естественным состоянием и состоянием войны (что некоторые путают), которые так же далеки друг от друга, как состояние мира, доброй воли, взаимной помощи и защиты от состояния вражды, злобы, насилия и взаимного разрушения". Может быть, естественный закон нужно рассматривать как закон, имеющий более широкую сферу, чем естественное состояние, так как первый имеет дело с ворами и убийцами, в то время как в последнем таких преступников нет. Это по крайней мере предлагает выход из очевидного противоречия у Локка, состоящего в том, что иногда он представляет естественное состояние как состояние, где каждый добродетелен, а иной раз обсуждает, что может быть справедливо сделано в естественном состоянии, чтобы противостоять агрессивным действиям злодеев. Некоторые положения естественного закона Локка в высшей степени странны. Например, он говорит, что пленники в справедливой войне являются рабами по естественному закону. Он говорит также, что по закону природы каждый человек имеет право наказывать за нападение на себя или свое имущество даже смертью. Он не делает исключений, так что если я поймал мелкого воришку, то, очевидно, по естественному закону имею право застрелить его. В политической философии Локка собственности отводится основное место и она рассматривается как главная причина установления гражданской власти. „Главной и основной целью людей, объединяющихся в государство и подчиняющих себя власти правительства, является сохранение своей собственности, чему в естественном состоянии недостает многого". В целом теория естественного состояния и естественного закона в одном смысле является ясной, в другом — очень озадачивающей. Ясно, что Локк думал, но не ясно, как он мог прийти к таким мыслям. Этика Локка, как мы видели, утилитарна, но при рассмотрении „прав" он не высказывает утилитарных соображений. Нечто подобное пропитывает всю философию права в том виде, как ее преподносят юристы. Юридические права можно определить так: вообще говоря, человек имеет юридическое право обратиться к закону, чтобы тот защитил его против оскорбления. Человек имеет вообще юридическое право на свою собственность, но, если он имеет, скажем, незаконный запас кокаина, у него нет юридического средства против человека, который похитит его. Но законодатель должен решить, какие юридические права создавать, и неизбежно возвращается к концепции естественных прав, как таких, которые должен охранять закон. Я пытаюсь, насколько это возможно, рассуждать в плане теории Локка, но без теологических терминов. Если допустить, что этика и классификация действий как „правильных" и „неправильных" логически предшествуют существующему закону, то становится возможным сформулировать теорию заново в понятиях, не основывающихся на мифической истории. Чтобы прийти к естественному закону, мы можем поставить вопрос таким образом: если отсутствует закон и правительство, какие виды действий А против Б оправдывают Б если он отомстит А, и какой вид мщения оправдывается в иных случаях? Обычно считают, что нельзя осуждать человека, если он защищает себя от нападения убийцы, даже если по необходимости дело дойдет до убийства нападающего. Равно он имеет право защищать свою жену и детей или даже любого члена общества. Существование закона против убийцы становится неуместным в тех случаях, если, как может легко случиться, человек, на которого совершено нападение, умер бы прежде, чем призовут на помощь полицию; поэтому мы возвращаемся к естественному праву. Человек также имеет право защищать свою собственность, хотя в отношении степени членовредительства, которое он имеет право причинить вору, мнения расходятся. В отношениях между государствами, как указывает Локк, естественный закон уместен. При каких обстоятельствах война является оправданной? До тех пор пока не существует мирового правительства, ответ на этот вопрос будет чисто этическим, а не юридическим. Ответить на это нужно таким же образом, как можно было бы ответить на вопрос о поведении индивидуума в состоянии анархии. Правовая теория основана на взгляде, что „права" личностей должны защищаться государством. Иными словами, когда человек подвергается какому-либо оскорблению, которое оправдывало бы мщение, то, согласно принципам естественного закона, справедливый закон должен действовать так, чтобы отмщение совершалось государством. Если вы видите человека, нападающего с целью убийства на вашего брата, вы имеете право убить его, раз вы не можете иначе спасти вашего брата. В естественном состоянии — так по крайней мере считает Локк, — если человек убил вашего брата, вы имеете право убить его. Но, где существует закон, вы теряете это право, которое берет на себя государство. И если вы убьете в целях самозащиты или для защиты другого, вы должны будете доказать суду, что именно это было причиной убийства. Мы можем тогда отождествить естественный закон с правилами морали, насколько они независимы от справедливых юридических законов. Такие правила должны существовать, если существует какое-нибудь различие между плохими и хорошими законами. Для Локка дело обстоит просто: так как правила морали установлены Богом, их следует искать в Библии. Когда уничтожается теологическая основа, вопрос становится более трудным. Но до тех пор пока считается, что существуют этические различия между правильными и неправильными поступками, мы можем сказать: в обществе, которое не имеет правительства, вопрос, какие поступки должны считаться правильными с точки зрения этики, а какие — неправильными, решает естественный закон, а справедливый закон должен, насколько возможно, руководствоваться и вдохновляться естественным законом. В своей абсолютной форме доктрина, что индивидуум имеет определенные неотъемлемые права, несовместима с утилитаризмом, то есть с доктриной, говорящей о том, что правильные поступки — это такие, которые больше всего способствуют общему счастью. Но для того чтобы эта теория могла быть подходящим основанием для закона, нет необходимости, чтобы она была верна в каждом возможном случае; достаточно только, чтобы она была верна в подавляющем большинстве случаев. Мы все можем представить себе случаи, при которых убийство было бы оправдано, но они редки и не дают оснований настаивать на аргументах против незаконности убийства. Подобно этому, может быть, я не говорю, что это так и есть, желательно с утилитарной точки зрения предоставить каждому индивидууму определенную сферу для личной свободы. Если так, то теория Прав Человека будет подходящим основанием для соответствующих законов, даже если бы эти права были исключением. Утилитарист должен будет изучать теорию, которая считается основой для законов с точки зрения ее практических действий; он не может осудить ее ab initio как противоположную его собственной этике. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР В политической мысли XVII века существовало два основных типа теорий о происхождении правительства. Пример первого из них можно найти у Роберта Филмера. Теории этого направления утверждают, что Бог даровал власть определенным лицам и что эти лица или их наследники составляют законное правительство, выступление против которого является не только государственной изменой, но и богоотступничеством. Эта точка зрения опиралась на традиции седой древности, так как почти во всех ранних цивилизациях личность монарха была священна. Естественно, что короли находили эти теории восхитительными. А у аристократии были основания и для их поддержки и для выступления против них. В ее интересах было подчеркивание этими теориями принципов наследственной власти: тем самым обеспечивалась королевская поддержка в ее борьбе против растущего купечества. Там, где страх и ненависть аристократии к средним слоям были сильнее, чем к королю, преобладали эти мотивы. Там, где дело обстояло наоборот, и особенно там, где аристократия имела возможность взять верховную власть в свои руки, она склонялась к борьбе против короля и поэтому отвергала теории о священном праве королей на власть. Теории второго основного типа, представителем которых является Локк, утверждают, что гражданская государственная власть — это результат договора и является делом чисто земным, а не чем-то установленным свыше. Одни писатели этого направления рассматривали общественный договор как исторический факт, другие — как правовую абстракцию, но всех их объединяло стремление обосновать земное происхождение государственной власти. И фактически, кроме предполагаемого договора, они не могли найти ничего, что можно было бы противопоставить теориям о священном праве королей на власть. За исключением бунтовщиков, каждый чувствовал, что нужно найти хотя бы какие-то обоснования для повиновения правительству: нельзя же было сказать, что для большинства людей авторитет правительства просто удобен. Правительство в некотором смысле должно иметь право требовать подчинения, а право, даваемое договором, по-видимому, является единственной альтернативой божественному повелению. Следовательно, учение о том, что правительство было учреждено на договорных началах, фактически было популярно среди всех противников теории священного права королей. Намеки на эту теорию имеются у Фомы Аквинского, но начало ее серьезного развития нужно искать у Гроция. Теория договора могла принимать и формы, оправдывающие тиранию. Гоббс, например, считал, что договор о передаче всей власти избранному суверену существовал лишь между гражданами, тогда как суверен не являлся договаривающейся стороной и поэтому неизбежно пользовался неограниченной властью. Возможно, что эта теория вна- чале оправдывала тоталитарное государство Кромвеля, а после Реставрации она нашла оправдание и правлению Карла II. Однако в трактовке Локка правительство является участником договора, и если оно не выполнит свою часть договора, то сопротивление ему можно считать законным. Теория Локка, в сущности, более или менее демократична, но элемент демократизма в ней ограничен взглядом (скорее подразумеваемым, чем выраженным), что те, кто не имеет собственности, не должны считаться гражданами. Посмотрим, что говорит Локк по данному вопросу. Во-первых, рассмотрим одно из определений политической власти: „Я считаю, что политическая власть — это право создавать законы с правом применения смертной казни и, следовательно, всех меньших наказаний для регулирования и охраны собственности, право использовать силы общества для проведения в жизнь законов, для защиты государства от иностранного вторжения, — и все это во имя общественного блага". Автор указывает, что правительство — это средство для разрешения недоразумений, возникающих в естественном состоянии вследствие того, что каждый человек в этом состоянии является сам судьей в своем деле. Но когда спорящей стороной становится король, то правительство уже не является таким средством, поскольку король выступает одновременно и как судья и как истец. Такая постановка вопроса привела к мысли о том, что правительства не должны быть облечены неограниченной властью и что правосудие должно быть независимо от исполнительной власти. Подобные аргументы получили потом большое распространение как в Англии, так и в Америке, но в данный момент не это является нашей темой. По естественному закону самосохранения, говорит Локк, каждый человек имеет право, защищая себя или свое имущество, даже убить напавшего. Политическое общество возникает там и только там, где люди отказываются от этого права в пользу общества или закона. Абсолютная монархия не является формой гражданского управления, так как она не имеет беспристрастных органов власти, способных решать споры между монархом и его подданными; фактически монарх в отношении к своим подданным находится до сих пор в рамках естественного состояния. Бесполезно надеяться, что титул короля сделает добродетельным человека, от природы вспыльчивого и несправедливого. „Тот, кто был бы наглым и несправедливым в лесах Америки, не стал бы лучше на троне, где наука и религия, возможно, были бы призваны для оправдания всего того, что он сделает со своими подданными, и меч скоро усмирил бы всех тех, кто осмелился бы в этом усомниться". „Абсолютная монархия напоминает людей, которые, защитившись ох хорьков и лисиц, самодовольно думали бы, что ото обезопасит их от львов". Гражданское общество подчиняется власти простого большинства, если только не достигнуто соглашение о том, что необходимо некое другое большинство, превышающее простое большинство. (Как, например, в Соединенных Штатах, когда речь идет об изменении конституции или ратификации договора.) Это звучит демократично, но следует помнить, что Локк предполагает, что женщины и бедняки лишены права гражданства. „Возникновение политического общества зависит от согласия индивидуумов объединиться и образовать общество". До некоторой степени сомнительно, чтобы можно было фактически когда-то достичь такого согласия, хотя можно допустить, что везде, за исключением евреев, возникновение государства предшествовало истории. Гражданский договор, которым учреждается правительство, связывает только тех, кто его заключил; сын должен заново выразить свое согласие с договором, заключенным его отцом. (Ясно, что все это следует из основных положений Локка, но это не очень реалистично. Молодой американец, который, достигнув 21 года, объявит: „Я отказываюсь считать себя связанным договором, который положил начало Соединенным Штатам", — окажется в трудном положении.) Читателю сообщается, что власть правительства, обусловленная договором, никогда не противоречит общему благу. Только что я цитировал положение, касающееся власти правительства. Оно заканчивалось так: „И все это только во имя блага общества". Локку, кажется, не приходило в голову спросить себя: кто должен судить о благе общества? Очевидно, что, если это будет делать правительство, оно всегда будет решать в свою пользу. По-видимому, Локк сказал бы, что решение должно приниматься большинством граждан. Но многие вопросы нужно решить быстрее, чем можно установить мнение избирателей; из этих вопросов вопросы войны и мира, вероятно, являются наиболее важными. Единственное средство в подобных случаях — это дать обществу или его представителям определенную часть власти, такую, например, как привлечение к суду с последующим наказанием должностных лиц за действия, признанные антинародными. Но это далеко не совершенное средство. Я уже цитировал положение, которое повторю снова: „Главной и важнейшей целью людей, объединяющихся в государство и подчиняющих себя воле правительства, является защита своей собственности". В соответствии с этой теорией Локк заявляет: „Верховная власть ни у кого не может отнять ни единой частицы его имущества без его согласия". Еще более поразительно его утверждение о том, что, хотя военное командование обладает властью над жизнью и смертью своих солдат, оно не имеет права распоряжаться их деньгами. (Это значит, что в любой армии считалось бы неправильным наказывать штрафом небольшие нарушения дисциплины, а было бы позволено подвергать за это телесным наказаниям, таким как порка. Это показывает, до как абсурда доходит Локк в своем преклонении перед собственностью) Можно было бы предположить, что вопрос налогообложения вызов у Локка трудности, но этого не случилось. Расходы правительств Т говорит он, должны нести граждане, но лишь с их согласия, то есть с согласия большинства. Но почему, спросим мы, должно быть достаточно согласия большинства? Нам говорили, что необходимо согласи каждого человека, чтобы разрешить правительству изъять какую-либо часть его собственности. Я допускаю, что молчаливое согласие человека на налогообложение в соответствии с решением большинства предполагается как неотъемлемая часть его гражданства, которое в свою очередь рассматривается как добровольный акт. Все это, конечно иногда совершенно противоречит фактам. Большинство людей не обладает действительной свободой выбора в отношении государства, к которому они хотят принадлежать, и очень мало в настоящее время свободы, чтобы не принадлежать ни к какому государству. Предположим, например, что вы — пацифист и не одобряете войну. Но где бы вы ни жили, правительство будет брать часть ваших доходов на военные цели. К какому закону тут можно апеллировать? Я могу представить себе много ответов, но не думаю, чтобы какой-нибудь из них соответствовал взглядам Локка. Он включает в свою теорию без достаточного рассмотрения принцип большинства, не предлагая никакого перехода к нему от своих индивидуалистических предпосылок, кроме мифического общественного договора. Общественный договор в указанном смысле мифичен даже тогда, когда в какой-то период действительно существовал договор, создавший данное правительство, например Соединенные Штаты. Во времена, когда там принималась конституция, люди имели свободу выбора. Даже тогда многие голосовали против конституции, и поэтому не были договаривающейся стороной. Они, конечно, могли бы покинуть страну. Но, оставаясь там, они считались связанными договором, на который они не были согласны. Но на практике обычно трудно покинуть свою страну. А в случае, когда люди родились после принятия конституции, их согласие на договор еще более призрачно. Вопрос о правах индивидуумов по отношению к правительству — очень трудный вопрос. Слишком легко решают демократы, что, когда правительство представляет большинство, оно имеет право принуждать меньшинство. Кстати, это должно быть правильным, поскольку принуждение является сущностью правительства. Но священное право большинства, если его слишком навязывать, может стать столь же тираническим, как и священное право королей. В своих „Трактатах о правительстве" Локк по этому вопросу говорит мало, но рассматривает его довольно подробно в своих „Письмах о веротерпимости", где доказывает, что ни один верующий в Бога не может быть наказан за свои религиозные взгляды. Учение о том, что государство было образовано путем общественного договора, конечно, доэволюционно. Государство, подобно кори и коклюшу, по-видимому, возникло постепенно, хотя, подобно им, оно, возможно, было введено сразу в новых областях, таких как острова Южного моря. До того как люди начали изучать антропологию, у них не было представления ни о психологических процессах, вызвавших появление государства, ни о фантастических причинах, которые привели людей к использованию учреждений и обычаев, оказавшихся впоследствии полезными. Но как юридическая абстракция, оправдывающая появление правительства, теория общественного договора имеет некоторую долю истины. Люди и власть: от тоталитаризма к демократии Та или иная власть нужна в любом обществе, и общества без власти так же неизвестны этнографам, как общества без семьи или без собственности. Отношения людей и власти являются предметом пока отсутствующей у нас науки, лежащей на стыке психологии, социологии и политологии. Основной проблемой политической психологии являются комплексы чувств, представлений и действий людей, которые определяют их взаимодействия с властью. Мотивы и формы политического участия, общественный диалог, отчуждение от власти — таким мы видим круг проблем политической психологии. Между какими коллективными субъектами — группами или институтами — развертывается общественный диалог? Участвует ли в нем власть либо стоит над ним? Как она контролирует круг проблем, которые оказываются или, что более важно, не могут оказаться в поле диалога? Каковы формальные и альтернативные механизмы политического участия? В какой степени люди в реальном обществе испытывают отчуждение от власти, как они осознают образующуюся «нехватку» причастности и чем ее компенсируют? Что влияет на принятие решений и как участвуют в нем разные социальные группы? Как соотносятся полномочие власти и возможности общества? Образуется огромное и очень плохо структурированное поле. Попробуем как-то разметить его, используя для этого не столько наши академические познания — они здесь оказываются плохими гидами, — сколько политический опыт, доступный любому современнику. Думая об этом, мы первым делом сталкиваемся с бедностью нашего языка. В тоталитарном обществе нет политики, она требует независимых субъектов и свободного поля общественного сознания. Что уж говорить о политологии, политической социологии и психологии... А прямое применение к нашим сегодняшним проблемам политических представлений западной демократии — дело, вряд ли многим более перспективное, чем применение к ним понятий восточной философии. И то и другое нужно знать, но думать хотелось бы категориями, более близкими к реальной жизни. В тоталитарном сознании проблемы «власть и общество» не существует. Инфантильное сознание не различает субъект и объект и, скажем, полугодовалый ребенок, укусив сам себя, не понимает, отчего ему больно, плачет и продолжает кусать дальше. Подобно этому, власть и народ едины не потому, что они договорились в конкретном вопросе, решив, что интересы совпадают; в тоталитарном сознании власть и народ едины потому, что они вообще неразличимы, мыслятся как одно нерасчлененное целое, и сам вопрос об их отношениях не возникает. Актуальны иные проблемы: власть и народ против внешнего окружения, власть и народ против внутренних врагов... Тоталитарное сознание верит в абсолютное единство общества, и оно осуществляет эту веру на деле, убивая или объявляя нелюдьми всех, кто не согласен с властью или хотя бы может быть несогласен. Тоталитарное сознание парадоксально, и при абсолютной отрешенности людей от власти оно поддерживает искреннюю их веру в то, что вождь в каждом своем действии выражает их интересы, чувствуя их глубже и мудрее, чем могут они сами. Подобное слияние с властью — первый тип отношений власти и общества. Народ не безмолвствует, как в феодальных государствах прошлого, — нет, народ поет, кричит «ура» и рукоплещет казням. Общество функционирует по принципу «запрещено все, кроме того, что приказано», но принцип этот мешает жить лишь врагам народа, только они хотят чего-то запрещенного и неприказанного. Тоталитарная личность с ее энтузиазмом и скромностью этого не хочет: не ограничивает свои желания, а действительно, искренне не хочет. Все ее отношения с миром развертываются по вертикальной лестнице, восходящей от любого находящегося на свободе члена общества к самому вождю. Соответственно, тоталитарная власть вмешивается и разрушает почти все горизонтальные формы общения людей. Профсоюзы рассматриваются как ненужные и — при власти рабочих! — теряют всякое значение. Выборы депутатов еще при Ленине стали проводиться не по территориальному, а по производственному принципу. Вторжение в семью, религию, культуру не знает границ. В обстановке тревоги и слежки любые объединения по интересам, имеющим сколько-нибудь существенное социальное значение, быстро приобретают вид подпольной организации, вроде описанного в «Белых одеждах» «кубла» генетиков, и в конце концов их члены оказываются за решеткой. В XX веке не раз создавались ситуации, в которых политическое поведение власти и политическое сознание общества оказались резко не соответствующими друг другу. Режим действует прежними тоталитарными методами, не замечая, что его рычаги сгнили и общество живет по иным законам. Бескровные революции, которые произошли в Португалии и Испании, отмечают именно такую ситуацию, по-своему развивающуюся сейчас и в Южной Корее, Бирме, Пакистане, Чили... Но «революциям гвоздик» предшествовали десятилетия драматического разложения власти. Тоталитарная власть неизбежно входит в противоречие с природой вещей, и рано или поздно — обычно после смерти харизматического лидера — это становится очевидным даже для правящей элиты. Перед режимами открываются два пути: распад и преобразование. Нам повезло, мы застали и то и другое. Брежневская эпоха была временем распада, когда лидеры немощными руками цеплялись за последние символы культа власти, а народ смеялся над тем, что для него стало не более чем побрякушками. Но ни власть, ни общество не предлагали политической альтернативы. Отдельные выступления несогласных при всем их значении не меняли общее восприятие того, что имеющаяся власть, при всей ее нелепости, пребудет такой вечно. Ресурсы страны представлялись неисчерпаемыми и, казалось, могли бесконечно оплачивать все то, во что бездарное руководство обходилось стране. Власть по-прежнему видела себя тоталитарной, но в разных слоях общества зрели анклавы иных форм политического сознания. Разрушались основы тоталитарной механики, народ и власть больше не были монолитом, а распадались на большие и малые группы, живущие внутренними интересами. Одни пытались игнорировать власть, как интеллигенция. Другие — надо сказать, более успешно — старались освоить и подчинить власть, как деятели теневой экономики. Государство должно идти на какие-то изменения в собственной организации. Наиболее распространенным, психологически легким для власти путем является смягчение, известное послабление режима. При этом структура власти сохраняется, аппарат подавления держится в боевой готовности, но используется в значительно меньших масштабах. В последние годы режима Франко в Испании говорили, что положение в стране, как на дороге, когда полиция установила ограничение скорости, но не штрафует за его превышение. Граждане спокойно и привычно нарушают правила, но все виноваты и в любой момент могут быть наказаны. Такой способ трансформации режима быстро демонстрирует свою неэффективность. Чувствуя слабость власти, активизируются различные антисоциальные группы, возникает мафия, теневая экономика и т.д. Противоречие между законом, по которому «ничего нельзя», и повседневной практикой, убеждающей, что «все дозволено», провоцирует на проверку реальных границ запретов. Это периодически толкает власть на защиту своего престижа, демонстрацию силы: в самосознании власти она еще остается тоталитарной, противодействие ей — оскорбление. Так среди всеобщего послабления возникают вдруг призраки прошлых суровых времен. Теряя последние рычаги, власть огрызается непоследовательными, бессмысленными, жесткими мерами, какими были процессы над диссидентами и директорами, бросающие сегодня специфический свет на все послесталинские десятилетия. При всем том, что различало, скажем, Иосифа Бродского и Ивана Худенко, оба они, как и тысячи других пострадавших, пытались просто заниматься своим делом, выделить узкую область компетенции, в которой могли бы реализовать себя помимо власти. Курчатову, Королеву, Туполеву это удалось, тут государство признало полезность их профессиональной независимости и пошло на локальные отступления от тоталитарной идеи. Всем тем, кто не претендовал, что их талант даст власти победу в будущей войне, нечего было рассчитывать на признание их профессионального достоинства. И все же власть отступила. Политические процессы так же не смогли помешать личной популярности диссидентов, как сусловский контроль над идеологией не смог помешать распространению самиздата и второй культуры. Распоряжения властей систематически не выполнялись, все более массивные области жизни уходили из-под контроля, приказы приходилось повторять как заклинания, а чудеса все не приходили. Власть теряет магическую силу, за рубежом и у молчаливого большинства внутри страны формируется вполне адекватное представление о жизни. С уходом прежних верований меняется и политический идеал. Тоталитарная личность с ее энтузиазмом и скромностью уходит в легендарное прошлое. Карьеру делают циничные и безразличные к делу люди, пробивающие свой путь взятками и анонимками. Игра в личную верность начальству сочетается со сложными интригами за его спиной. Защищаясь от нелепости жизни, люди уходят в разные формы «социальной обороны»: в замкнутую от общества семью (мой дом — моя крепость); в хобби и появляющиеся «клубы по интересам», в мафиозные уголовноэкономические структуры, в церковь, в национальные движения. Власть, еще недавно бывшая всемогущей и всепроникающей, сталкивается со своей беспомощностью перед всем тем, что она клеймит как мещанство, местничество, ведомственность, национализм и что на деле является уродливо деформированным, но совершенно естественным процессом самоорганизации общества. Сохраняются, однако, и мощные зоны тоталитарного режима. В армии и партаппарате, школах и тюрьмах поддерживается атмосфера подчинения и единомыслия. Все это можно описать как процесс постепенного разложения тоталитарной власти и вытеснения ее иным типом власти — авторитарным. Нам представляется продуктивным предложенное А. Миграняном разделение авторитарных и тоталитарных систем. Авторитарная система, обеспечивая любым путем, в том числе и прямым насилием, политическую власть и не допуская в сфере политики никакой конкуренции, не вмешивается в те области жизни, которые не связаны с политикой непосредственно. Относительно независимыми могут оставаться экономика, культура, отношения между близкими людьми. Личная независимость в известных пределах не рассматривается как вызов существующей системе правления. Поэтому в авторитарных системах люди в принципе имеют возможность выбирать между различными центрами влияния или конкурирующими друг с другом мафиями. В тоталитарной системе мафии невозможны; или, точнее, вся она представляет из себя одну огромную, победившую конкурентов мафию. Авторитарное общество в своем доведенном до логического конца варианте построено на принципе «разрешено все, кроме политики». Власть отказывается от несбыточных претензий на полный контроль и выделяет лишь несколько зон, в которых оставляет управление за собой: это собственная безопасность, оборона, внешняя политика, социальное обеспечение, стратегия развития и пр. Экономика, культура, религия, частная жизнь остаются без отеческого внимания. Такая организация власти в наиболее чистом виде существует в Южной Корее, Таиланде, Чили, постепенно она устанавливается в Китае. Авторитарные режимы оказываются устойчивыми, им удается сочетать экономическое процветание с политической стабильностью, и на определенном этапе общественного развития сочетание сильной власти со свободной экономикой является наилучшим из возможных. Отдавая богу богово, а кесарю требуя лишь кесарева, авторитарная власть способна удовлетворить все потребности граждан, кроме одной, но зато ее удовлетворить эта власть не может в принципе. Это — потребность в политике. Она существует у многих, доказательства легко найти в тех же антиутопиях, но у сильной власти есть хорошие шансы в борьбе с теми, для кого политическое участие выше личного благополучия. Рецепт давно известен. Булгаковский Понтий Пилат допрашивает Иешуа именно на этот предмет: занимался ли он политикой, упоминал ли имя великого кесаря, называл ли себя царем иудейским. Если нет — пусть делает, что хочет, пусть проповедует что угодно. Прокуратора интересует только политика, религия и мораль — вопросы не его, а специалистов-жрецов, которые не властны лишить человека жизни и свободы. Для Пилата достаточно, чтобы Иешуа отрицал свою прикосновенность к власти: политическое участие — дело субъективное. Но раз преступник говорит, что власть кесаря не вечна, приходится умыть руки. Решение Пилата — образец авторитарного управления. Далеко не худший способ применения власти в сравнении с современной Булгакову практикой. В нашей стране переход от тоталитарного к авторитарному режиму правления постепенно происходил — а кое в чем еще происходит — в течение всех десятилетий после 1953 года, но символом этих изменений стал приход к власти Ю.В. Андропова. Как специалист, он вряд ли заблуждался в истинном отношении народа к власти. Любви нет и не стоит ее добиваться — достаточно требовать послушания. Тональность идеологии стала меняться. Политическим идеалом власти стал профессионализм. Каждый должен заниматься своим делом. Честное и точное выполнение должностных инструкций лучше всякого энтузиазма поможет подъему страны. Специалисты нужны и в управлении страной, и в писании картин, и в науке, и в разведке. Все наши беды от некомпетентности, коррупции и безделья. Само по себе признание ценностей профессионализма было шагом вперед по сравнению с орденоносной бездарностью прежнего руководства. Это было понято и с надеждой принято обществом. Хорошая работа стимулировалась, однако, мерами, которые диктовались профессионализмом в области репрессий и полным дилетантизмом в политике. Массовые проверки того, кто чем занимается в рабочее время, стали образцом активной некомпетентности власти. В том же духе оказались выдержаны и позднейшие плоды — Указ о нетрудовых доходах и антиалкогольное законодательство. Авторитарное общество порождает глубокую пропасть между народом и властью, причем любых возможных мостов через эту пропасть чуть ли не в равной мере избегают и государство, и общество. Важнейшим феноменом авторитарного сознания является массовое отчуждение от власти. Для тоталитарного сознания отчуждение не характерно — люди сливаются с властью и идентифицируются с лидерами, либо становятся нелюдьми. Вместе с отчуждением авторитарный режим порождает характерные чувства недоверия, тревоги, апатии и даже отвращения к действиям власти. Всякие, даже разумные, решения вызывают скепсис и горькую усмешку. Отчуждение от политики связано с подавлением некоторых основных человеческих потребностей и, как таковое, обязательно ведет к компенсаторным действиям. Алкоголизм, ставший образом жизни миллионов, был, как нам представляется, одним из побочных следствий отчуждения от политики. Авторитарный режим формирует новую интеллигенцию, которая уже не боится заниматься своим делом, но больше всего на свете не любит политику. Политика — грязное дело. Как говорил герой Чехова, порядочные люди в политику не суются. Мандельштам сказал: «Власть отвратительна, как руки брадобрея». Одни интеллигенты, продолжающие сотрудничать с властью, практиковали разлагающее их двоемыслие: лицемерие на собраниях было платой за возможность заниматься своим делом. Другие, имевшие мужество отказаться от сотрудничества, работали дворниками и шоферами и реализовывали себя в неофициальных социальных структурах — невидимых колледжах, артистических кафетериях, самиздатовских журналах второй культуры. Всех их объединяло глубокое неприятие политики. Даже диссиденты разделяли это общее чувство. Сергей Королев, проведший 12 лет в лагере и ссылке за редактирование «Хроники текущих событий», важнейшего политического органа эпохи, говорит: «Лично мне и некоторым из хорошо мне известных правозащитников свойственно неистребимое интуитивное отвращение к политике». Лариса Богораз, вышедшая в 1968 году на Красную площадь с протестом против вторжения в Чехословакию, на изумленный вопрос корреспондента: «Разве то, чем вы занимались, не было видом политической деятельности?» — отвечает: «Я искренне надеюсь, что нет». Политическим идеалом авторитарного сознания являются независимость и профессионализм. Независимость — в пределах существующих законов, узаконивающих бесправие. Профессионализм — не обязательно на работе, в рабочее время надо пить чай и дружить с начальством. Все это ведет к половинчатости, расщепленности авторитарного сознания, беспомощному стоицизму. Интеллигентский уход от политики в эзотерические проблемы духовной жизни делает интеллигенцию еще более зависимой, а власти — еще менее компетентными. Уклонение обеих сторон от участия в общественном диалоге, шедшее с двух концов разрушение всех формальных и неформальных каналов обратной связи дорого обошлись нашему обществу. Интеллигенция состоит из людей, обязанных видеть, думать, предупреждать, и она, наряду с властью, несет ответственность за состояние нашего общества. К сожалению, она оказалась подвластна суевериям тоталитаризма и не сумела избавиться от них с переменой режима. Более того, многие из нас даже не почувствовали этой перемены. Некоторые не чувствуют ее и сегодня. Между тем иллюзии рассыпались быстрее, чем могли ожидать самые свободные от них люди. Одновременно с крушением слабеющей веры в бессмертие вождей проверке реальностью подверглись и вера в безграничность ресурсов власти, и вера в ее справедливость и могущество, и вера в бесконечное, воистину чудесное терпение народа. Война в Афганистане, исчерпание дешевого сырья, серия катастроф, коррупция, всеобщие признаки экологического кризиса вернули нас на землю со скоростью пикирующего самолета. Ответом были изменения в партии и бурный рост общественных движений экологического, национального, политического порядка. В течение нескольких лет произошли серьезные изменения политического сознания. Политика явилась из небытия и сразу стала делом, интересным для всех. Ограничения на подписку в 1988 году взволновали людей больше, чем дефицит продуктов. Расписаться под коллективным письмом в газету или в орган власти из неслыханного и очень рискованного дела стало заурядным событием. Митинги собирают сотни и тысячи людей. Политика заполняет газеты и телепрограммы,- отодвинув на десятое место спорт и все то, что раньше было на первом. Политизируется все — экономика, искусство, экология, право. Многолетняя политическая засуха сменилась бурным весенним половодьем. Мы с радостью плывем в нем, но плывем по течению. Мы все еще не определяем наш путь. Вслед за М. Гельманом договоримся различать два других типа организации власти — либеральный и демократический. Между ними есть и общность и отличия. Два эти типа власти основаны на характерном для них процессе, который отсутствует в других ее типах — авторитарном и тоталитарном. Этот процесс — общественный диалог: такое взаимодействие разных индивидов, групп и институтов в поле общественного сознания, в котором каждый партнер относится к другому как к субъекту, признавая его ценность, право на существование и независимость. Тоталитарная власть, превращающая все вокруг себя в единого субъекта, изъясняется монологами. Диалог здесь просто не с кем вести, он невозможен и не нужен, все равно что игра в шахматы с самим собой. Авторитарная власть тоже не допускает диалога, строя стену между собой и обществом. Дела общества не интересуют власть, дел власти чурается общество. Либеральное и демократическое общества ведут прямой и непрерывный диалог с властью. В диалоге преодолевается и слияние партнеров, и их отчуждение. Диалог ведут те, кто знает, что партнер — другой, но не чужой. Его позиция важна и заслуживает внимания. Различия между либеральной и демократической властью кроются в разных способах организации диалога. Либеральная власть позволяет обществу и разным социальным группам влиять на принимаемые решения. Демократическое общество само выбирает носителей власти и через них — тот или иной вариант решения. Итак, слияние, отчуждение, влияние, выбор — такова эволюция отношений к власти. Либеральное сознание чрезвычайно активно и критично. Любой вопрос, стоящий перед властью, любая политическая проблема подвергается многократному обсуждению. Это полезно и для общества, осознающего себя и свои позиции, и для власти, которая благодаря этому способна увидеть, наконец, реальную сложность мира и узнать результаты своих решений. Гласность есть безусловное и самоценное благо, и либеральное сознание с восторгом пользуется всеми ее богатствами. Общественный диалог, как и любые процессы межгруппового общения, ведет к поляризации установок и к развитию групповой идентичности. Формируется множество горизонтальных объединений, складывающихся вокруг разных людей, идей и социальных структур. Общество не распадается на клубы, союзы и объединения, а наоборот, консолидируется на основе диалога между всеми этими коллективными субъектами. Только в таком диалоге формируется совершенно неведомая авторитарной власти психологическая ценность — ощущение человеком самого себя как гражданина своего общества. Гражданская идентичность может сложиться только на базе групповой идентичности, ощущения своего участия в деятельности определенных социальных групп и причастности к общению между ними. Не претендуя на власть, эти группы могут оказывать довольно серьезное влияние на общественную и производственную жизнь. Классическим примером являются профсоюзы западного типа, но сегодняшний день дает нам и множество отечественных примеров. Обсуждение с целью влияния — это тоже политика. Но лидеры либеральной власти, готовые обсуждать с народом свои решения, не готовы отдать свою власть. Принцип общественной жизни оказывается таким: «Позволено все, что не ведет к смене власти». Роль общества ограничена влиянием на принятие решений, сами же решения остаются прерогативой власти. Общество может влиять, но не может выбирать; может советовать, но не может требовать; может думать, но не может решать. Такое распределение полномочий ведет к соответствующим политическим идеалам. При всей своей активности либеральная личность безответственна. Она предлагает и убеждает, но не отвечает за свои предложения. Принять их или не принять — дело власти, и отвечать за провал или пользоваться плодами успеха будет она. Либеральное сознание может доверять или не доверять власти, но либеральная личность боится сама занять ее место. Это соотношение ведет к своеобразной конфигурации всей политической жизни. Несмотря на свою активность, либеральное сознание никогда не делает крупных, направленных в будущее предложений. Они остаются делом власти (которая должна бы быть более всего заинтересованной именно в таких раскованных идеях, которые по своей природе не могут созреть внутри аппарата). Либеральное сознание полностью погружено в обсуждение уже принятых решений, в критику уже допущенных властью ошибок. Этот низкий потолок вряд ли кто-то поставил и организовал по своей воле; его существование в очередной раз иллюстрирует наличие неосознаваемых стереотипов, или, точнее, суеверий, которые в нужных случаях действуют в нас автоматически и без обсуждения. Когда Д.С. Лихачев предложил строить мегаполис между Москвой и Ленинградом, он вышел за пределы узкого поля либерального сознания, и многие отнеслись к его идее с неодобрительной усмешкой: чего надумал... Критика городской застройки вызвала бы куда меньше внутреннего протеста. Стабилизируясь, либеральное сознание обретает собственный консерватизм, оно не хочет выходить из своих границ, боится перейти в другой, более развитый тип политического сознания. С успехом выполняя очень важную функцию обратной связи, либеральное сознание избегает гражданской инициативы вплоть до явной несправедливости по отношению к ее активистам. Критикуя все и вся, оно боится делать любой реальный шаг, расходящийся с планами властей. Критиковать — одно, действовать самим — совсем другое. Зачем дразнить гусей, вызывать социальное напряжение, все так неустойчиво, правые воспользуются любым поводом... Активисты сегодняшних демократических движений наизусть знают подобные уговоры. При этом либералы не пользуются даже теми законными средствами демократии — например, правом отзыва депутатов, — которыми мы располагаем. Тем более они не требуют расширения демократических прав. «Литературная газета», без конца обсуждающая на своих страницах повышение цен на телефонные переговоры, метро, колготки и многое другое, ни разу не призвала граждан отозвать или забаллотировать виновного депутата. Ведь министра, необоснованно повысившего цены, выбирали в депутаты читатели «Литературной газеты». Нет, критиковать можно, отзывать нельзя. А министр почитает, даст ответ. Либеральное сознание преувеличивает роль гласности, просвещения, нравственности и вообще человеческого фактора. Соответственно, недооценивается роль формальных структур власти, правовых и демократических процедур. Главное — убедить власть и вое-' питать народ, все остальное приложится. И действительно, либеральная власть хороша при умном и нравственном лидере. Со сменой поколений вероятно вырождение власти, прекращение общественного диалога, свертывание политического сознания до авторитарного уровня. Хотя либеральная власть более прогрессивна, мягка и эффективна, она может вызвать и, кажется, неизбежно вызывает большую ненависть, чем авторитарная власть. Политическое сознание парадоксально: тоталитарный режим возбуждает любовь народа, либеральная власть обречена на его ненависть. Так, сегодняшний порядок назначения директора в академических институтах, когда кандидатура обсуждается и «выбирается» коллективом, а потом еще раз избирается вышестоящей инстанцией — отделением Академии наук, вызывает куда большее недовольство, чем прежний порядок, когда директора назначало то же отделение, ни с кем ничего не обсуждая. Порядок стал более либеральным и, кажется, более разумным, но его половинчатость и лицемерие вызывает больше ненависти, чем прежние, куда более значительные пороки. В психологическом плане тоталитарный и авторитарный режимы оказываются более сбалансированными, более последовательными, чем либеральный. Они убивают тех, кто хотел бы занять их место. Либеральная власть общается с ними. Пытаясь убедить в своем превосходстве, она демонстрирует все свои слабости. Внутри себя либеральное общество вынашивает широкие анклавы иного, более высокого типа политического сознания. Они созревают везде, куда больше не пытается проникнуть центральная власть, — во множестве горизонтальных непроизводственных структур, в кооперативных и других самостоятельных производственных формированиях, в местных оpганах управления. Демократические меньшинства начинают искать пути объединения, стремятся стать демократическим большинством. Оказавшись в тепличной обстановке безответственности, по своей социально-психологической атмосфере похожей на обстановку мозгового штурма, демократические меньшинства развиваются гораздо быстрее, чем истеблишмент либерального общества. Все больше людей понимают, что власть небезальтернативна, что доверие ей не бессрочно, а дано в кредит. Если кредит этот не выплачивается, то власть становится банкротом. Спасти власть от банкротства может либо харизма руководителя — выбор соблазнительный, но прямиком ведущий в тоталитарный ад, — либо гибкость, чувствительность к переменам, способность и готовность с почетом уйти со сцены. Либерального лидера, слишком долго держащего власть, ожидает грустная судьба императора Александра. Общество признает «век новый, царь младой, прекрасный, запомнит «дней александровых прекрасное начало»... Но с презрением и ненавистью оценит результат правления, которое не смогло перерасти само себя: «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Искусство либеральной политики в том, чтобы, силой охраняя власть от тоталитарной ностальгии и притязаний авторитаризма, поощрять ростки демократического сознания и, не ошибившись в оценке их зрелости, постепенно и добровольно отдавать власть. Демократия, как известно, власть народа, власть большинства. Но весь народ не может собраться на площади. Референдумами тоже политика не делается, эта мера чрезвычайной, а не обычной политической практики. Непосредственная демократия как была, так и остается несбыточной мечтой, осуществимой как система только в небольших коллективах из 10 — 100 человек. Реальная демократия — это демократия представительная, власть людей, избранных народом. Демократическая власть организует общественный диалог и является его непосредственным партнером. В диалоге общество оценивает действия носителей власти и правомочно сменить их в рамках законных процедур. Сохраняя за собой право влияния, общество приобретает право выбора. Если влияние, будь то предложения или критика в прессе, демонстрация или лоббистская деятельность, неформально и не должно иметь никаких процедур, то выбор может осуществляться только в рамках высокоформализованных правовых норм. В процедурах заключается самое очевидное и действительно очень важное отличие демократической власти от либеральной. Демократия — это V власть процедуры. Для либерального сознания ключевое значение правовых норм непостижимо, они кажутся ему лишними, мелочными, чуждыми политике. Происшедший накануне XIX партконференции сдвиг в политической мысли, поставивший акцент на создании правового государства, отражал, видимо, именно этот непростой переход от либерального политического идеала к идеалу демократическому. Закон защищает не только граждан от власти, но и власть — от народа. В пределах выборного срока может быть переизбран только тот, кто нарушил закон. Политические ошибки или потеря симпатий избирателей не дают повода для отзыва. Выбор депутата значит не то, что люди поручают ему то или иное конкретное решение конкретного вопроса, а то, что они делегируют ему право решать любой вопрос, опираясь только на свое собственное мнение. Они доверяют ему как личности, как человеку и гражданину. Если он ошибается — значит, я сам, голосовавший за него, виноват: не понял его, не раскусил, не сумел спросить у него то, что оказалось важным. Или, проголосовав «против», я не сумел переубедить тех, кто голосовал «за». В любом случае исправить свою ошибку я смогу только при следующем голосовании. Сложный вопрос, можно ли высокие этические нормы демократического общества распространять на иные типы политического устройства. Д.С. Лихачев, предложивший всем принять равную ответственность за пороки застоя, вызвал на себя огонь критики: нельзя поровну винить палача и жертву, невозможность сопротивляться — ее беда, а не вина. Так этот или нет, но сам призыв к покаянию как к некоей школе демократии остается сегодня одним из немногих проявлений демократического сознания. А демократическое общество требует для своего функционирования сформированного демократического сознания. Без него самые хорошие законы могут остаться тем же, чем была бухаринская конституция для сталинского общества — словами. Но, конечно, бесполезно и рассчитывать, в классическом для русских либералов духе, что можно сначала воспитать народ, а потом дать ему конституцию. Правовое государство может развиваться только вместе с гражданским обществом — вместе и одновременно. Зрелое демократическое сознание ощущает равную ответственность граждан за действия своего правительства. Это и есть гражданская идентичность — восприятие человеком самого себя как члена общества, выбирающего общий путь вместе с другими людьми. Подданный становится гражданином, население — обществом. Чувство ответственности тем выше и реальнее, чем более непосредственным является волеизъявление граждан при выборе руководителя. Любая непрямая система выборов, по очевидным психологическим законам, снижает чувства ответственности и сопричастности с обеих сторон: граждане отчуждаются от власти, власть в меньшей степени чувствует себя ответственной перед обществом. Последующее звено выборщиков, как бы они ни назывались, делает возможным давление на них за закрытыми дверьми и манипуляции их голосами или, по крайней мере, подозрения по поводу этих манипуляций. Любые посредники — это проявление недоверия «сверху» и источник недоверия «снизу». Демократическое сближение народа и власти имеет характер не слияния их в недифференцированное целое, а скорее сотрудничества, объединения усилий в рамках множества самоорганизующихся социальных структур. Каждый из участников общественного диалога ясно чувствует свою идентичность, свои права и интересы, свои обязанности перед партнером. Кто нарушает эти нормы, вредит собственным интересам. Поправить его — дело не власти, а закона. Такое положение резко меняет статус плюралистических общественных организаций. Их горизонтальная структура вытесняет вертикальную структуру власти. Ранее выключенные из политической системы, они оказываются ее реальным базисом. Политические идеалы требуют всего лишь одного — законности действий граждан, включая и лидеров верхнего эшелона. Оценить их нравственность и эффективность — дело избирателей. Власть требует от граждан только одного — держаться в рамках закона. «Разрешено все, что не запрещено законом», — таков принцип демократического общества. Характерный для остальных типов общественного устройства барьер между властью и обществом разрушается, каждый может избирать и быть избранным. Сохраняющаяся даже в либеральном обществе каста правителей с их необыкновенным образом жизни, особыми правами и ответственностью перестает существовать. Менее очевидно то, что исчезает и сформированное авторитарным сознанием доверие к профессионалам власти — политикам, аппаратчиками, менеджерам и пр. Избирателей волнуют человеческие качества, личная одаренность и гражданский кругозор своего кандидата. Во всем, что действительно важно, может разобраться и неспециалист. Профессионалы полезны как эксперты, не более. Принятие решений нельзя доверять технократам, они будут перетягивать канат на себя. Суд присяжных и парламентские структуры, в которых за неспециалистами остается решающее слово во всех, в том числе и в специальных, делах, реализуют подлинно демократический принцип приоритета гражданского над профессиональным. Политическое доверие, которое граждане испытывают к лидеру, формируется поразному. Если для носителя тоталитарного сознания оно сродни религиозной вере и не требует никаких рациональных обоснований, то у носителя сознания демократического оно, скорее, тяготеет к научному знанию. Соответственно, становится необходимым доказательство того, что лидер этого доверия заслуживает. Поэтому, если в первом случае народу достаточно разнообразной иконографии вождя, то во втором резко возрастает внимание к личности руководителя и ко всему тому, что позволяет сделать прогноз эффективности его работы. Важно и то, какие посты он занимал в прошлом и как выполнял свои обязанности, и его моральный облик, и точка зрения по самому широкому кругу вопросов. Многократно осмеянный в нашей пропаганде интерес к биографиям политических лидеров является отнюдь не только нескромностью и проявлением дурного вкуса, а нормальным стремлением уберечь себя от ошибки при принятии решения в выборе . Подведем итоги нашего очерка типов политического сознания. Они различаются по пяти основным признакам. Первым является характер и мера осуществления власти. В тоталитарном обществе это * всеобщий, не знающий границ контроль и насилие; в авторитарном обществе возникают анклавы, недоступные контролю; в либеральном власть ведет диалог с независимыми группами, созревшими в этих анклавах, и сама определяет его результаты; в демократическом обществе власть осуществляется представителями граждан, избранными в соответствии с законом. Вторым является отношение людей к власти: не «за» или «против» конкретной власти, а общая характеристика взаимодействий общества с политической властью. Для тоталитарного сознания характерно слияние с властью, для авторитарного — отчуждение от власти, для либерального — влияние на нее, для демократического — выбор ' конкретных носителей власти. Статус горизонтальных социальных структур является третьим дифференциальным признаком, различающим разные типы организации власти. Тоталитарный режим разрушает любые горизонтальные структуры. Авторитарный допускает их в той мере, в какой они носят неполитический характер. Либеральный разрешает любые организации, кроме тех, которые претендуют на власть. В демократическом строе структура общественных организаций становится основой политической системы. В любом обществе есть своя сфера допустимого и запретного, и характер этих запретов является четвертым дифференциальным признаком. В тоталитарном обществе разрешено то, что приказано властью, все остальное запрещено. В авторитарном обществе разрешено то, что не имеет отношения к политике. В либеральном обществе разрешено все, кроме смены власти. В демократическом обществе разрешено все, кроме того, что запрещено законом. Пятым признаком является характер политических идеалов. Он определяет тот тип личности, который признается наиболее соответствующим целям власти, и тот тип власти, который наиболее соответствует ценностям общества. В тоталитарном обществе от власти требуется всемогущество, от людей — энтузиазм и скромность. В авторитарном обществе от власти требуется компетентность, от людей профессионализм и послушание. В либеральном обществе от власти требуется нравственность, от людей — активность и безответственность. В демократическом обществе от власти и от граждан требуется одно — соблюдение законов. Как видим, с развитием политического сознания требования к властям и гражданам становятся все более умеренными. Но как же трудно их выполнить...
