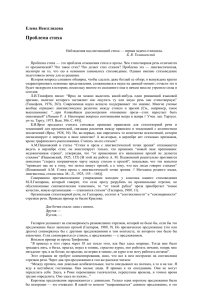Елена Невзглядова
реклама

Елена Невзглядова Интонационная структура стихотворной речи Определяя стихотворную речь, исследователи неизменно упоминают о ее членении на отрезки: “Границы этих отрезков общеобязательно заданы для всех читателей (слушателей) внеязыковыми средствами: в письменной поэзии — обычно графикой (разбивкой на строки), в устной — обычно напевом или близкой к напеву единообразной интонацией) (Гаспаров, 1989, 8) Разделение на письменную и устную поэзию обосновано тем, что в устной речи возможны разные интонационные интерпретации письменного текста и письменный текст принято считать беззвучным. Но даже при молчаливом чтении прозы некоторые чисто интонационные моменты “звучат” в воображении (без которого мы не можем ни читать, ни думать.) Так, фразовые ударения расставлены определенным образом в соответствии со смыслом высказывания. Они “слышны”, как “слышны” синтаксические паузы, интонации завершенности и незавершенности, некоторые вопросительные интонации и т.д. От их “звучания” зависит смысл высказывания. Б.В.Томашевский говорил: “...для того, чтобь письменная речь была речью реальной, живой, а не буквенным орнаментом, мы должны мыслить ее произносимой” (Томашевский, 1929, 307). Что касается метрической речи, то метр не может восприниматься глазами. Метр организует звучание речи и воспринимается только в звучании — независимо от того, читается текст вслух или про себя [Отрицать присутствие интонации в письменном тексте на том основании, что она реально не звучит и мелодически может быть выражена по-разному, — все равно что отрицать присутствие предметной отнесенности слова в воображении на том основании, что предмет может фигурировать в сознании обобщенно: скажем, читая слово “стол”, мы представляем себе стол в отрыве от конкретного материала и цвета, если эти свойства не указаны в тексте. Способность человека обобщенно воспринимать образы распространяется также на слуховые представления (не только на зрительные)]. Б.В.Томашевский связывал восприятие метра с “общеобязательной”, как oн утверждал, “внутренней и немой” скандовкой (Томашевский, 1929, 12). Но многим стихам скандовка противопоказана. Если проскандировать, например, ощущая четырехстопный хорей, стихи Г.Иванова: Хорошо, что нет царя. Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет, — придавая даже самое неприметное ударение первому слогу стихов, смысл примет противоречащий авторскому замыслу комический характер. Не надо скандировать, чтобы ощутить ритмический сбой в регулярных размерах. Он заметен при чтении про себя так же, как при чтении вслух, и это значит, что стихотворная речь звучит в воображении: не занимаясь подсчетом слогов и не отдавая себе отчета в том, каким размером написаны стихи, мы сразу чувствуем нарушение метрической схемы, если оно есть. Это происходит благодаря акустическому корреляту метра — метрической монотонии. В прозаической речи мы не сопоставляем количество слогов в соседних фразах очевидно потому, что прозаическая речь не обладает унифицированным звучанием. Известно, что стиховая интонация состоит из метрической монотонии и фразовой интонации (см., например, М.Ю.Лотман, 1985). Однако метрическая монотония — величина теоретическая; она реализуется только при скандировании. При обычном чтении конкретных стихов метрическая монотония превращается в ритмическую: если “напеть” метр, подразумевая конкретные стихи, то напев в виде ритмической монотонии приобретет некую выразительность, соотнесенную со смыслом слов. Когда К.Ф.Тарановский говорит: “Ритм лермотовского “Выхожу” может “мычаться” с определенной эмоциональной окраской приблизительно так: та-та-тá, та-тá-та-, та-та-тá-та...” (Тарановский, 1963, 321), — то он имеет в виду ритмическую монотонию, то есть специфически стиховую интонацию; звучащий ритм с эмоциональной окраской — это и есть интонация. Только не подвергаемое сомнению положение об отсутствии интонации в письменном тексте мешает увидеть существо этого явления. Ритмические ударения создают противостоящую прозаической фразовой интонации специфически стиховую интонацию, или ритмическую монотонию, выражающую установку на стихи (Невзглядова, 1997, 100—104). Это явление обладает основными свойствами интонации: участие в членении и организации речевого потока, выражение эмоционального момента. Ритмическая монотония вписана в стихотворный текст специфической асемантической паузой, которой заканчивается каждая стихотворная строка. Для того, чтобы в этом убедиться, возьмем два текста: первый — метризованный прозаический текст (например, повесть Довлатова “Иностранка”, написанная почти сплошь двусложником), Не слишком внимательный читатель не замечает метра и имеет, так сказать, на это право, т.к. текст записан прозой. Но если поделить текст на стиховые отрезки, другими словами, снабдить специфически стиховой асемантической (иррациональной), чисто ритмической паузой, текст сразу обнаруживает присутствие метрической организации, То есть присутствие ритмической монотонии. Второй текст пусть будет газетный, разбитый в целях экономии места на столбики. Введем в конец каждой строки столбика асемантическую паузу. Асемантическая пауза потребует асемантических, чисто ритмических ударений, которые обусловливают определенную интонацию. Полученный таким образом верлибр переводится в прозу обратной процедурой: замещением асемантических пауз синтаксическими. (См. Невзглядова, 1994, 80—81; а также: Невзглядова, 1997, 105), Членение на стиховые отрезки, которое “общеобязательно задано”, потому и задано, затем и существует, что графика отражает акустические особенности стихотворной речи. В отношении членений стихотворной речи не имеет смысла выстраивать параллель: визуальные — акустические. Между тем именно такое двоякое рассмотрение стихотворного текста получило распространение. Остановимся на этом более подробно, поскольку отношение к стихотворной речи как к звучащей является краеугольным камнем нашей теории. Вот одно из характерных высказываний: “Визуальную принудительность этим (стиховым — Е.Н.) членениям обеспечивает графика, а акустическую — интонация (“мелодика стиха”)..., и потому одна и та же последовательность слов и форм, бывает, выглядит по-разному в звучании и на письме” (курсив мой — Е.Н. (Шапир, 1996, 276). “Выглядит в звучании” — не случайная оговорка. “Если верлибр, в котором деление на строки не расходится с синтаксическим членением, переписать “прозой”, — полагает Шапир, — то, вопреки Гаспарову, его “звуковое строение” не изменится: ...Мои родители, люди самые обыкновенные, // Держали меня в комнатах до девятилетнего возраста, // Заботились обо мне по-своему, // Не пускали меня на улицу, // Приучили не играть с дворовыми мальчиками...” (там же, с, 272). С нашей точки зрения, звуковое строение прямым образом зависит от членения: членение производится паузами, а паузы — компонент интонации, который не может не влиять на звучание речи: делая ритмическую (асемантическую) паузу, мы читаем стихи, делая только синтаксическую паузу, мы читаем прозу [Разница между стиховой и синтаксической паузами акустически и артикуляционно может быть почти незаметна (ее акустические и артикуляционные корреляты неизвестны). Но эта разница “слышна”, т.к. она влияет на смысл высказывания. Интонационные средства выражения вообще могут быть едва различимы. Установлено, например, что слабая радость и сильная нежность имеют почти одинаковые интонационные проявления (Цеплитис, 1977, 189). Однако это по существу очень разные эмоции и они, конечно, различимы на слух. Ш.Балли отмечал, что “интонация никогда не отсутствует, хотя носит тем менее выраженный характер, чем более понятным оказывается словесное высказывание” (Балли, 1955, 56) Подобным образом можно утверждать, что в верлибре стиховые паузы обязательно должны быть явственно выражены — в метрических стихах их наличие обусловлено метром]. (В прозе ритмические ударения и паузы совпадают с фразовыми и синтагматическими не только по местоположению, но и функционально — см.: Златоустова, 1981, 10; Невзглядова, 1997, 10 1—103)). “При чтении вслух “поэморомана” С.Нельдихена можно, конечно, — продолжает Шапир, — интонационно выделять концы стихов, но, поскольку паузы между ними окажутся в равной степени обусловленными синтаксически, различие между стихом и прозой проявится не в “звуковой” организации, а в звуковой интерпретации, относящейся не к теории стиха, а всецело к сфере декламации” (с. 273). В этом высказывании отчетливо выражена презумпция немоты стихотворного текста. Здесь все интересно — и уточнение “при чтении вслух”, говорящее о том, что исследователь вслух читает не так, как про себя, по-видимому, более “выразительно”, и уверенность в том, что можно выделять концы стихов, а можно не выделять, и предпочтение, отдаваемое синтаксическим паузам: если паузы в равной степени обусловлены синтаксисом и ритмом, то — считает Шапир — должен возобладать синтаксис. Однако синтаксические паузы в тексте не отмечены, в приведенном примере они могут быть расставлены произвольно: например, отсутствует пауза после слова “родители”. А ритмические паузы Нельдихена, которые как раз указаны в тексте и которые исследователь как будто теоретически признает, судя по замечанию: “в равной степени обусловленными синтаксически”, — он считает возможным игнорировать, Получается, что отвечающая авторскому заданию расстановка ритмических пауз в стихах — вопрос интерпретации. С этим никак нельзя согласиться. Именно звуковое строение кардинально меняется при изменении записи, и в примере из Нельдихена это происходит со всей очевидностью. Стихотворная запись звучит как стихи, в ней записана установка на стихи, тогда как прозаическая звучит прозой. Это не вопрос интерпретации, а вопрос конструкции текста. Графическое членение на стихи не просто связано с произнесением неким параллелизмом (который постулируют все исследователи, не задаваясь, впрочем, любопытным вопросом, как и зачем возникла специфическая стиховая запись), — оно соответствует определенному звучанию, оно фиксирует ритмическую монотонию, обозначает ее, как знак препинания, как точка обозначает интонацию завершенности. По существу разделение стихотворного текста на две “среды обитания” — визуальную и акустическую — объясняется противопоставлением ритма и смысла, — возможно, не осознанным. Б.М.Эйхенбаум еще в 1923 г. писал о чтецах-декламаторах, понимающих ритм не как органическую основу звучащей речи, а как нечто присоединяемое, что “следует соблюдать”, и говорил об ошибочности такого подхода (Эйхенбаум, 1969, 516). Подобным образом — в отрыве от звучания речи и тем самым от смысла — рассматривается и метр. Так, М.И.Шапир говорит о сверхсхемных ударениях в пастернаковских стихах: “Приближаясь к языковой норме, такие стихи одновременно удаляются от нормы поэтической (заметим: не стиховой, а поэтической! — Е. Н.), каковой является метр”. (Шапир, 1996, 282) Сверхсхемные ударения спасают стих от автоматизации, автоматизованный стих — плохой стих (если это не ясно, заглянем в Тынянова, “Проблема стихотворного языка”), так что сверхсхемные ударения так же, как и пиррихии, не только не отдаляют стихи от поэтической нормы, но с очевидностью приближают к ней. Только не нужно принимать метр за “поэтическую норму”: “Я считаю, что нормативный характер метра — его основополагающая черта” (Шапир, 1996, 279). И далее: “...Признаки метра необходимо фиксировать не только в изотоническом, но даже в разноударном безрифменном изоклаузульном стихе...”. (с. 280) Зачем? Для ощущения стиха это совсем не нужно. Стих держится на ритмической монотонии. “…Из всех стиховых форм полностью свободен от метра исключительно один верлибр”, — говорит Шапир. (с. 279) От ритмической монотонии не свободен ни один тип стиха, начиная с силлабики и кончая верлибром, — это несомненно, если не упускать из вида, что стих — форма речи, включающая в себя асемантическую паузу. Метр при ритмической монотонии играет служебную роль, стихи — не случаи употребления метрического закона, потому что метр — способ их измерения, а не создания (это нужно учитывать). Мы можем применять его к акцентному стиху, как этого хочет Шапир, можем не применять, как предлагает Гаспаров. Все зависит от того, что именно и с какой целью мы исследуем. Метр помогает унифицировать звучание, и в этом, на наш взгляд, его основополагающая роль. Сокрушительное для поэзии противоположение метра и ритма смыслу [Нельзя не подивиться и попыткам приписать ритму смысл. “А поскольку данный смысл невыразим вне данного ритма (хотя бы ни одно слово при этом не было изменено), то и представляется единственно правильным приписать Смысл самому Ритму” (Шапир, 1990, 81). Разумеется, ритм связан со смыслом, он влияет на него. Но как по-разному, один и тот же ритм! Ритм — упорядоченность, закономерность, периодичность. См., например, такие определения ритма: “Ритм есть периодичность соизмеримых явлений (единиц) во времени и пространстве” (Антипова, 1984, 39); “Ритм в стихе... цикличное повторение разных элементов в одинаковых позициях с тем, чтобы приравнять неравное и раскрыть сходство в различном, или повторение одинакового с тем, чтобы раскрыть мнимый характер этой одинаковости, установить различное в сходном” (Лотман, 1972, 270). Не случайно понятие ритма употребляется и в музыке, и в живописи, и в архитектуре: ритм — абстрактная категория. Связь со смыслом осуществляется с помощью ритма ритмизуемым материалом. В речи этот материал — звук голоса, он связан со смыслом речи непосредственно. Если бы ритму принадлежал смысл, один и тот же ритм должен был бы менять разные речевые высказывания сходным образом. Этого не происходит. Одинаковые по ритму стихи бывают разительно не схожи. Ср.: “Тятя, тятя, наши сети / Притащили мертвеца...” и “Рок завистливый бедою / Угрожает снова мне”. Одного этого примера, кажется, достаточно, чтобы почувствовать отношения ритма и смысла — через ритмизованный материал, то есть интонацию] отступает, если отнестись к стихотворной речи как к звучащей, если понять, что ее запись короткими строчками вводит в текст определенное звучание. Специфическая стиховая интонация имеет глубокую природную связь с музыкой, и это неудивительно, так как музыкальная и речевая мелодии порождены общим источником — человеческим голосом. Следует предупредить, что аналогии стиха с музыкой, которые приходят в голову в конце века, существенно отличаются от тех, которые были в ходу в его начале при обсуждении проблемы мелодики стиха — проблемы, которая зашла в тупик по причине отождествления мелодики с интонацией [Мелодически манера чтения может быть очень различной. Но мелодика — только один из компонентов интонации. Для стиховой интонации, для ее характера неадресованности, который отличает ее от фразовой интонации, определяющим являются именно паузы, которыми заканчивается каждая стихотворная строка]. В музыке была открыта возможность использования фразовой интонации. Мусоргский писал В.В.Стасову: “...я добрел до мелодии, творимой... говором...” (см. Асафьев, 1954, 291). В специфически стиховой интонации обнаруживается противоположное явление: движение от “говора” к музыке, от фразовой, всегда адресованной интонации к неадресованному музыкальному звуку, стремление к принципиальной обособленности от смысла, смысловой невыразительности, музыкальной риторичности инструментального тембра. Ритмическая монотония представляет собой звучание голоса, не связанное с коммуникативной функцией речи, свободное от указаний синтаксиса. Это характерное, присущее всем поэтам “подвывание”, “распев”, “лишний” звук, отсутствующий при чтении прозаического текста, видимо, можно считать добавочным [“Дополнительное”, “добавочное” звучание — возможно, не слишком удачное выражение; оно обусловлено невольным скриптоцентризмом, недостатком, которым грешит понимание просодии вообще. Протестуя против представления просодии в виде “изогнутой проволочки мелодического контура, как бы наклеенного сверху над аккуратно написанным высказыванием”, Т.М.Николаева предлагает представление о многомерном явлении, которое “скорее, напоминает множество струн, пробегающих в одном направлении, но разной формы, разной толщины; при этом струны то параллельны, то расходятся, то сходятся, создавая фокусирующие пучки гетерофункциональных явлений” (Николаева, 1996, 10). Если даже принять термин “добавочное”, следует учитывать, что во множестве случаев это специфически стиховое звучание вытесняет из речи фразовую интонацию, заменяет ее] по отношению к повествовательной интонации прозы. В стихотворной строке это звучание получает определенную длительность (количество слогов), интенсивность (ритмические ударения) и тембр (соответствие с лексикой), то есть, отделившись от фразовой интонации, это звучание приобретает способность выражать эмоции точно так же, как это происходит в устной речи — независимыми от логико-грамматического строения речи интонационными средствами. В прозаической письменной речи количество слогов в слове, порядок словесных ударений и длина фразы сами по себе выразительностью не обладают. В стихе при наличии ритмической монотонии эти факторы приобретают выразительность. В статье “Как делать стихи?” Маяковский пишет: “Десять раз повторяю, прислушиваясь к первой строке: Вы ушли ра рá ра в мир иной, и т. д. Что же это за “рарáра” проклятая, и что вместо нее вставить? Может быть, оставить без всякой “рарары” Вы ушли в мир иной. Нет!.. без этих слогов какой-то оперный галоп получается, а эта “рарара” куда возвышеннее” (Маяковский, 1959, 81). “Возвышенная рарара” расшифровывается в стихах самым прозаическим образом, вводным, разговорным “как говорится”: “Вы ушли, как говорится, в мир иной”. В системе прозаической речи предложение “Вы ушли в мир иной” по смыслу серьезнее и потому возвышеннее. Очевидно, что возвышенность смысла здесь придается исключительно длительностью звучания (увеличением количества слогов). Исконные признаки звука — длительность и интенсивность, — всегда нечто выражающие в устной речи, как бы переносятся, возвращаются из устной речи в письменную. O, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней... Лишний по сравнению с метрической схемой первого стиха слог (и-су-е-вер-ней) дает ритмико-мелодический сбой; спотыкаясь о лишний слог, мы с неизбежностью что-то выражаем, звук голоса интенсивностью (ударениями) и длительностью (количеством слогов в стопе, в стихе) о чем-то говорит — именно этими средствами в устной речи мы выражаем эмоции. За счет четырех безударных слогов, нарушающих ритмическое ожидание [Выразительность перебоев ритма принято связывать с обманутым ожиданием (Якобсон, Лотман, Гаспаров, Богомолов и др.). Обманутое ожидание имеет место и свидетельствует о том, что перебой ритма замечен, но само по себе это психологически неприятное явление (приятную неожиданность этим словосочетанием не назовешь) объяснением выразительности служить не может], мы ощущаем особенность менее бодрого, что ли, на склоне лет чувства. Ритмическая монотония в обход грамматики соединяется со смыслом, как это происходит в устной речи с теми просодическими средствами, которые несут экспрессивную функцию. Тем же самым механизмом охвачены темп и тембр. Например, два стиха: “По небу полуночи ангел летел...” и “Как ныне сбирается вещий Олег...” и метрически, и ритмически совпадают. Но пушкинский стих энергичен в отличие от лермонтовского элегического, потому что ритмическая монотония непосредственно реагирует на смысл, требующий определенной и разной тембровой окраски, разного темпа. Как ни странно, по отношению к воображаемому звучанию можно и должно говорить не только о длительности и интенсивности, но также о темпе и тембре [Н.Д.Светозарова замечает, что в ИК-5 Брызгуновой, оформляющей восклицательно-оценочные предложения, выражающие высокую степень как положительного, так и отрицательного признака (ср. Какой прекрасный голос! — Какой ужасный голос!), — “вполне вероятно различие... по тембру” (Светозарова, 1982, 55), и читающему эти строки не нужны никакие дополнительные объяснения, чтобы “услышать”, какие именно различия имеются в виду. По всей видимости, при сопоставлении этих фраз их тембровое различие “звучит” в восприятии — осознанно или неосознанно]. Тут уместно вспомнить понятие музыкальной интонации. Б.В.Асафьев относился к интонации как к особому качеству музыки, без которого ее восприятие невозможно или по крайней мере неполноценно. Вне интонирования, — говорит он, — музыки нет. Б.В.Асафьев разделял тембр музыкального инструмента и тембр, исходящий от исполнителя. “Интонирует только человек”, “жизнь музыкального произведения — в его исполнении”. “Про игру инструменталистов говорят: есть тон. Про пианистов: есть туше, т.е. выразительное касание клавишей, преодолевающее “молоточность”, ударность инструмента. ...Рука человека словно может “вложить голос” в инструментальную интонацию”. И еще: “...В музыке ничего не существует вне слухового опыта” (Асафьев, 1957, 166—167, 186) То же самое можно сказать о стихах. В стихотворной речи неизбежно, как бы сама собой возникает выразительность, подобная той, о которой говорит Асафьев. Способ унификации звучания может быть различным, он обычно у каждого поэта свой — одни предпочитают мелодические средства выделения, другие — динамические. Стиховая монотония лишь делает семантически значимыми те элементы текста, которые в письменной прозаической речи остаются семантически нерелевантными. Она является фоном для отчетливого восприятия и сопоставления всех элементов, “основанием для сравнения” единиц стихотворной речи. Чтение стихов тем самым становится принудительно выразительным (интонационно-тембровым), ибо ритмическая монотония сама по себе, независимо от воли читающего (говорящего) соотносит различные элементы текста. В отличие от фразовой интонации письменного прозаического текста, зависящей как от синтаксиса, так и от эмоциональной насыщенности, придаваемой тексту говорящим (читающим), ритмическая монотония ограничивает интонационную свободу — как бы не полагаясь на восприятие читателя, диктует предопределенную автором выразительность. Вынужденная выразительность избавляет от необходимости “вчитывать” ее в текст [Это ни в коей мере не противоречит известным взглядам на текст как на партитуру (Ролан Барт). Наши соображения возникли при сопоставлении понятий: прочтение и интерпретация. В стихотворном тексте конструкцией обусловлено то, что в музыке исходит от исполнителя]. Унифицированное звучание уравнивает разноуровневые элементы текста, Одинаковость звучания стиховых строк служит “основанием для сравнения” наречия с прилагательным, глагола с союзом и местоимением, денотата с фонетической оболочкой слова [Будучи отторгнута от предметного значения, фонетическая оболочка слова приобретает способность семантизироваться. Об этом, например, говорил Мандельштам, называя слово Психеей] и т.д. — сравнения, которое отсутствует в прозаической речи. Унифицированное звучание отменяет существующую в прозаической речи и осознаваемую при восприятии иерархию элементов; оно, уподобляя, разобщает, и элементы речи получают возможность вступать в нерегламентированные связи, приобретают дополнительную валентность [М.И.Шапир замечает, что “стих от прозы отличается не расчлененностью на сравнимые между собой отрезки, но способностью сопоставлять то, что в прозе несопоставимо, и соизмерять то, что в прозе несоизмеримо”. Не объясняя, каким образом возникает эта способность (именно благодаря расчлененности!) и чему она служит, исследователь называет ее “дополнительным измерением” (Шапир, 1995, 17)]. Таков, на наш взгляд, механизм возникновения “пластического миметизма”. Видимо, это явление Ю. Н. Тынянов называл “теснотой” и “динамизацией” стихового ряда, возникновением “колеблющихся признаков” значения. И меж пелен оставила свирель, Которую сама заворожила. “Здесь слово ‘которую’ настолько динамизовано, что уж вовсе не соответствует своему скромному назначению и тусклым признакам значения, и, динамизованное, оно заполняется колеблющимися признаками, выступающими в нем” (Тынянов, 1965, 114). Тыняновские метафорические определения свойств стихотворной речи имеют вполне определенные лингвистические обоснования. Однако заметим, что при замещении интонационно-фразовых связей интонационно-ритмическими теснота синтаксических связей как раз ослабляется [На наш взгляд, не имеет смысла выяснение “расположения более тесных и более слабых синтаксических связей в строке” для установления механизмов, “поддерживающих существование и сопо-ложенность строк в стихе” (см. Т.В.Скулачева, 1996.). Этот механизм работает благодаря стиховому членению (не синтаксическому). Слова в стихе подчинены ритмическому закону, влияющему на синтагматические и фразовые связи, превращающему их в один тип, который выделяется Скулачевой под номером 6: “связь между однородными членами предложения”. (Это согласуется с наблюдением Л.В.Златоустовой: одним из наиболее частотных в стихе оказывается интонационный тип перечисления.)]. Крайний случай нарушения связи в синтагме — анжамбман, специфически стиховое явление; в прозаической речи до такого разрыва дело никогда не доходит. Но разрывая одни связи, ритмическая монотония устанавливает другие, ассоциативные, выходящие за пределы стихового ряда [Интересен такой факт изучения синтаксиса поэтического языка: “...увеличение значимости именного стиля в его функциональном противопоставлении глагольному... составляет такую черту европейской лирики XX века, которая не зависит от конкретных особенностей данного языка. Она принадлежит поэтическому языку века...” (Вяч. Вс. Иванов, 1987, 241). Широкое развитие в поэзии именного стиля, как представляется, связано с интонационной природой стиха, с тем, что, благодаря стиховой монотонии, служащей цементирующим материалом, именование приобретает динамические признаки, становится эквивалентом повествования, заменителем глагольности, и в этом смысле характерна формулировка Вяч. Вс. Иванова при анализе стихотворения Бразджениса “Ноктюрн”; “...именной стиль первых строк задает всей первой строфе тон” (Там же, с. 239; курсив мой — Е.Н.). В отличие от повествовательных высказываний, интонацию которых Т.М.Николаева называет “рыхлой” — “отчетливой здесь бывает лишь терминальная зона” (Николаева, 1996, 41) — стиховые конструкции именного стиля обладают большей интонационной слитностью — единой мелодической структурой, свободной от внутритекстовой семантики, что позволяет форме обрести самостоятельную выразительность: сама длительность и единообразие звучания ассоциируются с пространством и движением]. Представляют особый интерес случаи, когда за ритмической монотонней как бы тенью стоят естественные фразовые интонации с их основными коммуникативными типами: повествование, вопрос, восклицание, побуждение, импликация. Их семантика тоже тем же способом — при уподоблении — оживляется, что создает неожиданный, яркий художественный эффект. Ах нет, не здесь, не этот край безлюдный Был для души моей родимым краем... Выражение “ах нет, не здесь” обычно произносится с интонацией если не испуга, то категорического отрицания, возможно с оттенком просьбы, мольбы (категоричность и мольба, заметим, могут сочетаться в интонации, тогда как в слове эти значения необъединимы). В результате столкновения ритмической монотонии с мнемонической фразовой интонацией поспешного отрицания при известной доле раздражения (ах нет, не здесь!) возникает их гибрид: как будто автор опровергает чье-то неверное представление — с тоской и настойчивостью. Подобно “колеблющимся” признакам значения в стиховой строке появляются интонационные коннотации, на фоне монотонии создающие особый художественный эффект. Например, стих Мандельштама “Одному не надо пить” (“Мне Тифлис горбатый снится...”), в котором схемное ударение на первом слоге, несмотря на пиррихий, подспудно ощущается, — вызывает в памяти известную укоризненную интонацию, сопровождаемую соответствующим жестом: покачиванием головы или “угрозой” указательного пальца. Если не почувствовать таким образом хореическое звучание, фраза интонационно превратится в предупреждение плакатно-лозунгового характера. Ритмическая монотония, таким образом, — не манера чтения, а структурный элемент стихотворной речи. Механизм ее действия дает объяснение стиховой выразительности, отвечает на вопрос: “как переплетение звуков, схожих и разных, ударных и безударных, “подстилаясь” под смысловое содержание стихотворения, придает ему выразительность, которую оно никогда не имело бы в прозе?” (Гаспаров, 1993, 3) В музыке интонирование осуществляет исполнитель; исполнение есть интерпретирование, нотный текст дает простор для трактовок. Стихотворный текст нуждается лишь в том, чтобы быть правильно прочитанным — при помощи ритмической монотонии. “Музыку слушают многие, а слышат немногие” (Асафьев, 1957, 166). Это замечание Асафьева можно отнести к стихам. Установить корреляцию между разноуровневыми элементами текста в процессе восприятия не так-то просто. К этому нужно иметь по крайней мере врожденные склонности, подобные музыкальному слуху. И.Бродский писал: “Человек, обладающий некоторым опытом стихосложения, знает, что стихотворный размер является эквивалентом определенного душевного состояния, порой не одного, а нескольких”. (Бродский, 1992, 96). Под размером здесь, конечно, надо понимать интонацию. Из оговорки “порой не одного, а нескольких” следует, что не размер имелся в виду: не может один и тот же размер быть эквивалентом сразу нескольких состояний (известно, что один и тот же размер может быть носителем разных интонаций и, соответственно, душевных состояний — ср., например, “Предчувствие” и “Утопленник” Пушкина). Для Бродского размер в данном случае — метонимия, отсылающая к интонации. В другом месте он говорит: “В стихотворении свидетельством душевной деятельности является интонация. Говоря точнее, интонация в стихотворении — суть движения души”. В письменной речи, целью которой является сообщение, интонация воспринимается как служебное, вспомогательное средство при передаче мысли. Для поэта мир в этом отношении перевернут: лексико-грамматический элемент служит созданию интонаций, с которыми связаны душевные движения. При помощи такого простого, примитивного средства, как монотонное “подвывание”, удается фиксировать эмоциональное состояние автора, прикрепить его к языковым знакам, которыми оно непосредственно не выражается. Мы говорим о речевом механизме стиха. Механизм этот, с одной стороны, на удивление прост — введение дополнительного звучания в письменный текст путем разбивки его на отдельные строки; с другой — неожиданно сложен: немногие люди обладают тем, что называется “поэтическим слухом”, то есть способностью улавливать оттенки смысла, передаваемые воображаемым звуком голоса. Но, в конце концов, стихи — это искусство, а искусство, как писал Томас Манн в письме Бруно Вальтеру, “не очень-то к себе детишек подпускает”, несмотря на то, что даже от высоких проявлений “толпе перепадает немало эмоциональных, чувственных, сентиментальных, “возвышающих” побочных эффектов” (Манн, 1975, 147). Игнорирование категории интонации, вынесение ее за пределы текста приводит к тому, что формальные категории метра и ритма непосредственно наделяются семантикой. Явление, называемое семантическим ореолом метра, по существу не отвечает своему названию, поскольку имеется в виду не метр сам по себе, а его функционирование в стихотворной речи в виде ритмической монотонии. “…В исторической семантике русских размеров, — говорит М.Л.Гаспаров, — по-видимому, можно различить три стадии: в 18 и начале 19 вв. размеры ассоциируются прежде всего с жанрами, мы говорим: “семантическая окраска элегии, послания, песни”; в середине и второй половине 19 в. — прежде всего с темами, мы говорим: “семантическая окраска: смерть, пейзаж, быт”; в 20 в. — прежде всего с интонациями, мы говорим: “семантическая окраска патетическая” или “смутно-романтическая”, хотя понимаем, что для точного определения этих интонаций остается еще многого желать”. (Гаспаров, 1984, 107). С нашей точки зрения, семантика всегда принадлежит интонации и связана с метром опосредованно. Смысловые оттенки, передаваемые ритмической монотонней, — это и есть “семантическая окраска” и шире — “семантический ореол” метра. Метр — упорядоченность. Конечно, метр влияет на интонацию; не могла не влиять на нее и жанровая npинaдлежность; в эпоху, когда жанры распадались, менее общие содержательные моменты сказывались на интонации (мотив разлуки, например, требует печали в голосе). Что касается интонаций “патетическая” и “смутно-романтическая”, то они обусловливались как раз жанрами — одой и элегией. Интонации усложнялись. И патетика, и элегичность бывают различными, возможно и их объединение (вспомним, например, лирическую патетичность лермонтовского “За все, за все тебя благодарю я...”, — характерную для этого поэта). Интонации в стихах постоянно усложняются. Позволю себе сказать, что это и есть путь развития поэзии. Но желать точного их определения невозможно и не нужно, потому что в отсутствии этой определенности, в их смысловом синкретизме, на наш взгляд, состоит их специфическая художественная роль. При помощи интонации поэт избегает называния; не правда ли, назвать чувство и выразить его — совсем не одно и то же. “Ах, если б без слова Сказаться душой было можно!” — воскликнул поэт. Трудно представить подобное пожелание в устах музыканта: “Ах, если б без звуков сказаться душой было можно!”. Звук и движение души слиты воедино, никому в голову не придет, что звук может мешать душе “сказаться”. Сколько оттенков печали можно выразить голосом: скорбно-торжественный, горько-надрывный, уныло-напевный... Поименовать их все не удастся, и те, что обрисовываются одними и теми же словами, отличаются друг от друга, как музыкальные мелодии, на слух. Потому мы и говорим: “семантическая окраска”, что нельзя эту размытую стиховую семантику, приписываемую метру, свести к определенным понятиям: смерть, пейзаж, быт. Это слишком общо и потому неточно. При помощи стиховой монотонии в речи соединяются “далековатые” смысловые оттенки — как в метафоре. Посредством звучания голоса они передаются по тексту, как в устной речи. Например, в пушкинском стихотворении “Простишь ли мне ревнивые мечты” нежная жалоба: “Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокой!” — накладывается на последующее: “Что ж он тебе? Скажи, какое право Имеет он бледнеть и ревновать?” — хотя эти вопросы скорее взывают к интонации возмущения, даже негодования. Посредством монотонии смешиваются нежный упрек, гнев и обида, приобретая характер увещевания, адресованного самому себе, — обращаясь к любимой, поэт на самом деле уговаривает сам себя, что у него нет причин для ревности. Все это необходимо различать — иначе стихи потеряют свою прелесть. Подобное смешение оттенков смысла встречается в устной речи, в которой интонация может не соответствовать лексико-грамматическому смыслу и зачастую играть ведущую роль. Синкретическая мысль, хранящая слитность предмета и отношения (диктума и модуса, по терминологии Ш.Балли), не поддается сообщению: язык аналитичен. Эта аналитичность преодолевается в стихотворной речи введением в письменный текст звука голоса, способного передать оттенки смысла, не обозначенные словом. Тут-то и выясняется истинное родство поэзии с музыкой. Монотонная речевая мелодия в действительности на музыкальную совсем не похожа. Но музыка, — говорит А.Ф.Лосев, — это “всеобщая и нераздельная слитность и взаимопроникнутость внеположных частей... Добро в музыке слито со злом, горесть с причиной горести, счастье с причиной счастья и даже сами горесть и счастье слиты до полной нераздельности и нерасчлененности…” А.Ф.Лосев замечает “какую-то особенную связь удовольствия и страдания, данную как некое новое и идеальное их единство, ничего общего не имеющее ни с удовольствием, ни с страданием, ни с их механической суммой” (Лосев, 1990, 231—232). Ту же смесь различных эмоций, в частности, смесь удовольствия и страдания мы находим в лирике (“И мукой блаженства исполнены звуки”). Пропаду от тоски я и лени, Одинокая жизнь не мила, Сердце ноет, слабеют колени, В каждый гвоздик душистой сирени, Распевая, вползает пчела. Почему так радостно “распеваются” эти строки, в то время как в них говорится о тоске и одиночестве? Если человек сообщает, что ему “жизнь не мила”, то в соседстве с таким серьезным мотивом печали появление распевающей пчелы, кажется, должно выглядеть незначительной, второстепенной деталью ситуации. Но все дело в том, как сообщается, как говорится. Инверсия в первом стихе (“...я и лени”) сигнализирует о вытеснении фразовой интонации ритмической монотонией, “распевом”. (Об этом подробнее: Невзглядова, 1997). Если человек не говорит, а поет, это что-нибудь да значит. Речь благодаря этому меняет эмоциональную окрашенность, слова “сердце ноет, слабеют колени” произносятся почти с упоением: ведь чем больший разрыв между интонируемым смыслом и лексико-грамматическим, тем большая семантическая нагрузка падает на интонацию. Благодаря ритмической монотонии появляется особая возможность слияния смыслов, находящихся в оппозиции друг к другу. Разумеется, в языке есть способы слияния, позволяющие передать нужный смысловой оттенок. Например, слияние декларативной и модальной функции глагола. Так, “утверждать” означает “говорить, что ты веришь”, “жаловаться” означает “говорить, что недоволен” и т.д. (примеры Ш.Балли) И разумеется, речь предоставляет неограниченные возможности словосочетаний, в которых сливаются “внеположные части” (“Я счастлив жестокой обидою”; “Какое счастье быть несчастным!”). Но дело в том, что есть разница между сообщением о чем-то (словесным выражением модальности) и непосредственным ее проявлением в голосе говорящего (при помощи ритмической монотонии), разница между сообщением (“Я рад, что...”) и непосредственной радостью, проявленной голосом говорящего. Радоваться, утверждать, жаловаться и обижаться можно на разные лады. У каждого модального глагола есть десятки оттенков, которые вольно или невольно выражаются голосом. Звук голоса обладает гораздо большим диапазоном возможностей эмоционального выражения, чем слово. Поэтому печаль в условиях шестистопного ямба и в условиях, скажем, трехстопного хорея — это две разных печали, подобно двум музыкальным мелодиям в одном ключе, Сравним две фетовских строфы: Не спрашивай, над чем задумываюсь я, Мне сознаваться в том и тягостно, и больно. Мечтой безумною полна душа моя, И вглубь минувших лет уносится невольно. И Ласточки пропали, А вчера зарей Все грачи летали Да как сеть мелькали Вон за той горой. О “содержании”, или о причине, печали и в том, и в другом случае сказать что-либо трудно по этим первым строфам, но интонационно она вполне выражена и звучит различно. Ритмическая монотония — явление столь же обязательное, как напев в жанрах музыкального фольклора. Но фольклорный напев фиксирован в музыкальных знаках, ритмическая же монотония — как бы заранее данное средство выразительности, готовая форма для модальности, безотчетно проявляющейся в процессе чтения-говорения. Слияние предмета и отношения в стихотворной речи выразительно еще и потому, что синкретическая стиховая мысль сообщается самым убедительным способом, способом “говорения” — утверждая, жалуясь, жалея, печалясь и радуясь собственным читательским голосом. Единственная гарантия того, что сообщение будет воспринято адекватно, — это произнесение стихотворного текста от собственного лица тем, кто его воспринимает. Слушающий (читающий) превращен в говорящего. И пусть его природный голос не способен сыграть роль послушного инструмента, воображаемый не подведет, если стихотворный текст отвечает его интеллектуальным способностям и душевному опыту. Подведем итоги. Стихи — это речевые отрезки, оканчивающиеся музыкальной паузой, которая вводит в письменный текст звук голоса, не зависимый от логико-грамматического строения. Речь в стихах употребляется в функции пения. Унифицированное звучание уравнивает все элементы текста и тем самым делает их (без всякого ранжира) пригодными для выражения смысла. Служебные слова, фонетика и грамматика становятся равноправными выразителями смысла. Длина строки, становясь длительностью звучания, и чередование ударений — интенсивностью, как в устной речи, передают эмоции. Стих, таким образом, получает возможность фиксировать на письме интонацию. Ускользающая материя устной речи поймана стиховой конструкцией и остановлена. Оттенки смысла, которые в живом общении выражаются звуком голоса, непосредственно (а не описательно) возникают в письменном тексте. В этом состоит специфика стихотворной речи. Поэзии даны средства, с помощью которых можно задержать, остановить, увековечить летучие мгновения устного общения, нередко сопровождаемые напряжением всех душевных и умственных сил. Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук Хватает на лету и закрепляет вдруг И темный бред души, и трав неясный запах; Так, для безбрежного покинув скудный дол, Летит за облака Юпитера орел, Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах. 1996 БИБЛИОГРАФИЯ Антипова, 1984 — А.М.Антипова. Ритмическая система английской речи. М, 1984 Асафьев, 1930 — Б.В.Асафьев (Игорь Глебов). Музыкальная форма как процесс. Москва, 1930 Асафьев Б. В. Избранные труды. М., 1954, т.З. Асафьев, 1957 — Б. В. Асафьев. Музыкальная форма как процесс. // Избранные труды. М, 1957, т. 5. Балли, 1955 — Шарль Балли. Общая лингвистика и проблемы французского языка. М, 1955. Бернштейн С. И. Стих и декламация // Русская речь. Новая серия. Л., 1927. Т. 1. Бернштейн С. И. Основные понятия фонологии // Вопросы языкознания. М., 1962, № 5. Богомолов Н. А. Стихотворная речь. М., 1995. Бродский, 1992 — Иосиф Бродский. Набережная неисцелимых. М, 1992. Брызгунова Е. А. Звуки и интонации русской речи. М., 1977. Гаспаров, 1984 — М.Л.Гаспаров. Тынянов и проблема семантики метра. // Тыняновский сборник. Первые тыняновские чтения. Рига, 1984. Гаспаров М. Л. Оппозиция стих — проза // Русское стихосложение. М., 1985. Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989. Гаспаров М. Л. Русский стих. Даугавпилс, 1989 Гаспаров, 1993 — М.Л.Гаспаров. Русские стихи 1890-х — 1925-го годов в комментариях. М, 1993. Гаспаров М. Л. Стих и смысл. // De visu №5, 1993 Гиндин С. И. Структура стихотворной речи: Систематический указатель литературы по общему и русскому стиховедению, изданный в СССР на русском языке с 1958 по 1973 гг. М., 1976. Жинкин Н. И. Механизм регулирования сегментных и просодических компонентов языка и речи // Поэтика. Варшава, 1961. Жовтис А. Л. Стих и пословица // Русское стихосложение. М., 1985. Златоустова Л. В. Изучение звучащего стиха и художественной прозы инструментальными методами // Контекст, 1976. М., 1977. Златоустова Л. В. фонетические единицы русской речи. М., 1981. Иванов, 1987 — Вяч. Вс. Иванов. О поэтическом синтаксисе. // Исследования по структуре текстов. М, 1987. Кенигсберг М. М. Из стихологических этюдов // Philoloqica. 1994. N l-2. Ковтунова И. И. Порядок слов в стихе и прозе // Синтаксис и стилистика. М., 1976 Левин Ю. И. О лирике с коммуникативной точки зрения // Structure of Text and Semiotics of Culture / ed by J. van der Eng, M. Grygar. The Hague; Paris, 1973. Лосев, 1990 — А. Ф. Лосев. Музыка как предмет логики. // Из ранних произведений. М, 1990. Лотман, 1985 — М. Ю. Лотман. К вопросу о типах интонации в русской поэзии. // Литературный процесс и развитие русской культуры 18—20 вв. Тезисы научной конф. Таллинн, 1985. Лотман, 1972 — Ю. М. Лотман. Анализ поэтического текста: cтруктура стиха. Л, 1972. Любимов Л. Искусство западной Европы. М., 1976 Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987 Маяковский В. В. Полное собрание соч. В 13-ти томах. М., 1959 Манн, 1975 — Томас Манн. Письма. М, 1975, №147. Невзглядова, 1994 — Е. В. Невзглядова. Проблема стиха. // Русская литература №4, 1994. Невзглядова, 1997 — Е. В. Невзглядова. Об интонационной приводе русского стиха (оппозиция: стих — проза). // Русская литература №3, 1997. Николаева Т. М. Фразовая интонация славянских языков. М., 1977. Николаева Т, М. Стихотворная и прозаическая строки: первичное и модифицированное // Balcanica. М., 1979. Николаева Т. М. Просодия Балкан. М., 1996 Папаян Р. А. Некоторые вопросы соотношения метра и жанра // Учен. зап. Тартуск. ун-та. Тарту, 1973, вып. 306. Пешковский А. М. Стихи и проза с лингвистической точки зрения // Методика родного языка, лингвистика, стилистика. М.; Л., 1925. Пешковский А. М. Интонация и грамматика // Известия по русскому языку и словесности. 1928, т.1 Поливанов Е. Д. Общий фонетический принцип всякой поэтической техники // Вопросы языкознания, М., 1963, № 1. Потебня А. А. Мысль и язык. Харьков, 1913. Реформатский А. А. Фонологические этюды. М., 1975. Светозарова Н. Д. Интонационная система русского языка. Л., 1982 Светозарова Н. Д. Интонация в художественном тексте. Готовится к печати. Сивере Е. Rhytmisch-melodische Studien. Heidelberg: К. Winter, 1912. Скулачева, 1996 — Т. В. Скулачева. Лингвистика стиха: структура стихотворной строки. // Славянский стих. Стиховедение, лингвистика и поэтика. М, 1996. Сэпир Эдуард. Язык. М-Л., 1934 Тарановский, 1963 — К. Ф. Тарановский. О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики. // Amer. Contrib. 5 Intern. Congr. Slavists. The Hague, 1963, vol. 1: Ling. Contrib. Тимофеев Л. И. Очерки истории и теории русского стиха. М., 1958. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., 1976. Томашевский Б. В. О стихе. Л., 1929. Томашевский Б. В. Стих и язык. М., 1959. Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. М., 1965. Цеплитис, 1977 — Л. К. Цеплитис. Анализ речевой интонации. Рига, 1977. Шапир, 1990 — М. И. Шапир. Methrum et rythmus sub specie semioticae. // Даугава, №10, 1990. Шапир, 1995 — М. И. Шапир. “Versus vs prosa”: Пространство-время поэтического текста. Philologica, 1995, vol. 2, № 3—4, 7—58. Шапир, 1996 — М. И. Шапир. Гаспаров-стиховед и Гаспаров-стихотворец. // Русский стих. В честь 60-летия М. Л. Гаспарова. М., 1996 Щерба Л. В. Опыты лингвистического толкования стихотворений // Избранные работы по русскому языку. М.-Л., 1957 Эйхенбаум Б. М. Мелодика русского лирического стиха. // О поэзии. Л., 1969 Эйхенбаум, 1969 — Б. М. Эйхенбаум. О камерной декламации. // О поэзии. Л., 1969 Якобсон Роман. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. Москва-Берлин, 1923 Якобсон Роман. Лингвистика и поэтика. // Структурализм “за” и “против”. М., 1975 Якобсон Роман. Речевая коммуникация. // Избранные работы. М., 1985 Якобсон Роман. Новейшая русская поэзия // Работы по поэтике. М., 1987 Ярхо Б. И. Ритмика так называемого “Романа в стихах” // Сб. ст. под редакцией М.А.Петровского и Б.И.Ярхо. II. Стих и проза. М., 1928 Впервые под названием “Интонационная теория стиха” опубликовано в журнале “Russian Literature”, XLVI, 1999, North-Holland Текст дается по изданию: Невзглядова Е. Звук и смысл. (Urbi: Литературный альманах. Выпуск семнадцатый). СПб.: АО “Журнал “Звезда””, 1998, с. 54-70, 80-82