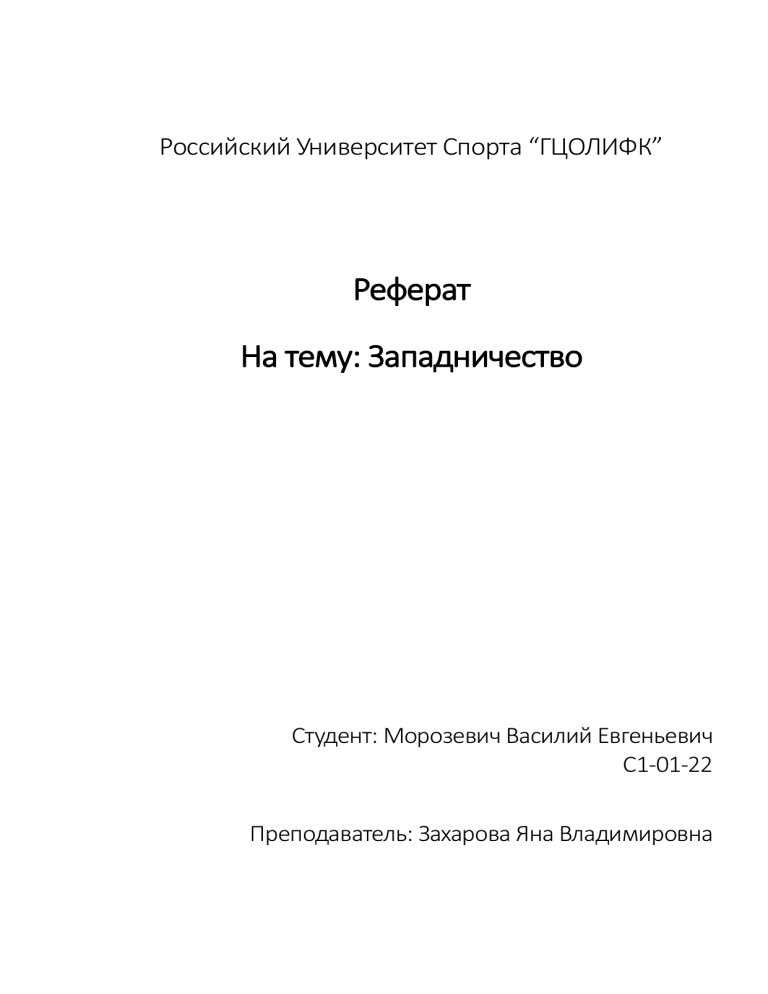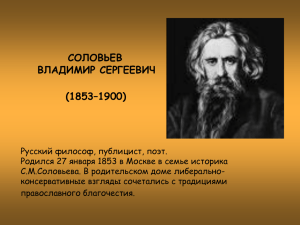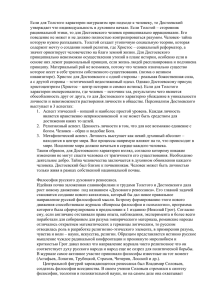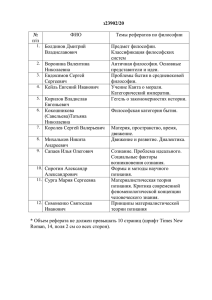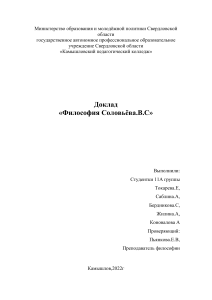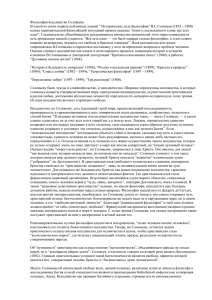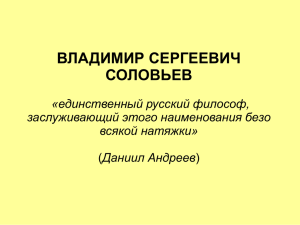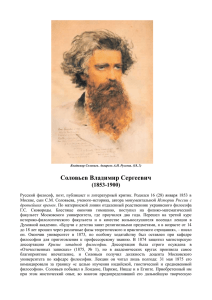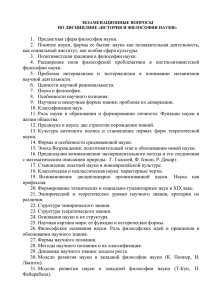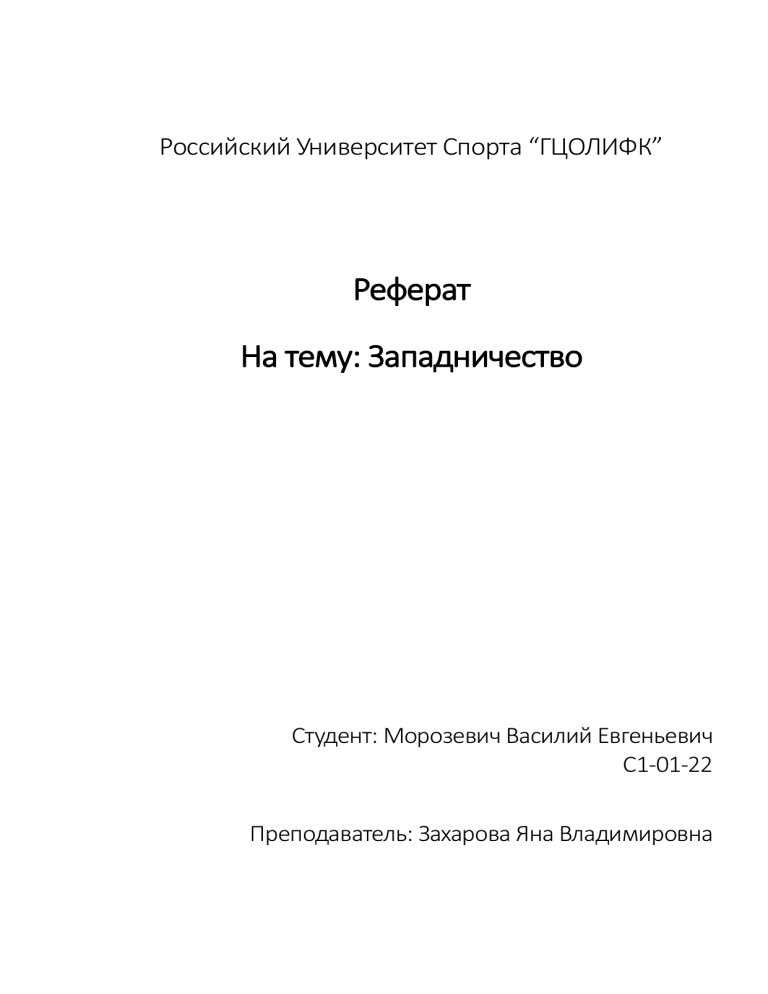
Российский Университет Спорта “ГЦОЛИФК”
Реферат
На тему: Западничество
Студент: Морозевич Василий Евгеньевич
С1-01-22
Преподаватель: Захарова Яна Владимировна
Содержание:
Соловьев как философ:
- Биографические сведения
- Основные философские идеи Соловьева
Западничество:
- Понятие западничества в философии Соловьева
- Критика западной культуры и философии
Всеединство:
- Понятие всеединства в философии Соловьева
- Значение всеединства для понимания мира и человека
Теория цельного знания:
- Основные принципы теории цельного знания
- Какие выводы делает Соловьев относительно цельного знания
Человек и богочеловечество:
- Взгляд Соловьева на природу человека
- Роль богочеловечества в философии Соловьева
Мое мнение:
- Мои рефлексии и анализ идей Соловьева
- Какие аспекты философии Соловьева мне близки или вызывают сомнения
Выводы:
- Основные выводы по изучению философии Соловьева
- Значимость его идей для современности
Соловьев как философ:
Владимир Соловьев (1853-1900) был выдающимся русским философом, теологом, поэтом
и мистиком. Он родился в Москве в семье известного историка и писателя. Его отец, Сергей
Соловьев, был известным историком и деятелем Земского движения. Владимир получил
образование в Московском университете, где изучал философию и историю.
Соловьев был учеником Славяноведения Константина Лебедева, который оказал
значительное влияние на его мысли. В своих работах Соловьев объединил философию,
религию и мистицизм, стремясь к созданию единой системы мировоззрения.
Он также активно участвовал в общественной жизни, выступая за идеи социальной
справедливости и критикуя западный капитализм. Его философские работы оказали
значительное влияние на развитие русской и мировой мысли.
Биография Соловьева является важным контекстом для понимания его философских
взглядов и идей.
Владимир Соловьев разработал ряд фундаментальных философских идей, которые
оказали значительное влияние на развитие русской и мировой философии. Некоторые из
основных идей Соловьева включают:
Единство и Целостность: Соловьев придавал большое значение идее единства и
целостности мира. Он стремился к объединению различных аспектов реальности в единую
гармоничную систему.
Философия Единства: В центре философии Соловьева стоит идея единства всех
существующих вещей. Он утверждал, что все аспекты реальности — материальные,
духовные, индивидуальные, коллективные — должны быть интегрированы в единую
гармоничную систему.
Теософия: Соловьев развивал концепцию теософии, которая предполагает понимание
Бога как высшей реальности, пронизывающей и объединяющей все сущее. Он стремился к
объединению религиозных и философских учений в единую теософскую систему.
Идея вселенского единства: Соловьев выступал за идею вселенского единства,
утверждая, что человек должен стремиться к гармонии с миром и вселенной, а не
противостоять им.
Критика западного рационализма: Соловьев критиковал западный рационализм и
материализм, утверждая, что истинное познание требует интуиции и духовного опыта, а не
только логического мышления.
Эти идеи Соловьева оказали значительное влияние на развитие русской философии и
культуры, а его работы по-прежнему являются объектом интереса для философов и
исследователей по всему миру.
Западничество:
Известно, что B.C. Соловьев в течение жизни трижды достаточно существенно менял своё
отношение к западной цивилизации. До начала 80-х гг. с позиций оптимистического
славянофильства заявлял о том, что дряхлый Запад, в своем индивидуализме породивший
«безбожного человека», доживает последние дни, хотя его культурная роль в истории
велика. К концу 80-х гг., в начале 90-х гг. по мере роста напряженности отношений с
славянофилами и углубления размышлений над проблемами теократии B.C. Соловьев
примыкает к западникам (сотрудничает с «Вестником Европы»). Он даже заявляет, что
истинному христианскому идеалу более соответствует прогрессивное развитие Запада
последних трех столетий, чем деятельность христианской церкви в средние века. Истинное
христианство должно быть человеколюбиво, и поэтому дело прогресса, свободы и
гуманизма, осуществляющееся на Западе, делает его истинно христианским. В конце 90-х
годов, разочаровавшись в теократическом идеале, признает идеи прогрес-сизма Запада и
мессианства России равно пустыми.
Концептуальные причины этой эволюции B.C. Соловьева в отношении к Западу, если не
описывались отдельно, то из исследований по его историософии вполне очевидны. Вопервых, изменение отношения к славянофилам, во-вторых, разочарование в идеях
христианского утопизма и возможности создания Царствия Божия на земле в сочетании с
разочарованием в идеях прогрессизма и либерализма, в-третьих, геополитические события (борьба за независимость на Балканах) и рост «ура-патриотических»,
националистических настроений среди интеллигенции, вызывавших у B.C. Соловьева
отрицательное отношение.
Есть еще один уровень, на котором формируется отношение к какому-либо феномену бытовой или повседневный. Об этом уровне влияния на B.C. Соловьева мало что написано.
B.C. Соловьев был выходцем из университетской, профессорской среды либералов и
умеренных западников - законный вопрос: как это отразилось на его миросозерцании?
Университет в России был одним из олицетворений ее европеизации, был частью
европейского в русской культуре, а члены университетской корпорации выполняли функцию
культурной европеизации.
Российский университет как культурный феномен амбивалентен: с одной стороны,
организованный по немецкому образцу классического университета он должен был бы
базироваться на приоритетности научного исследования и академических свободах, но с
другой стороны, будучи создан «высочайшей» волей, формировался под государственным
надзором и выполнял возложенные на него государственные задачи - готовил чиновников
для бюрократического аппарата Российской империи. Власть жестко контролировала
университетскую жизнь и наносила упреждающие удары, чтобы не допустить
распространение «вольнодумства».
Первый министр просвещения, который не только «охранял» университет от возможной
крамолы, но и попытался через него манипулировать общественным мнением, был С.С.
Уваров, полагавший, «что русские профессора должны читать русскую науку, основанную на
русских началах». Принятый по его инициативе авторитарный устав 1835г. тем не менее
способствовал подъему национальной науки и интереса к университетскому образованию в
русском обществе. Под его наблюдением выросло поколение преподавателей 40-60-х гг.,
завершавшее образование за границей. Устав 1863 г. вводил некоторые элементы
автономии профессорской корпорации, увеличил число преподавателей за счет приватдоцентов, подготавливавшихся
к профессорскому званию в течение полугода - двух лет за границей.
Возможность выезда за рубеж, непосредственное знакомство с западной культурой
делали положение молодых профессоров особенно интересным в глазах студенчества, для
которого университет был единственным местом определенной интеллектуальной свободы,
а профессора приобретали ореол носителей духа «европейской просвещенности».
Поколение преподавателей 40-х - середины 50-х годов вжилось в роль культургероев,
носителей западной культуры. «Отношения между профессорами и студентами были самые
сердечные: с одной стороны, искренняя любовь и благоговейное уважение, с другой
стороны, всегда ласковое внимание и готовность прийти на помощь. У Грановского, у
Кавелина, у Редкина в назначенные дни собиралось всегда множество студентов;
происходили оживленные разговоры не только о науч -ных предметах, но и о текущих
вопросах дня, об явлениях ли-тературы»1. Пришедшие в 50-60-е гг. их молодые коллеги
превращали свои кафедры в аналои для популяризации либо западнического идеала (К.Д.
Кавелин, Б.Н. Чичерин), либо русофильского идеала (М.П. Погодин, С.П. Шевырев). Для
студенчества эта культурно-идеологическая деятельность профессуры казалась более
значимой, чем обязательная преподавательская деятельность. «Несимпатичная» для
«сознательной» молодежи историко-культурная позиция достаточно компетентного
преподавателя, славянофила С.П. Шевырева, в начале его деятельности приводила к тому,
что его выступления «зашикивали», а «по-русски» уклонявшийся от своих профессиональных
обязанностей, манкировавший занятиями Т.Н. Грановский в силу своего либерализма был
всегда поддерживаем.
К концу 60-х - 70-е гг. новизна споров и страсти, кипевшие в университетской жизни, стали
меньше привлекать внимание интеллигенции. Великие реформы открыли новые сферы
приложения деятельности. Автономность университетской жизни была достигнута в том
числе внешней индифферентностью профессуры к политическим проблемам. Умеренный
либерализм сочетался с чиновничьей службой, что, по мнению А.Белого, выросшего в
профессорской среде, привело к «неискренности позы и нечеткости идеологии» - «поза не соответствовала содержанию:
честный вид не вполне соответствовал безукоризненности всех поступков и их плодов; брак
позитивизма с либерализмом легко вырождался в оппортунистические шатания»2. Неверно
было бы считать эту характеристику А.Белого применимой ко всем представителям
университетской корпорации, но противостояние между группами профессоров, карьерные
проблемы не красили университетский быт.
Группа умеренно-либеральных профессоров (В.И. Герье, К.Д. Кавелин, В.Ф. Корж, Б.Н.
Чичерин), к которой относился С.М. Соловьев, воплощали в глазах университетской
молодежи лучших профессоров, в том числе и потому, что боролись за честь
университетской корпорации против недобросовестности своих коллег.
Неверно было бы сказать, что в семействе С.М. Соловьева царило увлечение
«западничеством», но сам он был своего рода человеком, воплотившим в жизни тип «un
homme comme il faut» (порядочного человека), сделавшего сам себя. С.М. Соловьев, будучи
сыном священника, не проявил желания идти в духовное сословие, с согласия отца поступил
в университет, где учился прилежно и где круг его друзей составляли будущие почвенники
(A.A. Григорьев, A.A. Фет). При поддержке попечителя А.Г. Строганова провел за границей
два года, хотя как кандидат на кафедру русской истории на заграничную командировку
права не имел. Знакомство с Австрией, Бельгией, Германией и Францией, лекции известных
ученых Шеллинга, Не-андера, Ранке, Раумера, Шлоссера, Тьера, Гизо способствовали
формированию у него западного представления о научном и преподавательском долге
профессора.
С.М. Соловьев стал не просто преподавателем, он стал ученым-исследователем, с 1851 по
1879 г. выпустившим 29 томов «Истории России», причем на это время приходятся 6 лет
деканства и 6 лет ректорства. С.М.. Соловьеву, как профессору и, следовательно, чиновнику,
удалось совместить службу России с научной и преподавательской деятельностью, не
утратив своих либеральных суждений. Достиг этого он во многом благодаря
самодисциплине, которая придавала почти суровый характер атмосфере жизни дома. С.М.
Соловьев, прошедший путь
от студента до ректора, воплощал лучшие черты западного профессора:
профессионализм, интеллектуальную самостоятельность и честность, методичность и
обязательность, пунктуальность. Но привносил он еще и русское понимание в свое
профессорство, относясь к нему как к высокому служебному долгу, что собственно и
приводило к воспроизведению в жизнь «западных форм жизни и действий».
С.М. Соловьев отличался от русских западников тем, что из должных европейских черт
характера имел уравновешенность, трудолюбие без второй стороны - эпикурейства и
эстетизма (с избытком бывших у В.П. Боткина, Г.Н. Грановского, Б.Н. Чичерина).
Несомненно, влияние отца на B.C. Соловьева было значительным. Во всяком случае,
некоторые эпизоды интеллектуальной биографии B.C. Соловьева приобретают новый
ракурс, если на них взглянуть с этой точки зрения. Известно, что С.М. Соловьев при всей
своей строгости очень терпимо относился к интеллектуальным увлечениям сына, уважая его
право на собственную позицию. Увлечение материалистами, религиозный нигилизм, выбор
естественного факультета, славянофильство отец принимал как неизбежные издержки
роста, в чем он был прав. Но отец декан, а затем и ректор - это тот авторитет, из-под тени
которого надо вырваться, чтобы стать самостоятельным. Даже приближаясь к
сорокалетнему рубежу, B.C. Соловьев не любил, чтобы его сравнивали с отцом; лишь в
предисловии «Оправдания добра» он открыто пишет о своих разговорах с отцом и его
правоте в понимании конца истории человечества. Это вовсе не означает, что B.C. Соловьев
не любил отца и не ценил того, что он сделал для науки. Сокурсникам запомнился случай,
как негодовал B.C. Соловьев, когда в его присутствии профессор H.H. Крылов зло издевался
над ректором С.М. Соловьевым3.
Желание быть самостоятельным проявилось в выборе темы магистерской диссертации
«Кризис западной философии (Против позитивистов)» - его отец не был позитивистом, но
идеи О.Конта, Д.Милля, И.Тэна, Ж.Ренана интенцировали его историзм. Кроме того,
позитивизм и гегельянство были предметом культа западников из окружения отца. Поэтому критика позитивизма была актом
интеллектуального самоопределения.
Успешная защита диссертации в 1874 г. и начало чтения лекций в университете и на
высших женских курсах Герье позволили B.C. Соловьеву самоутвердиться. Дело в том, что в
отличие от отца, никогда не бывшего блестящим оратором, B.C. Соловьев обладал даром
«очаровывать» даже заранее неблагосклонную аудиторию, сочетание риторических
способностей и эрудиции делали его неотразимым. На него обращали внимание как давние
друзья отца Б.Н. Чичерин, В.Ф. Корж, К.Д. Кавелин, так и недруги М.П. Погодин и М.Н.
Катков.
Во время командировки в Британский музей B.C. Соловьев сконцентрировался на научной
работе (истории религии, каббалистике, оккультизме) и мало интересовался собственно
Англией. Свободное время проводил среди русской научной диаспоры в салоне O.A.
Новиковой и некоторых английских священников, сочувственно относившихся к сближению
с православием. Феерическое завершение командировки из Лондона с египетским
приключением и окружным возвращением через Италию и Францию вполне можно
расценивать как еще один акт самоутверждения. Ничего подобного С.М. Соловьев с его
чувством долга и трезвым рационализмом сделать не мог. Недаром, оправдываясь перед
отцом, сын написал: «знающие люди предрекли мне много странствий», то есть он считал,
что его судьба изначально отличается от кабинетной жизни отца и с этим ничего нельзя
поделать.
В 1876 г. приступив к чтению лекций в Московском университете, B.C. Соловьев внешне
дистанцировался от отца-ректора, прежде всего тем, что вошел в лагерь славянофилов.
Казалось бы, речь, произнесенная на заседании Общества любителей российской
словесности, - «Три силы» воплощает и творчески преобразует классическое
славянофильство, вводя идею мессианизма русского народа. Недаром публицистызападники столь ожесточенно его критиковали. Но ряд мыслей в этой работе B.C. Соловьев
высказал под влиянием историософской концепции отца, в частности славянофилы не
признавали столь важную для Соловьева идею о «конце истории».
«Профессорская склока», как ее определил А.Ф. Лосев, не описав ее существа, очень
важна для судьбы B.C. Соловьева. В ней высветилась суть отношений отца и сына и различия
их жизненных позиций. Давние недоброжелатели С.М. Соловьева, профессор H.A. Любимов
и М.Н. Катков, в 1877г. развернули кампанию в «Московских ведомостях»» против
либерального университетского устава 1863 года. Члены ученого совета университета
написали коллективное письмо о прекращении с H.A. Любимовым всех отношений. Только
С.М. Соловьев «как ректор» и его сын «как христианин» продолжали с ним здороваться.
Позиция первого коллегам была понятна, второго - вызывала возмущение. Донос H.A.
Любимова на коллег, третировавших его, министру просвещения графу Толстому привел к
отставке Соловьева-ректора, отвечающего за поведение универ-ситетской корпорации.
Если отец, уважающий религиозные убеждения сына, понимал его, то коллеги
совершенно неверно проинтерпретировали его действия. На одном из вечеров В.И. Герье
высказал B.C. Соловьеву возмущение его отношением «не только к товарищам по
корпорации, но и по отношению к отцу, которого Любимов гнал со службы доносами »4.
Именно после этого, по мнению М.М. Ковалевского, «Владимир Сергеевич впервые
почувствовал желание разорвать связь с нашей коллегией и преподаванием в ней. Крайне
самолюбивый, он не вынес резко изменившихся к нему отношений и профессоров, и
студентов -и вышел из состава доцентов Московского университета »5. По мнению самого
B.C. Соловьева, в этой ситуации у него было только два выхода - либо подчиниться, либо
уехать. Он переехал в Петербургский университет.
Несмотря на внешнюю успешность периода с 1877 по 1881 год - популярность лекций,
работа в Ученом комитете Министерства просвещения, сотрудничество с «Московскими
ведомостями», защита диссертации, именно в это время назревает мировоззренческий
кризис. Преподавательская работа с расписанием лекций, составлением и утверждением
программ его мало привлекала. Тем более, что среди студентов он не видел истинного
понимания идей своего учения. Хотя «Чтения о Богочеловечестве» имели общественный
резонанс, идеи в них
высказанные не вызывали большого сочувствия. Служба в Ученом комитете тяготила.
Начало оформляться кардинальное расхождение со славянофилами по вопросу
католической церкви. Смерть отца и осознание того истинного либерализма,
выражающегося в уважении интеллектуальной свободы другого, который у него был как у
западника в отличие от славянофилов, стоявших на принципах христианской любви, но не
умевших признавать право на свое мнение даже среди своих, подталкивали к пересмотру
взглядов. Осознание несоответствия статуса университетского преподавателя с духовной
миссией, которую он себе избрал, и пример отца, умевшего стойко проводить свои
убеждения в жизнь, реализуя призвание профессора, предопределили отказ B.C. Соловьева
от университетской карьеры. По мнению С.М. Лукьянова, у B.C. Соловьева «не было того, что
называется «профессорской жилкой». В нем возрастал не сколько профессор, сколько
мыслитель, проповедник, поэт-пророк»6. Думается, дело не в «отсутствии профессорской
жилки», а в самом строе личности B.C. Соловьева, воспитанного таким образом, что «он
органически был неспособен подчи -нять свою волю каким-нибудь пошлым и низким
побуждениям. Высокий строй духа был прирожден ему, и оттого в нем не поколебали его
никакие житейские испытания и никакие перемены судьбы, и он донес его до могилы»7. Это
объясняет решительность критики B.C. Соловьевым славянофилов в конце 80-х - начале 90-х
годов, с которыми его связывали не только отношения коллегиальности, но и личная
дружба. Кстати, у С.М. Соловьева отмечали эту же черту - резкость формы высказывания
своих мыслей без боязни задеть самолюбие своих старых приятелей.
Миросозерцание B.C. Соловьева, сформировавшееся, как очевидно, под значительным
влиянием С.М. Соловьева, интен-цировалось его западнической установкой на культурнопреобразовательную работу как основу прогресса, обеспечивающего свободное развитие
личности. Именно из нее выросло кардинальное противостояние со славянофилами.
Национальное самопревознесение ведет к патриотическому самоуспокоению, для которого,
по B.C. Соловьеву, нет никаких оснований. Греховность мира требует его преобразования в
просветительской и культурной работе. Влияние идей отца в споре со славянофилами проявляется и в
понимании B.C. Соловьевым значения права. Славянофилы отрицали значение политических
прав для русского народа, объявляя его «негосударственным». B.C. Соловьев, как и С.М.
Соловьев, признавал важное значение сейчас для России государства как силы,
сохраняющей «принудительное равновесие частных своекорыстных сил», но не считал, как
славянофилы, что в этом есть идеал отношений народа и государства. Он развивал идею
С.М. Соловьева о том, что такое государство должно обеспечить условия для будуще -го
развития правового государства как ступени к теократическому обществу, основанному на
принципах нравственной солидарности.
По определению В.О. Ключевского, С.М. Соловьев был историк-моралист, который «видел
в явлениях людской жизни знаменье правды божией»8. Его слушатели запомнили на всю
жизнь нравственные комментарии о том, что «общество» может существовать при условии
жертвы, когда члены его сознают обязанность жертвовать частным интересом ради интереса
общего. Европейское качество всегда торжествует над азиатским количеством, и
заключается оно в «перевесе сил нравственных над материальными». В историософии и
этике B.C. Соловьева явно присутствуют реминисценции на историософскую концепцию С.М.
Соловьева.
Таким образом, очевидно, что часть идей, обусловленных западничеством отца, перешли
к сыну, сформировав его миросозерцание и предопределив интеллектуальную эволюцию.
В философии Соловьева понятие "западничество" играет важную роль и имеет глубокий
философский смысл. Для Соловьева западничество представляет собой не просто
географическое или культурное определение, а скорее философскую концепцию,
олицетворяющую определенные духовные и мировоззренческие тенденции.
Соловьев критически относился к западной философии и культуре, особенно к её
рационализму, индивидуализму и материализму. Он видел в западной философии идеи,
которые, по его мнению, разрушали единство мира и духовные ценности. Западничество, в
его понимании, отождествлялось с разделением мира на противоположности, с утратой
цельности и гармонии.
Соловьев выступал за преодоление западничества через развитие идеи всемирного
единства, через интеграцию различных аспектов жизни в единую гармоничную систему. Он
призывал к преодолению противоречий между востоком и западом, религией и наукой,
материализмом и духовностью.
Таким образом, понятие западничества в философии Соловьева представляет собой
критику определенных тенденций западной философии, которая, по его мнению, отдаляла
человека от истинных духовных ценностей и препятствовала достижению всемирного
единства и гармонии.
Конечно! Соловьев также развивал идею всемирной церкви, которая объединила бы все
христианские конфессии, идею всемирной философии, объединяющей восточные и
западные традиции, а также идею всемирного государства, которое бы установило мир и
справедливость на Земле.
Он видел в религии и философии средства для преодоления разделения мира на
противоположности, а также для достижения гармонии и единства. Его философские идеи о
всемирном единстве и гармонии оказали значительное влияние на развитие русской и
мировой философии.
Всеединство:
Одна из главных идей исторических сочинений С.М. Соловьева — представление об
истории России как о едином, закономерно развивающемся процессе. Ученый не только
ввел в научный оборот огромное количество архивных документов, но и по-новому
представил многие стороны российской истории.
В философии термином “онтология” обозначается учение о бытии, а “гносеология” –
учение о познании. В философии Соловьева, как и в учении Гегеля, онтология и гносеология,
бытие и познание неразделимы и опираются на единую основу.
Идея всеединства является центральной в философии Соловьева, поэтому всю его
систему часто называют философией всеединства. Она оказалась для него столь
значительной по многим причинам, одна из них – обостренно бережное отношение
философа к культуре, стремление сохранить в ней все лучшее, добытое, не потерять, не
утратить приобретенное.
По словам Н. Бердяева, было даже совсем непонятно, “почему такой воздушный,
напочвенный, не земляной человек оправдывает все историческое, из почвы выросшее с
землей связанное”. В философии всеединства речь шла о единении Бога и человека;
идеальных и материальных начал; единого и множественного; рационального,
эмпирического и религиозно-мистического знания; нравственности, науки, религии,
эстетики.
«Все существует во всем» — такова самая общая формулировка принципа всеединства.
Отталкиваясь от нее, Соловьев развивает целостную концепцию. Прежде всего, для него
ясно, что данную формулировку не следует понимать буквально — все существует во всем
лишь как тенденция, как закон. Всеединство — это гармония и согласованность всех частей
Вселенной. Но абсолютное всеединство — это идеал, к которому мир лишь стремится.
Абсолютное всеединство — это Бог, а мир — всеединство в состоянии становления.
Мир содержит божественный элемент (всеединство) как идею. Но без элемента
божественного всеединства он не может существовать, ибо в этом случае рассыпался бы на
изолированные и враждебные друг другу части. В. Зеньковский писал по этому поводу: «Для
Соловьева, как и вообще для метафизики всеединства, мир единосущен Богу, начиная с
Плотина вплоть до Николая Кузанского, а позже Шеллинга, идея «всеединства неуклонно
ведет к этому утверждению единосущия Бога и мира».
Абсолютное, или божественное, всеединство есть абсолютная «единораздельная
цельность бытия». Иначе говоря, это такое соединение отдельных элементов мира, которое
не уничтожает самостоятельности элементов, т.е. реальной множественности мира. Это
единство многообразного или цветущая полнота жизни, т.е. гармония в разнообразии. В
своем идеальном выражении это Бог, соединяющий мир в единое целое посредством
любви. Любовь есть то, без чего соединение отдельных частей не может быть гармоничным
и согласованным. Божественная любовь и придает миру гармонию и стройную
согласованность.
Поскольку всеединство есть то, к чему стремится жизнь духа, постольку оно находит свое
выражение в процессе познания. Таким образом, принцип всеединства применяется
Соловьевым и в теории познания — гносеологии.
В. Соловьев различает три способа познания: эмпирический, рациональный и
мистический. Эмпирическое познание — это познание опытное. В нем главную роль играют
органы чувств. Рациональное познание осуществляется разумом. Наконец, мистическое
познание — это внутреннее познание, осуществляемое с помощью веры. Под термином
«вера» В. Соловьев понимает не только лишь субъективное убеждение, а интуицию, или
непосредственное познание, т.е. познание, не требующее логических шагов.
Истина всеедина в том смысле, что она есть результат совместного действия органов
чувств, разума и интуиции. Истина рациональна по своей форме, но одновременно она не
мертва, не является сухой и застывшей — какой бы она была, если бы целиком сводилась к
рациональности. Жизненность ей придают чувственный опыт и интуиция.
Заблуждение возникает вследствие разрывов между эмпирическим, рациональным и
мистическим (интуитивным) познанием или вследствие абсолютизации одного из них.
Принцип всеединства применительно к познанию тем самым означает постоянное
обобщение, поиск все более общих теорий, способных включить в себя ранее известные.
Всеединство является также принципом отношения трех ценностей, фундаментальных
для всякой классической философской системы, — истины, блага и красоты. Их соединяет
понятие любви.
Принцип всеединства находит свое продолжение в учении Соловьева о вселенской
теократии. Теократия (буквально «боговластие»), по замыслу философа, должна объединить
все христианские народы, прежде всего, в единство духовное. Предполагалось, что во главе
нового духовного объединения станет Папа Римский. Папа стал бы главой духовной власти
всех христиан. Светскую власть объединенных народов возглавил бы российский император.
Наконец, еще одна «ветвь власти» должна была принадлежать пророкам — людям,
которые в силу своих интеллектуальных и нравственных качеств пользуются особым
уважением и авторитетом. Их миссия «теоретическая» и «пропагандистская». Вселенская
теократия призвана противостоять опасности нигилизма и грубого материализма.
Моделью положительного всеединства служит для него живой организм. Для живого
организма правилом является такое соединение частей, в котором каждая часть
«заинтересована» во всех других и в целом. Например, болезнь отдельного органа
неизбежно отрицательно сказывается на всем организме и на других органах. Напротив,
здоровье какой-либо части идет на пользу всем другим и организму в целом. Понятие
организма опирается на более широкую категорию. Эта категория — «жизнь». Она занимает
важное место в учении о всеединстве и в философии Соловьева в целом.
Понятие жизни нигде не определяется Соловьевым формальнологически. И это несмотря
на то, что его философская система отличается логической строгостью и
последовательностью. Дело в том, что жизнь принципиально не может и не должна
определяться только лишь логическим путем. В жизни присутствуют элементы
иррациональные.
Поэтому она не может быть постигнута подобно тому, как познаются объекты
естественных наук. Жизнь может быть описана, но не определена абсолютно строго. Жизнь
это стихия. Это поток, в котором отдельные этапы могут быть выделены лишь условно. Это
творчество нового и способность к самовоспроизведению. Это жизненный порыв. Это
бурная, клокочущая жизнь, многообразие ее проявлений.
Наконец, это «цветущая полнота жизни», полнота бытия. Жизнь естественна в отличие от
того, что вымучено и искусственно. Во всех ее проявлениях есть душа, а на самых высоких
ступенях — дух. Чтобы постигнуть живое существо или душевно-духовную жизнь, человеку,
кроме работы интеллекта, требуется еще сердечное участие.
Жизнь есть жестокая борьба за выживание. Это относится к жизни во всех ее
проявлениях. Жизнь живых существ основывается на пожирании и истреблении одних
существ другими: хищники пожирают травоядных и друг друга, травоядные питаются
растениями; человек, как живое существо нуждается в пище органического происхождения
и т.д.
То же можно сказать об экономической и иных сферах общественной жизни: здесь также
идет острая борьба за существование. Однако жизнь перестала бы быть жизнью, если бы
свелась к конкуренции и взаимному истреблению. Более того, в этом случае она была бы
просто невозможна: жизнь мгновенно уничтожила бы сама себя. Тем не менее, этого не
происходит. Напротив, биологическая наука прослеживает эволюцию живых существ, в
которой очевиден прогресс в развитии жизни. Очевиден прогресс и в развитии общества.
Следовательно, наряду с конкурентной борьбой в жизни существен момент солидарности
и взаимопомощи — без него жизнь перестала бы быть реальностью. В сочетании борьбы и
солидарности находит свое выражение «последняя тайна» жизни, особый замысел Божий
или Премудрость Божия — София.
Теория цельного знания:
Тема познания, как известно, не была основной для русской философии XIX века, долгое
время оставаясь в тени онтологических построений отечественных мыслителей. Внимание к
проблемам познания возрастает только с начала XX века, тогда же появляются
фундаментальные работы Н. Лосского и С. Франка. Между тем отечественная теория
познания во многих отношениях уходит своими истоками в предшествующую эпоху, и здесь
может быть прослежена ее связь с гносеологическими идеями В. Соловьёва. Но в полной
мере значение этих идей раскрывается при их рассмотрении через призму современной
философии и прежде всего ее эпистемологической составляющей.
Теория познания не занимает в учении В. Соловьёва центрального места. В качестве
основных частей своей органической философии он выделяет логику, метафизику и этику,
теория познания входит в логику, и смысл последней раскрывается только в контексте всей
его философии. Соответственно изучение этого направления не было приоритетной задачей
отечественного Соловьёвоведения. Хотя в появившихся в последнее время работах В.
Поруса, С. Роцинского, А. Брагина, Т. Кудряшовой, О. Куликовой рассматриваются отдельные
стороны гносеологии русского философа, ее всестороннее исследование является задачей
отечественной философии. Целью данной статьи является рассмотрение концепции
«цельного знания» В. Соловьёва в контексте некоторых идей современной эпистемологии.
Особенности теории познания В. Соловьёва определяются его философской системой в
целом, прежде всего, ее религиозным характером и нацеленностью на решение
практической задачи духовного преображения мира. Христианские ценности образуют
стержень практической деятельности и теории мыслителя, их значение в целом достаточно
известно. Но если религиозному характеру философии уделялось немало внимания,
отмечался религиозный аспект теории познания, то практическая ориентация теории
познания В. Соловьёва, как правило, оставалась вне поля рассмотрения. Между тем тесная
связь философской теории с практикой является общей чертой дореволюционной
отечественной философии, потребность в решении социальных и нравственных задач была
движущей силой философского развития в эту эпоху. В этом плане философия В. Соловьёва
является органичной частью современного ему философского процесса в России. Кроме
того, ориентация на практику, на жизнь в философии В. Соловьёва связана с критикой
классического рационализма, с кризисом классической философии в целом. В этом плане
его гносеологические идеи могут быть сопоставлены и с идеями философии жизни, и с
положением о роли практики в марксистской теории познания.
К вопросам теории познания В. Соловьёв обращается в ряде своих работ, от раннего
«Кризиса западной философии» до поздней работы под условным названием
«Теоретическая философия». Тема познания является сквозной в его творчестве. Хотя
наиболее полно теория познания излагается в «Критике отвлеченных начал», многое
заложено уже в «Философских началах цельного знания». Понятие «цельного знания»
занимает центральное место в этой незавершенной работе 1877 года, однако в дальнейшем
соответствующее название практически не используется философом. Тем не менее ввиду
значимости этого понятия для теории познания В. Соловьёва представляется уместным
использовать для нее название «концепция «цельного знания»». При этом нужно иметь в
виду, что учение о «цельном знании» В. Соловьёва не сводится только к гносеологическим
вопросам, носит синтетический характер и характеризует отношения между различными
формами культуры.
Понятие «цельного знания» у В. Соловьёва носит сложный характер, его содержание
многоаспектно. Само понятие «цельного знания» уже предполагает противопоставление его
знанию «не цельному», то есть одностороннему, абстрактному, основанному на
«отвлеченных началах». Поэтому определение «цельного знания» предполагает критику
«отвлеченных начал», связанных с традициями эмпиризма и рационализма в классической
философии. В. Соловьёв показывает недостаточность, пустоту односторонних эмпиризма и
рационализма, изучающих либо внешнее содержание явлений, либо пустую рациональную
форму, но не получающих подлинного содержательного знания. В обособленности этих
направлений философ видит проявление обычной, «школьной» логики, которая разлагает
познание до двух элементов - эмпирического бытия как материала и априорного разума как
формы, но не решает вопрос об отношении этих двух элементов. Эта логика определяется
им как «механическая». Критикуется при этом не только рационализм Гегеля, заметно
большее внимание В. Соловьёв уделяет критике различных форм эмпиризма. Эмпирическая
философия (а с ней философ соотносит подход науки) придает значение объективной
действительности только внешнему опыту. Для нее характерно сведение высшего, более
богатого содержанием бытия к
низшему, скудному и немощному, например животного к машине. Но «организм как
такой не может быть сведен к механизму» Критика «механического» и редукционистского
характера современного ему естествознания, онтологии материализма и атомизма,
позитивистской концепции науки занимает заметное место в работах русского мыслителя и
является важной составной частью концепции «цельного знания».
Механистическому подходу науки В. Соловьёв противопоставляет подход, основанный на
органической логике (и теории познания). Эта логика преодолевает главный недостаток
«школьной» логики, связанный с ее исходным началом - стремлением объяснить познание
из него самого, по сути, из каких-либо отдельных частей бытия, а не из подлинного начала,
не из сущего, не из абсолюта. Признавая несамостоятельность отдельных элементов
познания и относительность всей познавательной сферы, она обращается к абсолютному
первоначалу как настоящему центру, в результате элементы познания получают единство и
духовную связь и познание становится органичным. Источник органичности подхода, таким
образом, коренится в принятии абсолютной точки зрения на мир. Задача познания мира
внешнего подчиняется задаче познания абсолютного начала. Положительное содержание
этого начала дается только умственному созерцанию или интуиции. В. Соловьёв вводит
понятие идеальной интуиции, посредством которой познается сущее. Эта интуиция образует
«настоящую первичную форму цельного знания» Источник цельности знания заключается в
едином мистическом центре синтеза.
В рамках органической логики самостоятельные прежде стороны познания
объединяются, становясь частями цельного знания. Оно включает и чувственный опыт,
дающий материал познания, и рациональное познание, дающее рациональную форму
знания, и мистическую интуицию, дающую содержание предмета познания, сознание его
действительности, связь с реальностью. Эта концепция знания предполагает особую роль
мистической интуиции, мистического элемента и религии в познании. Вместе с тем сама по
себе мистика, равно как и теология не гарантирует
истинности познания. Истина предполагает неразрывную связь этих элементов при
определяющей роли мистических начал. Цельное знание, или «свободная теософия»,
понимается как синтез трех направлений в философии: мистицизма, рационализма и
эмпиризма. Эти элементы приходят к «внутреннему свободному синтезу», который ложится
в основу общего синтеза трех степеней знания. В этом синтезе преодолевается не только
односторонность различных форм познания, но и противопоставленность субъекта и
объекта, отрыв человека как субъекта познания от своей подлинной духовной основы. Идея
синтетичности познания является определяющей характеристикой теории познания В.
Соловьёва.
Для характеристики «цельного знания» существенны также понятия «предмета знания» и
«истины». Предмет «цельного знания» отличается от предмета науки. «Свободную
теософию», или цельное знание, интересует не внешний порядок явлений, а внутренний
порядок существ и их жизни, который определяется их отношением к существу
первоначальному. «Предмет мистической философии есть не мир явлений, сводимых к
нашим ощущениям и не мир идей, сводимых к нашим мыслям, а живая действительность
существ в их внутренних жизненных отношениях» Именно такая онтология, а не онтология
атомов и их механических взаимоотношений, лежащая в основе науки и связанного с ней
эмпиризма, и не логика идей (чистых понятий познающего субъекта), представленная в
идеалистической философии, неразрывно связана с концепцией русского мыслителя. В
конечном счете «предмет цельного знания есть истинно сущее как в нем самом, так и в его
отношении к эмпирической действительности субъективного и объективного мира, которых
оно есть абсолютное первоначало» Мир как предмет знания рассматривается в свете
отношения с этим абсолютным предметом.
С вопросом о предмете познания неразрывно связан и вопрос об истине: «Истина
познания определяется истиною предмета, истина же предмета состоит, во-первых, в его
действительности, во-вторых, и в его универсальности». Предмет в своей полной и
настоящей действительности определяется, во-первых, как безусловно-сущий, во-вторых,
как некоторая неизменная и единая сущность, или идея, в-третьих, как некоторое
актуальное бытие или явление. Соответственно этому и действительное познание предмета
определяется, во-первых, как вера в безусловное существование предмета, во-вторых, как
умственное созерцание или воображение его сущности или идеи и, наконец, в-третьих, как
творческое воплощение или реализация этой идеи в актуальных ощущениях или
эмпирических данных нашего природного чувственного сознания. «Первое сообщает нам,
что предмет есть, второе извещает нас что он есть, третье показывает, как он является.
Только совокупность этих трех фазисов выражает полную действительность предмета»5.
Универсальность познания определяется связью всего со всем, а в конечном счете тем, что
единство мыслимого содержания человек получает «от своего мистического, или
божественного элемента». В. Соловьёв отмечает, что «теоретический вопрос об истине
относится, очевидно, не к частным формам и отношениям явлений, а к всеобщему,
безусловному смыслу или разуму существующего, и потому частные науки и познания
имеют значения истины не сами по себе, а лишь в своем отношении к этому Логосу, то есть
как органические ~ 6 части едино и, цельной истины...» .
Вместе с тем, как уже отмечалось, наряду с синтетическим и мистическим в своей основе
характером концепции «цельного знания», ее отличительной чертой является практическая
направленность. Как отмечает В. Соловьёв, «цельное знание по определению своему не
может иметь исключительно теоретического характера: оно должно отвечать всем
потребностям человеческого духа, должно удовлетворять в своей сфере всем высшим
стремлениям человека» В. Соловьёв понимает философию как «философию жизни», которая
занимается не только проблемами познания, но и вопросами нравственного совершенства,
внутренней цельности духа. По его представлениям, истина не заключается ни в логической
форме познания, ни в эмпирическом его содержании, вообще она не принадлежит к
теоретическому знанию в его отдельности или исключительности - такое знание не есть
истинное. Знание же истины есть лишь то, которое соответствует воле блага и чувству
красоты. В этой связи необходима новая организация знания, преодолевающая
односторонность и догматизм, а «для истинной организации знания необходима
организация действительности» Духовное преображение мира и человека рассматривается
как важнейшая задача, и задача теоретического познания подчинена этой высокой цели. Его
концепция «цельного знания» - это, по сути, концепция практического знания. Знание
неразрывно связано с ценностями и практическими действиями, определяющими его
характер.
Такое понимание знания относится не только к философии, но и к науке: «Наша наука
служит или Богу, или мамоне, но кому-нибудь служить для нее неизбежно: безусловно
самостоятельной быть она не может» Здесь идеи В. Соловьёва перекликаются с
представлениями современной эпистемологии и философии науки. В его работах
содержится не только развернутая теория познания, но, по сути, и основы некоторой
философии науки. Он не только отмечает социокультурную обусловленность научного
знания, но и предлагает проект новой науки, «гармонически соединяющейся» наряду с
теологией и философией в свободной теософии, являющейся, в свою очередь, частью
будущего органического синтеза или цельной жизни.
В этой связи представляется уместным сопоставить концепцию «цельного знания» В.
Соловьёва с некоторыми идеями современной эпистемологии. В учении великого русского
мыслителя многие идеи оказались утопичными и в свое время не востребованными, тем
более значимыми представляются его глубокие интуиции в области теории знания,
некоторые из которых представляют интерес и для нашего времени. Так, в отечественных
исследованиях уже осуществлялось сравнение гносеологии В. Соловьёва с эволюционной
эпистемологией. Следует также обратить внимание на то, что практическая
ориентированность его концепции знания, идея связи познания и практики могут быть
соотнесены не только с марксистскими идеями, но и с некоторыми идеями социальной
эпистемологии.
Не менее важной представляется идея В. Соловьёва о единстве знания, мысль о
соединении науки, теологии и философии в едином знании как условии истинности
познания. С этой идеей тесно связана идея единства познания и ценностей: нравственных и
эстетических. Идея единства знания имеет ряд аспектов, она не нова и получила
определенную популярность уже в XIX веке, когда синтетическая тенденция в науке
преобладала над тенденцией аналитической. Достаточно вспомнить идею К. Маркса о том,
что будущая наука будет одной наукой о природе и человеке. В современной науке идея
единства знания нашла подтверждение в особом интересе к этической стороне научной
деятельности, в многообразных методологических взаимовлияниях естественных наук и
социогуманитарного знания, нашла отражение в переходе современной науки к изучению
сложноорганизованных, «человекоразмерных» (В. Степин) систем. Таким образом, само
развитие науки стимулирует становление сложных, синтетических форм познания.
С концепциями глобального эволюционизма, ко эволюции человека и природы
перекликается идея В. Соловьёва о внутренней связи человека как субъекта познания и
действия с сущим, с абсолютным началом. Даже с поправкой на мистическую
интерпретацию эта идея принципиально важна для понимания истории русского космизма.
Но не менее важна и мысль философа о значении мистики, мистической интуиции для
научного познания. Если положение о связи науки и философии, мировоззрения в целом
давно уже не вызывает сомнений, то мысль о возможной связи науки и религиозных
представлений, о значимости религии для обоснования научных теорий и в наши дни
представляется экзотической. Обращение ряда ученых, прежде всего физиков, к
религиозным представлениям, поиск связей науки и религии пока, скорее, исключение. При
этом ученые чаще обращаются к мистическим учениям Востока: таковы работы Ф. Капра
«Дао физики», Р. Томпсона «Механистическая и немеханистическая физика» и другие.
Последний, в частности, ставит «задачу создания подлинно духовной науки»,
альтернативной механистическому мировоззрению, и предлагает «искать ее среди
множества философских систем прошлого и настоящего» Мысль небесспорная, но
интересная, и если принять ее как руководство к действию, то учение В. Соловьёва может
быть не менее востребованным, чем учения даосизма или бхакти-йоги.
Попытки строить науку на религиозной основе предпринимаются и отечественными
учеными. В частности, можно указать на проекты «христианской физики» В. Митюгова и
«христианской психологии». Эти проекты генетически ближе к учению В. Соловьёва, но
способ соединения научных и религиозных представлений выглядит несколько
надуманным. По поводу этих проектов В. Лекторский справедливо замечает, что «не только
содержание религиозной онтологии, но и сами способы ее принятия принципиально
отличаются от того, что имеет место в науке» Впрочем, это не означает, что по мере развития
науки не могут возникнуть дополнительные точки пересечения этих подходов. Особенно это
относится к социально-гуманитарным наукам. Именно применительно к ним идеи В.
Соловьёва и других русских мыслителей представляются особенно значимыми.
На размывание резкой границы между наукой и вне-научными формами знания
обращают внимание исследователи философии науки, в частности, идея относительности
этой границы обосновывается в постпозитивистской теории наук (П. Фейерабенд),
демаркация науки и не науки не проводится и в структуралистских теориях знания (М. Фуко).
О «скользящей границе» научного и вне научного мышления говорят отечественные
философы. Но это открывает дорогу для новых синтетических форм знания. И в этом
отношении учение В. Соловьёва сохраняет свою актуальность в наши дни. Но выявление
относительности границ между наукой и не наукой, раскрытие связей науки, философии,
религии, этических и эстетических представлений связаны со значительными сдвигами в
культуре, с переходом от эпохи модерна к эпохе постмодерна, на что обращает внимание Ю.
Хабермас. И, несмотря на то, что учение В. Соловьёва принципиально отлично от
постмодернистских концепций, его концепция «цельного знания» перекликается с
некоторыми определениями этого состояния культуры.
Поэтому, изложив основные положения сочинения В. С. Соловьева, мы пришли к
следующим выводам, что, во-первых, теория Соловьева деконструируется как
экономическо-философское учение только при учете его метафизических, даже мистических
предпосылок, характерных ряду мыслителей того времени, а во-вторых, благодаря такой
деконструкции, проясняется разность и соотношение понятий нашего лексикона и образа
мыслей самого Владимира Сергеевича Соловьева, что, в свою очередь, и было предметом
нашего историко-философского анализа. Таким образом, сочинение В. С. Соловьева
«Философские начала цельного знания» может рассматриваться и прочитываться как
экономико-философское произведение, будучи характерным только для своего времени.
Для нашего же времени оно имеет в первую очередь историко-философское значение, как
историческое и культурное сведение из прошлого нашей страны.
Человек и богочеловечество:
Анализируя размышления Вл. Соловьева о чувстве стыда и роли этого чувства в развитии
человеческой нравственности, можно сделать вывод, что чувство стыда является
основополагающим фактором, отличающим человека от животного. Оно формирует
этическое восприятие человеком материальной природы. Чувство стыда — это средство
подчинить стихийную жизнь человека жизни духовной.
Соловьев подчеркивает наличие у человека таких качеств, которые отсутствуют у всех
других животных. Например, чувство стыда, которое "есть уже фактическое безусловное
отличие человека от низшей природы". В отличие от человека ни одно животное не
стыдится своих физиологических актов. Человек же стыдится, когда животное начало берет в
нем верх над человеческим. Чувство стыда удивительно, потому что его невозможно
объяснить какими бы то ни было биологическими или физиологическими причинами,
пользой для особи или для рода. Оно имеет другое, более серьезное значение: оно
свидетельствует о высшей по сравнению с животными, нравственной природе человека:
если человек стыдится своей животности, следовательно, он существует как человек; если
человек стыдится, следовательно, он существует не только физически, но и нравственно.
По мнению Соловьева, принципиальное значение чувства стыда заключается в том, что
именно этим чувством "определяется этическое отношение человека к материальной
природе". Человек стыдится господства материальной природы в себе, он стыдится быть ей
подчиненным, и тем самым он признает, относительно ее, свое достоинство и внутреннюю
независимость, в силу чего он должен обладать материальной природой, а не наоборот.
Далее в первой части "Оправдания добра" философ связывает чувство стыда с принципом
аскетизма. Для человека характерно сознание своего нравственного достоинства, которое
полусознательно и неустойчиво в простом чувстве стыда. Действием же разума оно
возводится в принцип аскетизма.
Философ полагает, что духовное начало человека противодействует материальной
природе. Это противодействие выражается в стыде и развивается в аскетизм. Причиной его
является не природа сама по себе, а влияние ее "низшей жизни", которая стремится к
подчинению разумного существа человека и превращению его в "придаток слепого
физического процесса".
Рядом с чувством стыда, которое Соловьев называет основным нравственным чувством, в
природе человека имеется и чувство жалости, которое составляет "корень этического
отношения уже не к низшему, материальному началу жизни в каждом человеке, а к другим
человеческим и вообще живым существам, ему подобным". Философ понимает жалость как
ощущение чужого страдания или нужды, солидарность с другими. Из этого простого корня, в
основе которого лежит родительская, особенно материнская любовь, происходят затем
такие специфические нравственные чувства, как сострадание, милосердие, совесть, вся
многосложность внутренних и внешних социальных связей.
Соглашаясь с тем, что жалость в общечеловеческом понимании — это добро, и человек,
проявляющий это чувство называется добрым, а человек безжалостный — злым, Соловьев
тем не менее утверждает, что всю нравственность и сущность всякого добра нельзя сводить
только лишь к состраданию.
Философ не подвергает сомнению утверждение, что жалость или сострадание — это
основа нравственности, но он подчеркивает, что это чувство всего лишь одна из трех
составляющих основы нравственности, которая обладает строго очерченной областью
применения, а именно определяет должное отношение человека к другим существам его
мира.
Подобно тому, как из чувства стыда развиваются правила аскетизма, так из чувства
сострадания развиваются правила альтруизма. Соловьев согласен с тем, что жалость — это
действительная основа альтруизма, однако он предупреждает от отождествления понятий
"альтруизм" и "нравственность", поскольку альтруизм есть составляющая нравственности.
Философ раскрывает также и истинную сущность жалости, которая "вовсе не есть
непосредственное отождествление себя с другим, а признание за другим собственного (ему
принадлежащего) значения — права на существование и возможное благополучие". Это
значит, что, когда человек жалеет другого человека или животное, он не принимает его за
себя, а видит в нем такое же одушевленное существо, как и он сам. И поскольку человек
признает за самим собой определенные права на исполнение своих желаний, он, испытывая
жалость, признает такие же права и за другим и таким же образом реагирует на нарушение
чужого права. Человек как бы уравнивает себя с тем, к кому он испытывает жалость,
представляет себя на его месте.
Исходя из этих посылок, Соловьев делает следующее умозаключение: "мыслимое
содержание (идея) жалости, или сострадания, взятая в своей всеобщности и независимо от
субъективных душевных состояний, в которых она проявляется, есть правда и
справедливость". Таким образом, правдой является то, что другие существа подобны
человеку, и справедливо, чтобы он относился к ним так же как к себе самому.
Из этого положения путем различных умозаключений философ выводит главный принцип
альтруизма, который психологически основан на чувстве жалости и оправдывается разумом
и совестью: "поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобою самим".
Однако, Вл. Соловьев отмечает, что это общее правило не предполагает материального
или качественного равенства всех субъектов. В природе такого равенства нет, и требовать
его бессмысленно. В данном случае речь идет лишь о равном для всех праве на
существование и развитие своих положительных сил.
Помимо этих основных чувств (стыда и жалости) в человеческой природе существует
столь же первичное чувство благоговения перед высшим. Оно выражает отношение
человека к чему-то особому, что признается как высшее, от чего человек всецело зависит,
перед чем он готов преклоняться. Чувство благоговения перед высшим составляет основу
религии. Оно порождает такие сложные явления нравственной жизни, как стремление к
идеалу, самосовершенствование.
Это чувство лежит в основе религиозного начала нравственности.
Плавно переходя от правил справедливости и милосердия, которые психологически
опираются на чувство жалости, Соловьев рассматривает чувство благоговения на примере
отношений родителей и детей. По мнению философа, эти отношения являются
специфическими. Они не сводятся только к справедливости и человеколюбию и не
выводятся из жалости. Отношения детей и родителей построены на признании ребенком
превосходства родителей над собою и своей зависимости от них. Ребенок чувствует к ним
благоговение, и из этого чувства вытекает практическая обязанность послушания. Данные
отношения определенно выходят за рамки альтруизма, так как нравственное отношение
детей к родителям не определяется равенством, наоборот, оно основывается на признании
того, что делает эти существа неравными между собою.
Конечно же, такие отношения не противоречат справедливости, но помимо нее в них
заключено нечто особенное. Любя своих родителей, ребенок конечно же испытывает
потребность и в их любви, однако любовь, которую он испытывает к родителям существенно
отличается от любви, которую он ждет от них. В любви ребенка к родителям "господствует
чувство преклонения перед высшим и долг послушания ему, причем вовсе не
предполагается, что ребенок требует и себе от родителей такого же почтения и
повиновения". По мнению философа, сыновняя любовь носит характер благоговения.
Соловьев полагает, что именно такое отношение детей к родителям, положительное
неравенство, присутствующее в их отношениях в силу преимущества родителей перед
детьми, обеспечивает их солидарность и лежит в основе особого рода нравственных
отношений. Философ видит здесь
"естественный корень религиозной нравственности, которая представляет особую,
важную область в духовной природе человека". Таким образом, изначально простые чувства
(стыд, жалость и благоговение перед высшим) лежат в основе человеческой нравственности
и отвращают человека от зла. Они же являются основой добродетели, показывающей, каким
должен быть человек.
Вл. Соловьев выделяет именно эти три качества как самые важные для человеческой
природы. Философ, объясняя свой выбор, утверждает, что все другие качества, такие как
долг, свобода или справедливость, далеко не однозначны и не лишены внутренних
противоречий, наличие которых
может легко обернуть их или в прямое зло, или в средство, ведущее к злу. Важно также и
то, что эти чувства не присущи человеку от природы.
Однако, это еще не все. Для Соловьева самое главное заключается в том, что только эти
три первоначальных чувства — стыд, жалость и благоговение перед высшим авторитетом —
могут быть гарантами нравственности, т.е. обеспечить личную нравственность человека.
Лишь эти простые чувства (каждое в отдельности и особенно все вместе) служат гарантией
того, что человек, ими обладающий, не будет делать даже попыток убить, украсть,
причинить иной вред другим людям. Такой человек стыдится быть плохим, он уже не только
может не делать зла, он теперь не может делать его и будет от него отказываться. Он теперь
будет творить добро.
Итак, Вл. Соловьев "оправдал" добро в человеческой природе и решил вопрос о природе
человека в пользу добра.
В заключение хотелось бы отметить, что Вл. Соловьёв очень внимательно и трепетно
относится к человеческим нуждам и стремлениям: рассматривает самые обыкновенные пути
человеческой жизни, взывающие, несмотря на стихию зла, к ясной простоте правды и добра,
установленных не путем насилия, но в результате самых искренних влечений человеческой
воли.
Человеческое влечение к добру оправдывает собою то, что очень часто считается
несовместимым противоречием. Так, нравственности свойственно аскетическое начало. Но
она вовсе не цель, а только путь к добру, да и то - не единственный. Характерно, что здесь
идет перекличка с буддизмом, в котором также провозглашается «серединный путь», не
поощряющий чрезмерных отклонений. Это еще раз показывает, что, сколько бы ни было
религий, все они имеют в себе зерно истины, надо только суметь его увидеть.
Личность человека — на первом плане. Но этот план тоже далеко не окончательный. Вл.
Соловьев дает целую теорию семьи, где личность хотя и на первом плане, но находится в
согласии с другим рядом личностей, или предков, или потомков. Половая любовь вполне
оправданна, но и она не довлеет, а содержит в себе и многое другое. Деторождение благо
— благо, но тоже не единственное. Личность есть полнота, но для завершения этой полноты
она нуждается в обществе. Общество есть полнота, но завершение этой полноты не просто в
обществе, а во всем историческом процессе, т.е. в человечестве.
Экономическая и политическая жизнь, государство и право — это неотъемлемые
моменты исторического стремления человечества к правде и добру.
Мое мнение:
Идеи и рефлексии Владимира Соловьева, российского философа и теолога, могут быть
очень разнообразными и глубокими. Он известен своими работами по религиозной
философии, эзотерике, социальной философии и другим темам.
Если у вас есть конкретные идеи или аспекты его мыслей, о которых вы хотели бы
поговорить или задать вопросы, я готов обсудить их с вами. Также, если у вас есть какие-то
конкретные вопросы по его трудам или позициям, буду рад помочь вам разобраться в них.
В философии Владимира Соловьева можно выделить несколько аспектов, которые могут
вызвать интерес или сомнения у различных людей.
Космизм и идея единства. Соловьев развивал идею космического единства, считая, что
мир состоит из единой гармоничной системы. Это может быть близко тем, кто интересуется
экологией, космологией и общей картиной мира. Однако, у некоторых людей это может
вызвать сомнения из-за сложности понимания такой всеобъемлющей концепции.
Религиозные и метафизические аспекты. Соловьев активно развивал идеи о роли религии
и метафизики в жизни человека и общества. Это может быть близко для верующих людей
или тех, кто интересуется философией религии. Однако, у неверующих или скептиков это
может вызвать сомнения из-за различий в мировоззрении.
Идея всеединства. Соловьев предлагал идею всеединства как основополагающую для
понимания мира. Это может быть близко для тех, кто ищет глубокий смысл и универсальные
законы в мире. Однако, у некоторых людей это может вызвать сомнения из-за абстрактности
и сложности этой концепции.
Эти аспекты философии Соловьева могут вызывать как интерес, так и сомнения в
зависимости от индивидуальных убеждений, интересов и предпочтений.
Выводы:
Изучение философии Владимира Соловьева может привести к нескольким основным
выводам:
Гармония и единство: Соловьев призывал к гармонии и единству как основополагающим
принципам мировой философии. Его идеи о космическом единстве и всеединстве указывают
на стремление к объединению всех аспектов реальности.
Роль религии и метафизики: Соловьев уделял большое внимание роли религии и
метафизики в жизни человека и общества. Он считал, что они являются ключевыми для
понимания глубинных аспектов бытия.
Этика и духовность: Важными выводами из философии Соловьева являются его учения о
высоких нравственных принципах, духовном развитии и значимости человеческой души.
Что касается значимости его идей для современности, можно отметить следующее:
Экологическое сознание: Идеи Соловьева о космическом единстве и ответственности
человека за природу могут быть актуальны в контексте современной экологической
проблематики.
Межкультурное взаимодействие: Его учения о единстве и гармонии могут способствовать
пониманию и толерантности в межкультурном и межрелигиозном взаимодействии.
Духовное развитие: В условиях современного мира, насыщенного технологиями и
материализмом, идеи Соловьева о духовном развитии и поиске высших ценностей могут
быть важны для сохранения гармонии и баланса.
Таким образом, философия Владимира Соловьева может предложить ценные идеи и
перспективы для современного общества, помогая найти ответы на актуальные вопросы и
вызовы нашего времени.