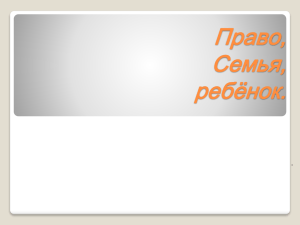Традиции Средневековых свадеб и разводов. Свадьба - событие семейное, родовое и экономическое одновременно, знаменовавшее собой союз двух семейств, двух родов; иногда оно являлось способом примирения. Она также означала слияние двух состояний, двух ветвей власти. Но, прежде всего, свадьба - это таинство. Оно совершалось путем взаимного обмена клятвами в присутствии священника. В этом отношении светские власти оставляли за Церковью право устанавливать законы. Обычаи также не оказывали здесь никакого влияния, а потому свод законов оставался практически одинаковым на всем Западе. Для Церкви главное условие свадьбы заключалось в согласии обоих супругов. Одобрение родителей считалось необязательным, и теоретически они не могли принуждать своих детей к нежеланному браку. Однако в эпической литературе можно найти множество примеров, когда отец, опекун или сюзерен заставляет молодую девушку против ее воли выйти замуж за богатого и могущественного старика. Г ероиня «Песни об Элии» Сен-Жиля Розамонда открыто признается: «Я не хочу идти за старика с морщинистой кожей, которая снаружи кажется здоровой, но внутри изъедена червями; я не перенесу вид его увядшего тела и убегу, как пленница...»1 Существовало несколько препятствий для вступления в брак: возраст девушки моложе 12 лет, юноши - 14 лет, участие в каком-либо монашеском ордене, а также наличие общих родственников определенной степени родства, обычно до седьмого колена (то есть нельзя иметь общего прадеда у бабушки или дедушки). Впрочем, по последнему пункту допускались некоторые отступления. Свадьбы совершались чаще и происходили в более раннем возрасте, чем теперь. Неженатый человек в некоторых городах не мог рассчитывать на повышение. Вдовцы и вдовы также большей частью женились и выходили замуж. Вдовцы вступали в новый брак спустя каких-нибудь 6-8 месяцев после смерти жены, хотя вдовам полагалось оставаться таковыми в продолжение целого года, который и назывался «годом плача и скорби», но они выходили замуж ранее этого срока. Собственно, то, что вдова не должна выходить замуж в течение года после смерти супруга, было обозначено еще в начале XI века законами короля Кнута. Через год вдовства женщина была совершенно свободна делать все, что ей заблагорассудится. Хозяйственные норманны существенно ограничили свободу вдов. Они радостно давали вдовам право выходить вновь замуж, но только по лицензии своего сеньора или короля. Понятно, что такие лицензии выдавались не бесплатно. Правда, за правом вдовы не выходить замуж тоже присматривали, о чем я уже писала. В целом, если король давал добро какому-то подданному жениться на вдове, желающей вступить в новый брак, и находящейся в его вассальном подданстве, сохранить свою свободу она могла только откупившись. Зачастую над имуществом вдовы назначали опекуна, и это не было жестом недоверия к экономическим способностям женщин управлять своим хозяйством. Причина была в суровых реалиях средневековой жизни. Например, как повествует Кристофер Брук, в 1363 г. папа обращается с письмом к епископу Линкольнскому, чтобы тот назначил опекуна над имуществом вдовы Маргарет де Бослингторп, сосед которой - рыцарь Роджер Ханстреди - разорял ее земли, разрушал недвижимость и всячески запугивал, ссылаясь на то, что между ними имелся брачный контракт, который она отказалась соблюдать. Договор, кстати, имелся, потому что опекун был назначен, и соседу стали выдавать ежегодно некую сумму с доходов вдовы. Кстати, вопрос с вдовами в средневековой Англии вовсе не был праздным. Историк Ровена Арчер подсчитала, что в XV в. из 495 титулованных владельцев поместий 375 были вдовами. Причем только 46% вдов решали попытать счастья во втором браке. Из молодых вдов вторично выходили замуж более 50%. Общая тенденция была такой, что вдова либо выходила замуж в течение первых двух лет вдовства, либо не выходила вообще.1 Сватовство и обручение состояли из трех важнейших моментов. Прежде всего, уговаривались относительно подарка, который будет сделан невесте женихом, и о приданом, которое будет дано за невестой. После этого отец давал свое согласие на выдачу дочери замуж, а жених — на женитьбу. Наконец, отец невесты и жених ударяли по рукам, и обручение считалось совершившимся. С течением времени обязательства, которые раньше были устными, стали записываться. Такой контракт составлялся в присутствии свидетелей. За обручением происходила обыкновенно пирушка в невестином доме, в ратуше или даже в монастыре. В Нюрнберге в 1485 г. были запрещены какие бы то ни было празднества в монастырях. Пирушки, следовавшие за обручением, сопровождались танцами и попойкой. Но вот наступало время совершиться свадьбе, приближалось «высокое время», как называли тогда день свадьбы. Дело происходило обыкновенно поздней осенью, «когда полны житницы и погреба, когда наступает время покоя и для поселянина, и для моряка». В иных случаях приглашала гостей на свадьбу сама невеста, в иных занимались этим лица, нарочно для этого дела избираемые женихом и невестой. Они разъезжали верхом в сопровождении нескольких всадников, нарочно брали с собой такого человека, который слыл за балагура, умел говорить прибаутками и рифмами, что должно было придавать всему посольству особенно веселый характер. Случалось, что участвующие в посольстве наряжались, и устраивалось, таким образом, нечто вроде маскарада. Любили созывать гостей как можно больше. Чтобы ограничить размер празднества и расходы, им поглощаемые, городские советы препятствовали большим собраниям и устанавливали нормальное число гостей, больше которого приглашать запрещалось. За несколько дней до свадьбы или даже накануне ее происходило торжественное шествие невесты в баню, где танцевали и пировали. Этот обычай схож с нашим «девичником».1 Бракосочетание проходило либо в четверг, либо в пятницу, совершалось обыкновенно днем и даже утром, вскоре после обедни. Свадебное торжество открывалось процессиями, сопровождавшими жениха и невесту в церковь. Отправлялись они в церковь не вместе. Невеста ехала с подругами, а иногда также и с шаферами, в экипаже, запряженном четверкой. Невеста одевалось в непривычное нам красное атласное платье, кисейный воротник, богато отделанный серебром пояс. Голова украшалась легким венцом, осыпанным жемчугом. На ногах у невесты башмачки, которые также были усыпаны жемчугом. Жених со своими провожатыми ехали верхом. И перед невестой, и перед женихом двигались музыканты с флейтами, скрипками, трубами и барабанами. Само собой разумеется, что процессии эти совершались и пешком в тех случаях, когда церковь была близко. Когда процессия приближалась к собору, последний как бы приветствовал ее колокольным звоном. Пономаря угощали обязательно вином. Войдя в церковь, жених с невестой направлялись к главному алтарю. Начиналось священнодействие, священник произносил: «Я соединяю вас в супружество во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».1 При выходе из собора, жених шел впереди и, дойдя до дома своего тестя, не входил в дом, а дожидался молодой. Слуга приносил поднос с фляжкой вина и стаканом. Наполненный вином стакан обходил всех присутствующих гостей, после них пил молодой, а за ним новобрачная. Выпив вино, она перебрасывала кубок через голову. После этого один из шаферов снимал с новобрачного шляпу и покрывал ею голову его молодой жены. Этот обряд как бы облекал ее властью. Сейчас же она первая входила в дом, а за ней все остальные. Разумеется, прежде всего, молодые принимали поздравления. Дамы и девушки подходили к невесте, мужчины — к жениху. Тогда же подносились и свадебные подарки.2 На одной свадьбе, праздновавшейся в середине XV в., было поднесено новобрачным тридцать серебряных чаш и кубков, ожерелье, золотой пояс и более тридцати золотых колец. Во время поздравлений и подношений играла музыка, пелись песни, и так проходило время до обеда. Начало последнего возвещалось барабанным боем. После обеда начинались танцы, продолжавшиеся до самой полуночи. Во время отдыха разносились конфеты, вино, пиво и другие угощения. С наступлением полуночи составлялась новая процессия. Невесту отводили в назначенный для этого покой. Большей частью ее сопровождали родные и шафера, но случалось, что провожатыми делались все присутствующие. Впереди несли свечи, играла музыка, одним словом, получалось впечатление большого торжества. Молодую вел один из шаферов. Когда процессия приходила в опочивальню, шафер усаживал молодую и снимал с ее левой ноги башмачок. Этот башмачок передавался потом одному или нескольким холостякам, бывшим на свадьбе. Надо предполагать, что этим подарком высказывалось пожелание, чтобы получающий его поскорей оставил холостую жизнь. Следующий за свадьбой день начинался тем, что молодые обменивались подарками. Подарки вообще составляли неотъемлемую принадлежность свадьбы, их дарили друг другу новобрачные, последним подносили подарки съехавшиеся на свадьбу гости, родители невесты, в свою очередь, дарили различные вещи гостям и слугам, посылали деньги и пищу беднякам, странствующим ученикам, сторожу главной городской башни, слугам при ратуше, слуге погреба, посещавшегося женихом, его учителю, банщику; не забывали при этом палача и могильщиков. Городские советы постоянно стремились уменьшить расходы, соединенные со свадьбами, и, между прочим, ограничивали свадебное торжество одним только днем. Так было, например, в Нюрнберге. Городской совет этого города, определив точно число лиц, приглашаемых на свадьбу, разрешал приглашать лиц, не бывших на свадьбе, преимущественно подруг невесты и ее знакомых дам, на другой день после свадьбы. Для этого устраивался завтрак, главным блюдом которого была яичница; тут подавались различные печенья, овощи, сыр, вино, но яичница первенствовала и украшалась искусственными цветами. Вечер второго дня заканчивался весьма оригинальным «кухонным танцем».1 Приглашавшиеся, вопреки постановлениям городских властей, гости становились при этом зрителями. Танцевала прислуга, причем каждый из слуг имел при себе какой-нибудь предмет своей специальности как, например, повар — ложку, заведующий вином — кружку, и т. п. На третий день после свадьбы, если, впрочем, последняя происходила летом, совершалась веселая прогулка в разбитый за городскими стенами сад. Все свадебные торжества заканчивались тем, что новобрачных отводили в их собственный дом. Но бывали случаи, когда молодая пара долгое время вместе проживала в доме своих родителей. Нередко подобное проживание предусматривалось контрактом. 2 Христианская точка зрения на брак, базирующаяся по большей части на писаниях св. Августина, была довольно однозначна: брак - это связь на всю жизнь, дающая людям три блага: верность, потомков, и таинство. В конце пятнадцатого века в Англии к словам брачной церемонии вообще была официально добавлена фраза «tyll dethe vs departe» - пока смерть не разлучит. Христианская церковь, таким образом, разводов не одобряла, что было совершенно новым явлением в обществе, где разводы всегда были совершенно законными и легальными. Развод признавался самым древним законом - иудейским, затем римским, и, наконец, германским. Поэтому церкви и понадобилось почти полторы тысячи лет, прежде чем представить развод чем-то несвойственным христианскому браку, неправильным. Муж мог разойтись с женой без угрызений совести, если жена совершила прелюбодеяние. Женщина, собственно, могла разойтись с мужем, если он был ей неверен, но только в том случае, если это было ее первое замужество. Также она имела право оставить мужа, если он попадал в рабство в результате какого-то уголовного действия. Оставленный муж имел право жениться снова только через пять лет, да и то по разрешению епископа, которое выдавалось в том случае, если примирение супругов не выглядело возможным.1 Вообще взгляды христианской церкви на развод сильно варьировали, очевидно, вместе с условиями и прочими реалиями жизни. Историки считают, что в VI-VII веках разводы по взаимному желанию были обычным делом, в VIII веке за разведенными не признавалось права на следующий церковный брак, и в последующие столетия, когда светский закон стал потихоньку передавать все дела, связанные с браком, под эгиду церковного закона, церковь все тверже начинает отстаивать доктрину, что брак - это договор на всю жизнь, благославляемый Богом, и, на этом основании, не может быть «передуман» человеком. Могли заключить новый брак те, чьи супруги попали в плен к врагу, и чья судьба была неизвестна. Здесь было несколько регуляций по поводу срока отсутствия, и того, будет ли вернувшийся неожиданно супруг/супруга иметь легальные брачные права на свою заключившую новый брак половину. В середине и конце Средних веков развод существовал в двух формах. Во-первых, в случае, когда брак изначально был неправомерен, как в случае, если у одного из супругов где-то существовала уже половина, и это было скрыто. Во-вторых, если пара попадала под один пункт из длиннейшего листа препятствий к браку: генетическое родство или даже родственные связи через браки родственников (самая популярная причина), импотенция супруга, принуждение к браку силой или запугиванием, несовершеннолетие, имеющийся в наличии официальный обет безбрачия, ситуация, когда один из супругов не состоит в христианской вере. Собственно, все эти препятствия сосредоточены на периоде до вступления в брак, они как бы делают этот брак ненастоящим. Расставшиеся супруги считались как бы и не вступавшими никогда в брак.1 Английский брачный закон был уникален тем, что он рассматривал в числе поводов для развода также и события, которые произошли уже после брака. Например, жестокое обращение было поводом для развода, который давался обижаемой стороне. Собственно, аналог современного «разъезда», когда супруги и числятся супругами, но не живут вместе и не имеют общего хозяйства. Интересным явлением в средневековой Англии было то, что часть бракоразводных дел никогда и не попадала в церковные суды, а решалась чисто юридически. Даже такие видные персоны, как Эдмунд, граф Корнуэльский, и его жена, Маргарет, договорились в 1294-м году о том, что Маргарет получит финансовую компенсацию, и не будет обращаться в церковный суд с требованием восстановить себя в супружеских правах. Излишне говорить, что такие «саморазводы» церковь осуждала, но на практике они были самым обыденным делом, о котором церковь могла узнать только в случае, если кто-то внезапно обращался в церковный суд, и выяснялось, что брак этот изначально был заключен с человеком, разведенным через договор, а не решением церковного суда.2 Таким образом, взгляды на брак в Средние века эволюционировали. Общество смогло преодолеть устоявшиеся языческие представления. И не смотря на то, что христианская церковь признала брак сравнительно поздно, в обществе с XI века укоренились христианские представления. «Брак - это связь на всю жизнь, дающая людям три блага: верность, потомков, и таинство». Брачный возраст варьировался: для юношей вступление в брак разрешалось с 14-15 лет, у девушек брачный возраст не мог превышать 12 лет. Развод, в современном понимании этого слова, был запрещен, но епископы и папы прекрасно понимали, что обычаи и все реальные жизненные ситуации делали брак ненадежным институтом.
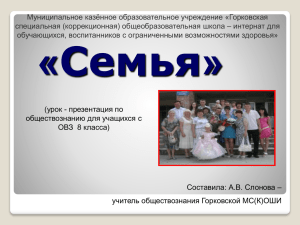

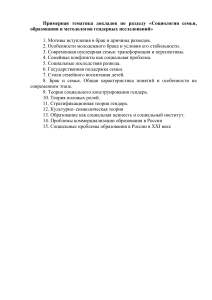
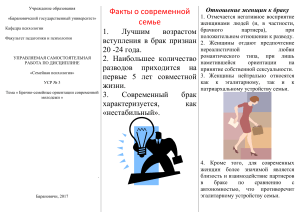
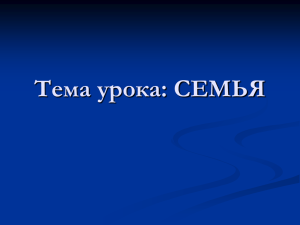


![Мюриэл Джеймс Брак и любовь [2007] [MP3] Автор: Мюриэл](http://s1.studylib.ru/store/data/004482129_1-f082811ae781e92c8e6e1570e998635a-300x300.png)