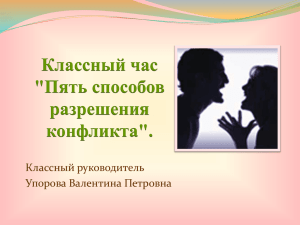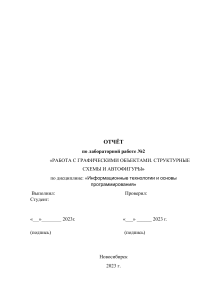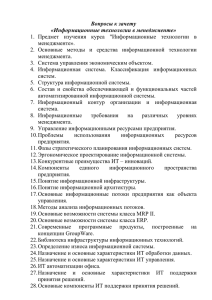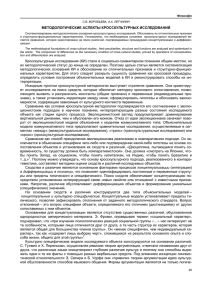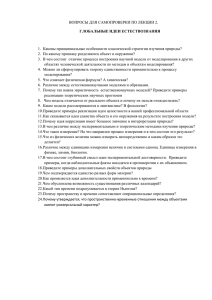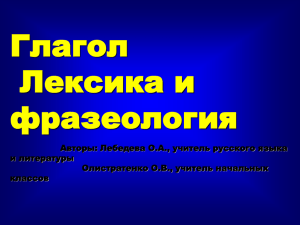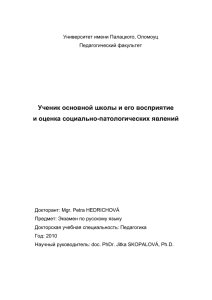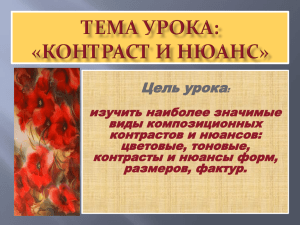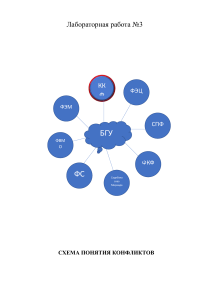ТРУДЫ
ИНСТИТУТА
ЯЗЫКОЗНАНИЯ
АН
СССР
1954
1' о м IV ;
А. И . С мириицпий
К ВОПРОСУ О СЛОВЕ
(Проблема то ж д е с тв а слова»)
Настоящая статья является второй частью работы «К вопросу о слове»,
первая часть которой посвящена проблеме «отдельности слова»1. Существо
проблемы отдельности и проблемы тождества слова кратко определяется
и первой части работы в форме следующих вопросов:
1) Что такое о д н о , о т д е л ь н о е с л о в о — в каждом данном
случае его употребления?
2) Что такое о д н о и т о ж е , т о ж е с а м о е
слово —
в различных случаях его употребления?
Там же сказано в общих чертах и о взаимоотношении обеих проблем,
после чего рассмотрены некоторые из важнейших вопросов, относящихся
к проблеме,отдельности слова. Основные выводы сводятся к следующему.
Исходя из положения И. В. Сталина о характерных признаках языка,
мы приходим к тому убеждению, что слово есть основная языковая еди'-’*
ница, так как:
с одной стороны, слова входят в состав лексики, поскольку «...все слова,
имеющиеся в языке, составляют вместе так называемый словарный состав
языка»2;
с другой стороны, слова являются теми единицами языка, с которыми
обязательно имеет дело и г р а м м а т и к а , поскольку «Грамматика
(морфология, синтаксис) является собранием правил об изменении слов и со­
четании слов в предложении»3, хотя в грамматике слова и выступают
в отвлечении от их конкретн о сти:.а б стр а ги р уясь от частного и конкрет­
ного, ка к в словах, так и в предложениях, грамматика берёт то общее,
что лежит в основе изменений слов и сочетании слов в предложениях,
и строит из него грамматические правила, грамматические законы»4.
Слово, таким образом, выделяется как единица словарного состава
языка, грамматически изменяющаяся и грамматически сочетающаяся
в предложениях с другими подобными единицами.
К а к особая единица языка, с л о в о о т л и ч а е т с я , с одной
стороны, от любой осмысленной ч а с т и слова; с другой стороны —
>т с о ч е т а н и я слов, от словосочетания.
1
См. сб. «Вопросы теорпп и истории языка в свете трудов И. В. Сталипа по язы­
кознанию». Изд. А Н СССР, М ., 1953, стр. 182—203.
'
2 И. С т а л и н . Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1953, стр. 23.
3 Там же, стр. 23—34.
От части слова слово отличается своей более свободной', более ясной
в ы д е л и м о с т ь ю , почему вопрос об этом различии и определен кратко
как вопрос выделимости слова. От словосочетания же слово отличается
своей большей ц е л ь н о с т ь ю , почему и соответствующий вопрос обо­
значен ка к вопрос цельности слова.
Выделимость слова, в связи с основными характерными его свойствами
ка к особой единицы языка (см. стр. 188), обусловливается определенной
его о ф о р м л е н н о с т ь ю , придающей ему известную, относительную
законченность (причем выделимость может быть и отрицательной, или
■остаточной, обусловленной преимущественно оформленностью и закон­
ченностью слов, соединяемых с данным).
Цельность слова, поскольку оно выделяется своей оформленностью,
выступает именно ка к цельность его оформления, ка к его ц е л ь н о о ф о р м л е н н о с т ь . Именно своей ц е л ь н о о ф о р м л е н н о с т ы о
которой, вообще говоря, выражается и известная семантическая цель­
ность,’ слово, даже сложное, отличается от словосочетания, в частности —
и от «идиоматичного».словосочетания, т. е. от так называемой фразеоло­
гической единицы и пр.
I
В первой части данной работы было отмечено, что выделение слова
'в каждом отдельном случае его употребления в общем предполагает
о т о ж д е с т в л е н и е слова в различных случаях его употребления1.
Возможность т о ж д е с т в а с л о в а в двух разных случаях его
употребления, т. е. в двух отдельных актах речи,— скажем,, в речи одного
и в речи другого лица или в разных отрезках речи одного и того же лица,—
есть другой аспект возможности повторения слова, или его воспроизве­
дения.
Возможность повторения, воспроизведения слова, или, короче говоря,
воспроизводимость (повторимость) слова в речи, представляется само собой
разумеющейся, самоочевидной и является к а к бы одной из аксиом языка.
Таким образом и возможность тождества слрва при различии конкретных
случаев его употребления, являющаяся лишь другим аспектом, другой
стороной воспроизводимости слова в речи, в самом общем виде выступает
ка к не подлежащая сомнению, если только не подходить к явлениям
языка с позиций крайнего субъективного идеализма или метафизического
эмпиризма.
Воспроизводимость слова,— и вообще любой единицы или составной
части языка,— является необходимым условием самого существования
и функционирования языка ка к средства общения, а следовательно, таким
1 Правда, при определенных обстоятельствах возможно выделение нового слова,
ранее не известного и, следовательно, н е о т о ж д е с т в л я е м о г о в данвом и
каком-либо ином случаях его употребления. Такие случаи бывают нередко. Однако вы­
деление такого ранее не известного и не отождествляемого слова предполагает все же.
что другие слова являются повторяемыми, т. е. отождествляемыми в разных случаях
пх употребления: в целом отождествление слов в разных контекстах, в разных слу­
чаях и х употребления, является необходимой предпосылкой для и х выделения.
условием является и возможность того, что ф а к т и ч е с к и
раз­
н ы е , о т д е л ь н ы е отрезки речи, произнесенные или воспринятые
разными людьми, в разное время и в разном месте, будут представлять
собой о д н и и т е ж е составные части языка, в частности — одни
и те же с л о в а . Если бы слово представляло собой в каждом отрезке
речи, выделяемом в качестве слова, нечто совершенно неповторимое,
невоспроизводимое, не тождественное тому, что мы находим в каких-либо
других отрезках речи, то никакого обмена мыслями между людьми посред­
ством слов не существовало бы: ведь, чтобы понять чужую речь, необхо­
димо заранее знать, если не все, то по крайней мере большинство состав­
ных ее частей! тке. воспринимать ее составные части ка к воспроизводимые
единицы, ка к уже известные; иначе говоря, необходимо.. о т о ж д е с т ­
в л я т ь их с определенными знакомыми единицами.
В этой связи следует заметить, что даже любое hapax legomenon,
всякое созданное в речи на данный случай слово, т. е. тако'е, которое
фактически не является воспроизведенной готовой единицей, все же высту­
пает ка к принципиально в о с п р о и з в о д и м о е , к а к такое, которое
может войти в о б р а щ е н и е и регулярно повторяться в качестве уже
известного, существующего в языке. Но до тех пор, пока такое слово не
вошло в общественное обращение, не стало воспроизводиться в обществен­
ном масштабе в процессе общения, оно, собственно, может быть-признано'
лишь « п о т е н ц и а л ь н ы м » словом, т. е. таким образованием, кото­
рое является по всем своим признакам, по своему составу и строению'
с л о в о м (данного языка),— а не чем-либо иным,— но словом, не во­
шедшим в словарный состав языка, н е с у щ е с т в у ю щ и м в к а ч е ­
с т в е е г о с о с т а в н о й е д и н и ц ы : для д е й с т в и т е л ь ­
н о г о существования слова в качестве составной части словарного состава
языка необходимо его «общественное признание», а такое признание
практически выражается прежде всего именно в общественном воспроиз­
ведении слова в процессе общения. И поскольку слова, действительно,
входящие в словарный состав языка, существуют именно к а к воспроиз­
водимые (повторяемые), постольку воспроизводимость (повторяемость)
слова вообще представляется естественным его свойством и сама по себе
не вызывает сомнения. А тем самым и возможность тождества слова при
различии случаев его употребления, т. е. в разных его конкретных воспро­
изведениях, выступает, к а к уже было отмечено выше, в качестве - несо- ■
мненно и очевидно существующей и постоянно реализующейся.
Проблема тождества слова возникает, таким образом, в связи с тем, что, в
процессе применения языка, слова вновь и вновь воспроизводятся как не­
которые определенные уже существующие в составе языка единицы и каждое
действительно существующее в данном языке слово регулярно наблю­
дается в различных отдельных случаях его употребления, в разных кон­
кретных его воспроизведениях. При этом различные конкретные случки упо­
требления (воспроизведения) о д н о г о и т о г о ж е с л о в а , объединяясь
тождеством этого слова, вместе с тем противопоставляются всей возможной
массе случаев употребления д р у г и х слов, хотя бы и очень близких
к данному и имеющих с ним много общего. Поэтому центральным вопросом
всей проблемы тождества слова в специально лингвистической (т. е. не
общефилософской) плоскости является вопрос о том, каковы в о з м о ж ­
н ы е р а з л и ч и я между отдельными конкретными случаями употре­
бления (воспроизведения) о д н о г о и т о г о
же
с л о в а , т. е.
какие различия между такими случаями с о в м е с т и м ы и какие,
напротив, н е с о в м е с т и м ы
с тождеством
слова.
И
Из предыдущего следует, что решение проблемы тождества слова невоз­
можно без строгого различения
1) с л о в а ка к такового, ка к единицы в словарном составе языка:
2) отдельного конкретного с л у ч а я у п о т р е б л е н и я с л о в а
(воспроизведения слова,—- если мы не имеем дела с[созданием нового слова)
Отдельные конкретные случаи употребления какого-либо слова могут
в различной мере и в разных .отношениях отличаться друг от друга.
Не рассматривая все разнообразные'возможности, необходимо, однако,
особое внимание обратить на следующее.
К а к бы ни были ничтожны или, напротив, значительны различия ;
между отдельными конкретными случаями употребления какого-либо
данного слова, все эти случаи являются:
а) с одной стороны, в равной мере нумерически р а з н ы м и
слу­
ч а я м и употребления этого слова, поскольку каждый такой случай
представляет собой эмпирически особый; отдельный акт, отдельное явле­
ние, осуществленное в одно определенное время и в одном определенном
месте, одним' определенным лицом; иначе говоря, какое-либо слово,
например , куда, употребленное трижды, оказывается употребленным;
если одновременно, то разными лицами, если же одним и тем же лицом',
то не одновременно, а в разное время (хотя бы и в непосредственно следую­
щие друг за другом отрезки времени, как, например, в арии Ленского:
Куда,, к у д а , к у д а вы удалились;
• б) с другой стороны, в равной мере о д н и м и т е м ж е с л о ­
в о м , поскольку каждый такой случай1 есть не особое изолированное',
явление, но лишь воспроизведение данного слова, причем такое его воспро-'
изведение, в котором оно полностью выступает в своем качестве слова
при этом особенно следует подчеркнуть, что слово не существует помимо
своих воспроизведений, помимо конкретных случаев своего употребления'
и их отпечатков., их следов в головах говорящих людей2.
4
1 Если отвлечься от Дарах 1едоя!епа и пр.
2 В этой связи следует заметить, что то, что имеется в мозгу и сознании индивида,
владеющего данным языком, и что мы можем назвать его индивядуальпым знанием
языка, нуж но, повидимому, понимать именно к а к индивидуальное о т р а ж е и и с
языка к а к общественного явления, объективно существующего в связной речи в про-,
цессе общения. Иначе говоря, подлинное существовапие языка есть его объективное.
Сопоставляя различные конкретные случаи употребления одного
и того же слова, мы, ка к известно, наблюдаем, что некоторые более или
менее заметные различия между ними вообще не имеют никакого языко­
вого значения: например, общая высота голоса в русской речи. Другие
различия между отдельными случаями употребления одного и того же
•слова оказываются различиями, имеющими определенную языковую
значимость: например, интонационные различия между Да. Д а ! и
Да? (при «подсказывании» положительного ответа: Ты придешь, да?).
Одни из таких различий выступают при этом к а к моменты, не принад-,
лежащие данному слову, легко отвлекаемые от любого конкретного случая;
•его употребления без всякого ослабления качества слова. Другие же из/
них, напротив, выступают как проявления известных модификаций дан*
ного слова, как различия внутри этого .слова; при полном отвлечении от
этих различий слово уже нечто теряет в своей определенности, в своей
■оформленности в качестве слова.
Примером языковых различий первого рода могут служить различия
между тремя приведенными выше случаями употребления слова да.
Те же различия могут наблюдаться,кроме того, и между отдельными слу­
чаями употребления не только слова н е т , входящего в тот же разряд слов,
¡.что и да, но и множества других, самых разнородных слов и даже слово! сочетаний; ср.:
Дом. Дом! Дом?
Видишь. Видишь! Видишь?
Это интересно. Это интересно! Это интересно?
Интонационные моменты легко отвлекаются здесь ка к явно принад­
лежащие не словам, а предложениям, и вместе с этим при их. отвлечении
слова не только ничего не Меряют ка к таковые, но, наоборот, выступают
I еще болеё четко именно в качестве отдельных с л о в , а не предложений.
имеющее материальную, звуковую сторону существование «для других», к а к практи­
ческого, действительного сознания, над которым «тяготеет проклятие отягощения его
материей» (К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Немецкая идеология, т. IV , стр. 20),
т. е. его существование в общении, а не в мозгу и сознании говорящих индивидов, какэто получается, например, по Бодуэн-у де Куртенэ и де Соссюру. Здесь мы имеем,
собственно, уж е отражение языка — в виде определенных физиологических явлений
в мозгу и и х функции—определенных явлений сознания. Таким образом, де соссюров•ское утверждение, что язы к весь психичеи, является грубой идеалистической ошибкой:
реальная звуковая материя есть материальная оболочка, действительно принадлежа­
щая самому языку, а мое представление этой оболочки есть лишь представление ее,
которого не было бы, если бы не было объективно данного в общении языка. С другой
стороны, однако, н и ка к нельзя сводить язы к к одной только его внешней, материальной
оболочке, к звукам: т. е. «единицы смысла», которые в результате общественного при­
менения языка к а к важнейшего средства общения с объективной необходимостью ока­
зываются связанными с определенными «единицами внешней оболочки», являются
ингредиентами самого языка, представляют собой внутреннюю сторону языковых
единиц: материальная языковая оболочка постольку и является языковой оболочкой,,
поскольку она наполнена смысловым содержанием; без него она уж е не есть-явление
В виде примера другого рода языковых различий между разными слу­
чаями употребления одного и того же слова можно привести различие
между случаями употребления данного слова, скажем, в двух разных
падежах: Э т о т дом построен в 1924 г. и Собрались все жильцы дома
(предполагаем пока условно, что падежные различия не являются различия­
ми между словами). Между дом и дома имеется различие, которое хотя
и связано со строением предложения и с включением данного слова в раз­
ные предложения, все же выступает явно ка к различие, связанное с тем,
что слово дом само является изменяющимся, само имеет различные моди­
фикации в языковом плане. Такой характер этого различия прежде всего
обусловливается тем, что падежные различия вообще в русском языке
являются существенным моментом в оформлении существительного ка к
целого, законченного слова, т. е. играют важную роль в самом выявлении
у него качества слова. Поэтому при отвлечении от этого различия, а сле­
довательно — и от значения падежа в каждом отдельном случае, так как
это значение опирается на различие между формами падежей, такое
слово, как приведенное выше дом, утрачивает в известной мере свое каче­
ство отдельного з а к о н ч е н н о г о с л о в а 1, Конечно, с точки зрения
системы данного языка, языка, в котором слова данного разряда харак­
теризуются изменением по падежам.
Те случаи употребления того же самого слова, различия между кото­
рыми хотя и являются языковыми, но выходят за пределы слова и отно­
сятся уже к области предложения (как в примере с интонационными раз­
личиями между тремя случаями употребления да), естественно объеди­
няются fco случаями, вообще не различающимися в собственно языковом
плане, так ка к в обеих категориях случаев о д и н а к о в о о т с у т ­
с т в у ю т , так сказать, в н у т р и с л о в н ы е языковые различия,
т. е. различия языкового характера в п р е д е л а х с а м о г о д а н ­
н о г о с л о в а , проявляющиеся в его звуковой оболочке и его семанти­
ческом содержании.
Очевидно, что в плоскости проблемы тождества слова специфический
Интерес представляют не эти случаи, а именно те, в которых о б н а р у - .
живаются
внутрисловные языковые различия,
как, например, в случаях типа дом — дома (род. пад.). Именно здесь'
проблема тождества слова выступает наиболее остро, так ка к различия"
между отдельными случаями употребления одного и того же слова оказы­
ваются непосредственно принадлежащими самому существу этого слова:
одно
и то ж е
с л о в о является в самом языке п редста вл енНъм
определенными «разновидностями», каяздая из которых обладает каче• ством с л о в а и так или иначе характеризует данное слово и придает
ему его индивидуальную конкретность, его специфичность.
Само собой разумеется, что те или другие различия между отдельньми
1--------------1 Вместо с л о в а дом (дома, дому и пр.)
о с н о в у дом-, что пе одно и то же.
мы в таком случае получаем лишь
случаями употребления одного ' и того же слова могут накладываться
друг на друга и перекрещиваться между собой] Так, мы можем иметь,
с одной стороны, дом, сказанное басом и с утвердительной интонацией
(с падением тона), с другой же стороны — дома? (род. пад.), произне­
сенное дискантом и с вопросительной интонацией (с повышением тона).
Таким образом, внутрисловное языковое различие дом-— дома будет
здесь сопровождаться и различием неязыкового порядка (бас — дискант),
и языковым различием, лежащим за пределами слова (утвердительная
и вопросительная интонации). Но, поскольку с точки зрения проблемы
тождества слова специфический интерес представляют именно внутрислов­
ные языковые различия, постольку, имея в виду эту проблему, мы большею
частью можем отвлечься от прочих различий и все случаи употребления
слова рассматривать т о л ь к о в п л а н е
внутрисловных
языковых
р а з л и ч и й между ними. Например, приведенные
случаи употребления слова дом мы можем рассматривать так, ка к если бы
это слово было произнесено одним и тем же голосом и с одной и той же
интонацией, выделяя тем самым лишь предположительно внутрисловное
языковое различие между дом и дома.
Следовательно', все случаи' употребления одного и того же слова;
н е и м е ю щ и е между собой внутрисловных языковых различий (неза­
висимо от того, различаются они как-либо иначе или нет), большею частью
можно приравнять друг к другу с.точки зрения проблемы тождества слова -|
Таким образом в общем тождестве, данного слова могут выделиться болеч
«узкие» тождества — тождества отдельных его «разновидностей» или
«видоизменений».
-з
Например, в следующих предложениях мы имеем ряд конкретных
случаев употребления того же самого слова — дом, но в последних трех
предложениях мы имеем три случая употребления не только этого слова
вообще, но и определенного его видоизменения, а следовательно, находим
не только тождество слова дом, но и более «узкое», более «специальное»
тождество — ТПЖ1ТРСТИП ттяд^ргп е го в и л п и зм е н е н и я а именно — род. над.
ед. ч. дома; ср.: Какой высокий дом! — Скоро мы подойдем к нашему
до м у. — Солнце уж е взошло, но &го не было видно за большим дом ом напро­
т и в .— С крыши этого дбма видно на несколько километров вокруг.— Он
знает всех жильцов этого дом а,— Мы встретились в воротах дбма_,„
Итак, помимо «самого» с л о в а ка к единицы языка, представляемой
всевозможными конкретными случаями ее употребления (воспроизведения)
и тождественной себе во всех этих случаях, и помимо отдельных конкрет­
ных с л у ч а е в у п о т р е б л е н и я (воспроизведения) того же самого
слова, необходимо отличать еще в и д о и з м е н е н и е (разновидность)!
с л о в а ка к языковое образование, тождественное во всех этих случаях
употребления данного слова, которые не различаются между собой внутри­
словными языковыми различиями.
Такие видоизменения (или разновидности) слова нередко вообще^
называются формами слова, ка к это мы находим и в работах акал.)
В. В.Виноградова1. Вместе с этим В. В. Виноградов замечает: «Многознач­
ность термина ф о р м а породила ряд научных недоразумений...»2, с чем
нельзя не согласиться. Целесообразно поэтому, в целях большей ясности и
четкости в трактовке соответствующих вопросов, по возможности ограни­
чить употребление слова «форма». Надо вспомнить, что практика Н. Я. Мар­
ра и его «учеников» писать вместо научных работ различного рода «языко­
ведные» прокламации и декларации, без сколько-нибудь систематического
анализа языкового материала и без какой-либо методики доказательства,
в течение многих лет препятствовала развитию действительно научного
изложения лингвистических проблем и выработке необходимой термино­
логии, тем более, что всякие попытки внесения научной, определенности
в основные понятия, которыми необходимо оперирует каждый языковед,
штемпелевались ка к проявление «формализма». Необходимо постоянно
помнить, что появление основополагающих трудов И. В. Сталина по во­
просам языкознания налагает на нас особую ответственность за состояние
нашей науки, так ка к теперь она выведена на правильный путь и имеет
все возможности для быстрого и успешного развития. Поэтому теперь
особенно важно, в частности, отнестись с должным вниманием и к «лин­
гвистическому словоупотреблению», пришедшему в запущенное состояние
за годы господства марровцев с их аракчеевским режимом.
Вряд ли может подлежать сомнению, что под «формой (слова)» в языко­
знании большей частью и в первую очередь подразумевается «граммазауеская форма слова», хотя и под последним выражением понимаются
самые разнообразные вещи (ср. «форма падежа», «форма дательного паде-.
жа», «форма дательного падежа ед. ч. женского рода склонения на -а»,
«слово вода имеет в дательном падеже ед. ч. форму воде», «форма воде есть
форма дательного падежа ед. ч.»; ср. у акад. Ф. Ф. Фортунатова: «присутствие в слове делимости на основу и~аффикс дает слову то. что мы называем его формой» и нр.).
Ввиду исключительной важности особого выделения в слове граммати­
ческого момента, представляется наиболее целесообразным при рассмот­
рении различных видоизменений слова применять слово «форма»
в качестве т е р м и н а именно только в г р а м м а т и ч е с к о м плане,
в согласии и с наиболее обычным Специально лингвистическим его упо­
треблением. (_При рассмотрении же отношений между видоизменениями
слова в плоскости собственно л е к с и ч е с к о й более подходящим пред­
ставляется другой термин, также применяемый акад. В. В. Виноградовым,
а именно — «вариант (слова)»3. Таким образом, например, при сопостав­
1 См. его статью «О формах слова».— «Известия А Н СССР, ОЛЯ», т. I I I , выв. 1.
М., 1944, стр. 31 и след., особ. стр. 34 и 35.
2 См. В. В. В и н о г р а д о в . Р усский язык. М .— Л ., 1947, стр. 31.
3 См. В. В. В и н о г р а д о в . О формах слова.«Сюда (к л е к с и ч е с к и м
Формам. — А . С.), прежде всего, относятся фоно-морфологические и этимологические
m итьг' слова» (стр. 40); — «...лексическим вариантам слова обычно бывают свой:ни разные экспрессивные и стилистические оттенки» (стр. 41).
лении им. падежа дом — «здание» и род. пад. ед. ч. дома (с тем же лекси­
ческим значением) с точки зрения проблемы тождества слова можно ставить
вопрос о том, являются ли эти две единицы по отношению друг к другу !
разными словами (А. А . Потебня, Д. Н. Ушаков, Л. Блумфилд и др.)
или только ф о р м а м и одного и того же слова (Л. В. Щерба, В. В. Вино­
градов и др.). Но сравнивая им. пад. ед.ч. слова дом — «здание» и им. пад.
ед. ч. дом — «жилье, место постоянного обитания» с точки зрения
той же проблемы, лучше, думается, избегать слова «форма» и формули­
ровать вопрос так: имеем ли мы здесь два разных слова (омонима) или
лишь два лексико-семантических в а р и а н т а одного и тог о же слова?
Этим будет четко отражено различие между отношениями в двух разных
плоскостях: в грамматической и лексической.
Необходимо, однако, иметь и такой общий термин, которым не преду­
сматривалась бы не только' плоскость упомянутых отношений, но даже
и то, имеется ли в виду отношение между разными словами или--лишь
между видоизменениями слова, и которым, вместе с тем, обозначалась бы
все же единица, представляющая собой в речи настоящее с л о в о . Иначе
говоря, необходимо иметь такой термин,которым можно было бы обозначить
как единицу, например, род. пад. ед. ч. дома ■
— «здания» (ср. крыша
дома) в отличие и от такой единицы, как им. пад. ед. ч. дом — «здание» •
(ср. пятиэтаж ны й дом), и от такой, как род пад. ед. ч. дома — «жилья,
места постоянного обитания» (ср. вдали о т родного дома), и от таких, как
род. пад. ед. ч. стола или дат. пар. ед. ч. ж. р. белой или 3-го'л. ед. ч.
наст. вр. видит и пр. Такой термий необходим потому, что единицы вроде
род. пад. ед. ч. дома — «здания», и. е. единицы, представляющие собой
определенные
слова
в определенной
грамма­
тической
форме и в о п р е д е л е н н о й
звуковой
о б о л о ч к е , в которой выражается (в данном случае и в массе других
случаев) одно о п р е д е л е н н о е л е к с и ч е с к о е з н а ч е н и е ,
являются такими^единицами, с которыми мы постоянно и непосредственно
сталкиваемся при анализе связной речи, при работе над языковым мате­
риалом. Именно такие единицы могут с . наибольшей несомненностью
либо отождествляться, либо не отождествляться в массе отдельных кон­
кретных случаев употребления слов в связной речи.
Вряд ли в обычной лингвистической терминологии можно найти не
вызывающий никаких недоразумений и сомнений готовый термин для обо­
значения таких единиц. Но какой-то термин нужен, и желательно иметь
простой (не составной) термин. В качестве такого термина здесь будет
применяться слово «глосса», хотя совершенно и не предполагается, что
это слово является наиболее удачным. Можно, одрако, заметить, что оно
по своей семантике не находится в противоречии е тем значением, какое
здесь имеется в виду; нечто подобное, хотя и не строго определенное, под­
разумевается под ним, когда речь идет о древних глоссах к текстам
или о глоссариях (так ка к в этих случаях обычно переводятся не
данные слова вообще, а именно известные случаи их употребления,
причем, естественно, учитываются именно внутрисловные их особенности).
Итак, под г л о с с о й мы будем здесь понимать любую языковую еди­
ницу, представляющую собой одно определенное с л о в о в том или другом !
; его в а р и а н т е (если данное слово имеет варианты) и в одной опреде-,
ленной г р а м м а т и ч е с к о й фо р м е (или же — в единственном его
оформлении, если данное слово грамматически не изменяется). Иначе говоря,
любая языковая единица, воспроизводимая в таких конкретных случаях
употребления слова, которые н е р а з л и ч а ю т с я внутрисловными
языковыми различиями, будет представлять собой о д н у г л о с с у .
Выше предполагалось, что одно и то же слово может выступать
в виде различных глосс. Это предположение вполне соответствует непо­
средственному восприятию языка, а также и практике лингвистической
работы. Акад. В. В. Виноградов совершенно правильно замечает:
«никто из русских людей не усомнится, что, например, формы — петь,
пою, я пел... и т . п. являются грамматическими формами одного и того же
глагола»1. В другом месте той же работы автор обращает внимание на то,
что «даже сам Потебня», который в теории все единицы, определяемые
здесь ка к глоссы, считал отдельными словами2, «на практике в своих линг­
вистических исследованиях очень часто пользовался тем понятием слова —
лексемы, которое он отвергал по философскому предубеждению» (т. е. тем
понятием, в котором определенные системы форм и функций осознаются
ка к лексические единицы языка, ка к единые слова)3.
Обиходная и школьная практика постоянно пользуется понятием
«изменения слова», свидетельствующим об убежденности в существовании
одних и тех же слов в различных их видоизменениях, т. е. тождественных
в различных'глоссах. Также и появление научного термина «словоизме­
нение», несомненно, тесно связано с этой практической убежденностью,
ка к бы отдельные ученики Фортунатова ни старались убедить себя и дру­
гих в том, что это лишь совершенно условный термин. Отр<аз от признания
слова в принципе изменяющейся единицей, т. е. такой, которая может
быть представлена разными видоизменениями-глоссами, неизбежно заво­
дит в тупик, так ка к он связан С таким пониманием «слова», которое проти­
воречит всему жизненному опыту пользующегося данным языком народа,
противоречит объективному различию в отношениях между разными глос­
сами: отношение между дом и дома в самой действительности слишком
глубоко и существенно отличается от отношения между дом и стол, чтобы
о б а эти отношения можно было осмыслить ка к отношения между двумя
словами, т. е. ка к в основном одинаковые1.
1 В. В. В и н о г р а д о в . О формах слова, стр. 35— 36.
2 А . А . П о т е б н я . Из записок по русской грамматике, т. IV , 1941, стр. 96.
3 См. В. В. В и н о г р а д о в .
Современный русский язык, т. I . М ., 1938,
стр. 110— 114 и е г о ж е . О формах слова, стр. 34.
1 Ведь слово во всяком случае является одной из основных единиц языка, и
отношение «слово : слово» есть одно из основных. Пренебрежение словом к а к единицей
языка, характерное, например, для блумфилдианской американской лингвистики,
И. В. Сталии, определяя существо грамматики, указывает на изменение
слов ка к на одно из основных грамматических явлений: «Грамматика
(морфология, синтаксис) является собранием правил об изменении слов
и сочетании слов в предложении»1, И в этом указании И. В. Сталина прояв­
ляется глубоко правильное, уничтожающее всякие надуманные хитро­
сплетения, понимание основного соотношения между лексикой (словарным
составом) и грамматикой (грамматическим строем) языка.
Таким образом, то предположение, что слово может быть одним и тем же
не только в различных конкретных случаях употребления олова, н о
и в р а з л и ч н ы х г л о с с а х , т. е. , в частности, в таких случаях,
которые различаются внутрисловными языковыми различиями, является
предположением, в общем несомненно соответствующим тому, что мы нахо­
дим в языке. Необходимо, однако, выяснить, каковы основные -щга|> 1 тех
случаев, в которых различные глоссы представляют собой одно и то же
слово, и обосновать правильность общего положения для каждого отдель­
ного типа.
; Однако, прежде чем перейти к рассмотрению таких типов, не липшим
будет пояснить общий характер взаимоотношений между словом (С)
и глоссами (Гл) на отдельных примерах. Не претендуя на полноту и деталь­
ность и пока не пытаясь обосновать объединение отдельных глосс в дан­
ные слова, можно привести хотя бы такие образцы:
1)
С стол (при предположении, что значения «предмет обстановки»,
«определенное питание», «отдел учреждения» не образуют отдельных
Ьмонимов):
Гл стол — «предмет обстановки»;
Гл стола
Гл ст.олу
с тем же основным значением, но с разными падежными
Гл столы
и числовыми значениями;
и пр.
Гл стол —
Гл стола
(Г л столы)
с тем же основным значением, но с разными падежными
(и числовыми) значениями; глоссы со значением мн. ч.
даны в скобках ввиду их неупотребительности;
пр.
л стол — «отдел учреждения»; обычно с определением в составе
сложного термина: военно-учетный стол, стол заказов;
явль тся одним из основных конкретных моментов, делающих ее схемы описания языка
кра: 1е условными и произвольными, искажающими существо описываемой языковой
Кейс^ зительности.
1 И. С т а л и н . Марксизм и вопросы языкознания, стр. 23.
Гл стола
Гл столы
с тем же основным значением, но с разными падежны­
ми и числовыми значениями;
и пр.
}
2)
С ветер (при предположении, что стилистически различающиеся
ветер и ветр представляют собой одно и то же слово):
Гл ветер — Гл в е тр ;
Гл ветра;
Гл ветру;
Гл ветры и нелитер. Гл ветра
и пр.;
3) С уже:
Гл у ж е —-Гл у ж ;
4) С даже:
Гл даже.
Последний пример иллюстрирует возможность полного фактического
совпадения слова и глоссы, его представляющей. Такое совпадение,
являющееся частным случаем отношения между словом и глоссой, полу­
чается, если число глосс, представляющих данное слово, ограничивается
одной. Тем не менее и в таких- случаях теоретически необходимо разли­
чать слово и глоссу: когда мы имеем в виду с л о в о даже, мы рассматри­
ваем даже как единицу словарного состава и сопоставляем его с другими
единицами словарного состава, как в лексическом, такТ Т Т .грамматиче­
ском плане (т. е. с такими единицами, ка к С стол? С ветер, С очель
и пр.), отмечая признаки сходства и различия между словами в целой,
имея в виду все глоссы, их. представляющие; когда же мы говоргм
о г л о с с е даже, мы подходим к той же единице даже прежде всего зе
со стороны словарного состава, а со стороны отдельных случаев употребшния слова, и обращаем внимание на то, что между такими случаями ввт
внутрисловного языкового различия подобно тому, ка к его нет меяцу
отдельными конкретными случаями употребления Гл стол, или Гл сто:у,
или Гл ветр, или Гл очень и пр.
III.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СЛОВА
Отдельные глоссы могут находиться между собой в различных отюшениях, причем одновременно в нескольких (ср. сказанное на стр. 'Л,
а также вышеприведенные примеры стол и ветер).
Особое значение имеют отношения между глоссами в г р а м м а ж - '
ч е с к о м п л а н е . Эти отношения не только являются в высшей стаени распространенными, но они особенно важны еще и потому, что в шх
проявляется грамматический строй языка, его грамматика,-которая «. . . 1ри
даёт языку стройный, осмысленный характер»: «...именно благодаря
грамматике язык получает возможность облечь человеческие мысли в
материальную языковую оболочку» 1.
«Отличительная черта грамматики,— говорит И. В. Сталин,— состо­
ит в том, что она даёт правила об изменении слов, имея в виду не кон­
кретные слова, а вообще слова без какой-либо конкретности . . . » 2
С этой особенностью грамматики связано и^ то, что грамматические
различия между отдельными глоссами слова с а м и п о с е б е с о в е р ­
иг е-н д о
не
з а т р а т и в аю т л е к с и ч е с к о г о
содер­
жания
с л о в а. Неудачной, поэтому, представляется такая характе­
ристика грамматических различий в слове, согласно которой они являются
различиями между «оттенками» значения слова.
Конечно, известные грамматические особенности могут быть так или
иначе связаны с определенными значениями слова; ср. хотя бы приведен­
ный выше пример С стол, где со значением «определенное питание» связана
неупотребительность глосс множественного числа.
Грамматические
значения являются к а ч е с т в е н н о
о т л и ч н ы м и о т л е к с и ч е с к и х и не представляютсобой какихлибо оттенков последних. Но, естественно, некоторые грамматические
значения вообще или особенно легко соединяются с определенными
лексическими значениями, другие—нет, и,конечно, определенный комплекс
грамматических значений в делом придает известный характер общему
лексическому значению слова или одному из его лексических значений.
Но это еще не значит, что сам эТот комплекс состоит из «оттенков» общего
лексического значения слова.
Здесь нет ¿возможности входить в детальное рассмотрение всех особен­
ностей грамматического момента в языке и, в частности, в словах. Доста­
точно обратить внимание лишь на основное.
И. В. Сталин в своем определении грамматики объединяет изменение
слов и сочетание, соединение слов в предложения. Почему и з м е н е н и е
слов объединяется с их сочетанием между собой? Потому, очевидно, что
изменение слов, так же к а к и сочетание их, придает языку стройность
и осмысленность, т. е. служит связности речи, определяя те различные
отношения, которые мыслятся вместе с основным, центральным, вещест­
венно особым, индивидуальным смысловым содержанием данных слов3.
1 И. С т а л и н . Марксизм и вопросы языкознания, стр. 23, 24.
3 Там же, стр. 24.
3 Значения отношений могут быть и не грамматическими значениями. Т а к, они
являются лексическими, если оказываются основными, центральными в семантике
лова, если выражаются отдельным конкретным словом. Для того чтобы быть грам­
матическими, отвлеченными от конкретности слова, значения отношений должвы быть
¡ишь д о п о л н и т е л ь н ы м и
при основных, центральных, вещественных зна:ениях слов, в составе самих данных слов; лишь при этом условии они обладают необюдимой для грамматического строя обобщенностью и абстрактностью. В самом деле:
слп предлог на есть отдельное слово, а не префикс, то выражаемые им значения
Качественно отличаясь от лексических значений, являющихся семан­
тическим ядром слова, различные грамматические значения, естественно,!
сами по себе не расщепляют единства этого ядра, и тем самым различие
между грамматическими формами слова совершенно беспрепятственно
соединяется с его тождеством. Вместе с тем, однако, грамматические значе­
ния не отделены от лексических какой-либо непреодолимой гранью:
одни значения могут превращаться в другие. Например, значение числа
у существительных, вообще говоря, является грамматическим значением.
Наивно думать, что Гл лампа и Гл лампы имеют значения, различающиеся
лексически, по основному своему содержанию, т. е. , что они вещественно
различны. Обеими глоссами выражается одно и то же предметное понятие,"
так ка к в понятие «лампы» не входит признак числа. Это особенно ясно
выявляется в том, что между предложениями-определениями вроде Л а м п а
есть прибор для освещения и Л а м п ы суть приборы для освещения нет
сколько-нибудь существенной логической разницы1.
Но, будучи л е к с и ч е с к и равнозначными, эти две глоссы, конечно,
в целом все же различны по значению, так к а к в одной из них данное поня­
тие дополняется значением о т н о ш е н и я к о д н о м у предмету2, в
другой -— б о л е е чем к одному.. Таким образом, значение числа не
только у прилагательных и глаголов, но и у существительных, есть значе­
ние отношения, выражаемое не отдельным словом, не лексически, а г р а м ­
м а т и ч е с к и , в качестве некоторого общего дополнительного зна­
чения при данном вещественном, основном, лексическом значении слова.
По в определенных случаях может оказаться, что известное число
или, вернее, комплект предметов в силу тех или других объективных
причин осмысляется к а к некоторый о с о б ы й предмет,— и в таких слу­
чаях отношение к определенному числу превращается уже в п р и з н а к
данного комплексного предмета.. Ср., например, Гл усы — «раститель­
ность на верхней губе», где множественное число не обозначает отношения
понятия «ус» более чем к одному предмету. Гл усы обозначает здесь два
уса, правый и левый, ка к определенный комплект, ка к особый пре; мет,
в котором «число» оказывается уже числом его ч а с т е й , т. е. ¿же
признаком его самого, а тем самым и грамматическая множествен).ость
в соответствующем слове выступает уже и ка к выразитель л е к с 1 в е ­
с к о г о момента.
пространственных, временных и пр. отношений являются о с н о в н ы м и его значе­
ниями, принадлежащими ему к а к данному конкретном у плову, отличному, например,
от под или при и т. п.: к а к выражаемые им, эти значения не мыслятся в отвлечении от
его лексической, словарной конкретности.
1 Если бы мы допустили, что Гл лампы имеет иное лексическое значение сравни­
тельно с Гл лампа , то мы далее должны были бы признать, что первая глосса имеет
вообще’ неОгрпиичепное число значений — соответственно тому, к о скольким лампам
она относится: к двум, трем, семнадпати, тысяче и т. д.
* Чтобы нс услож нять вопроса, здесь можно отвлечься от того, что глоссы един­
ственного чис.'ч относятся и ко всему данному классу предметов к а к представ.':не­
мому каж д ы х одним предметом этог.. класса.
Единица усы в указанном выше значении становится уже другим с л о ­
в о м ю отношению к С ус, а следовательно, своего рода омонимом по
отношению к Гл усы в значении «более чем один ус».
Такая л е к с и к а л и з а ц и я числовых различий может иметь
разные степени и неодинаковую устойчивость, а также связываться
и с другими семантическими различиями. Ср. рога (в отличие от роги),
часы — «прибор, показывающий время», цветы (в отличие от цветки
и цвета), войска (с существенным отличием от войско), волосы — «шеве­
люра», ноты — «нотный текст музыкального произведения» и т. п. Д у ­
мается, что сохранение исключительных форм множественного числа,
например, в английском языке у таких слов, ка к foot—feet, tooth—teeth
и пр., в значительной мере связано с тем, что числовые различия здесь
нередко • перерастали в лексические1. Все это, однако, не опровергает
того, что между моментами лексическими и грамматическими имеется
качественное различие и что с а м и п о с е б е грамматические значе­
ния нисколько не являются «оттенками» лексических значений.
Из сказанного следует, что глоссы, различающиеся т о л ь к о грам­
матически, являются глоссами, представляющими собой о д н о
и то
ж е с л о в о . Поэтому, например, если мы утверждаем, что числовые
различия у существительных являются сами по себе лишь грамматиче­
скими различиями, то тем самым мы заявляем, что глоссы существитель­
ных, различающиеся т о л ь к о по линии числа, представляют собой
о д н о и т о ж е с л о в о . Так, Гл стол и Гл столы (в значении «предмет
обстановки»), Гл лампа и Гл лампы и пр. соответственно представляют
собой слова стол, лампа и пр.
К а к уже было замечено выше, для обозначения именно таких обра­
зований в их отношении друг к другу наиболее регулярно употребляется
выражение «(грамматическая) форма слова», и именно в таком примене­
нии выражение «форма слова» представляется наиболее удачным. Поэтому
совершенно ясным и не вызывающим никаких возражений будет, напри­
мер, такое утверждение, как: «лампа и лампы являются (грамматиче­
скими) ф о р м а м и с л о в а лампа'»'.
\ Дело, однако, осложняется тем, что формой слова называют не только
определенную глоссу ка к грамматически отличающуюся от других глосс
данного слова, но и само ее о т л и ч и е от этих других глосс и от сло­
ва в целом, т. е. само ее грамматическое значение в его внешнем выра­
жении и в отвлечении от конкретности слова. Так, с одной стороны,
Говорят, что лампы е с т ь фо р ма (именительного падежа множествен­
ного числа) слова лампа, т. е. ка к было сказано, понимают под формой
слова самое данную глоссу; с другой стороны, говорят, что слово лампа
в фо р ме именительного падежа множественного числа будет лампы,
или, иначе, чтс последнее образование есть слово лампа в форме имени1 Так, teeth — «зубы» большею частью именно — «комплект зубоь
eet — «ноги», «пара ног (человека)», «четыре ноги животного» и нр.
Труды Ип-та языкознания, т. IV
во рту»,
тельного падежа множественного числа: здесь уже под «формой» пони­
мается, очевидно, не сама глосса лампы, а только грамматический момент
в ней — значение именительного падежа множественного числа в опреде­
ленном выражении. В этом смысле совершенно правильным будет утверж­
дение, что Гл. лампы, Гл. рамы, Гл. раны, Гл. фонемы, Гл рыбы и пр.
представляют собой одну и ту же грамматическую форму, или являются
соответствующими словами в одной и той же грамматической форме. Но
если понимать под формой слова самые глоссы, то, конечно, необходимопризнать, что лампы и фонемы являются разными формами.
Дело здесь не только в терминологических затруднениях: дело в том,
что так же, ка к о д н о и - т о ж е с л о в о выступает в р а з н ы х грам­
матических формах, так и о д н а и т а ж е грамматическая форма яв­
ляется представленной р а з н ы м и ■с л о в ам и ; и такая грамматическаяформа, ка к определенная г р а м м а т и ч е с к а я величина, тождественна»
в разных словах, существенно отлична от грамматической формы слова
как той или иной его глоссы, являющейся величиной л е к с и к о - г р а м ма т и ч‘е с к о й, ка к бы скрещением или произведением известного (ва­
рианта) слова Со и определенной грамматической формы фп.
Г л „„ = С „Ф „;
т. е., например, Гл лампы есть С лампа в форме (Ф) им. пад. мн. ч.
Гл
__х
.
Из этой формулы следует, что Ф „ == ■
, т. еГч^о та или другая
(п-я) форма слова ка к таковая (т. е. не ка к глосса) есть то, что мы
находим в соответствующей (п- й) глоссе слова при извлечении из нее
собственно лексического момента, то есть при отвлечении от лексической
конкретности данного слова (в соответствующем его варианте).
Во избежание смешения различных понятий — Г л „„ (например, Гл
лампы) и Ф „ (например, Ф им. пад. мн. ч.) — вследствие употребления
слова «форма» в разных смыслах даже в одном и том же — граммати­
ческом— плане, целесообразным представляется, оставив термин «грам­
матическая фо р м а слова» за формой ка к таковой (Ф „, например: им. пад.
ед. ч.; т'в. пад. мн. ч.; 3-е л. мн. ч. прош. вр. сослагательного наклоне­
ния действительного залога и пр.), обозначать ту или иную глоссу, в ко­
торой мы обнаруживаем данную форму у данного слова (Гл„„, например,
лампы , т. е. форма им. пад. мн. ч. С лампа, или, иначе говоря, С лампа
в Ф им. пад. мн. ч., т. е: конкретный пример С„Ф„), таким термином,
который указывал бы, что мы одновременно имеем в виду и определен­
ное с л о в о , и определенную его (грамматическую) фо р му . Удобным
термином для этого может быть сложное слово «словоформа», или СФ.
Под с л о в о ф о р м о й понимается, Следовательно, д а н н о е с л о в о
в д а н н о й г р а м м а т и ч е с к о й форме, или данная грамматическая
форма данного слова. Или еще иначе: та или иная глосса или совокуп­
ность глосс данного слова к а к -представляющая определенную граммати ■
ческую форму слова, т. е. определенную морфологическую единицу
грамматического строя языка.
\
Слово стол, например, представляет собой большую систему глосс,,
различающихся ка к грамматически, так и лексико-семантически (ср.
стр. 13—14). В грамматическом плане, однако, глоссы, различающиеся лишь
лексико-семантически* будут отождествляться друг с другом — в одни и
те же с л о в о ф о р м й : СФ стол, СФ стола, СФ с т о л у ... СФ столы.
и т. д., в отвлечении от лексико-семантических вариантов, поскольку
с л о в о все же остается одним и тем же. Равным образом мы можем
сказать, что и Гл ветер, и Гл ветр являются одной и той же с л о в о ­
ф о р м о й — СФ ветер (ветр)\ этим мы скажем, что они представляют
и одно и то ж е слово,
и одну и ту же
грамматиче­
с к у ю ф о р м у слова; следовательно, различие между ними лежит не
в грамматической плоскости.
Итак, поскольку грамматические моменты качественно отличны от
лексических и с а м и п о с е б е никак не меняют лексического содер­
жания слова, постольку одни лишь грамматические различия между,
глоссами сами по себе не делают эти глоссы разными словами по отноше­
нию друг к другу.
При этом, однако, надо помнить, что грамматические различия могут
переходить в лексические (ср.: усы, часы, ноты и пр.). Кроме того, необхо­
димо обратить внимание на следующее.
Та или другая грамматическая форма ка к таковая сама по себе не
изменяет лексического содержания (значения) слова, но с а м о е н а л и ­
ч и е ее у д а н н о г о
слова и к о н кр е тн ы е
ее
осо­
б е н н о с т и могут определенным образом характеризовать соответствую|цее слово в целом, так к а к слово вообще выделяется к а к таковое опреде­
ленной своей грамматической, оформленностыо (хотя бы и отрицательной,
рли остаточной; см. упомянутую выше 1-ю часть данной работы).
! Например, наличие у данного слова формы 1-го лица единственного
числа настоящего времени изъявительного наклонения действительного
(залога характеризует это слово в целом ка к г л а г о л , т. е. к а к еди­
ницу, принадлежащую к определенному классу или разряду с л о в . ;
г'амо данное слово ка к таковое, например глагол ходить, л е к е и-.
/ е с к и никак не изменяется от того, выступает ли он в форме 1-го л .:.
/ед. ч. или 3-го л. мн.
того или другого времени, наклонения, залога.)
Но то, что он вообще выступает в этих и других соответствующих формах,:,
что он изменяется по ним, т. е. то, что он изменяется По определенной1
парадигматической
с х е м е — схеме с п р я ж е н и я —
характеризует уже не отдельные словоформы, но все слово ходить ка к
таковое, в отличие от других, хотя бы и близких к нему слов, например
от слова ход, которое в системе своих словоформ представляет совершенно:
иную парадигматическую схему — схему с к л о' в е' й и я с у щ е е тв и т е л ь н о г о — и тем самым является д р у г и м с л о г м.
Иной пример. Слова супруг и супруга имеют вообще те же самые формы
ка к таковые (т. е. ту же систему падежно-числовых различий) и, иначе
говоря, в своих грамматических изменениях следуют одной и той ж е
парадигматической схеме. Однако в половине своих словоформ они не
совпадают друг с другом, так ка к одни и те же формы у них в
а именно —
половине случаев имеют различные о с о б е н н о с т и ,
разные звуковые средства выражения своих грамматических значений;
ср., например, СФ супругом и СФ супругой, в которых форма тв.
над. ед. ч., о д н а
и т а ж е в обоих словоформах, представлена
разными звуковыми оболочками: -ом и -о й . Поскольку это внешнее раз­
личие имеет здесь определенное в е щ е с т в е н н о е значение, постоль­
к у мы имеем " д в а р а з н ы х слова: С супруг и С супруга. То есть и здесь
не само грамматическое различие (разное внешнее выражение определен­
ных грамматических форм) является основанием для дифференциации
двух с л о в , а то, что это различие оказывается средством выражения
уже л е к с и ч е с к о г о , в е щ е с т в е н н о г о р а з л и ч и я (отча­
сти подобно тому, к а к в случае ус — усы числовое различие выступает
уже ка к различие предметное).
Напротив, в таких случаях, ка к
рельс — рельса, спазм — спазма,
где мы, повидимому, имеем только различие во внешней оболочке соот­
ветствующих словоформ, выражающее различие в грамматическом роде,
не связываемое с каким-либо предметным, вещественным различием,
мы вряд ли можем говорить о разных словах: рельс и рельса и пр.
Из сказанного следует, что п а р а д и г м а слова, т. е. конкретная
система его грамматического изменения (его склонение, спряжение и пр.),
может выступать к а к словообразовательное средство, т. е. к а к средство
дифференциации р а з н ы х с л о в , связанных по корню. Она обязательно
'выступает к а к такое средство, если она представляет собой о с о б у ю
п а р а д и г м а т и ч е с к у ю с х е м у (систему форм), характеризую­
щую данное слово к а к определенную ч а с т ь р е ч и , отличную от части
речи, представляемой другим словом (ср. С х о ж у и С ход). Если же данная
парадигма отличается от другой не самой парадигматической схемой,
но лишь такими особенностями, которые не дифференцируют частей речи, то
различия данных парадигм образуют различие между двумя словами лишь
в том Случае, когда различие парадигм служит с р е д с т в о м выражения
другого, не грамматического, а предметного семантического различия
(ср. С супруг й С супруга, С лис и С лиса)\ в противном же случае различие
парадигм вряд ли служит основанием для различения слов (ср.
С спазм—спазма, С идиом— идиома).
IV .
ВАРИАНТЫ СЛОВА
Под в а р и а н т а м и (В) слова, к а к уже было сказано, здесь пони­
маются глоссы одного и того же слова, различающиеся н е к а к
раз­
ные
грамматические
ф о р м ы . У ж е из отрицательного
характера этого определения можно видеть, что между вариантами слова
предполагается возможность различных, не одинаковых отношении. Но
прежде чем перейти к рассмотрению таких отношений, нужно заметить сле­
дующее. Данная глосса выступает к а к с л о в о ф о р м а (т. е. к а к грамма-,
тическая форма данного слова) или к а к в а р и а н т слова (или к а к н ^ то
и ни другое)1 в зависимости от того, в плане каких отношений она рассмат­
ривается. Ряд глосс, отличающихся друг от друга к а к разные граммати­
ческие формы, может представлять собой один и тот же вариант слова,
противопоставляемый другому его варианту, который в свою очередь
может существовать в виде ряда различных глосс, подобно тому, ка к одна
и та же словоформа может представлять собой два или несколько вариантов
слова. Сказанное можно проиллюстрировать следующим образом:
С дом
1.
В дом — «здание»
а) СФ дом им. п. Гл домх им. п .2
б) СФ дом вин. п. Гл домх вин. п.
в) СФ дома
Гл домах
Гл домух '
г) СФ дому
2.
В д ом — «жилье» и т. п.
Гл домЛ им. н.
Гл дом2 вин. п.
Г л дома2
Гл дому2
1 Если, например, она вырывается из системы своих связей и отношений с другими
глоссами. Т а к, англ. Гл ra ils , вырванная из английского язы ка, перестает быть фор­
мой множественного числа и превращается в русском языке в корневую (непроиз­
водную) основу р е л ь с -. Понятно такж е, что^в качестве варианта слова какая-либо глос­
са может выступать лишь при сопоставлении с? другим вариантом т о г о ж е слова:
если другого варианта нет, то и данная глосса, естественно, не является вариантом
слова, а непосредственно представляет собой данное слово к а к лексически цельное, но,
конечно, лишь в одной определенной грамматической его форме. Последняя может
иметься у слова даже и в том случае, если д руги х форм у т о г о ж е слова нет: воз­
можно слово, существующее в виде лишь одной словоформы, воплощающее лишь одну
грамматическую форму; ср. Гл зги (во фразеологической единице ни з ги ), которая несомненпо представляет собой форму родительного падежа единственного числа, а не
нечто бесформенное (см. 1-ю часть работы). Н о, например, такая глосса, к а к daoice пли
очень, не представляет собой н икакой- грамматической ф о р м ы слова — в приня­
том здесЙ» смысле: Гл зги относится к определенной парадигме, охватывающей ряд
форм (----- а , ----- и , -----у и пр.), тогда к а к глоссы! вроде даже и очень к подобным
парадигмам не относятся. Однако они н е я в л я ю т с я
бесформенными:
они н е и м е ю т отдельных грамматических ф о р.м, но они имеют определенное
грамматическое о ф о р м л е н и е , и не только синтаксическое, но и морфологическое,
совершенно определенную парадигму, представляющую собой определенную пара­
дигматическую схему, характеризуемую отсутствием внутренней грамматической
дифференциации, т. е. грамматической неизменяемостью слова,— в противополож­
ность изменяемости д ругих слов. От т а к и х случаев следует строго отличать случаи
типа депо, та кс и , бра, в которых мы находим все грамматические формы, характерные
для существительных в русском языке, но с тою лишь особенностью, что все соответ­
ствующие словоформы в пределах каж д ого отдельного слова оказываются здесь
о м о н и м и ч н ы м и (на такой характер т а к называемых несклоняемых существи­
тельных в русском языке обратил мое внимание проф. П . С. Кузнецов). Менее ясные
случаи представляют собой слова типа б еж , хаки и пр.
2 Сложный и трудный вопрос о том, являются ли так называемые разные зна-
Возможны и такие случаи, когда слово оказывается расщепленным на
варианты лишь в отдельных своих словоформах. Так, повидимому, обстоит
дело в случае ветер — ветр: если ветер и ветр не два разных слова, то
они являются вариантами одного слова ветер (ветр)\ однако мы находим
эти два варианта лишь в словоформах им. и вин. пад. ед. ч., в других же
словоформах соответствующие варианты не различаются. Таким образом,
,С ветер может быть представлено в виде:
Вин. ед.
Им. ед.
Род. ед.
Дат. ед.
ветер
ветер
ветра
в е тр у 1,.,
ветр
ветр
В подобных случаях можно говорить о вариантах не слов, а слово­
форм,—если желательно подчеркнуть такую ограниченность вариант­
ности. Естественнее сказать, что щец есть вариант с л о в о ф о р м ы
щей (которая, следовательно, существует ка к щей/щец), чем говорить
о двух вариантах с л о в а щи,, поскольку данная его вариантность в дру­
гих словоформах не существует.
Кроме всего этого нужно заметить, что варианты слова (или отдельных
словоформ) действенно противопоставляются друг другу и обнаруживают­
ся в речевой практике именно к а к в а р и а н т ы при их с о с у щ е с т ­
в о в а н и и , при их употреблении в о д н у и т у ж е э п о х у .
Поэтому не следует определять камы ка к вариант словоформы им. пад.
камень, если имеется в виду современный русский язык: эти две единицы
выступали в качестве вариантов лишь в ту эпоху, когда последняя у ж е
появилась, а более древняя е щ е не вышла из общественного употребле­
ния. В дальнейшем же их отношение друг к другу следует понимать ка к
отношение двух разных исторических фономорфологических ф а з одной
и той же словоформы, или, попросту говоря, — разных и с т о р и ­
ч е с к и х ф о р м (хотя слово «форма» здесь очень неудобно, поскольку
и без того мы имеем здесь «форму»: форму им. пад. ед. ч.).
После этих предварительных замечаний можно перейти к вопросу
о том, каковы общие условия существования одного и того же слова в виде
разных вариантов и каковы отдельные основные типы таких вариантов.
Очевидно, что варианты слова, для того- чтобы быть р а з н ы м и
вариантами, должны как-то различаться; но чтобы вместе с этим не ока­
заться разными словами, а быть' именно вариантами од н о г о слова,
они должны быть чем-то особенно тесно связаны друг с другом.
Академик В. В. Виноградов пишет: «...единство слова организуется
прежде всего
ого лексико-семантическим стержнем...»2 И действи­
чення одного и того же падежа и пр. моментами, различающими отдельные глоссы,
здесь не рассматривается: он требует особого исследования.
1 Правда, встретив СФ ветра или СФ ветру в работе по метеорологии, мы будем
связывать эту словоформу в первую очередь с ветер , а не с ветр, но не по ее собствен­
ным признакам, а по условиям контекста.
2 В. В. В и н о г р а д о в .
О формах слова, стр. 34.
тельно, если в данных глоссах мы не находим такого «стержня», то они
разделяются между р а з н ы м и
с л о в а м и , даже если их внешние,
звуковые оболочки тождественны: в таком случае мы получаем омонимы,
например, С ключ — «приспособление для отпирания и запирания замка»
и пр. и С ключ — «родник». .
Однако к этому нужно добавить: необходимо, чтобы семантическое
единство слова было в ы р а ж е н о , т. е. чтобы ему имелось с о о т в е т ­
ствие
в з в у к о в о, й
о б о л о ч к е с л о в а: /это требование
теснейшим образом связано с тем, что «оголённых мыслей, свободных
от языкового материала, свободных от языковой «природной материи» —
не существует»1. Эта постоянная связь мышления со звуковой материей
приводит, очевидно, к тому, что о п р е д е л е н н а я
звуковая
оболочка оказывается существенным признаком слова. Поэтому языко­
знание и лингвистика выступают ка к разные слова по отношению друг
К друх)у. Но также разными словами (хотя и не столь разными) представ­
ляются и языкознание и языковедение, поскольку общей у них является
только одна корневая морфема (-я зы к-), другая же, также к о р н е в а я
морфема, в каждом из них неодинакова (-зн а - и -вед-).
Не будет ошибкой сказать, что при отсутствии материального, звуко­
вого тождества корневых частей данных глосс эти глоссы обязательно',
противопоставляются ка к разные слова, если только" внешнее различие .
между ними, при тождестве лексической семантики, не относится за .счет .
грамматических форм. Эта оговорка существенна для понимания грам-'
матической супплетивности: он и ему понимаются к а к одно и то же слово
лишь постольку, поскольку их лексическая семантика одна и та же, и вместе
С тем они представляют собой разные грамматические формы Но этому
и внешнее различие между ними легко осмысляется к а к т о л ь к о грам­
матическое, не словарное. И такое его понимание поддерживается всей
парадигматической схемой склонения.- Но 'еслй бы при он существовала
другая глосса им. пад., скажем и [йи], которая связывалась бы по корню
■с ему [йиму] и пр., то он отделялось бы от парадигмы и, его, ему и т. д.
в качестве особого слова, так к а к "его п о л н о е отличие по к о р н ю
от других, членов парадигмы в таком случае не могло бы достаточно оправ­
дываться различием в граьд^атическом плане: ведь от им. пад. и единица
он грамматически не отличалась бы, будучи также им. пад.
Таким образом, возможность супплетивности существует тольксГ
в грамматической, но не в лексической плоскости, что тесно связано
с общими существенными различиями между грамматическим строем_
и словарным составом языка.
Далее. Можно допустить, что «лексико-семантический стержень»
слова не обязательно является чем-то абсолютно монолитным: он может .*
состоять из нескольких, тесно между собой связанных значений, представ-'
лять собой к а к бы не простой «стержень», а «связку» (хотелось бь! сказать ;
1 И. С т а л и н .
Марксизм и вопросы языкознания, стр. 39.
«пучок», если бы это слово не было вконец дискредитировано Марром).
Однако такая «сложность» или «расщепленность» лексико-семантического
стержня слова возможна, естественно, лишь при том условии, что в его
внешней, звуковой стороне н е т с о о т в е т с т в у ю щ е й расщеплен■ности .^Ведь если различиям в л е к с и ч е с к о й семантике будут соот­
ветствовать определенные, устойчивые различия в звуковой оболочке,
то эти последние, будучи выразителями первых, привлекут к ним вни­
мание и придадут им вес своею материальностью, вследствие чего единство
слова распадется. Мы говорим: в о з д у ш н ы й насос и в о з д у ш н ы й транс­
п о р т —и обычно вряд ли даже замечаем при этом какую-либо раздвоенность
в семантике слова воздушный. Но наряду с этим мы употребляем словосо­
четания в о д я н о й насос и в о д н ы й тр а н спо р т—и здесь мы живо сознаем
различие между «отношением к воде» в одном случае и в другом, хотя,
может быть, и затруднимся его определить. Тонкое и подвижное различие
в семантике между водяной и водный обращает на себя внимание именно
потому, что оно выражено, объективировано и общественно закреплено
посредством звуковой материи, и такое словосочетание, к а к в о д я н о й
транспорт (наравне с в о д я н о й насос), не принимается, не признается
выражающим то, что нужно, хотя в случае «отношения к воздуху» мы
вполне обходимся одним обозначением — воздушный.
Таким образом, в одном слове могут объединяться и сосуществовать
разные (но связанные между собой) лексические значения, если их раз­
личие не выражается, не фиксируется, не закрепляется соответствующим
различием в звуковой оболочке.
Возможны и обратные случаи: между отдельными глоссами, имеющими
общую корневую часть, могут существовать различия в звуковой оболочке
без соответствующих, т. е. выражаемых ими, 'лексико-семантических
различий и без различий в грамматической форме. Ср., например, взрывной
и взрывный (как лингвистический термин). Поскольку, при явном тождестве
корня, внешнее различие оказывается здесь второстепенным и поскольку,
оно, кроме того, не выражает никакого лексико-семантического различия
постольку оно воспринимается к а к несущественное и не препятствует
отождествлению слова в соответствующих глоссах: Гл взрывной и Гл взрыв­
ный выступают по отношению'друг к другу к а к лишь варианты одного
и того же слова/ Общее, единое в звуковой материи, как выражающее
тождество лексико-семантического существа обоих образований, домини­
рует здесь над ничего не выражающим внешним различием и подавляет его.
/ Итак, для того чтобы данные глоссы представляли собой варианты
одного и того же слова, необходимо:
1) Чтобы, различаясь, они имели о б щ у ю
к о р н е в у ю часть»
а следовательно — материально, в их звуковой оболочке в ы р а ж е н ­
ную л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к у ю общность.
2) Чтобы, вместе с тем, н е
было
с о о т в е т с т в и я между
материальными, звуковыми различиями и различиями лексико-семанти"
ческими, т. е. чтобы первые н е в ы р а ж а л и последних.
Из сказанного в пункте 1-м следует также, что различие между вариан­
тами слова ка к в звуковой оболочке, так и в лексико-семантическом ядре
может быть только ч а с т и ч н ы м (поскольку и в той, и в другой стороне^
должна быть общность). При этом, если хотя бы одна корневая морфема?
из выделяемых в данной сложной глоссе отсутствует в другой глоссе, тоэти глоссы представляют собой разные слова (ср. языкознание и Языковедение, упоминавшиеся выше).
Из сказанного в пункте 2-м следует, что различие между вариантами,
не являющееся различием грамматических форм, может быть либо лексико­
семантическим, н е в ы р а ж е н н ы м во внешней стороне слова, либо,
напротив, внешним, но тогда н е в ы р а ж а ю щ и м никакого лексико­
семантического различия.
I Таким образом, в вариантах слова мы находим м а т е р и а л ь н о ,
в звуках объективированную, в ы р а ж е н н у ю лексико-семантическую •
о б щ н о с т ь либо при внешне н е в ы р а ж е н н о м
лексико­
семантическом' различии, либо при внешнем различии, н е в ы р а ­
ж а ю щ е м никакой лексико-семантической дифференциации. Именно
благодаря такому соотношению между общностью и различиями е д и н ­
ство
оказывается
п р е о бл а да ю щ им над
разно­
с т ь ю — и данные глоссы выступают ка к в а р и а н т ы о д н о г о ,
с л о в а .
Рассмотренными выше отношениями между глоссами различный
варианты слова естественно определяются ка к варианты с т р у к т у р - )
н ы е.
Структурные варианты делятся прежде всего на:
А) варианты ф о н о м о р ф о л о г и ч е с к и е 1 (например: взрывны й — взрывной и пр.) и]
Б) варианты л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к и е (например: дом —
«здание», дом — «жилье» и т. п.), — соответственно тому, имеем ли мы
различие в звуковой оболочке или в семантическом ядре слова.
Фономорфологические варианты слова естественно подразделяются на:
1) варианты ф о н е т и ч е с к и е , или з в у к о в ы е , и
2) варианты м о р ф о л о г и ч е с к и е , которые в свою очередь,
делятся далее на:
а) г р а м м а т и к о-морфологические, или, попросту, г р а м м а т и ­
ч е с к и е, и
б) л е к с и к о-морфологические, 'или с л о в о о б р а з о в а т е л ь ­
ные.
■' ■
При этом, однако, надо заметить, что‘ здесь возможно и объединение
отдельных различительных признаков.^
*
‘
Ниже будут рассмотрены некоторые важнейшие вопросы, связанные
с приведенной классификацией структурных вариантов слова, вместе
1 См. В . В. В и н о г р а д о в .
О формах слова, стр. 42.
■с чем будут даны и соответствующие примеры. Но до этого необходимо
обратить внимание на то, что отношения между вариантами слова не исчер­
пываются структурными моментами,
Слово, к а к известно, имеет не только звуковую оболочку и определен­
ное значение или значения, оно имеет также и ту или другую стилисти­
ческую х а р а к т е р и с т и к у , или, к а к говорят, окраску. Здесь под
стилистической характеристикой слова подразумеваются всевозможные
оценочно-эмоционально-экспрессивные моменты, характеризующие тот
или иной «стиль» речи,— в самом широком смысле этого слова, — но не
являющиеся составной частью собственно смыслового содержания, самой
семантики данной лексемы. При этом надо заметить, что и стилистическая
«нейтральность» слова, его стилистическая «бесцветность», также является
известной стилистической его характеристикой.
Различие между глоссами в их стилистической характеристике не
делает их глоссами •разных слов. Таким образом, стилистически могут
различаться не только слова, но и отдельные в а р и а н т ы одного и того
же слова. Это непосредственно определяется самым существом взаимо­
отношений между разными моментами в слове.
И. В. Сталин неоднократно указывает на непосредственную и нераз­
рывную связь языка именно е м ы ш л е н и е м 1; ка к важнейшее средство
человеческого общения, язык служит для обмена м ы с л я м и 2,
* он обле­
кает м ы с л и в материальную оболочку34
; м ы с л и возникают и суще­
ствуют на базе языкового материала, реальность м ы с л и проявляет­
ся в языке. Эмоционально-экспрессивные, стилистические моменты,
ка к бы они порою ни привлекали к себе внимания,- не могут быть постав­
лены наравне с моментами собственно семантическими, интеллектуаль­
ными, относящимися к выражению именно мыслей и обмену мыслями
и являющимися наиболее с п е ц и ф и ч е с к и м и для языка. Поэтому
различие или тождество з н а ч е н и я , естественно, трактуется обще­
ством совершенно иначе, чем различие или тождество с т и л и с т и ­
ч е с к о й характеристики. Так, например, различие между молодоР
и моложавый, (являющееся семантическим: моложавый — «кажущийся
молодым, моложе, чем на самом деле») оценивается ка к качественно иное
■сравнительно с различием между молодой и младой, которое является
стилистическим.
К а к бы ни были важны эмоционально-экспрессивные, стилистические
моменты, но все же они понимаются ка к лишь некоторое д о п о л н е н и е ,
приложение к основному в слове —к его значению, к его смысловому
содержанию. Поэтому, естественно, что различие между двумя глоссами
в отношении этих моментов трактуется к а к менее существенное, ка к
второстепенное: не случайно большею частью говорят об этом различии
? См. И. С т а л и н . Марксизм и вопросы языкознания, стр. 22, 38, 39.
2 Там же, стр. '22, 36
3 Там же, стр. 24.
4 Там же, стр. 39.
к а к о различии лишь «оттенков», т. е. ка к о различии в пределах основного
■общего.
Не создавая само по себе различия между словами, различие в стилисти­
ческой характеристике может сочетаться с любым структурным различием
между вариантами одного слова. При этом, однако, необходимо особо обра­
тить внимание на то, чтобы с т и л и с т и ч е с к о е различие, сопровождая
•то или другое различие между ф о и о м о р ф о л о г и ч е с к и м и вари­
антами слова и, таким образом, находя свое выражение в этом последнем
различии, не перерастало в различие уже собственно семантическое. Так,
■например, молодой и младой будут восприниматься лишь ка к варианты
того же самого слова только до тех пор, пока они не дифференцируются
по значению, по собственно смысловому их содержанию. К а к только раз­
личие стилистическое в таком случае перерастает в собственно семанти­
ческое,— единство слова в его вариантах распадается, и соответствующие
глоссы будут представлять собою уже не одно и то же слово, а два
разных.
Те или другие структурные варианты слова, различаясь стилисти­
чески, могут быть названы его с т и л и с т и ч е с к и м и вариантами (сти­
листическими формами слова— по терминологии акад. В. В. Виногра-!
дова). Нужно, однако, при этом помнить, что различия в стилистической
характеристике все же существуют не сами по себе, а п р и каких-нибудй
других различиях — фономорфологических или лексико-семантических.!
Можно, например, сказать, что С жена в словосочетании ж е н а Ивана'
Ивановича Иванова и в пушкинском «юные ж е н ы , любившие нас» представ­
лено в двух разных своих стилистических вариантах: в «нейтральном»
и в «поэтически-архаическом». Но нетрудно заметить,' что это различие
в стилистической характеристике связывается здесь с лексико-семантиче­
ским различием: оба варианта слова являются не только стилистическими,
но и структурными, так ка к различие между ними есть проявление семан­
тической структуры данного слова, расщепленности его лексико-семантиче­
ского стержня.
Интересно отметить, что несомненное смысловое различие м о ж е т
существовать и без иных различий между самими словами, словоформами
или вариантами (ср.: СФ молочник — «продавец молока» (I) и СФ молоч­
ник —«кувшин для молока» (II); Вдама —«партнерша в танце» (1) и В дама—
«игральная карта, следующая по старшинству за королем» (2)1). Стили­
1
Здесь не имеются в виду различия во фразеологии. Обычно с разными по зна­
чению словами или с разными значениями слова связывается неодинаковая «фразео­
логическая сфера», т. е. в общем не один и тот ж е к р у г сочетающихся с ним слов. Ср
веселый,добрый,румяный, черноусый м о л о ч н и к и фарфоровый,голубой с белыми цветами,
треснувший м о л о ч н и к ', не н а с т у п а т ь д а м е на ногу, пригласить да м у на новый танец
и п о й т и с д а м ы , б ить д а м о й . Однако и фразеологические^ различия не всегда
наблюдаются при различиях в лексических значениях, ср.: пузаты й м о л о ч н и к (I) я
пуза ты й м о л о ч н и к (II), ваша д а м а (1) и ваша д а м а (2) (ср.: Д а м а ваша у б и та .
А . С. П уш ки н. «Пиковая дама»).
стические же различия, ка к сказано, лишь сопровождают то или иное раз.
личие другого порядка — фономорфологйческое (молодой — младой) или
лексико-семантическое (жена в разных значениях). Если нет такого дру­
гого различия, то употребление данного слова в разных стилях речи (в речи
разной экспрессивности и эмоциональности) не выделяет в нем различные
стилистические варианты, но лишь делает его стилистическую характе­
ристику менее специальной, менее специфической или даже вообще «ней­
тральной», так к а к стилистическая нейтральность слова основывается
именно на его применимости во всяких стилях речи без внесения в них
диссонанса. В такой «несамостоятельности» стилистической характери­
стики слова также проявляется ее существенное отличие от лексико-семан­
тического содержания слова.
Итак, структурные варианты слова могут быть стилистически ка к
дифференцированными, так и недифференцированными, т. е. могут одно­
временно быть или не быть стилистическими вариантами. Но любыестилистические варианты слова (если только между ними не проходит диа­
лектных границ) уже обязательно являются вместе с тем и какими-либо
структурными его вариантами (ср., однако, стр. 31).
Необходимо, далее, иметь в виду, что в единстве общенародного'
языка обычно наблюдаются известные его вариации, разновидности:
будучи единым, язык большей частью оказывается не вполне едино­
образным, не вполне одинаковым во всем данном обществе -— в связи
со строением и территориальным распределением этого общества в данную
эпоху, а также и вследствие предшествующей его истории, так ка к следы,
его прежних общественных условий развития далеко не сразу исчезают
при изменении этих условий. К а к известно, например, диалектальное
многообразие языка, определившееся в результате его развития в усло­
виях феодальной экономической и политической раздробленности, а также
и в результате всей предшествующей истории образования данного обще­
ства, не исчезает сразу и полностью при переходе от феодализма к капита­
лизму, при образовании нации и национального литературно-языкового'
образца к а к концентрированного единства общенародного языка сформи­
ровавшейся нации. К концентрации диалектов в единый национальный
язык вполне применимо то, что И. В. Сталин говорит о скрещивании язы­
ков: концентрацию диалектов также «...нельзя рассматривать, ка к еди­
ничный акт решающего удара, дающий свои результаты в течение несколь­
ких лет»1. Диалекты, «обречённые на прозябание»2, но «...не успевшие ещщ
перемолоться в едином языке...»3, могут долгое время существовать в каче­
стве ответвлений общенародного национального языка, лишь постепенна
1 И. С т а л и н . Марксизм и вопросы языкознания, стр. 29.
2 Там ж е, стр. 14.
3 Там же, стр. 44.
перемалываясь в нем, отступая перед его литературным образцом и вместе
с тем обогащая этот образец своими вкладами.
Таким образом, при изучении того или иного конкретного языка во
всем его объеме обычно приходится иметь дело не только с некоторым
основным его образцом, — например, с национально-литературным, —
но и с различными его ответвлениями — диалектами, а также и жаргонами.,
При этом обнаруживается, что о д н и и т е ж е с л о в а в разных
диалектах имеют свои диалектные особенности. В связи с этим возникает
вопрос о д и а л е к т н ы х
вариантах
слова.
Правильное представление о тождестве слова в разных диалектах
одного и того же языка очень важно для правильного понимания е д и н ­
с т в а языка в разных его территориально-социальных разновидностях,
для преодоления глубоко ошибочной, механистической концепции языка
народа как простой суммы диалектов, ка к «мешка с диалектами»1.
Конечно, отдельные диалекты, а также и жаргоны имеют некоторые
«свои», особенные слова. Иначе говоря, некоторые слова, существующие
в данном общенародном языке, ограничены в своем регулярном употреб­
лении пределами лишь отдельных территорий или частей общества. Но
подавляющее большинство слов не имеет таких ограничений, причем к чис­
лу этих слов относится, по крайней мере, почти весь основной словарный
■фонд. Такие слова могут быть более или менее неединообразными, видоиз­
меняющимися в тех или иных отношениях по отдельным диалектам, но
все же во всех диалектах они будут теми же словами: в русском языке
нет, например, таких различных слов, к а к сено, сено, сйно и пр.2, но есть
лишь о д н о слово сено, существующее, однако, в разных диалектных
вариантах. То же относится и к множеству других подобных случаев,
и потому существование диалектов нисколько не уничтожает реального
единства общенародного языка: «наличие диалектов и жаргонов не
■отрицает, а подтверждает наличие общенародного языка, ответвлениями
которого они йвляются и которому они подчинены»3.
Диалектные варианты слова (если только они не различаются стили­
стически) обязательно являются вместе с тем и какими-либо структурными
его вариантами, так ка к различие между диалектами (или диалектами и ли­
тературным образцом) в каком-либо данном слове должно проявляться в
той или иной структурной его черте: иначе это слово окажется совершенно^
одинаковым во всех данных диалектах (и в литературном образце языка;
ср. однако, стр. 31). Таким образом, диалектные варианты слов могут
быть и фономорфологическими, и лексико-семантическими, ср.: кипяток —
ти пя то к', сено —-сино, встать — выстатъ и пр., пахать — «взрезать
землю плугом и пр.» — пахать — «подметать (пол)»,' класть — «поме­
щать в лежачем положении и пр.» — класть — «помещать вообще» (англ.
1 Ср. критические замечания в работе: В. В. В и н о г р а д о в . О трудах
И . В. Сталина по вопросам языкознания. Изд. «Правда», М., 1951, стр. 29.
2 Ср. Р. И. А в а н е с о в .
Очерки русской диалектологии, стр. 44 и сл.
3 И. С т а л и н . Марксизм и вопросы языкознания, стр. 22.
put), например, «класть воду в ведро, шапку на голову» и т. п. — в при­
онежских говорах.
При этом, однако, надо обратить внимание на важные особенности
в структурных
взаимоотношениях между вариантами, связанные
с диалектным характером этих вариантов, т. е. с принадлежностью этих
вариантов разным диалектам (или литературному образцу языка и тем
или иным диалектам).
Самым существенным представляется здесь то, что варианты слова,
относящиеся друг к другу ка к диалектные варианты, могут о д и о в р е:
м е н н о различаться и в н е ш н е , фономорфологически, и в н у т р е н н е, по своей лексической семантике. Так, С летний в .севернорусских
говорах известно и в значении «южный, теплый» (ср. Летний берег Белого
моря). Это не делает, однако,} северное лишний особым словом по отношению, скажем, к среднерусскому или литературному летний, не имеющему
этого значения: северное лишний и литературное летний воспринимаются
лишь: как варианты одного и того,же слова. Дело в том, что соответствие
в них между звуковым и лексико-семантическим различиями относится
именно за счет принадлежности их не к одному и тому же образцу данного,
языка. Поэтому внешнее различие не выступает здесь ка к выразитель
смыслового лексического различия, несмотря на наличие последнего,
а следовательно, и не имеет того значения, ка к в случае взаимоотношения
между вариантами слова в пределах литературного образца языка или
в пределах одного диалекта (ср. сказанное о грамматической супплетивности).
Если, однако, диалектный фономорфологический и вместе с тем ле­
ксико-семантический вариант слова проникает, скажем, в литературный
образец языка и там противопоставляется другому (литературному) вари­
анту того же слова.уже не ка к диалектная единица, а ка к единица, при­
нятая в литературной речи, то этот диалектный вариант делается уже
о с о б ы м с л о в . о м в литературном словарном составе языка; ср.
общеизвестный пример: нем. drücken — «давить, жать» и drucken —
«печатать» из южнонем. drucken, в котором значение «печатать» разви­
лось как переносное при значении «давить, жать»J. Тогда как средненем.
и лит. drücken и( южнонем. drucken являются по отношению друг
к другу лишь диалектными в а р и а н т а м и , — л и т е р а т у р н о е
drucken, генетически тождественное с южнонем. вариантом ( а тем самым
исторически тождественное и с drücken) оказывается стоящим уже в. каче­
ственно ином отношении к лит. drücken — в отношении особого с л о в а .
Далее, фономорфологические, в частности — именно фонетические
различия между'диалектами (диалектами и литературным образцом языка)
в большой массе оказываются, к а к известно, различиями достаточно
регулярными, систематическими, а потому нередко и о б о б щ а е м ы м и 1
1
drucken.
F. K l u g e .
Etymologisches
W örterbuch der deutschen Sprache, под слово
самими говорящими, хотя бы и не вполне сознательно. Такие различия
относятся уже не' к отдельным словам, а к известным фономорфологическим, обычно именно к фонетическим их разрядам, и воспринимаются
уже скорее не ка к различия между в а р и а н т а м и
с л о в , а как
различия в о б щ е м х а р а к т е р е р е ч и ; ср., например, различия,
связанные с аканьем и оканьем и пр. в русских диалектах. Такие разли-,
чия существенно отличаются от различий более частного порядка, вроде
различия между теперь и таперь., Эти более или менее обобщаемые различия, дифференцируя диалекты в целом, своею регулярностью и систе­
матичностью в известном смысле даже ка к бы подчеркивают единство
елов: они красноречиво свидетельствуют о том,, что внешние диалектные
различия н е
имеют
своей
функцией
выражение,
дексико-семантических различий.
Различные диалектные варианты, естественно, могут быть, разными
и в стилистическом отношении, т. е. одновременно быть и стилистическим^
вариантами. В частности, нужно заметить, что одно и то же слово может
принадлежать к разным стилям в литературной речи, с одной стороны,
и в диалектной — с другой. Так, например, слово конь, имеющее в значе­
нии «лошадь» (не «шахматный конь») специфическую стилистическую харак­
теристику, в некоторых говорах является стилистически совершенно
«нейтральным». Совпадение, стилистического различия с-гранью диалект­
ного характера само по себе фиксирует это различие — даже при отсут­
ствии каких-либо структурных различий в данном слове. Рассматривая’
данное слово к а к единицу во всем объеме общенародного языка, взятого,
со всеми его ответвлениями, в таких случаях можно говорить
о д и а л е к т н о - с т и л и с т и ч е с к и х вариантах слова..Такие слу­
чаи являются, повидимому, единственными, когда стилистические раз­
личия могут не связываться с какими-либо структурными (ср. стр. 27—28)..
К сказанному нужно также добавить, что введенные в контекст лите­
ратурной речи диалектные варианты обычно приобретают в ней более
или менее яркую и специфическую стилистическую характеристику.
Некоторая особая стилистическая характеристика может сохраниться за
диалектным вариантом и при полном его включении в состав литератур­
ной лексики — в качестве ли варианта или в качестве особого слова.
Но она может и исчезнуть, к а к в случае нем. drucken, Rucksack.
К а к бы то ни было, специфический стилистический характер «диалек­
тизма» диалектный вариант слова имеет лишь тогда, когда он, с одной,
стороны, вводится из диалектной речи в речь литературную, так или иначе
сопоставляется с соответствующим литературным вариантом, с другой же
стороны — если он еще не отрывается окончательно от диалекта и не асси­
милируется полностью литературным образцом языка.
Теперь можно сделать некоторое обобщение.
С т р у к т у р н ы е варианты слова являются наиболее «самостоя­
тельными» в том смысле, что они могут и не быть одновременно какимилибо вариантами в другом плане. ,
С т и л и с т и ч е с к и е варианты всегда являются вместе с тем
и какими-либо иными: большею частью, невидимому, также с т р у к т у р ­
н ы м и ; но в известных случаях они могут быть д и а л е к т н о - с т и ­
листическими..
Диалектные варианты также всегда должны быть вместе с тем и какимилибо вариантами иного рода. Обычно они бывают также и с т р у к т у р н ы м и, но могут быть диалектно-стилистическими. Особенно важно
•обратить внимание на возможность существования таких диалектных
вариантов, которые являются одновременно и ф о н о м о р ф о л о г и ­
ч е с к и м и (в частности, обычно фонетическими), и л е к с и к о ­
с е м а н т и ч е с к и м и . Эта возможность объясняется спецификой взаи­
моотношений между общенародным языком и отдельными его ответвле­
ниями.
После всех этих замечаний можно возвратиться к структурным вариан­
там слова с тем, чтобы развить и конкретизировать связанные с ними
вопросы.
V.
СТРУКТУРНЫЕ ВАРИАНТЫ СЛОВА
А . Ф о н о м о р ф о л о ги че с ки е в а р и а н т ы
1. Варианты фонетические (звуковые)
Среди звуковых видоизменений слова следует различать, с одной сто­
роны, такие, которые обусловлены известными о б щ и м и законами
звукового строя данного языка, и, с другой стороны, такие, которые в дан­
ную эпоху исторического развития языка не являются подчиненными
подобным законам.
К числу видоизменений первого рода относятся, например, такие,
к а к город [- д ] в город бы нам повидать и город [-юг] в город нам бы по­
видать или город строился. Различия между такими видоизменениями соб­
ственно уже выходят за пределы слова, хотя они и проявляются в его зву­
ковом материале: они полностью отвлекаются от каждого конкретного слова,
не связываются с особенностями именно данного слова, с его лексической
индивидуальностью. Поэтому такие различия вряд ли могут быть’ при­
знаны внутрисловными, а следовательно — и дифференцирующими отдель­
ные глоссы: город [-6] и город [-юг] несопоставимы друг е другом в одина­
ковых условиях — и при этом так же несопоставимы, ка к и всякие дру­
гие словесные1 отрезки речи, различающиеся лишь конечными [-9] —
[-юг], а также и [-6 ] — [-гг] и т. и. Оба приведенных видоизменения слова
не являются, в сущности, по отношению друг к другу какими-либо
в а р и а н т а м и с л о в а — в том смысле, в каком здесь понимается
термин «вариант слова». С точки зрения фонетической структуры д а н1 Т. е. имеющие качество отдельного слова. В случае предлогов закономерности
будут иными (ср. п о д окном, и пр.), но и здесь видоизменения типа под[-д] и под [ - т ] ,
ср. п о д столом, не спосоставляются д руг с другом в одних и тех ж е условиях.
н о г о слова, взятого во всей его лексической и н д и в и д у а л ь н о■с т и, оба эти видоизменения просто с о в п а д а ю т друг с другом:
различие между ними принадлежит не данному индивидуальному слову
(данной его словоформе), а «звуковому (фонематическому) типу» [«9»]1*3
,
который в зависимости от фонетических условий бывает представлен
или звуком [9], или звуком 1 т ]. Это различие проявляется в словоформе
(а тем самым — и в слове) город лишь постольку, поскольку конечным
звуковым элементом этой словоформы является непосредственно звуко­
вой тип [ «9»], не дифференцированный на фонемы [9] и [т ]. Таким обра­
зом, по существу словоформа город ка к таковая выступает в приведенных
примерах в одной и той же своей звуковой оболочке — [гбръ «9»], — кото­
рая дифференцируется уже не ка к оболочка данной словоформы-, а к а к
вообще звуковой отрезок (не являющийся предлогом), содержащий зву­
ковой тип [«9»] в конечном положении, — в общем аналогично тому, ка к
звуковая оболочка слова дифференцируется в связи с приходящейся на
нее фразовой интонацией. Отсюда следует, что полное тождество слова
в таких случаях является непосредственно очевидным.
Фонетические варианты слова — в собственном, более специальном
смысле — мы находим тогда, когда звуковые видоизменения слова не
определяются рбщими фонетическими законами данного языка в данную
эпоху его исторического развития. При этом, естественно, фонетические
варианты выступают наиболее отчетливо именно ка к таковые в тех случаях,
когда^вуковые различия не осложняются различиями в морфологической
структуре^
В результате различных конкретных явлений в истории языка в нем
может встречаться большее или меньшее число слов, представленных
вариантами, имеющими различия в своем ф о н е м а т и ч е с к о м составе.
Примерами могут служить: кентавр — центавр; тезис [ т э - ] — тезис
[ т э - 1; дождь [ - г и т ' ] — дождь
—
В языках со свободным ударением нередкими являются, повидимому,
варианты, различающиеся местом ударения (а в связи с этим и другими
фонетическими особенностями); ср. принцип — принцип, творог — тво­
рог, взрывный— взрывной, смычный — смычной и пр.
«
Подобные различия могут наблюдаться во всех или в очень многих
словоформах того же слова или лишь в отдельных из них (ср. волнам —
волнам, волнами — волнами, волнах — волнах — при отсутствии соответ­
ствующей вариантности в других^ словоформах: волна, волну, волне
и т. д.; ср. также такие случаи, ка к волной — волною и пр., и более частные
случаи вроде ветер — ветр).
'
К а к уже говорилось, звуковые варианты слова могут быть вместе
с тем и стилистическими, и, повидимому, вообще имеется . тенденция
1 или [« ж » ]. Ср. мою статью «Фонетическая транскрипция и звуковые типы».
Вестник Моек, ун-та № 7, 1948, стр. 23 и сл.
3
Труды Ин-та нзыкезнавия, т. IV
их использования «с разным экспрессивным назначением», ка к гово
рит акад. В. В. Виноградов (см. разбор им примера принцип —
принсйп — п р и н ц и п ср. также другие примеры, приведенные им: махи­
на — машина — для X V III в., проект —- прожект, невежда—невежа для
начала X I X в .12В этих последних случаях мы имеем также примеры после­
дующего перерастания стилистических различий в различия лексико-семан­
тические, а вместе с этим и разрушение единства слова и превращение
фонетико-стилистических вариантов в разные слова.
К числу вариантов фонетико-стилистического типа относятся и упоми­
навшиеся ранее ветер — ветр, молодой —- младой и т. п.
Другого рода соотношение между фонетическими вариантами слова мы
имеем в тех случаях, когда эти варианты являются вариантами диалект­
ными. Здесь, помимо различий в фонематическом составе (ср. родной —
ронной и т. п.) и в ударении, возможны и различия в качестве тех или
других звуков-фонем или звуков-представителей звуковых типов. Вместе
с этим, ка к уже было сказано, известные зв' новые различия более или
менее отвлекаются от конкретных слов (но с
ршенно иначе и в другой
плоскости, чем в таких случаях, ка к город [-д ---- т ] ) . Далее, соотношения
между диалектными фонетическими вариантами слова могут значительно
осложняться различиями в общих законах звукового строя разных диалек­
тов. Определение всех этих соотношений представляется одной из важных
теоретических задач диалектологии.
2. Вариапты морфологические
а) Грамматические
| Сюда относятся случаи типа спазм — спазма, рельс—рельса и т. п.
Прежде всего важно отличить эти случаи от случаев взаимоотношения
между грамматическими формами слова (между словоформами). В част­
ности, в отношении приведенных примеров необходимо заметить, что:
1) существительные в русском языке вообще по родам не изменяются,
и категория рода не участвует в образовании их парадигматической схемы
(подавляющее большинство существительных имеет, ка к известно, только
один род);
2) употребление, например, Гл рельс или Гл рельса (им. пад. ед. ч.)
не определяется какими-либо грамматическими соображениями, т. е.
потребностями обозначения отношений2.
Поэтому такие глоссы, ка к рельс и рельса (со значением им. пад. ед. ч.),
представляют собой о д н у
и ту
же
грамматическую
ф о р м у , а именно в данном случае —- форму именительного падежа
единственного числа.
1 В. В. В и н о г р а д о в .
О формах слова, стр. 40— 41.
2 Разумеется, что в сочетаниях с прилагательными и в этих случаях, к а к и в дру­
гих, грамматический) род прилагательного зависит от рода существительного, а не
наоборот.
Вместе с тем все же различие между ними относится к области грам­
матики, поскольку:
1) род в делом является в русском языке грамматической категорией
(ср. согласование в роде);
2) различие между^ «нулем» и -а в качестве окончания им. над. ед. ч.
существительного не есть просто звуковое различие, но есть явление,
входящее в систему различий двух грамматических парадигм.
Поскольку различие между обеими глоссами им. пад. ед. ч. рельс
и рельса не является различием собственно грамматических форм, постоль­
ку эти глоссы различаются теоретически либо ка к отдельные слова, либока к варианты слов. Но собственно лексических, вещественных различий
между ними в их семантике нет, причем тождество их лексической семан­
тики выражено материальным тождеством корня; вместе с этим внешнее,
звуковое различие относится целиком за счет особенностей их граммати­
ческого оформления, (которое при этом не дифференцирует существенноразличные классы слов, такие, ка к части речи. Поэтому нет достаточных
оснований понимать обе данные глоссы ка к принадлежащие к раз­
ным словам и есть основание считать их представителями лишь разных
в а р и а н т о в одного и того же слова — С рельс — рельса. Но так к а к
различие между ними лежит все же в области грамматической, то эти
варианты естественно определяются ка к грамматические морфологи­
ческие варианты1.
Возможны, разумеется, и другие типы грамматических вариантов;
ср., например,
осмыслять —- осмысливать (если считать, что видовые
суффиксы -а - и -и в а - являются формообразующими, т. е. грамматическими, а не словообразующими, лексическими). Здесь мы имеем различие
в образовании одной и той же формы (несов. вида), не связываемое с ка ки­
ми-либо различиями в грамматическом значении (как, например, в случае
различия рода в рельс — рельса, спазм — спазма и пр.).
Нередки, повидимому, такие случаи, когда грамматическая вариант­
ность наблюдается лишь в отдельных словоформах, ср.: тысячей и тыся­
чью., род. мн. граммов и грамм и пр.
Вообще же следует заметить, что грамматическая вариантность, по
крайней мере в большинстве литературных языков, представляет собой,
очевидно, неустойчивое явление: различие в образовании парадигм или
отдельных форм нередко изживается или же используется для выражения
лексико-семантической дифференциации, что ведет к расщеплению на раз­
ные слова. Особенно часто, повидимому, грамматические варианты
используются в качестве вариантов стилистических. Возможно, например,
что даже в таких случаях, ка к рельс— рельса и пр., мы имеем некоторое
различие в стилистической характеристике. Более несомненной предста­
вляется стилистическая дифференциация в случаях вроде зал — зала— за1 Ср. с этим рассмотренный ранее случай супруг — супруга (им. над.), где при
внешнем подобии мы находим совершенно иное соотношение, та к к а к там п о м и м о
грамматического различия есть и различие л е к с и к о-семантичеекое.
ло. В частности, в этом примере она, возможно, перерастает уже в различие
между словами.
Существование грамматических вариантов слова в качество ва­
риантов диалектных (ср. им. над. полотенце —- полотенец, и т т и — и т .т ц т ь и пр.) широко известно, и вряд ли это явление требует каких-либо
общих замечаний.
б) Словообразовательные
Здесь имеются в виду различия в словообразовательной структуре
слова, не основанные на его парадигме, т. е. на образовании его граммати­
ческих форм.
Примером может служить соотношение между лиса, лисы, лисе и пр.
и лисица, лисицы, лисице и т. д. Грамматически, по представленной ими
парадигме, оба ряда словоформ ничем не отличаются друг от друга: все
фактические различия в окончаниях сводятся к некоторым различиям
в гласных, которые обусловлены фонетически—местом ударения,—и к чере­
дованию [с —
г—с 1*] при отсутствии соответствующего чередования [ц \ с мяг­
ким [ ц '] , что опять-таки определяется не грамматически, а фонетически.
Вместе с тем вряд ли можно обнаружить какое-либо лексико-семанти­
ческое различие между глоссами без суффикса - и ц - и глоссами с этим суф­
фиксом. Ср. у Крылова, «Ворона и Лисица»: На т у беду л и с а близехонько
бежала. Вдруг сырный дух л и с у остановил. Л и с и ц а видит сыр, л и с и ц у
сыр пленил. Переход от лисица к лиса и далее опять к лисица не замечается
и не воспринимается как переходит одного слова к другому: вплоть до
того, к а к лиса — лисица называется «плутовкой», она представляется
выступающей под одним и тем же наименованием, являющимся5лишь в
разных своих вариантах 1.
Другие примеры: щелевой — щелийный, ртовый — ротовой, идиома­
ти чны й — идиоматический, национализовать — национализировать и пр.
К а к и в случае грамматической вариантности, здесь также наблюдается
тенденция либо к устранению одного из вариантов, либо к их внутрен­
ней дифференциации.
Б . В а р и а н т ы л е к с и к о -с е м а н т и ч е с к и е
К а к было уже сказано, сюда относятся такие варианты слова, которые
различаются своими лексическими значениями (причем различие между;
этими значениями не выражается в их звуковых оболочках), например:
В современный 1) «нынешний, теперешний», 2) «одновременный с кем-либо, !
с чем-либо»; С смеяться 1) «быть смеющимся», 2) «насмехаться над кем-'
либо, чем-либо»; С костюм 1) «одежда» (ср. история к о с т ю м а ; к о с т ю м ы |
разных времен и народов), 2) «одежда определенного типа, состоящая из]
пиджака (жилета) и брюк или из жакета и юбки, сшитых из одного мате-‘
риала»; С день 1) «светлая часть суток», 2) «сутки — с полуночи до полу-)
1 В 1-й части работы («Проблема отдельности слова») не учтено это соотно-а
шение между лиса и лисица и .о н и д а н ы -ка к разные слова (стр. 188).
ночи или с утра до утра; также и вообще сутки», 3) «рабочий день»
(получать 15 рублей за день).
Различия между лексико-семантическими вариантами слова не отра­
жаются на их звуковой оболочке, но в очень большом числе случаев на­
ходят свое выражение либо в различии синтаксического построения, либо
в разной сочетаемости с другими словами — во фразеологических особен-]
ностях, либо и в том, й в другом вместе: На такие, вообще говоря -— «кон-1
текстные», средства выражения различий между лексико-семантическими
вариантами слова обращает внимание акад. В. В. Виноградов, когда он
говорит о «лексико-синтаксических» и «лексико-фразеологических фор­
мах слова»1. Тут же он отмечает и то, что внешним обнаружением
лексико-фразеологических форм иногда является и своеобразие грамма­
тических изменений, под которым, повидимому, и следует прежде всего
понимать особенности в составе и использовании тех или иных граммати­
ческих форм в зависимости от лексического значения.
Примером семантического различия, выражаемого синтаксически,
может служить различие между смеяться — без дополнения — и смеять­
ся над кем-либо, чем-либо (хотя тут же следует заметить, что отсутствие до­
полнения не является совершенно несомненным показателем 1-го значения:
в предложении Я не смеюсь, сказанном в ответ на упрек Ты см ееш ься
надо мной, смеюсь будет пониматься в значении «насмехаюсь», хотя в д а нн о м предложении и нет дополнения с над: это значение оказывается
здесь особо выраженным не в данном предложении, а в другом, диалогиче­
ски связанном с ним.
Фразеологическое же выражение семантического различия между ва­
риантами слова традиционно иллюстрируется такими примерами, ка к ду­
бовый с т о л и молочный с т о л , где два разных значения слова стол диффе­
ренцируются л е к с и ч е с к и м содержанием связываемых с ним слов—
дубовый и молочный (при одинаковости синтаксического построения —
« о п р е д е л е н и е + о п р е д е л я е м о е»2; ср. также примеры
в сноске на стр. 27).
Особенности в употреблении тех'или других форм, в частности — не­
употребление форм одного из чисел у| существительных3, одного из видов
1 См. В. В. В и н о г р а д о в . О формах слова, стр. 42— 43.
2 При этом, однако, нельзя не заметить, что и в случаях типа с м е я т ь с я над
( кем-либо, чем-либо) помимо чисто синтаксического момента, выражающегося в формуле
«глагол + предложное дополнение», есть и фразеологический момент, заключаю­
щийся в том, что при этом предлогом является именно вполне к о н к р е т н о е
с л о в о над (т. е. синтаксическая формула разливается так: « + дополнение с пред­
логом, или вводимое предлогом, над»). Л иш ь потому, что над— служебное слово, мы
все же относим такой случай к случаям синтаксического выражения семантических
различий в слове.
3 Ср. например, С акварель 1) «акварельные краски» — обычно только в од. ч.,
2) «картина, написанная такими красками»— и ед. и мн. ч. ( его лучшая а к в а р е л ь ;
несколько а к в а р е л е й ). Ср. такж е С огонь 1) «пламя; стрельба из огнестрельного ору­
жия», 2) «отдельный источник света» ( о гн и города, сигнальные о гн и ); С речь 1) «пользова-
у глаголов в русском языке при определенном значении слова и т. п., примыкают к синтаксическим особенностям данного слова в том или ином
его значении, вместо с которыми они образуют грамматические особенно­
сти, с в я з а н н ы е
с с е м а н т и к о й отдельных вариантов слова.
Эти грамматические особенности н е с о з д а ю т отдельных грам­
матических вариантов слова, подобных рассмотренным выше (стр.34—35),
и н е у н и ч т о ж а ю т тождества слова, так ка к они выступают
в качестве о б у с л о в л е н н ы х
лексической семантикой:
они
представляются понятными, оправданными особенностями данного зна­
чения слова. Так, если стол значит «питание», то естественным предста­
вляется, что в т а к о м значении эти слово не употребляется во множе­
ственном числе, ка к не употребляется, например, и слово питание. Если
смеяться обозначает в о о б щ е явление смеха, то( вполне мотивирован­
ным кажется и отсутствие дополнения — слова, обозначающего объект,
вызывающий явление смеха. Напротив, если имеется в виду такой
о б ъ е к т , если в смехе находит выражение определенное отношение к
кому-либо или чему-либо, и смех, далее, превращается в насмешку,..то
естественно появляется и дополнение, и этот синтаксический момент
оказывается, таким образом, закономерно связанным с особым лексическим
значением.
Интересно в этой связи отметить и то, что грамматические особенности
слова, сопровождающие отдельные его значения, порою — и, может быть,
нередко — оказываются довольно неустойчивыми, меняющимися в зави­
симости от привнесения какого-либо нового момента в соответствующее
лексическое значение. Так, В стол — «питание», вообще говоря, не упо­
требляется во множественном числе (вкусный с т о л , диэтический с т о л ,
молочный с т о л и пр.). Но, скажем, в санатории, где имеются одновремен­
но «первый, второй, третий стол» и т. д., — в смысле разных режимов
питания, — можно услышать и вообще о разных сто л а о с , о различии двух
с т о л о в и пр., причем будет иметься в виду В стол — «питание». Некото­
рая дальнейшая модификация соответствующего значения вызовет резкое
изменение ^грамматической особенности данного варианта.
Очевидно, что вопрос о существовании лексико-семантических вариан­
тов и о взаимоотношении между ними теснейшим образом связан с пробле­
мой п о л и с е м и и - о м о н и м и
т. е. с вопросом, о различии между
многозначностью одного и того же слова и внешним совпадением, одина­
ковостью но звуковой оболочке двух или более различных по значению
слов,„
ЗдесЁ' нет ни надобности, ни возможности останавливаться на этой
проблеме, которая вообще является более сложной и теоретически трудние языком» и пр. (связная р е ч ь , процесс р е ч и ) , 2) «устное выступление» (р е ч и Цице­
рона). Зависимость употребления форм числа у существительных от значения слова
представляет собой, повидимому, вообще очень распространенное явление, тесно свя­
занное с общим положением форм числа у существительных, для которого характерна
легкость лексикализации числовых различий.
ной, чем это иногда представляется. Необходимо только заметить, что вряд
ли можно отрицать самое явление многозначности слова, т. е., иначе
говоря, тождества слова0при наличии двух или более отчетливо различ­
ных значений, выражаемых одинаковыми звуковыми отрезками. Вместе
с тем нельзя не признавать и явления омонимии и считать все случаи неод­
нозначности одинаковых звуковых отрезков случаями полисемии.
Отрицание существования полисемии слов есть, в то же самое время,
утверждение того, что всякое семантическое различие при совпадении!
внешней оболочки представляет собой случай омонимии. Так, дом —
«строение» и дом — «жилье, место, обитания» должны быть, при таком
подходе, признаны двумя разными словами — омонимами: дом I и дом I I .
Не подлежит, однако, сомнению, что дом I и дом I I воспринимаются ка к
теснейшим образом связанные между собой, и притом не словообразователь­
но-морфологической связью, т. е. не как, например, дом и домик, домаш­
ний, (наречие) дома, домоуправление, домовой, домовничать, надомник
и пр. Морфологический состав и строение единиц дом I и дом I I пред­
ставляются совершенно тождественными, и различие между ними пони­
мается ка к чисто смысловое, лексико-семантическое.
.
Наряду с такими единицами в языке, однако, обнаруживаются и та­
кие, как ключ I — «приспособление для приведения в действие замка и
пр.» и ключ I I — «родник, источник». Здесь уже явно нет никакой осмы­
сленной связи между обеими единицами, и одинаковость их звучания про­
изводит впечатление случайности. В этом случай, конечно, мы наблюдаем
несомненное явление омонимии.
Таким образом, если отрицать явление многозначности слова и всякую
лексическую неоднозначность считать омонимией, необходимо будет раз­
личать два рода омонимов: 1) омонимы, т е с н о с в я з а н н ы е
ме­
ж д у с о б о й п о з н а ч е„н и ю ( ка к дом I и дом / / ) ; 2) омонимы,
между
которыми
нет
никакой
конкретной
л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к о й с в я з и (как ключ I и ключ I I ) .
Следовательно, устраняя понятие полисемии, мы достигнем лишь того, что
вместо противоположения полисемии и омонимии получим противоположе­
ние двух родов омонимии: 1) типа дом I —дом I I и 2) типа ключ I —ключ I I .
Иными словами,'мы получим изменение терминологии. Оправдывается ли
юно? Такое изменение имело бы смысл лишь в том случае, если бы в резуль­
тате его внешнее соотношение между терминами оказалось в большем со­
ответствии с действительным соотношением между вещами. Применитель­
но к данному вопросу это значило бы, что обозначение общим термином
«омонимия» явлений обоих типов' (дрм и ключ) отражало бы действительно
■существующее преобладание в них общего момента над моментом различаю­
щим. Но можно ли'Сказать, что такое преобладание действительно имеется?
Это можно было бы сказать лишь при формальной, схематичной оценке
существующего соотношения: действительно, в обоих случаях имеется
'(вообще некое) различие в значении при одинаковости звуковой оболочки.
Это верно. Тем зге .-мание,, различие между обоими случаями гораздо
значительнее, серьезнее и принципиальнее, чем это представляется на>
первый взгляд, и указанная общая черта не может сделать это различие
..чем-то подчиненным, второстепенным.
Дело в том, что соотношений типа дом I — дом I I , ка к уже давно отме­
чено и признано, являются крайне широко распространенными во в с я ­
к о м языке, т и п и ч н ы м и и н о р м а л ь н ы м и для всякого
языка.
«Ни один язы к,— пишет акад. В. В. Виноградов, — не был бы в со­
стоянии выражать каждую конкретную идею самостоятельным словом или
корневым элементом. Конкретность опыта беспредельна, ресурсы же само­
го богатого языка строго ограничены. Язык оказывается вынужденным разносить.й.есчисленное множество значений по тем или другим рубрикам ос­
новных понятий, используя иные конкретные или полуконкретные идей
в качестве посредствующих функциональных связей»1.
Напротив, соотношения типа ключ I —ключ I I выступают ка к получен­
ные в результате известного особого стечения обстоятельств, ка к внутренне
не связанные с общими закономерностями существования и развития
языка, но ка к вызванные лишь совершенно частными условиями, почему
они и производят впечатление случайных вкраплений в общую систему
языка. И действительно, в разных языках, даже очень близких друг к дру:
гу по составу и. строю, по общим семантическим закономерностям, такие
соотношения оказываются совершенно различными и по их численности,
и по их «распределению» в словаре.
Итак: с одной стороны — регулярно наблюдаемые соотношения, орга]
нически связанные с характерными признаками языка и с общими за!
кономерностями его существования и развития; с другой стороны — со]
отношения исключительные, встречающиеся в языке нерегулярно и в кая|
дом случае имеющие совершенно особое, частное объяснение, на баз!
особого стечения обстоятельств} Ясно, что различие между теми и други]
ми — существенно, и его не следует затемнять, применяя общий термш
«омонимия» для всех случаев «различия в значении при совпадений
звучания». Поэтому правильным представляется отражение объективна
существующего положения в языке посредством противоположенщ
п о л и с е м и и (многозначности: тип дом) и о м о н и м и и (внешнег]
совпадения: тип ключ I — ключ I I ) . И. такое противопоставление в целой
несомненно,соответствует непосредственному восприятию языка.Но, коне!
но, проведение точной границы между некоторыми отдельными случаям]
часто является делом очень трудным, и многое при этом оказывается нея|
яым — недостаточно определенным в самой действительности, подобд
тому, ка к очертания облаков далеко не всегда оказываются достаточ:
четкими, хотя наличие самих облаков и их отличие друг от друга и
чистого неба могут и не вызывать никаких сомнений2.
1 В. В. В и н о г р а д о в . Р усский язы к, стр. 15.
2 Само собой разумеется, что такие случаи, к а к каре тн и к 1 — «каретный маете
и ка ре тн и к I I — «каретный сарай», молочник I — «продавец молока» и молочник И щ
Лексико-семантические варианты слова, ка к уже было отмечено, мо­
гут различаться не только своей собственно семантикой, но и, дополнитель­
но, стилистической характеристикой, экспрессивными оттенками: С же­
на 1) «замужняя женщина, по отношению к ее мужу» — в нейтральном
стиле, 2) «женщина вообще» — в архаично-поэтическом стиле. Ср. также,
С зачем 1) «с какой целью», 2) «почему»—в поэтическом стиле (ср. в «Пол­
таве»: Зачем он шапкой дорожит?).
Соединение лексико-семантической вариантности с вариантностью диа­
лектной встречается, вероятно, гораздо чаще, чем это представляется:
различия между диалектами в области семантики, к сожалению, оченьнедостаточно изучены даже там, где диалектологии уделяется много вни­
мания.
V I.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО СЛОВА
В заключение следует поставить вопрос об историческом тождестве
слова, т. е. о его тождестве в процессе исторического развития слова на:
протяжении ряда эпох, а следовательно — и при всех его изменениях вэтом процессе.
Основой исторического тождества слова является преемственность в его ,
употреблении, «передача» его от поколения к поколению ка к одного и того
же слова в каждую данную эпоху, при всех сменах поколений. На этой
общей основе могут, однако, складываться различные особенности исто­
рической судьбы слова, и «истории» отдельных слов могут иметь разныйхарактер. К сожалению, вся эта проблема теоретически разработана крайне
недостаточно. Мы имеем истории отдельных слов, нередко, правда, пред­
ставляющие собой собрания анекдотов из так называемой «жизни слов»
(«la vie des mots»), имеем исторические и грамматические словари, в кото­
рых накоплен огромный материал,— но теоретическое обобщение и осмысле­
ние относящихся сюда конкретных фактов пока еще не таковы, чтобы мож­
но было с полной уверенностью разобраться во всем собранном материале.
Поэтому и об историческом тождестве слова пока можно сказать еще очень
мало. Все'же следует попытаться наметить хотя бы отдельные основныемоменты, которые необходимо иметь в виду при рассмотрении истории
слов с точки зрения проблемы тождества слова во всех многообразных его>
изменениях.
Очень важным представляется различие истории слова в системе' и в;
пределах данного языка — и его истории ка к отдельной единицы, могущей«кувшин для молока» и пр., относятся к омонимии, а не к полисемии: конечно, между
словами внутри каж дой пары имеется смысловая связь (по корням), но эта связь —
такая же, к а к в о о б щ е м е ж д у
разными
образованиями
от од­
ного корня; она не понимается, с точки зрения системы данного языка, к а к существую­
щая на основе смыслового развития, и поэтому звуковое совпадение представляется
немотивированным; почему, действительно, мастер и сарай, продавец и кувш ин обо­
значаются одинаковыми звуковыми отрезками? В таких случаях понятна общность,
к о р н е й , но одинаковость суффиксов остается неосмысленной, неоправданной —г: это делает соответствующие слова о м о н и м а м и .
переходить из одного языка в другой. Одно дело, например-, развитие
старофранц.ро/ге>/)оИ7-е>роиИге>-роийге]>новофранц. poudre в пределах
самого французского языка, неразрывно связанное с развитием всей си­
стемы этого языка, с его передачей как ц е л о г о от поколения к поколе­
нию; другое дело — развитие того же франц. poudre в английское poudre^>powder или в русское цудра: здесь уже слово порывает с системой того
языка, в котором оно существовало ранее, и включается в систему другого
языка, заимствовавшего это слово.
Очевидно, что старофранц. pol(d)re и новофранц. poudre—одно и то же
слово: это лишь разные исторические ф а з ы (исторические формы)
одной и той же единицы в словарном -составе французского языка. Не­
сомненно также, что и ф)ранц.рогге?геи русск. пудра— исторически в общем
одно и то же слово: и здесь, ка к и в случае pol(d)re^>poudre, имеется непре­
рывность традиции, преемственность. Однако здесь эта непрерывность и
преемственность не те, что в истории слова poudre в самом французском
языке. Уже с первого взгляда мы замечаем, что вместе с выходом из фран­
цузского языка и вхождением в русский язык это слово утратило свою
неизменяемость по падежам и оформилось при помощи русской парадиг­
мы (— а, -ы , -у и т. д.).
Следовательно, при заимствовании слово с м е н и л о свое граммати­
ческое (морфологическое) оформление. Иначе говоря, оно, в сущности,
заимствовалось не целиком, ка к полное, законченное, грамматически офор­
мленное слово1, а только, так сказать, ка к более или менее бесформенный
кусок лексического материала, получающий новую оформленность лишь
в системе и средствами другого языка, языка заимствовавшего. Таким
образом, если лексическое ядро слова и сохраняется ка к тождественное себе,
переходя при заимствовании из одного языка в другой, то его прежнее
грамматико-морфологическое оформление сменяется другим2. Это объяс­
няется, повидимому, прежде всего именно тем, что грамматический строй
языка отвлекается от конкретности отдельных слов, и поэтому каждое
отдельное конкретное слово так или иначе подчиняется известной обшей
норме. Иная система словоизменения, новая парадигма, а в особенности
новая парадигматическая схема не могут проникнуть в язык в качестве
оформления данного, единичного конкретного заимствуемого слова. А так
ка к каждое конкретное слово заимствуется именно как таковое, как
отдельное, единичное слово, а не ка к член какой-либо целой системы, то
1 Пусть по внутренним законам данного языка, в рассматриваемом примере —
французского—его оформленность связывается с его неизменяемостью по падежам:
принципиально это не меняет дела. Важно то, что слово не сохраняет своего грамма­
тико-морфологического характера, который оно имело в своем языке.
2 Такие случаи, к а к депо, бра и пр., являются, в сущности, кажущ имися исклю ­
чениями: и х «несклоняемость» в русском языке, в сопоставлении с живой и развитой
системой склонений подавляющего большинства русских существительных, выступает
совершенно иначе, чем несклоняемость dépôt, bras во французском языке, где такая
несклоняемость есть общее правило; ср. сноску на етр. 21.
даже и при заимствовании огромного числа слов данного грамматикой
морфологического типа сама его парадигма обычно не заимствуется1,!
а заменяется в том или ином отношении наиболее подходящей парадигмой
заимствующего языка.
Далее, следует обратить внимание и на то, что при переходе из одного
языка в другой может существенно изменяться и смысловое содержание
слова; ср. хотя бы приведенный пример, где из семантики французского
слова — «порошок, пыль, порох, пудра» в русский язык проникло только
значение «пудра».
Таким образом, хотя франц. poudre и русск. пудра связаны между собой
исторической традицией, преемственностью и потому в общем могут быть
признаны исторически одним и тем же словом, все же тождество их яв­
ляется, так сказать, не совсем полным: в сущности, оно есть тождество лишь
лексического ядра, но не полного оформленного слова. Поэтому русск. пудра
по отношению к франц. poudre выступает, в некотором смысле, ка к дру­
гое, лишь параллельное образование от того же корня. Такой характер
отношения при заимствовании делается особенно заметным в случаях
типа франц. engager — русск. ангажировать, где соединение с парадигмой
заимствующего языка сочетается с применением особых словообразова­
тельных аффиксов (здесь----- и р о в а -). Можно сказать, что в завершенном
заимствовании, когда иноязычные слова не просто вкрапляются в речь
на данном языке (как, например, в словосочетании известный modus viven­
di), вообще, в принципе есть некоторое более или менее заметное подобие
словообразования. Семантический сдвиг, который может’ происходить
при заимствовании, может дополнительно усиливать это подобие.
При заимствовании слова происходит ка к бы расщепление его истории:
с одной стороны, оно продолжает свое развитие вместе со всей системой!
данного языка, с другой — оно появляется в другом языке, и там начинает­
ся новая его история уже в качестве единицы в словарном составе этого
языка. На примере poudre — пудра это можно изобразить так:
Ф ранцузский язык:
poire > poldre > pouldre > poudre > poudre
Русский язык:
|
пудра^> пудра
После того как иноязычное слово перестало быть простым вкраплени­
ем в речь на заимствующем его языке, оно становится словом э т о г о
языка, но отличным от этого же слова в том языке, откуда оно заим­
ствовано: русское слово пудра — это уже н е ф р а н ц у з с к о е poudre.
Дальнейшая судьба каждого из них может быть совершенно различной
1 Отдельные исключения —■ка к, например, употребление некоторых греческих
слов, главным образом имен собственных, в их греческих падежно-числовых фермах
в латинском языке,— не нарушают общей закономерности, так к а к объясняются осо­
быми обстоятельствами.
(ср.: франц. raison — русск. резон; древнешведск. aembete )> новошведск.
àmbete — «должность» — русск. ябеда; старофранц. feid > fei(t) ]> новофранц. foi —англ, fa ith ; древненем. werra — «раздор, распря» и т. п., ис­
чезнувшее в дальнейшем, —старофранц. (verre (откуда англ, war) > новофранц. guerre.
Расщепление одного и того же слова на два или несколько, ка к извест­
но, далеко не обязательно обусловливается заимствованием одного языка
из другого. Образование двух или нескольких разноязычных слов из
одного и того же слова регулярно происходит вместе с распадением общегоязыка-основы на отдельные языки (ср.: общеслав. *порхъ^>русск. порох,
болгарок, прах и т. п.). Но известно расщепление слов и в пределах одного
и того же языка — большею частью, повидимому, в связи с семантической
дифференциацией (ср. правый — «не левый» и правый — «правильный и
т. п.»; лихой — «злой и т. п.» и «молодецкий» и другие примеры у
В. В. Виноградова1).
Во всех таких случаях тем или иным путем на месте одного слова ока­
зываются по меньшей мере две отдельные словесные единицы, существую­
щие уже одновременно, т. е. по отношению друг к другу не являющиеся
последовательными историческими фазами развития одного и того же
слова2. Такие единицы являются связанными друг с другом общностью
происхождения, э т и м о л о г и ч е с к и , и историческое тождествослова имеет в таких случаях ха.рактер э т и м о л о г и ч е с к о г о , или
генетического, т о ж д е с т в а .
К а к видно из предыдущего, этимологическое тождество слова, по­
скольку оно есть тождество по происхождению двух (или более) словес­
ных единиц, существующих хотя бы отчасти п а р а л л е л ь н о , может
осложняться теми или иными отношениями между этими единицами в
данное
в р е м я . Ведь в самом деле, общность происхождения сама
по себе еще не предопределяет того, какие взаимоотношения сложились
между данными единицами в дальнейшем их развитии.
Важно различать прежде всего этимологически тождественные еди­
ницы а) в пределах, т. е. в системе одного языка, и б) в разных языках.
В пределах одного и того же языка две различные, но этимологически
тождественные словесные единицы могут одновременно существовать ка к
вследствие внутриязыкового расщепления какого-либо слова, так и вслед­
ствие заимствования — обычно из родственного языка. В обоих случаях,
в зависимости от фономорфологического и лексико-семантического соот­
ношений между данными единицами, такие этимологически тождествен­
ные единицы могут быть ка к р а з н ы м и с л о в а м и , так и лишь раз­
ными в а р и а н т а м и одного и того же слова: ср., с одной стороны,
1 См. В. В. В и н о г р а д о в . О формах слова, стр. 43—44.
2 Хот я одна из них и может сохранять черты более древней фазы, чем другая;
например, англ, fa ith фонетически ближе к страрофранц. feid, чем новофрапц. foiНо все же новоангл. faith, конечно, не есть реально то, из чего развилось франц. foi.
правый I — «не левый» и правый I I — «правильный и пр.», порох и прах
{в русском языке) и т. И .; с другой стороны — современный 1 — «одно­
временный», и современный 2 — «теперешний», молодой и младой и пр.
Когда этимологическое тождество сочетается с актуальным нетожде■ством данных единиц как различных слов в системе одного и того же язы­
ка, строгое различение этимологического тождества слова и тождества
слова в процессе его применения в данную эпоху оказывается особенно
важным. Смешение того и другого ведет к анахронистической и метафи­
зической трактовке словесных единиц языка, к антиисторизму. Нельзя,
например, сказать недифференцированно, что русск порох и русск.
прах —- одно и то же слово: в современном русском языке это несомненно
.два слова; но этимологически это действительно одно и то же слово —
•общеславянское *порхъ. Таким образом, надо ясно сознавать, что, на­
пример, определяя молодой и младой в русском языке ка к варианты од­
ного и того же слова, мы имеем в виду не их этимологию, не общность их
происхождения, а такое актуальное взаимоотношение между ними в дан­
ную эпоху, которое заставляет понимать и трактовать их ка к одно и то
же слово. То, что молодой и младой вместе с тем генетически (этимологиче■ски) представляют собой то же самое слово, является, конечно, фактиче­
ской предпосылкой их существования в качестве вариантов одного
•слова, но не это имеется в виду при их определении в качестве
•таковых.
Различая, однако, этимологическое тождество слова и тождество слова
•в даяйукГэпоху его существования (актуальное тождество), надо помнить
•что для получения полной картины развития слова необходимо иметь
в виду и т о и д р у г о е . Неверно сказать, что в современном русском
языке порох и прах одно и то же слово: это будет перетаскиванием прош­
лого в настоящее, лжеисторизмом, метафизическим пониманием тождест­
ва слова. Но ограниченным^ генетически^, а потому в целом и неправиль­
ным будет рассмотрение этих слов т о л ь к о ка к двух отдельных, н ик а к не связанных единиц. Подлинно исторический подход требует
рассмотрения этих единиц ка к б ы в ш и х одним и тем же словом и
■ с т а в ш и х двумя: они тождественны через их прошлое и не тожде­
ственны в их настоящем, а следовательно, не только их этимологическое
тождество,, но и их актуальное н е тождество является историческим —
в более общем и глубоком смысле.
Независимо от того, разделены ли этимологически тождественные
слова межъязыковой гранью вследствие распадения общего языка-основы
или вследствие заимствования из одного языка в другой, такие слова долж­
ны рассматриваться, с точки зрения проблемы тождества слова, иначе, чем
этимологически тождественные словесные единицы в'системе одного языка.
В общем следует сказать, что грань между языками, в отличие от меж­
диалектной грани, в принципе ставит слова одного языка в н е живых,
актуальных отношений к словам другого, поскольку каждый из данных
языков применяется в общении отдельно от другого и в одном и том же
акте общения обычно не происходит столкновения разных языков. Од­
нако такое положение мы имеем только «в принципе» и только «постоль­
ку, поскольку»: фактически все-таки разные, отдельные языки более или
менее часто сталкиваются друг с другом и разноязычные слова сопостав­
ляются между собой.
Особое соотношение мы наблюдаем в случае близко родственных
языков, таких, которые могут более или менее легко одновременно при­
меняться в одном и том же процессе общения (например, швед и норвежец
могут говорить друг с другом, пользуясь каждый своим языком). Отноше­
ние между такими языками является к а к бы «потенциально-диалектным»',
я всякий раз, когда они реально применяются в одном процессе общения,
соответствующие слова в них отождествляются. Так, например, при обще­
нии норвежцев со шведами1 не только такие слова, ка к норв. hav — швед.
hav — «море», норв. god = швед, god — «хороший» и пр. , но и такие, как
норв. by — «город» = швед, by — «село», норв. g/'emme = швед, gömт а — «прятать, сохранять» и пр., соответственно отождествляются друг
с другом, причем имеющиеся различия выступают в качестве различий
между вариантами, подобными вариантам диалектным. Однако, поскольку
все же норвежский и шведский языки являются отдельными националь­
ными языками, развивающимися автономно, и поскольку их взаимодей­
ствие в общении не является регулярным, массовым и общественно
необходимым, постольку тождество соответствующих норвежских и
шведских слов в основном будет лишь этимологическим, только споради­
чески и в ограниченной мере перерастающим в их действенное отожде­
ствление.
В случае языков отдаленно родственных или даже вовсе не родственных
такое отождествление будет предста*влять собой соответственно более ред­
кое явление — не только вследствие гораздо меньшего числа таких слов,
которые вообще могут отождествляться, но и вследствие невозможности
упомянутого выше контакта между языками в процессе общения. Сопри­
косновение друг с другом разноязычных этимологически тождественных
слов происходит в таких случаях лишь на основе знания чужого языка,
наряду с родным, и перевода с одного языка на другой. Реальное отожде­
ствление единичных таких слов при этом не имеет в общем серьезного зна­
чения для общения между говорящими на разных языках. Так, например,
русск. т р и и шведок, ire легко отождествимы, но этот и другие подобные
факты теряются в массе различий между русским и шведским языками, и
самая близость друг к другу таких единиц, ка к тр и — tre, будучи явле­
нием редким в отношении между данными языками, практически вряд ли
может помочь установлению языкового контакта. Если, слыша норвеж­
скую речь, швед в общем может исходить из того предположения, что отож­
дествление норвежских слов со сходными по звучанию шведскими будет
1 Имеется в виду речь на литературных языках, а не на диалектах.
вести его к пониманию,—причем обманываться он будет сравнительно ред­
ко ,—то, слушая русскую речь, он должен будет отказаться от такого пред­
положения, поскольку оно или вообще окажется бессмысленным ввиду
невозможности обнаружить какие-либо сходные слова, или часто будет
только вводить в обман (ср. руеск. т а к , швед, ta c k — «благодарность»
и ta k — «крыша»; русск. дом, швед.¿от—«они, их»1; русск. ком, швед.
к о т — «приходи, иди»; русск. и, щвед. i — «в»).. Единичные случаи вроде
т р и — tre не меняют общего соотношения ввиду того, что они единичны.
Однако при всем общем различии между языками, в их словарном
составе могут выделяться известные области, в которых близость между
этимологически тождественными словами оказывается уже более или ме­
нее систематической и регулярной, приобретающей некоторое значение
для взаимного понимания. В частности, в большинстве европейских языков
выделяется так называемый международный словарный фонд в области
научно-технической и общественно-политической терминологии. Такие
слова, как радио, радиотехника, электрон, нейтрон, молекула, система,
синтез, анализ, синтаксис, морфология, субстантивный, социальный,
политика, революция, в русском языке являются не только этимологи­
чески тождественными с соответствующими словами в очень многих евро­
пейских языках, но нередко и действительно отождествляются с по­
следними в практике международного общения. Это связано с тем, что,
с одной стороны, соответствия вроде русск. синтаксис — швед, syntax и
пр. не являются такими единичными, к а к приведенные выше т р и — tre ,
а образуют известные терминологические системы; с другой же стороны —
с тем, что знание иностранных языков, и, вместе с этим, соприкосновение
и сопоставление одного языка с другим представляют собой сравнительно
широко распространенное явление в тех сферах человеческой деятельно­
сти, в которых применяется эта терминология. К этому, может быть, сле­
дует прибавить, что в большинстве случаев слова «международной ле­
ксики» и по своему фонетико-структурному облику выделяются особо посравнению с другими словами тех языков, где мы их находим: это облег­
чает их узнавание даже в незнакомом языке и делает их практическое
отождествление с известными словами другого, знакомого языка более
уверенным.
д
Таким образом, хотя этимологическое тождество какого-либо слова (
данного языка с определенным словом другого языка само по себе вообще (
не предполагает актуального их тождества, т. е. их действительного- i
использования как одной и той же единицы в общении,—даже при большой I
близости между ними, — все же в известных случаях этимологически I
тождественные словесные единицы, даже будучи разделены межъязыковой
гранью, реально выступают в качестве одного и того же слова. Это на­
блюдается в основном при одновременном применении в общении двух
(или нескольких) близко родственных языков и при ином соприкоснове­
1 Разговорный вариапт слова de (объектный пад. deni).
нии двух (или нескольких) языков в областях употребления такой тер­
минологии, которая в этих языках имеет международный характер.
Особо выделяются слова подлинно интернационального распростране­
ния, связанные со всемирно-историческим значением Великой Октябрьской
социалистической революции и строительством коммунизма в нашей
стране. Сюда прежде всего относятся такие русские слова, ка к совет
советский, большевик, понимаемые широкими народными массами ка к
о д н и и т е ж е с л о в а в самых различных языках мира. Такие
слова уже далеко выходят за границы специальной терминологии.
Далее, необходимо обратить внимание на то, что вообще историческое
тождество слова, а следовательно, и то, что выше называлось этимологиче, ским тождеством, не ограничивается никакими условиями сходства между
звуковыми оболочками соответствующих единиц и меяаду их значениями.
Иначе говоря, этимологически тождественными могут'быть словесные еди­
ницы, неопределенно далекие друг отдруга]как по звучанию, так и по ле­
ксическому значению. Так, лат. hostisn англ, guest этимологически тождест­
венные слова, т. е. с этимологической точки зрения являются одним и тем
же словом, хотя-одно значит «враг», а другое «гость» и звучат они достаточ­
но различно. Расхождение могло бы быть и ббльшим, но оно все равно не
нарушило бы их этимологического тождества, поскольку они оказывались
бы связанными друг с другом нитями непрерывной традиции, идущими
к каждому из них от индоевроп. *ghostis. А это значит, что существующие
различия между ними образовались путем постепенного накопления
нового качества и постепенного отмирания старого качества, причем всегда
было так, что две хронологически реальпо соприкасавшиеся историче­
ские фазы этого слова всегда относились друг к другу ка к варианты о дн о г о слова.
Расщепление слова в процессе его исторического развития на два или
.большее число слов представляет собой, можно сказать, обычное явление
в тех случаях, когда слово имеет за собой достаточно долгую историю. Го­
раздо менее обычным оказывается явление противоположное — сплетение
или срастание двух (или более) разных слов в одно и то же слово.
Наиболее известным случаем сплетения двух этимологически разных
слов в одно слово является образование супплетивных парадигм, вроде
таких, к а к русск. быть (есть), и т т и (шел), лат. ferre (tu li ), англ, be (is,
was), go (went), франц. aller (vais, irai) и пр.
Нужно, однако, иметь в виду, что отношение супплетивности склады-5
вается не обязательно в результате с п л е т е н и я двух разных слов
в систему форм одного слова. То же отношение может получаться и в ре­
зультате такого внешнего р а с х о ж д е н и я между корневыми частями
данного слова в различных его грамматических формах, которое приводит
к разрыву общности корня, к уничтожению его актуальной общности1.
Так, нем. ist и sind являются образованиями, имеющими этимологи­
1 Но, разумеется, единство слова в его формах при этом не уничтожается.
чески один и тот же корень (*-ев-)^-подобно тому, к а к и франц. est и som­
mes и т. п. Нельзя, однако, сомневаться в том, что в современном немецком.
и современном фравдузском языках соответствующие формы относятся
друг к другу ка к формы супплетивные.
Наряду с этим, возможно и сближение двух этимологически различных
слов, переходящее за рамки супплетивности: сблизившиеся слова могут
оказаться стоящими в таком отношении друг к другу, при котором они
не только превратятся в грамматические формы одного и того же слова, но
и будут выступать как образования с одним и тем же корнем. Примером
такого исторически сложившегося отношения можно признать, думается,
отношение между much и more (most) в современном английском языке.
Внешнее соотношение между ними достаточно подобно тому, что мы на­
ходим в глаголах вроде teach ■
— taught, beseech — besought и пр., для того
чтобы оно понималось как соотношение, основанное на ч е р е д о в а ­
н и и гласных и согласных в о д н о м и т о м ж е к о р н е . Ме­
жду тем этимологически much и more (most) — разные слова (общегерм.
*m ikila-n a*maizan-, *maistan-). И здесь, ка к и в других случаях, чтобы
понять, самую суть исторических изменений, действительно заметить по­
степенно развившееся новое качество и исчезновение старого качества,
необходимо отказаться от метафизического понимания тождества слова
(а следовательно, и нетождества двух слов). А для этого необходимо
прежде всего четкое различие между тождеством этимологическим (гене­
тическим) и тождеством актуальным, реально проявляющимся в обще­
ственном функционировании слова.
Здесь можно ограничиться этими отдельными замечаниями относи­
тельно исторического тождества слова. Думается, что и они уже достаточ­
но показывают, насколько этот вопрос сложен и насколько важно внесение
максимальной ясности в понятие «одного и того же слова».4
4
Трупы Ин-та языкознания, т. IV