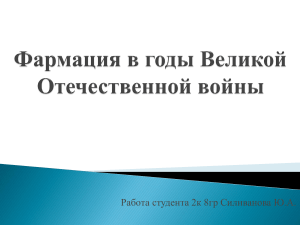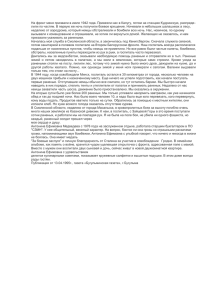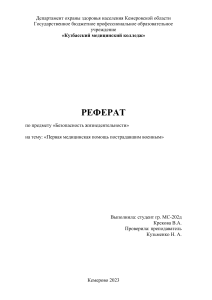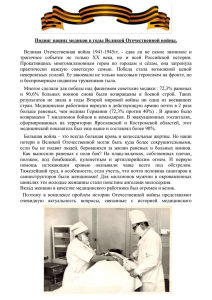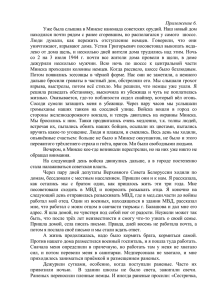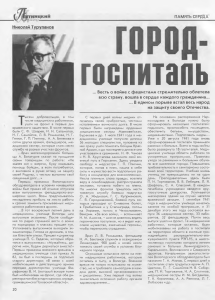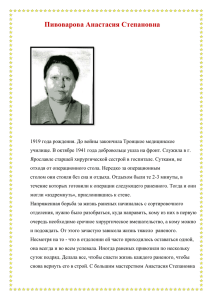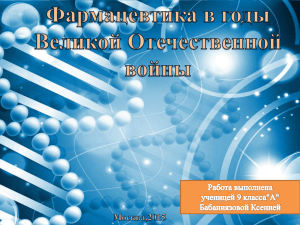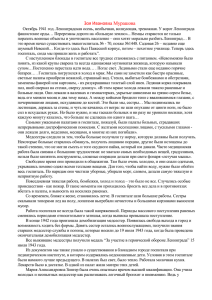Медицина в годы Великой Отечественной Войны Подвиг медицинских работников в годы войны вызывает восхищение. Благодаря труду врачей было спасено более 17 миллиона бойцов, по другим данным - 22 миллиона (около 70% раненых были спасены и вернулись к полноценной жизни). Следует помнить, что в военные годы медицина столкнулась со множеством трудностей. Не хватало квалифицированных специалистов, мест в госпиталях, медикаментов. Хирургам в полевых условиях приходилось работать круглосуточно. Врачи рисковали жизнью наравне с боевыми товарищами, из 700 тысяч военных медиков погибло более 12,5%. Требовалась срочная переподготовка специалистов, не каждый гражданский доктор мог быть «полноценным полевым врачом». Для медицинского военного госпиталя необходимо минимум три хирурга, но в годы начала войны это было невозможно, на обучение врача требовалось более года. «Руководящий состав военно-медицинской службы, начиная с начальника медицинской службы дивизии и кончая начальником медицинской службы фронта, кроме специальных медицинских знаний должен обладать и военными знаниями, знать природу и характер общевойскового боя, методы и средства ведения армейских и фронтовых операций. Таких знаний наш руководящий медицинский состав не имел. Преподавание военных дисциплин в Военно-медицинской академии ограничивалось главным образом пределами соединений. К тому же большинство врачей окончили гражданские медицинские институты. Военно-оперативная подготовка их оставляла желать много лучшего» - писал генерал-полковник медицинской службы Ефим Смирнов. «В июле 1941 года началось дополнительное формирование эвакогоспиталей (эвакуационный) на 750 000 коек. Это составляло примерно 1600 госпиталей. Кроме того, с начала войны по 1 декабря 1941 года были сформированы 291 дивизия с медсанбатами, 94 стрелковые бригады с медико-санитарными ротами и другими медучреждениями усиления. В 1941 году, если не считать медико-санитарных рот стрелковых полков и семидесяти шести отдельных танковых бригад, их было сформировано более 3750, каждое из которых должно было иметь минимум от двух до трех хирургов. Если взять минимально среднюю цифру — четыре хирурга на учреждение, нам потребовалось бы их 15 000. В связи с этим для нас было недопустимой роскошью иметь даже по три хирурга на учреждение, так как они нужны были еще и для проводившегося в 1942 году формирования медицинских учреждений. Ведь для подготовки хирурга требуется минимум полтора года». Полевая медицина и первая помощь бойцам Согласно правилам, доставка раненого в полевой госпиталь не должна была превышать шести часов. По словам Стрелковой А.М., военные фельдшеры таскали на себе раненых солдат, тяжелее себя в 1,5-2 раз, с поля боя 5-6 раз за атаку. «Придя на передовую, мы оказались выносливее тех, что постарше. Я не знаю, чем это объяснить. Таскали на себе мужчин, в два- три раза тяжелее нас. Взвалишь на себя восемьдесят килограммов и тащишь. Сбросишь … Идешь за следующим… И так раз пять- шесть раз за одну атаку. А в тебе самой сорок восемь килограммов- балетный вес. Просто не верится, как это мы могли...» - писала военный фельдшер Стрелкова А.М. Санитаркам приходилось справляться со страхом и перед кровавыми ранами, и перед пулями. Анна Ивановна Жукова вспоминала, как им приходилось терпеть холод, сырость, запрет на разведение костров, частый сон на мокром снегу, а если удавалось переночевать в землянке – это уже удача, но как следует выспаться никогда не получалось. «С самого детства боялась крови, а тут пришлось справиться со страхом и перед кровавыми ранами, и перед пулями: Холод, сырость, костров разводить нельзя, много раз спали на мокром снегу, - вспоминала санитарка Анна Ивановна Жукова. - Если удавалось переночевать в землянке - это уже удача, но все равно никогда не получалось как следует выспаться». От первой помощи, оказанной санитаркой, зависела жизнь раненого. Смирновым Ефимом Ивановичем была сформулирована система: «Современное этапное лечение и единая военно-полевая медицинская доктрина в области полевой хирургии основываются на следующих положениях: все огнестрельные раны являются первично-инфицированными; единственно надежным методом борьбы с инфекцией огнестрельных ран является первичная обработка ран; большая часть раненых нуждается в ранней хирургической обработке; раненые, подвергнутые в первые часы ранения хирургический обработке, дают наилучший прогноз». Спасенных раненых врачи оперировали в полевых условиях. Полевые госпитали располагались в палатках в лесу, землянках, операции могли проводится под открытым небом. Полевые хирурги работали обычно по 16 часов в день. При большом потоке раненых могли оперировать двое суток без сна. Во время ожесточенных боев в полевой госпиталь поступало около 500 раненых. Медсестра Мария Алексеева писала о подвиге своих коллег: "Лиза Камаева пришла в нашу Добровольческую дивизию, только что окончив 1-й Медицинский институт. Она была молода, полна энергии и удивительного мужества. Главной частью медсанбата была так называемая санитарная рота, и главной в ней была перевязочная палатка. В ней делали операции на внутренних органах, т.е то, что не требовало общего наркоза. Хирург работал на трех столах: 1-й стол – раненых готовили к операции; 2-й стол – непосредственно проводилась операция; 3-й стол – перевязывали сестры и уносили раненого. В период боя в медсанбат поступала до 500 человек, которые приходили сами или их привозили из санитарных частей полков. Врачи работали без перерыва. В мою задачу входило посильно им помогать. Лиза работала так: кровь всегда была, но в один момент не оказалось нужной группы крови под рукой, тогда она сама легла рядом с раненым и сделала прямое переливание крови, встала и продолжила дальше делать операцию. Увидев, что она пошатнулась и еле стояла на ногах, я подошла к ней и тихо шепнула на ухо: «Разбужу через два часа». Она ответила: «Через час». И тут же, прислонившись к моему плечу, заснула." По воспоминаниям раненого фронтовика Евгения Носова: «Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, беспрестанно подвозившими раненых… В первую очередь пропускали тяжелораненых… Под пологом просторной палатки, с пологом и жестяной трубой над брезентовой крышей, стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеёнкой. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперёк столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — непосредственно к хирургическому ножу… Среди толпы сестёр горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал в цинковый тазик извлеченный осколок или пулю к подножию стола… Наконец хирург распрямлялся и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, шёл в угол мыть руки…» По воспоминаниям доктора Ярцевой Н.С.: «Когда началась война, я была еще студенткой Ленинградского медицинского института. Просилась на фронт несколько раз – отказывали. Не одна, с подругами. Нам по 18 лет, первый курс, худенькие, маленькие... В районном военкомате нам сказали: вас убьют в первые пять минут. Но все же дело для нас нашли – организовывать госпиталь. Немцы быстро наступали, раненых становилось все больше... Под госпиталь приспособили Дворец культуры. Мы, голодные (с едой уже начались перебои), кровати железные, тяжеленные, а таскать их приходилось с утра и до ночи. В июле все было готово, и в наш госпиталь начали поступать раненые. А уже в августе приказ: госпиталь эвакуировать. Подогнали деревянные вагоны, и мы опять стали грузчиками. Это был почти последний эшелон, который смог уехать из Ленинграда. Дальше все, блокада... Дорога была жуткая, нас обстреливали, мы прятались кто куда. Выгрузились в Череповце, ночевали на перроне; лето, а ночи холодные – кутались в шинели. Под госпиталь выделили деревянные бараки – там раньше содержали заключенных. Бараки были с одинарными окнами, в стенах дыры, а впереди зима. И это «впереди» наступило в сентябре. Пошел снег, мороз... Бараки далеко от станции, мы таскали раненых на носилках в метель. Носилки, конечно, тяжелые, но это не страшно – страшно смотреть на раненых. Мы же хоть и медики, но без привычки. А тут все окровавленные, еле живые... Некоторые умирали по дороге, мы их даже до госпиталя не успевали донести. Тяжело было всегда…» Хирург Александра Ивановна Зайцева вспоминала: «Сутками стояли у операционного стола. Стояли, а руки сами падают. У нас отекали ноги, не вмещались в кирзовые сапоги. До того глаза устанут, что трудно их закрыть. День и ночь работали, были голодные обмороки. Есть что поесть, но некогда…» Тяжело раненые отправлялись на лечение в городские эвакуационные госпитали. Эвакуационный госпиталь По воспоминаниям врача Юрия Горелова, работавшего в эвакуационном госпитале в Сибири: «Несмотря на все усилия медиков, в наших госпиталях смертность была высокой. Также был большой процент инвалидов. Раненые к нам поступали в очень тяжелом состоянии, после страшных ранений, некоторые с уже ампутированными конечностями или нуждающиеся в ампутации, несколько недель проведшие в пути. А снабжение госпиталей, как мы уже говорили, оставляло желать лучшего. Но, когда чего-то не хватало, медики сами занимались изобретательством, конструированием и рационализаторством. Например, подполковник медслужбы Н. Лялина разработала аппарат для заживления ран — дымоокуриватель-фумигатор. Медсестры А. Костырева и А. Секачева изобрели особую каркасную повязку для лечения ожогов конечностей. Майор медслужбы В. Марков сконструировал электрозонд для определения местоположения осколков в организме. По инициативе старшего инспектора отдела эвакогоспиталей Кемеровской области А. Транквиллитати на предприятиях Кузбасса начали выпускать ею разработанную аппаратуру для лечебной физкультуры. В Прокопьевске медики изобрели особую раскладную кровать, сухожаровую дезкамеру, бинты из ветоши, витаминные напитки из хвои и многое другое». Госпиталям помогали горожане, приносили из дома вещи, продукты, лекарства. «Все отбирали на нужды армии. А госпиталям доставалось то, что оставалось, т. е. практически ничего. И организация их была жесткой. С октября 1941 штатная обслуга госпиталей лишилась военного довольствия. Это первая военная осень, когда не было нормально работающих подсобных хозяйств при госпиталях. В городах действовала карточная система распределения продуктов. В придачу ко всему осенью 1941 года медицинская промышленность выпускала менее 9% необходимых лекарств. И их начали изготавливать на местных предприятиях. Большую помощь оказывали простые кузбассовцы. Домохозяйки приносили в эвакогоспитали молоко от своих коров, колхозники поставляли мед, овощи, школьники собирали ягоды, комсомольцы собирали дикоросы и лекарственные растения. Кроме того, был организован сбор вещей у населения. Кто чем мог, тем и помогал — посудой, бельем, книгами. По мере развития подсобных хозяйств уже стало легче прокормить и себя, и раненых. При самих госпиталях выращивали свиней, коров и быков, картошку, капусту, морковь. Причем в Кузбассе было больше посевных площадей, больше голов скота. Соответственно, и питание раненых было лучше, чем в других районах Сибири». Заботу о раненых проявляли дети. Приносили подарки, разыгрывали сценки из спектаклей, пели, танцевали. Вспоминает Маргарита Подгузова, навещавшая солдат: «С подругой бегали в госпиталь, хотя учились в четвёртом классе. В госпитале лежали раненые и больные, их привозили в Котлас на выздоровление. Брали бинты, приносили домой, мамы выпаривали их, мы относили обратно. Больным песенку споём, стихи расскажем, газетку почитаем, как могли, отвлекали больных от болей, грустных мыслей, они ждали нас, подходили к окну. Нам с подружкой жалко было совсем молоденького танкиста, он горел в танке, ослеп. Ему мы уделяли особое внимание. А однажды пришли и увидели заправленную пустую кровать нашего подшефного. Потом всех больных куда-то увезли, закончилась наша “актерская” деятельность» «Когда училась в 8-ом классе, мы с одноклассниками ходили в госпиталь № 2520, он находился в “Красной школе”, выступать. Ходили мы группой (человек 10-15): Кетя (Кресткентия) Черемискина, Римма Чижова, Римма Кустова, Нина и Валя Подпругины, Женя Кононова, Боря Рябов... Я читала стихи, любимое моё произведение - поэма “О двадцатом”, кто пел песни, ребята играли на баяне. Раненые военнослужащие принимали нас всегда тепло, радовались каждому нашему приходу». «Бытовые условия лечившихся и персонала госпиталя были крайне стесненные. Элек­ троосвещения в ночное время, как правило, не было, отсутствовал и керосин. Оказывать помощь в ночное время было очень трудно. Опрашивали всех тяжелобольных и готовили им индивидуальные блюда. Женщины Котласа приносили в госпиталь со своих грядок зеленый лук, морковь и прочую зелень». (Здыбко С. А. Котласский эвакогоспиталь). Доклад о работе эвакогоспиталя №2520 с 1 августа 1941 года по 1 июня 1942 года раскрывает статистику успехов врачей войны: «Всего произведено 270 операций. В том числе: удаление секвестров и осколков - 138, ампутация пальцев - 26. Терапевтических больных всего поступило 485 чел., в том числе с Карельского фронта 25 чел. По характеру заболеваний большинство терапевтических больных относятся к двум группам: заболевания органов дыхания - 109 чел., и тяжелая форма авитаминоза - 240 чел. Такой большой прием терапевтических больных в госпиталь объясняется тем, что в апреле 1942 года по приказу УРЭП-96 было принято сразу 200 больных эстонцев из рабочих колонн местного гарнизона. …ни один больной, поступивший с карельского фронта, в госпитале не скончался. Что касается гарнизонных больных, то из общего числа поступивших возвращено в строй 176 чел., оказалось негодными к несению военной службы - 39 чел., уволено в отпуск - 7 чел., находится на 1 июня в госпитале - 189 чел., умерло — 50 чел. Причины смерти, главным образом, туберкулез легких в стадии декомпенсации и общее истощение на почве тяжелой цинги» Госпиталь блокады О буднях городских больниц в воспоминаниях ленинградского врача Бориса Петровича Абрамсона, работавшего хирургом в дни блокады. Врачи, чтобы не думать о голоде, погружались в работу. В трагичную блокадную зиму 1941-1942 года, когда в городе не работали водоснабжение и канализация, больницы представляли собой особенно гнетущее зрелище. Оперировали при свечах, почти на ощупь. «…Работа в клинике носит покуда мирный характер — «доделываем» плановые операции, идут острые аппендициты, немного травмы. С середины июля начинают поступать эвакуированные раненые, обработанные кое-как. Августовские дни особенно тяжелы — нажим на Ленинград усиливается, в городе чувствуется растерянность, эвакуация, объявленная обязательной, фактически невозможна — все дороги от Ленинграда, в том числе и Северная, отрезаны врагом. Начинается блокада города. Продовольственное положение в городе еще сносное. По карточкам, введенным с 18 июля, выдается по 600 гр. хлеба, работают коммерческие магазины, рестораны. Уже с 1 сентября нормы уменьшаются, коммерческие магазины закрыты… В клинике начинаются массовые поступления пострадавших от бомб. Ужасающая картина! Тяжелейшие комбинированные травмы, дающие огромную смертность. …А между тем в клинике идут нормальные учебные занятия, регулярно читаю лекции, однако без обычного подъема — аудитория полупуста, особенно в вечерние часы, перед «обычной» тревогой. Кстати, звук сирены, уже такой знакомый, до сего дня кажется невыносимым; в такой же степени приятна музыка отбоя… И жизнь идет своим чередом — возобновились концерты в Филармонии, театры и в особенности кино переполнены… …Сказывается голод! В октябре, а в особенности в ноябре я его остро чувствую. В особенности болезненно переживаю недостаток хлеба. Мысли о еде не оставляют меня днем и особенно ночью. Стараешься побольше оперировать, время идет быстрее, голод не так ощущается… К дежурствам через день уже в течение двух месяцев привык, всю тяжесть хирургической работы выносим мы с Николаем Сосняковым. Обеды через день в больнице дают намек на насыщение. Голод всюду… Ежедневно в больницу поступает 10–15 истощенных людей, погибших от голода. Запавшие застывшие глаза, осунувшееся землистое лицо, отеки на ногах... …Вчерашнее дежурство было особенно тяжелым. С двух часов дня подвезли сразу 26 раненых, пострадавших от артиллерийского обстрела — снаряд попал в трамвай. Очень много тяжелых ранений, преимущественно раздробления нижних конечностей. Тяжелая картина. К ночи, когда закончились операции, в углу операционной — груда ампутированных человеческих ног… … Сегодня очень холодный день. Ночи темные, страшные. Утром, с приходом в клинику, еще темно. И там часто нет света. Приходится оперировать при керосине и при свечах… …В клинике леденящий холод, очень трудно стало работать, хочется поменьше двигаться, хочется погреться. А главное все же голод. Это чувство почти невыносимо. Беспрестанные мысли о еде, поиски еды вытесняют все другое. Мало верится в близость коренного улучшения, о чем изголодавшиеся ленинградцы много говорят… В институте с серьезным видом готовятся к зимней сессии. Но как она может пройти, если студенты более двух месяцев почти не ходят на практические занятия, очень плохо — на лекции и вовсе не читают дома! Занятий фактически нет, но Ученый совет собирается аккуратно, через понедельник, и слушает защиту диссертаций. Все профессора сидят в шубах и шапках, все осунулись и все голодны… …Вот и начался 1942 год… Встретил его в клинике, на дежурстве. К вечеру 31 декабря начался жестокий артобстрел района. Привезли раненых. Обработку закончил за пять минут до начала нового года. Начало это безрадостно. Видимо, уже близится предел человеческих испытаний. Иссякли все мои дополнительные источники питания — вот он, настоящий голод: судорожное ожидание тарелки супа, притупление интереса ко всему, адинамия. И это ужасающее равнодушие… Как безразлично все — и жизнь, и смерть… Все чаще вспоминается екатеринбургское предсказание о моей смерти на 38м году жизни, то есть в 1942 году… …Несчастные окоченевшие больные лежат, прикрывшись шубами и грязными матрацами, кишмя кишат вшами. Воздух пропитан гноем и мочой, белье грязное до черноты. Воды нет, света нет, уборные забиты, в коридорах вонь от неслитых помоев, на полу полузамерзшие нечистоты. Их не выливают вовсе или сбрасывают тут же, у входа в хирургическое отделение — храм чистоты!.. И такая картина во всем городе, так как повсюду с конца декабря нет тепла, нет света, воды и канализации. Всюду видны люди, таскающие воду из Невы, Фонтанки (!) или из каких-то скважин на улице. Трамваи не идут уже с середины декабря. Привычными уже стали валяющиеся на улицах трупы полураздетых людей, мимо которых с равнодушием проходят пока еще живые. Но все же более страшное зрелище — грузовики-пятитонки, доверху груженые трупами. Кое-как прикрывши «груз», машины свозят их на кладбища, где экскаваторами роются траншеи, куда и сбрасывают «груз» … …И все же ждем весны, как избавления. Проклятая надежда! Неужели она и сейчас нас обманет!» Медикаменты в годы войны «Без медикаментов нет практической медицины» - отмечал Ефим Смирнов. Владимир Терентьевич Кунгурцев рассказывал о военных лекарствахобезболивающих: "Если у раненного болевой шок, надо положить его так, чтобы кровь нормально циркулировала, а голова находилась не выше корпуса. Затем надо обезболить раны. Ничего кроме хлорэтила у нас тогда не было. Хлорэтил замораживает боль на несколько минут. А уже потом, в медсанбате и в госпитале раненному делали инъекции новокаина, давали более эффективные эфир и хлороформ". "Но мне везло: ни одного смертельного случая. А вот тяжелые были: однажды привезли бойца с пневмотраксом грудной клетки. Он не мог дышать. Наложил ему глухую повязку, чтобы воздух не попал в легкие. Вообще, тяжело раненных мы оперативно эвакуировали – на носилках или машинах. У всех солдат в обязательной экипировке были индивидуальные перевязочные пакеты, которые они получали у полкового врача. Каждый солдат был хорошо проинструктирован на случай ранения. К примеру, если пуля попала в живот, пить и есть нельзя, потому что через желудок и кишечник вместе с жидкостью в брюшную полость попадает инфекция, и начинается воспаление брюшины – перитонит". "У неопытного наркотизатора больной под эфиром долго не засыпает, и может проснуться во время операции. Под хлороформом же больной заснет обязательно, но может не проснуться" - писал врач Юдин. В годы войны раненые умирали чаще от заражения крови. Были случаи, когда из-за нехватки лекарств для предотвращения гангрены раны перевязывали бинтами, смоченными в керосине, что предотвращало заражение. В Советском Союзе знали об изобретении английского ученого Флеминга – пенициллине. Однако согласование на использование лекарства требовало времени. В Англии к открытию отнеслись с недоверием, и Флеминг продолжил свои опыты в США. Сталин не доверял союзникам-американцам, опасаясь, что лекарство может быть отравлено. Опыты Флеминга в США продолжались успешно, но патентовать изобретение ученый отказался, утверждая, что лекарство создано для спасения всего человечества. Чтобы не терять время на бюрократию, советские ученые взялись за разработку аналогичного лекарства-антибиотика. «Устав от напрасного ожидания, весной 1942 года я с помощью друзей стала собирать плесени из самых различных источников. Те, кто знал о сотнях неудачных попыток Флори найти свой продуцент пенициллина, относились к моим опытам иронически» - вспоминала Тамара Балезина. «Мы стали использовать метод профессора Андрея Львовича Курсанова по выделению спор плесени из воздуха на очистки картофеля (вместо самого картофеля — по военному времени), смоченные медным купоросом. И лишь 93-й штамм — споры, выросшие в бомбоубежище жилого дома на чашке Петри с очистками картофеля, — показал при испытании методом разведений в 4–8 раз большую активность пенициллина, чем флеминговский». К концу 1941 года советский пенициллин начал применяться для лечения. Опыт нового лекарства был поставлен на 25 умирающих раненых, которые постепенно пошли на поправку. «Невозможно описать нашу радость и счастье, когда мы поняли, что все наши раненые постепенно выходят из септического состояния и начинают поправляться. В конце концов все 25 были спасены!» — вспоминала Балезина. Широкое промышленное производство пенициллина началось в 1943 году. Будем помнить о подвиге героев-медиков. Они смогли сделать невозможное. Спасибо этим отважным людям за победу!