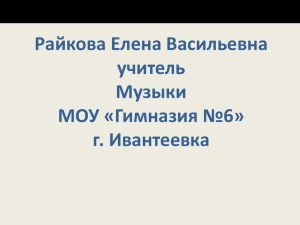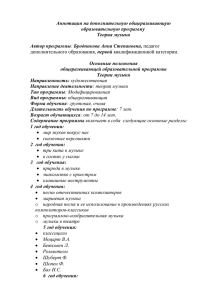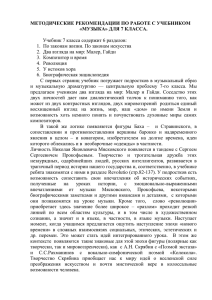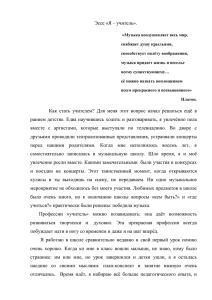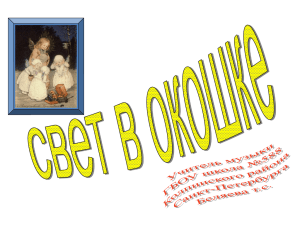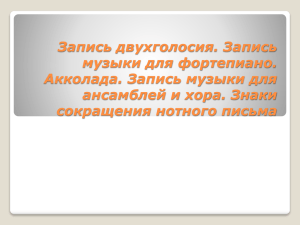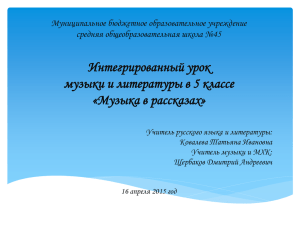Вячеслав Ивáнов Реферат студента III курса отделения фортепиано (орган) Скопина Фёдора План работы: Введение I. Жизненный и творческий путь II. Теоретические взгляды на музыку III. Ивáнов и Скрябин, друзья и единомышленники Заключение 2 Введение Поэт и мыслитель Вячеслав Ивáнов (1866-1949) неслучайно выбран в качестве темы данной работы. Помимо выдающегося художественного наследия, его отличительными чертами были два момента, крайне интересные и важные для меня как музыканта. Во-первых, помимо собственно поэтического творчества В.И. активно занимался философией искусства, выработкой идеологических оснований символизма, и создал собственную концепцию, в которой музыке уделялось значительное внимание. И во-вторых, он дружил и был идейно близок с моим любимым композитором той эпохи – Александром Николаевичем Скрябиным (1872–1915), что придаёт его творческой личности особый интерес. Поэтому в данной работе мы кратко осветим основные вехи жизненного и творческого пути В.И., а затем рассмотрим более подробно его философию музыки и взаимоотношения с А.Н.С. Кстати, о произношении его фамилии. Любой Иванович на вопрос чей он сын ответит Ивáнов, поэтому именно такое ударение является естественным. Перенос же ударения на последний слог, в нарушение логики русского языка, является снижением, в дореволюционные годы характерным для просторечия и только потом ставшим доминирующим. 3 I. Жизненный и творческий путь Вячеслав Иванович Ивáнов родился 28 февраля (по новому стилю) 1866 г. в Москве в интеллигентной семье геодезиста; он был поздним ребёнком, его матери было 42 года, а отцу 50. Своим редким в то время именем он был обязан матери, происходившей из духовного сословия: по её настоянию он был наречён в честь князя Вацлава (Х в.), святого покровителя Чехии, отсюда и латинское написание имени поэта – Venceslao. Одним из первых воспоминаний Вячеслава, повлиявших на становление его личности, были домашние философские полемики, затеваемые отцом, в результате чтения материалистической и атеистической литературы ставшим нигилистом и пересмотревшим эти убеждения только уже на смертном одре. В пятилетнем возрасте Вячеслав лишился отца, и мать воспитывала его одна и очень серьёзно, сознательно делая акцент на будущем поэтическом призвании сына. Мать считала сверстников сына «недалёкими и дурно воспитанными» и поэтому не допускала его к общению с ними; учился Вячеслав в домашней частной школе Туган-Барановских. По своему аналогичному опыту могу сказать, что такая педагогика, в целом, может быть, несколько и затрудняя социализацию, тем не менее весьма способствует нахождению верного направления в жизни, мышлении и творчестве, выработке и идейного, и гражданского фундамента исключительно под достойным влиянием. Широта кругозора, глубина понимания и высота творческого уровня В.И. служат этому хорошим подтверждением. В 9 лет Вячеслав начал заниматься в Первой Московской гимназии, где быстро стал лучшим учеником; руководство считало его вундеркиндом и прощало нарушение режима и пропуски. Тогда же начали появляться первые стихи. Ввиду тяжёлого материального положения семьи уже с 13 лет Вячеслав зарабатывал репетиторством; самостоятельно изучил древнегреческий язык, 4 не дождавшись начала занятий по нему в школьной программе. В 14 лет присутствовал на торжественном заседании в МГУ, где лично увидел Ф.М. Достоевского; это событие положило начало увлечению творчеством писателя, продолжавшемуся всю жизнь поэта. Не миновало Вячеслава и юношеское увлечение атеизмом, радикализмом и революционными идеями. Затем оно переросло в популярное в те годы народничество. С золотой медалью окончив гимназию, Ивáнов поступил на отделение исторических наук историко-филологического факультета МГУ. К 20 годам он разуверился в революционности и в качестве меры по преодолению своих внутренних противоречий после 2 курса отправился учиться в Германию. Последующие 18 лет В.И. провёл в Европе, – Германия, Франция, Италия, позднее Англия и Женева, – нанося в Россию лишь краткие визиты. То, что он провёл важнейшие для духовного становления годы в иноязычной и инокультурной среде, во многом сформировало оригинальный творческий и интеллектуальный облик поэта. Здесь и его переход в политическом отношении на славянофильские позиции, а в духовном – на мистические; и окончание в 1891 Берлинского университета, и работа над впоследствии так и не защищённой диссертацией в Париже, и приобщение к наследию древнеримской культуры в Италии, и активное интеллектуальное общение с соотечественниками на почве идей и культуры, и погружение в ницшеанство, и посещение Палестины и Греции с приобщением к их древностям и их духу. Древняя Греция до конца жизни оставалась истинной страстью Ивáнова. Он любил её язык, собирал во время поездок материалы об эллинском культе Диониса, давшем когда-то начало театру трагедии. В 1904 году в журнале «Новый путь» появилось известное исследование Ивáнова «Эллинская религия страдающего бога», а в 1905 году в «Вопросах жизни» – «Религия Диониса». 5 Интересна аналогия профессиональной и творческой эволюции Вячеслава Ивáнова и Фридриха Ницше (1844–1900). И тот и другой были филологами-эллинистами, писали диссертации на латинские темы, но расстались с академической наукой и на личном уровне переосмыслили античную культуру, что привело обоих к дионисийской концепции искусства – это стало главным предметом поэтических и научных интересов В.И., а заодно заложило идейные основы явления символизма. Во время визитов в Санкт-Петербург (по семейным вопросам; богатую событиями и драмами личную жизнь В.И. мы оставим за рамками данной работы) Ивáнов встречался с влиятельным философом В.С. Соловьёвым (18531900), благодаря которому состоялся и его поэтический дебют – стихотворение «Дни недели» в столичном «Вестнике Европы» (1897). Первая книга лирики В.И. «Кормчие звезды» (1903) и следующая – «Прозрачность» (1904) – ввели Ивáнова в круг поэтов-символистов. В своих стихах намеренно употреблял архаичный словарь, но делал это с величайшим искусством. Он строил свой поэтический мир, стараясь как можно точнее и гармоничнее выявить божественную сущность вещей, раскрыть тайны символов. Он был глубоко убежден, что в любом талантливом произведении искусства живет, прежде всего, скрытая музыка. «И это не потому только, – писал Ивáнов, – что ему необходимо присущи ритм и внутреннее движение; но сама душа искусства музыкальна. <...> Истинное содержание художественного изображения всегда шире его предмета. В этом смысле оно всегда символично; но то, что оно объемлет своим символом, остается для ума необъятным и несказанным для человеческого слова. Чтобы произведение искусства оказывало полное эстетическое действие, должна чувствоваться эта непостижность и неизмеримость его конечного смысла. Отсюда – устремление к неизреченному, составляющее душу и жизнь эстетического наслаждения, и эта воля, этот порыв – музыка...» 6 Важно, что В.И. сам в те годы не считал себя «символистом» и сделался русским символистом, когда полностью определил для себя значение этого понятия и подвёл под него основательный теоретический фундамент. Ещё во время пребывания в Европе В.И. установил знакомства и переписку с многими деятелями русской культуры – Д.С. Мережковским, В.В. Розановым, А.Н. Бенуа, К.Д. Бальмонтом, В.Я. Брюсовым. Знакомство с последним сыграло важную роль в жизни Ивáнова после его возвращения в Россию весной 1905 г. и вхождения в круг московских символистов. Ещё находясь за границей, В.И. активно сотрудничал с русскими периодическими изданиями, публиковал стать, рецензии и стихи; с возвращением эта работа усилилась и дополнилась живым общением. Вскоре В.И. с семьёй перебираются в Петербург и поселяются в знаменитой квартире 24 на верхнем 6-м этаже дома на Таврической 25/1, – в круглой угловой выступающей комнате которой, легендарной «Ивáновской башне», в течение нескольких следующих лет проходят знаменитые Ивáновские среды, имевшие огромное значение для развития культуры Серебряного века. Попадание на «башню Ивáнова» считалось получением «диплома» на принадлежность к верхушкам интеллигенции. На квартире собиралась петербургская элита (литераторы, художники, музыкальные и театральные деятели, философы и другие), устраивались диспуты, читались доклады, разбирались произведения литературы. 7 Удивительно, но я всякий раз вспоминаю В.И. и его «Башню», когда случается идти в Училище от Пушкинской площади. Дом галереи «Актёр» очень напоминает тот самый питерский дом с башней: Санкт-Петербург, Таврическая 35, бывший доходный дом Дёрнова Москва, дом 16/2 по Тверской – бывший доходный дом Логуновой-Чижовых До 1916 В.И. обосновался в Москве, где зарабатывал публицистикой и переводами, изданная в 1916 году книга «эстетических и критических опытов» получила название «Борозды и Межи». Осенью он поселился в Сочи, где его застала Февральскую революцию, которую встретил восторженно. После Октябрьской революции, несмотря на неприятие им новой власти, В.И. принимал участие в её культурной работе – поступил на службу в Наркомпрос, возглавлявшийся А.В. Луначарским, с которым был давно знаком, работал редактором в Госиздате, заведовал Академическим подотделом и входил в коллегию ЛИТО, возглавляемую В.Я. Брюсовым, и подрабатывал в МУЗО, организуя концерты памяти А.Н. Скрябина. С 1920 по 1924 возглавлял кафедру классической филологии Бакинского университета, а затем, вернувшись в Москву, был откомандирован в Италию – и с этой поездки уже не вернулся на Родину, став эмигрантом в 1929, хотя и сохранил советский паспорт и не отказывался от советского гражданства. 8 30 марта 1926 в Ватикане, в день праздника св. Вячеслава, Ивáнов присоединился к Католической церкви по формуле В.С. Соловьёва – произнесение формулы означало присоединение, а не переход или отречение от православной церкви. В.И. настаивал, что присоединение означает исповедание того, что его Церковь остаётся истинной, восточное святоотеческое предание и русские святые – действительными. Это необходимо не упускать из виду, говоря о католичестве Вячеслава Ивáнова. В том же году В.И. начал работать в качестве преподавателя в элитном «Колледжо Борромео» в Павии, а с 1936 и до конца жизни – ординарного профессора в ватиканском Папском Восточном институте и семинарии Руссикум, где преподавал церковнославянский язык и руководил студентами, изучавшими Россию. Творческое наследие Вячеслава Ивáнова очень многообразно, оно включает большой корпус поэтических произведений, оригинальных и переводных, публицистику, философские эссе, литературоведческие и антиковедческие монографии. В.И. создал оригинальную версию русского символизма, в которой соединились две генеральных тенденции Серебряного века: возвращение русской культуры к духовным основам христианства и творческое переосмысление и воссоздание художественных архетипов Античности, Средневековья и Возрождения. Вплоть до отъезда из страны Ивáнов активно проповедовал «хоровое» начало в культуре, ставил задачу преодоления индивидуализма и выхода к «соборности», к коллективной религиозной общности через мифотворческое искусство. Его творческое развитие отличалось внутренней логикой, последовательностью и основательностью поэтической системы и определяющих её «духовных координат». В.И. принадлежал к младосимволистам, будучи на 7 лет старше В. Брюсова – вождя всего символистского движения. Период 1900– 1912 являлся одним из самых продуктивных для Ивáнова, ставшим одним из 9 ведущих представителей русского символизма. В поэтическом плане это выразилось в трёх больших поэтических книгах: «Кормчие звёзды» (1902–1903), «Соr ardens» (1911–1912) и «Нежная тайна», которые существенно отличались друг от друга. В «Кормчих звездах», составленных из произведений 1880– 1890-х годов, отчётливо прослеживается работа по усвоению русской и мировой поэтической традиции, завершившейся созданием собственной мифологии и поэтического мира. Для поэзии Ивáнова характерно сведение воедино элементов разной природы. Он активно пользовался высокой славянизированной лексикой и синтаксисом. Одной из ведущих тем его поэзии было богоборчество – и познание Бога в волевом усилии, жизнеутверждающая и жизнестроительная страсть. В 1910-х годах на первый план в лирике Ивáнова вышло осознание метафизических и богословских смыслов человеческой судьбы, итогом стала мелопея «Человек». Сквозной темой двухтомника «Cor ardens» («Сердце пламенеющее») является описание переживания Бога, личный мистический опыт и связанное с ним преображение личности. Лирический сборник «Нежная тайна» демонстрирует упрощение поэтики, «просветление» стиля и умиротворение лирического героя. Эта тенденция стала устойчивой в стиле В.И. вплоть до его всплесков поэтического творчества в Риме 1920–1940-х годов. Лирика «Римского дневника 1944 года» была «строгой, немногословной, смиренной». После Революции Ивáнов сочетал публицистику («Переписка из двух углов» с М. Гершензоном, 1920) и лирику («Зимние сонеты»), в которых выражалась его собственная позиция относительно кризиса гуманизма и европейской культуры. В Баку в 1920–1924 активно занимался академическим антиковедением, завершив исследование дионисийской религии, к которой многократно подступался с начала века. В Италии Ивáнов сознательно отдалился от всех общественно-политических начинаний эмиграции, и до 1936 ничего не печатал на русском языке. 10 Эпизодически он сотрудничал с западными католическими изданиями, и получил некоторую известность за счёт немецкого и французского переводов «Переписки из двух углов» и большой книги о творчестве Достоевского на немецком языке. Литературоведческие и философские работы Ивáнова 1930– 1940-х преимущественно были адаптациями его ранних статей и книг для западной интеллектуальной аудитории; однако собственные выводы значительно обобщаются и уточняются. В то же время в заказанной ему статье для «Итальянской энциклопедии» он сформулировал целостную мифологизированную концепцию символизма. С конца XIX века и до самой своей кончины Ивáнов писал «Повесть о Светомире царевиче», которую считал главным трудом своей жизни, символическим выражением духовной эволюции. По форме это искусственный славянский эпос с многочисленными фольклорными элементами, причём пятая песнь – на книжном церковнославянском языке. 11 В заключение биографической главы приведу две цитаты современников В.И., дающих представление о его личности. «В. Ивáнов был необыкновенно широк в оценке чужого творчества, любил поэзию с полным беспристрастием – не свою роль в ней, роль «ментора» (как мы говорили), вождя, наставника, идеолога, а талантливость каждого подающего надежды неофита. Умел восторгаться самым скромным проблеском дарования, принимал всерьез всякое начинание. Он был пламенно отзывчив и в то же время вовсе не покладист. Коль заспорит – только держись, звонкий его тенор (немного в нос) покрывал все голоса, и речист он был неистощимо. Мы все его любили за это темпераментное бескорыстие, за расточительную щедрость. Удивительно уживались в нем как бы противоположные черты эгоцентризм, заполненность собой, своим поэтическим бредом и страстями ума, и самоотверженное внимание к каждому. На всех собраниях он председательствовал, руководил прениями, говорил вступительное и заключительное слово. Когда дело касалось поэзии, он чувствовал себя непременным предводителем хора. И наружность его вполне соответствовала взятой им на себя роли. Золотистым ореолом окружали высокий, рано залысевший лоб пушистые, длинные до плеч волосы. В очень правильных чертах лица было что-то рассеянно-пронзительное. В манерах изысканная предупредительность граничила с кокетством. Он привык говорить сквозь улыбку, с настойчивой вкрадчивостью. Высок, худ, немного сутул... Ходил мелкими шагами... Любил показывать свои красивые руки с длинными пальцами...» (С.К. Маковский (1877-1962, Париж), поэт, критик, издатель, организатор художественных выставок, сын художника) «Совершенно исключительный виртуоз беседы, он с неописуемой легкостью приспособлял огромный инвентарь своих знаний к пониманию собеседников. Его речь шла сплошным потоком, без запинок, всегда пышно украшенная научным декорумом, блистая обилием цитат, которые у него возникали как-то самопроизвольно, совершенно естественно. Его познания во всех областях были колоссальны, а подача этих познаний – артистична. Из русских людей я не знал никого, кто мог бы сравниться с ним в этом искусстве серьезной и содержательной элоквенции. Вообще, на меня он производил впечатление наиболее глубокого, проникновенного и одаренного из всех символистов. В его стихи перешла лишь незначительная часть его общечеловеческого обаяния. Он был как некая крепчайшая настойка из всей человеческой культуры – и русской, и европейской, и средневековой, и светской, и религиозной...» (Л.Л. Сабанеев (1881–1968, Ницца), музыковед, композитор, музыкальный критик) 12 II. Теоретические взгляды на музыку Музыкальные мотивы в поэзии Вячеслава Ивáнова и размышле- ния о философских аспектах музыки заметны на всех этапах его творчества. Музыка была также важным спутником семейной жизни поэтамыслителя. Лидия Вячеславовна – дочь поэта, профессиональный музыкант, органист (в этом качестве она работала в Италии в последний период жизни В.И.), в своих воспоминаниях подчеркивает, что он «...был исключительно музыкален, но абсолютно несведущ в области музыкальной техники». Поэт–мыслитель как в многочисленных эссе («Ницше и Дионис», «Две стихии в современном символизме», «Вагнер и Дионисово действо», «Эллинская религия страдающего бога», «Заветы символизма», «Копье Афины», «Символика эстетических начал», «Новые маски», «Эстетическая норма театра», «Манера, лицо, стиль», «О границах искусства», «Чурлянис и проблема синтеза искусств», «Взгляд Скрябина на искусство», «О кризисе гуманизма»), так и в сборниках поэтических текстов («Кормчие звезды», «Cor ardens», «Нежная тайна. Лепта», «Свет вечерний», «Римские сонеты», «Римский дневник») обнаруживает необыкновенную заинтересованность разными аспектами музыкальной эстетики. В разнообразных попытках определить, что такое музыка, В.И. обращает внимание на способ существования этого вида искусства. Причисляя музыку к типу искусств, «кинетическая природа» которых «раскрывается нам во времени», он подчеркивает взаимозависимость и согласованность частей музыкальной пьесы, их органическую необходимость с точки зрения целого произведения. Музыка уподобляется «те- 13 кучей архитектуре». Особая позиция музыки среди других видов искусства связана с ее коммуникативными свойствами. Символическая природа музыки позволяет ей выражать невыразимое, указывать на смысл, не называя его. Рассуждения В.И. о разных аспектах музыки образуют интереснейшую эстетическую теорию и складываются в своеобразный очерк развития музыки. Его способ мышления о музыке обращает на себя внимание широкой трактовкой вопроса, заметными следами вдохновляющего влияния философской мысли античности и идей рубежа XIX и XX веков, а также попытками определить значения новых терминов и понятий и применить их в анализе как музыкального творчества, так и культуры в целом. Возвращаемся к уже упомянутому Фридриху Ницшке – В.И. подчёркивает вдохновляющую роль его трактата «Рождение трагедии из духа музыки». В текстах В.И. заметны ссылки на ницшеанскую интерпретацию Диониса, мифа, греческой трагедии, дифирамба, античного мироощущения. Критическое чтение этого и других текстов Ницше послужило Ивáнову отправной точкой для формирования собственных положений в области философии культуры. Эстетическое и сследование музыки развивается с помощью понятий «стихия» и «дух» музыки. Оба они получают ряд уточняющих определений, вводятся в новые контексты, освещают друг друга. При их помощи мыслитель старается определить суть разных аспектов музыки и указать на ее сверхкультурную, метафизическую природу. Стихийность музыки отмечается В.И. прежде всего в контексте дионисийского культа, экстатики ритуалов, исступления корибантов (мифических жрецов-шаманов), упразднения границ личности, предпочтения «принадлежности к сонму» над индивидуалистическим обособлением. 14 Набор таких характеристик с подачи Ницше накладывается на понятие дионисийства как оппозиции аполлонического начала. По мнению В.И., музыка – сила независимая от человека. Она проникает и структурирует мироздание, отражает принципы строения и существования Вселенной. В качестве особого зародыша-начала она потенциально присутствует также в других видах искусства: «В каждом произведении искусства, хотя бы пластического, есть скрытая музыка. И это не потому только, что ему необходимо присущи ритм и внутреннее движение; но сама душа искусства музыкальна». Существенной смысловой составляющей в размышлениях о природе музыки является идея Всеединства, на которую В.И. ссылался, вдохновленный главным образом монадологической мыслью Лейбница, шеллингианским образом души мира и трудами уже упоминавшегося В.С. Соловьёва. Идея синтетизма в творчестве Ивáнова была, с одной стороны, попыткой воспроизведения изначального образа первобытного единства всех элементов мироздания, с другой – представляла собой существенную часть обсуждаемой им идеи реинтеграции разъединенных частей современной культуры, страдающей от кризиса. Музыка в размышлениях В.И. воспринимается в качестве атрибута космоса, наделённого свойствами ритма, повтора, тона. Ссылаясь на пифагорейскую интерпретацию музыки Вселенной, он обсуждает эстетические замыслы музыкантов-художников, стремящихся преодолеть границы между отдельными видами искусства. Именно музыка в умозрении пифагорейцев была наиполнейшим выражением гармонии космоса, отраженной в числовых соотношениях между звуками Гармонический порядок Вселенной в пифагорейской интерпретации считается результатом синтеза противоложностей Анализируя мотивы и идеи творчества М. Чюрлёниса и А.Н. Скрябина, Ивáнов обращает внимание 15 на высказанные обоими композиторами убеждения во влиянии музыкального начала на «немузыкальные» на первый взгляд виды творчества. Хотя музыка – это искусство времени, его составляющие – и особенно повтор, ритм, гармония – в качестве внутреннего принципа вписаны также в искусство пространства, каким является живопись. Чюрлёнис был тем живописцем-композитором, который хотел выявить музыкальную природу живописи. Указывая на временные и числовые аспекты музыки, а также приводя понятие метафизической «музыки сфер», В.И. конкретизирует понятие «музыкальной стихии», упоминая пифагорейскую идею музыки Вселенной. Музыкальный принцип, организующий космос, опирается на ритм, тем самым подчёркивает значение повтора. Обращая внимание на отражённые в картинах Чюрлёниса художественные опыты в области ритма образных мотивов, поиски визуальных эквивалентов звука, Ивáнов объясняет его интерес мифотворческой ролью искусства. С помощью звуковых и визуальных символов Чюрлёнис заново объясняет мир, т.е. становится художником-мифотворцем. Как в музыке, так и в мифе существенную структурную роль единения, сцепления частей, синтеза целого играют повтор и ритм. Это важные проявления мифотворческой роли музыки: «Лишний раз подтвердилось на примере Чурлёниса, что из музыки рождается миф. Принцип музыкальной повторности превратился для него в откровение о сосуществовании рядом с внешним миром миров иных, незримые энергии и прообразы которых как бы осаждаются в формах осязательной вещественности». Синтез искусств, по мнению В.И. – дело трудное. Поэт критически оценивает поверхностные, неудавшиеся попытки единения разных видов творчества, нарушающие «священные права каждого из сочетаемых 16 искусств». По его мнению, правдивый, глубокий синтез разных видов искусства возможен лишь с учётом онтологического правила связи всего сущего. Вписанный в праоснову Вселенной, неочевидный принцип Всеединства обнаруживается благодаря творцам, применяющим свойственные данному виду искусства формы выражения, характерные, главным образом, для интуитивного символизма, устремлённого обосновать с помощью мифа новую, цельную интерпретацию действительности. Мифотворческий символизм соприкасается с другой, близкой по цели «магической» установкой, также позволяющей приблизиться к идеалу синтеза искусств: любое искусство обладает невостребованными ещё конгнитивными возможностями, благодаря которым возможно познание глубинных истин бытия. Изнутри конкретного искусства, с помощью присущих ему форм, художник и музыкант способны открыть первоосновы сущего, в которых заметны связи всех вещей. Творческий материал, свойственный каждому искусству – звук, слово, камень, краска – отнюдь не препятствует выражению общих для всех элементов мироздания первичных ритмов, энергий, тонов: «Тогда звук для музыканта определяется как тон всемирного напряжения несущих явление волевых волн. Тогда тело раскрывается ваятелю как оболочка внутренно-телесного “эфирного” строя и ритма». Этот второй путь к синтезу был избран Скрябиным и Вагнером, причём оба композитора понимали, что лишь литургия создаёт возможности настоящего единения искусств. Обсуждая эстетические положения Скрябина, В.И. подчёркивает, что для автора «Поэмы экстаза» музыка «была первоначалом, движущим и строящим мир», энергией, способной охватывать природу и в созвучии с ней «вливаться в гармонию сфер». Ивáнов замечает сход- 17 ство эстетических убеждений Скрябина и мифологического миросозерцания античного мира, в котором музыкальная гармония считалась началом Вселенной. Повтор и ритм, в которых проявляется «стихия музыки», отнюдь не обозначают умеренности, ясности и гармонии. Напротив, в восприятии В.И. «стихия музыки» является голосом избытка и первобытного хаоса. Хаотическое для него становится необходимым условием подлиннго эстетического выражения. Проникая в сознание грека-участника дионисийкого культа доолимпийской эпохи, «стихийная музыка» была фактором, объединяющим культуру и укрепляющим соборную форму органически сплочённой общины. «Музыкальная стихия» сопровождает возникновение мифа, который, используя форму повтора, оказывается носителем памяти. Память о стихийном и музыкальном прошлом человечества поощряет В.И. ожидать пришествие новой органической эпохи, в которой опять музыка позволит преобразовать окостенелый театр, снабжая его возможностью проявить забытые дионисийские стихийные формы. «Стихия музыки» – идея, с помощью которой В.И. анализирует также механизм творческого процесса. Произведение искусства зарождается в душе художника, оно владеет им, даже без его воли. Зародыш произведения – это глухой ритм, который потом облекается в звучащие формы. Ивáнов ссылается на высказывание Гёте, утверждавшего, что «поэт, это существо, у которого вечные мелодии движутся в членах». Поэты, как подчёркивает Ивáнов, осознавали влияние музыки на искусство слова. Это соотношение заметно уже на этапе творческого процесса, так как поэт «мыслит звуками». 18 Поэзия лирическая напоминает музыку больше, чем другие искусства, но она не тождественна ей. Превосходство музыки в том, что она «непосредственнее и свободнее, а потому и симптоматичнее». Поэт, наподобие музыканта и скульптора, является посредником, способствующим провозглашению поэтического слова, музыкальный зародыш которого в форме «ритмических и фонетических схем зачатого, не выношенного, не родившегося слова» уже предопределён в его душе. Таким образом, художник является лишь орудием, инструментом, с помощью которого вечная стихия музыки, играя в его теле, воплощается в формы, соответствующие конкретному эстетическому принципу – «духу музыки»: «Мы, знающие опытом художников, как зарождается художественное творение из “духа музыки” и как оно вынашивается и родится из закономерного действия сил, обусловивших его зачатие, как ничтожна свобода творца, не могущего изменить действия этих сил, и как независима от его намерения и произвола самостоятельная жизнь произведения, – мы первые готовы удивляться совпадению обоих вышеозначенных рядов <...>». Творческая свобода в сопоставлении с могуществом вечных сил – ничтожна. В этом контексте в музыкальных рассуждениях В.И. появляется мысль о своеобразных прообразах форм, заключённых в звуковом материале. Музыкальная пьеса, как и произведения других видов искусства, потенциально присутствует в обрабатываемом творческом материале, ожидает творца, который, открывая в себе голос художественной стихии, в дионисийском нисхождении снимет с материала слои ненужной материи, обнаруживая закрытый в ней прообраз произведения. В этом контексте важен предложенный Ивáновым образ творческой деятельности, понимаемой как «высвобождение истинной красоты из-под грубых покровов вещества». 19 Единственно правильной установкой художника здесь оказывается покорное приятие факта, что это не он является автором произведения, – то есть поведение, напоминающее смирение иконописца. Упомянутые черты творческого процесса характерны для функционирования так называемого великого искусства в созданной Ивáновым типологии. В великом искусстве покорный, гениальный художник является голосом своего сообщества, а «стихия музыки» находит своё отражение и подтвержение в «духе музыки». Суть «музыкальной стихии» объясняется В.И. сопоставлeнием с религиозным чувством. Вера, как и музыка, – это способы познать, дополнить и продлить человеческое «я». Становясь путём к высшей степени самосознания, музыка и религия открывают новую перспективу, показывают присутствие содержания нашего я «в сфере, в которой оно себя дотоле не сознавало», за «эмпирическими пределами, как божественную реальность». Оба типа познания не сводятся ни к каким другим состояниям духа, хотя анализы и описания обоих могут ограничиться физическими, материальными аспектами, выявляющими, однако, лишь поверхностный слой познания. Для Ивáнова музыкальность – это тип постоянного качества, присущего душе. Следуя за Аристотелем, он указывает на выражающееся с помощью музыкальных аспектов постоянное предрасположение души человека стремиться к священному: «Религия – своего рода “музыкальный habitus души”». Повторяемые практики религиозной жизни (ритуалы, священнодействия, молитвы, праздники, символы) наделены ритмом, «постоянными формами внешних отношений», способствующих духовной жизни. 20 В анализе Дионисовой религии В.И. утверждает, что музыка – это источник «экстатических очищений». Для древних греков, по его мнению, музыка была не только умозрительным понятием, определяющим основы мироздания и функционирование души человека, но также формой конкретной активности, наделённой широкими возможностями влияния на поведение людей. Пифагорейцы врачевали душу вызывающей экстаз музыкой флейты, чтоб нежелаемое, злое исступление заменить правым безумием. Успокаивающий строй звуков флейты или песнопения, созвучных ритмам Вселенной, действует на душу катартически или заменяет деструктивное исступление формами священного экстаза. Древние греки выделяли два типа музыки: религиозный, осуществляемый прежде всего с помощью духовых инструментов (особенно флейты), и эстетический, упорядоченный, исполняемый струнными инструментами. Ивáнов подчёркивает, что в древнегреческой культуре мнения о струнной и духовой типах музыки, исходя из убеждения в их специфическом влиянии на душу человека, укладывались в парадигму оппозиции между культурными началами дионисизма и аполлонизма: с одной стороны, музыка флейты сопровождала дисонисийские мистерии и приводила их участников к состоянию экстаза. В ней имманентно заключён был прообраз античного минорного строя. С другой стороны – звуки лиры и излюбленной Аполлоном кифары образовали прототип античного мажора, воплощающего «начало меры, душевного сосредоточения и равновесия».1 1 Тут вспоминаются слова дочери В.И., приведённые выше. Самый возвышенный и уважаемый лад античности, восхваляемый в т.ч. Платоном за строгость, величавость, спокойное благородство, уравновешенность и красиво направленную силу – дорийский, а он как раз минорный. А вот к вялым Платон относит лидийский, к жалобным – гиперлидийский, а они оба мажорные, причём первый как раз и есть (структурно, не темперацией) наш мажор. Самый же экстатический и оргиастический, буйный и страстный лад в античной эстетике (но уже не по Платону) – фригийский, он минорный, вот тут всё сходится. Лады в античном наименовании, разумеется. 21 Отражением диалектического противостояния аполлонического и динисийского начал на уровне музыкального искусства было соперничество за преобладающую позицию в культуре и воспитании человека между духовой и струнной музыкой, и в этом ракурсе – дискуссии о превосходстве флейты или кифары. Вторая из употребляемых Ивáновым категорий – «дух музыки» (или «принцип музыки»), наделена другими смыслами. «Дух музыки» у В.И. наделяется конкретными, можно даже сказать – «техническими» значениями, конкретизируясь главным образом в контексте рассуждений о состоянии современной критической культуры, о кризисе гуманизма и о возможностях, предпосылках и первых проявлениях новой органической культуры. «Дух музыки» – это орудие диагностики состояния культуры или отражение её преобладающего стиля. Таким образом, в отличие от «стихии музыки», «дух музыки» подвергается власти времени. Он может меняться или даже исчезать и появляться заново по мере того, как культура ориентируется на новые ценности. Исчезновение «духа музыки» – это показатель вторичного xаоса, вызванного анропоцентричным дерзновением переустройства мира, знаменующего растерянность человека. Анализируя различия между состоянием музыки в эпоху трагической культуры и на рубеже XIX и XX веков, Ивáнов обратит внимание на то, что в архаическое время принципом музыки было стройное созвучие мира и человека. В наше время принцип музыки – это «чистый кинетизм, становление без цели», «отрывочность, атомизм, алогизм». Эти музыкальные характеристики оказываются показателями утраты чувства цельного мироощущения. В.И. скажет, что музыка современного человека – это музыка «короткого дыхания». 22 Новая музыка, по Ивáнову, заново приобретает первобытную способность рождать культуру: музыка «пророчит дионисийское будущее нашей культуры». Творчество Бетховена (а особенно его Симфония № 9, где хор и человеческий голос образуют новую форму произведения, объединяющего разные способы выражения экстатической стихии) предвосхищает Вагнеровы концепты Gesammtkunstwerk и служат доказательством возможности появления нового «духа музыки». Александр Скрябин для Ивáнова – зачинатель совершенно новой музыки, он воплощает как в своём творчестве и художественных идеях, так и в жизни всё необходимое для того, чтоб «дух музыки» опять стал выражением «стихии музыки». Для Скрябина музыка «была первоначалом, движущим и строящим мир. Она должна была расцветать словом и вызывать образы». Скрябин, сочувствуя ивановским идеям рубежа XIX–XX веков, вдохновлённый эзотерическими концептами (главным образом, теософией Е.П. Блаватской), воспринимал музыку в качестве метода познания закрытых тайн мироустройства и орудия синтеза разобщённой действительности. Вера композитора во вписанный в порядок космоса и открываемый благодаря музыке «всеохватывающий “принцип единства“» поощряла поиски способов синтеза разных форм творчества, финальным эффектом чего должен стать жанр мистерии. Скрябин при этом был уверен, что полный синтез искусств возможен только в литургии. 23 24 А.Н. Скрябин III. Ивáнов и Скрябин, друзья и единомышленники Вячеслав Ивáнов был одним из тех, кто оказал особе влияние на мировоззрение и творчество Александра Николаевича Скрябина. Взаимное притяжение, которым характеризуется история их отношений, имела в своей основе их творческие устремления, «мистериальную» направленность идейно-художественных поисков, глубокое чувство сопричастности таинству искусства и пути художника. Это притяжение усиливалось и личной симпатией. Скрябин познакомился с Ивáновым в 1909 на вечере в редакции журнала «Аполлон», устроенном по случаю петербургской премьеры «Поэмы экстаза». Однако первое знакомство было мимолетным. В скрябинский круг ввёл поэта Юргис Балтрушайтис в 1912. С этого времени В.И. становится частым посетителем скрябинского дома, который был открыт далеко не для всех. Ограждаемый друзьями и женой от случайных и ненужных знакомств, в последние годы жизни Скрябин испытывал особенную потребность в общении с духовно и художественно близкими людьми. Появление Ивáнова было встречено восторженно. «Высокий, с гривой седеющих волос, оригинальной внешности, несколько согбенный старик с молодым взором всем понравился, – вспоминает уже цитированный Л. Сабанеев. – Понравился он и своей «моммсеновской»2 внешностью и умением схватить скрябинские идеи и облечь их в более философскую форму, нежели они были у самого А.Н.». Осенью 1912 Скрябин посетил московский дом В.И., о чем вспоминала дочь поэта: «Один раз вечером он к нам пришёл, сел за наш старый рояль и долго нам играл отрывки из своей поэмы «Прометей», повторял их, 2 Теодор Моммзен (1817-1903) – виднейший немецкий историк, филолог-классик и юрист, автор знаменитой «Истории Рима». Сабанеев неспроста упоминает его – Моммзен был наставником В.И. в период обучения того в Берлинском университете, научным руководителем его диссертации. 25 объяснял. Мы были только втроём: Скрябин, Вячеслав и я. Когда Скрябин ушёл, Вячеслав обратился ко мне и говорит: «Ну, что же?» – Я сознаюсь: «Хорошо». – «Правда ли?» Мы были оба смущены, а у Вячеслава было выражение, как если бы ему дали отведать запрещённого плода познания добра и зла». В судьбе Скрябина Ивáнов сыграл особую роль. Её нельзя свести только к человеческому и философско-эстетическому влиянию. Сразу после смерти композитора В.И. выступал на заседаниях скрябинского общества (одним из учредителей которого он являлся) с целой серией речей о Скрябине. Одна из них – «Скрябин и дух революции» – была напечатана в сборнике его статей «Родное и Вселенское» в 1917. Две другие – «Взгляд Скрябина на искусство», «Национальное и вселенское в творчестве Скрябина» – и стихи, посвящённые памяти композитора, туда вошедшие, предназначались для скрябинского посмертного сборника, который не был издан. В 1919 Ивáнов задумал выпустить собственный сборник о Скрябине, куда предполагал включить свои основные «скрябинские чтения». Книга, к сожалению, тоже не была напечатана. По сохранившейся вёрстке можно судить, насколько многогранным было внутреннее родство поэта и композитора. «... Никто не умел ни расслышать нас, ни разгадать, – вспоминает В.И. – Благая судьба привела меня в Москву, и двухлетнее жительствование в одном городе со Скрябиным позволило мне углубить моё, дотоле поверхностное с ним знакомство... Мистическая подоснова миросозерцания оказалась у нас общею, общими и многие частности интуитивного постижения, общим в особенности взгляд на смысл искусства. С благоговейной благодарностью вспоминаю об этом сближении, ставшем одной из знаменательных граней моей жизни». 26 Свидетельством нежного почитания Ивáновым своего друга явилось стихотворение «Воспоминание о Скрябине», написанное в 1915 после смерти композитора. Оно запечатлело духовный облик А.Н.С. и даже аксессуары его рабочего кабинета в последней московской квартире. Развёртывалась дружбы нашей завязь Из семени, давно живого в недрах, Когда рукой Садовника внезапно Был сорван нежный цвет и пересажен (Так сердцем сокрушённым уповаю) На лучшую иного мира пажить: Двухлетний срок нам был судьбою дан. Я заходил к нему — «на огонёк»; Он посещал мой дом. Ждала поэта За новый гимн высокая награда, — И помнит мой семейственный клавир Его перстов волшебные касанья. Он за руку вводил по ступеням, Как неофита жрец, меня в свой мир, Разоблачая скрытые святыни Творимых им, животворящих слав. Настойчиво, смиренно, терпеливо Воспитывал пришельца посвятитель В уставе тайнодейственных гармоний, В согласьи стройном новозданных сфер. А после, в долгой за полночь беседе, В своей рабочей храмине, под пальмой, У верного стола, с китайцем кротким Из мрамора восточного — где новый Свершался брак Поэзии с Музыкой, — О таинствах вещал он с дерзновеньем. Как въяве видящий, что я провидел Издавна, как сквозь тусклое стекло. И что мы оба видели, казалось Свидетельством двоих утверждено; И в чем мы прекословили друг другу, О том при встрече, верю, согласимся. Но мнилось, — всё меж нас — едва начало Того, что вскоре станет совершенным. Иначе Бог судил, — и не свершилось Мной чаемое чудо — в час, когда Последняя его умолкла ласка, И он забылся; я ж поцеловал Священную хладеющую руку — И вышел в ночь.... 27 Композитор также воспринимал дружбу с поэтом-символистом как значительное событие в своей жизни. В беседе с тем же Л. Сабанеевым Скрябин не раз выражал свои симпатии по отношению к новому другу, говоря про него, что «он страшно интересен». И очень глубок... Он так близок мне и моим мыслям, как никто». С Ивáновым Скрябин становился «мистиком чистой пробы». В его умозаключениях он «жадно ловил всякую мысль... какую мог как-то «вставить» в своё мировоззрение». На протяжении всего творческого пути скрябинская мировоззренческая позиция менялась – и неоднократно – от феноменализма, эмпиризма, солипсизма до религиозного мистицизма и теории соборного действа. В 1907 в Париже Скрябин впервые знакомится с теософией, в частности, с работами Е. Блаватской по вопросам религиозного символизма. Благодаря увлечению теософскими идеями Скрябин загорается мечтой о Мистерии. Знакомство с сочинениями Шопенгауэра, Ницше, древнеиндийской философией, общение с людьми теософского круга явились почвой для возникновения столь невиданного замысла. Не сознавая всей утопичности мечты, Скрябин любил повторять: «День исполнения моей Мистерии будет счастливейшим днём моей жизни». В 1908 сюжет «Мистерии» определяется им грандиозно и мудрёно – «как психология эволюции человеческих рас». Даже для самого композитора план этот казался слишком абстрактным и трудноосуществимым. И вот что замечает Л. Сабанеев: «... со времени появления Вяч. Ивáнова на скрябинском горизонте что-то стало быстро меняться в его концепции... В скором времени из плана «Мистерии» несбыточно грандиозного, безумного в своём подходе к нему выкристаллизовыва- 28 ется план несколько более мелкий, но реальный, как бы промежуточный, это идея «Предварительного действа», которое должно было наполнить промежуток эволюции Скрябина между «Прометеем» и «Мистерией». Работа над текстом «Предварительного действа» проходила при непосредственном участии В.И., Скрябин консультировался с ним в вопросах стихосложения и поэтической лексики. Общая концепция будущей прелюдии к «Мистерии», её образно-философский строй складывались под влиянием бесед с поэтом. Однако самой «горячей» точкой соприкосновения композитора с Ивáновым была глубокая потребность их в соборном искусстве. На грани двух разных эпох, в условиях небывалого по масштабам социально-политического и духовного кризиса Скрябин вынашивал мысль о вселенском единении человечества. Большие надежды в этом деле возлагал он на «Мистерию», к созданию которой готовился всю жизнь, рассматривая свои опыты лишь как наброски и эскизы к грандиозному творческому акту. По замыслу в ней должно было участвовать все человечество, сливаясь в процессе «дематериализации мира». Мистерия осознавалась Скрябиным как явление соборного порядка, при котором можно достигнуть единства – вселенского, космического, человеческого. Автором предполагаемого действа Скрябин считал себя: «Я хочу не осуществления чего бы то ни было, а беспрерывного подъёма творческой деятельности, которая будет вызвана моим искусством», – писал композитор, формулируя первоначальную идею «Мистерии». Работая над текстом «Предварительного действа», он говорил: «Надо, чтобы при содействии музыки было бы осуществлено соборное творчество». «...собрать личность воедино – в этом задача, в этом и назначение искусства. Получится единая соборная личность». 29 Это желание композитора созвучно «соборному зову» Ивáнова, который вводит в философско-эстетический обиход понятие соборности, опираясь на славянофильскую интерпретацию собора как «идеи собрания, не только в смысле всегдашней возможности такого соединения, иными словами... идеи единства во множестве». В.И. расширяет смысловое пространство термина, наполняя его вагнеровской идеей синтеза искусств и ницшевским «дионисийским культом». Соборность для него – «новая сфера сознания человека (не как личности, а как соборного лица, как коллектива)». Много общего у ивановской трагедии «Прометей» со скрябинским «Прометеем». Общей концепцией исполнения «Прометей» приближался к обрядовому действу, а творчество Скрябина – к границам искусства, «к теургическим тайнодействиям, к заклинанию». Вот что пишет сам поэт: «... теоретические положения его (Скрябина – Н. П.) о соборности и хоровом действе проникнуты были пафосом мистического реализма и отличались от моих чаяний, по существу, только тем, что они были для него ещё и непосредственными практическими заданиями». И действительно, Скрябин силой своего гения хотел осуществить в жизни «пророчественные» идеи своего друга. К моменту сближения со Скрябиным идеи Ивáнова о соборном назначеним искусства уже откристаллизовались в теоретической форме (статьи «Предчувствия и предвестия», «Новые маски», «Религия Диониса» и др.). Так что В.И. проповедовал их Скрябину достаточно аргументировано и вдохновенно, найдя в нем почву для реализации своих «соборных чаяний». В грядущей «Мистерии» особенности избранной для её свершения местности (то была Индия) должны были войти органической частью в состав целого, объединяющего искусство, природу и религию. Основная роль в этом «мистическом театре» (как и в «синтетической» 30 драме Вяч. Иванова) возлагалась на хор – священнодейственный хор свершителей мистического культа. Уже в «Предварительном действе» Скрябин предполагал, что зрителей на нем не будет, а будут только участники – «служители искусства, проникнутые единым соборным сознанием творцы сонма торжественных шествий». Соборность интерпретировалась символистами как высший синтез, при котором стирается грань между мистикой и реальностью, между искусством и религией. Это совпадает с замыслом скрябинской «Мистерии», которая мыслилась как попытка художественного дела, то есть музыкального претворения религии в искусство, музыкального «жизнетворчества». Обобщая и переосмысливая достижения Р. Вагнера в области музыкальной драмы, Скрябин считал, что «театр должен превратиться в Мистерию». По его мнению, «Мистерия» вмещала гораздо больше, чем вагнеровские преобразования в сфере театрализации искусства: она вмещала полет мистического настроения, стремление выйти в перспективность «иных пространств». Единое соборное переживание возможно только при помощи мистического лицезрения общей для всех объективное сущности, что означало для Скрябина достижение экстаза, а в контексте символизма – призыв к соборному единению. Его последние произведения не должны были просто «быть представленными» слушателям, а только – быть познанными сотворчествующими, активными участниками действа. Так им была понята идея соборного назначения искусства. Скрябин оставался под властью «синдрома Мистерии» до последних минут жизни. После его смерти мировоззрение В.И. эволюционирует в сторону католицизма: «соборное дело» утрачивает для него смысл «пути, по которому вместе приходят к одной цели». Однако в 31 годы переломной, неустойчивой для России эпохи два больших русских художника спели «одну и ту же песнь» духовного братства. В заключение приведу два сонета В.И., написанные им вскоре после смерти А.Н.С. ПАМЯТИ СКРЯБИНА 1 Осиротела Музыка. И с ней Поэзия, сестра, осиротела. Потух цветок волшебный, у предела Их смежных царств, и пала ночь темней На взморие, где новозданных дней Всплывал ковчег таинственный. Истлела От тонких молний духа риза тела, Отдав огонь Источнику огней. Исторг ли Рок, орлицей зоркой рея, У дерзкого святыню Прометея? Иль персть опламенил язык небес? Кто скажет: побеждён иль победитель, По ком, — немея кладбищем чудес, — Шептаньем лавров плачет Муз обитель? 2 Он был из тех певцов (таков же был Новалис), Что видят в снах себя наследниками лир, Которым на заре веков повиновались Дух, камень, древо, зверь, вода, огонь, эфир. Но между тем как все потомки признавались, Что поздними гостьми вошли на брачный пир, — Заклятья древние, казалось, узнавались Им, им одним опять — и колебали мир. Так! Все мы помнили — но волил он, и деял. Как зодчий тайн, Хирам, он таинство посеял, И Море Медное отлил среди двора. 32 «Не медли!» — звал он Рок; и зову Рок ответил. «Явись!» — молил Сестру — и вот, пришла Сестра. Таким свидетельством пророка Дух отметил. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вячеслав Ивáнов (1866-1949) во многом был исключительной фигурой в русской культуре. Он не только поэт и идеолог символизма, одна из ключевых и наиболее авторитетных фигур Серебряного века – но также серьёзный академический учёный в области филологии и истории, исследователь культуры, философ, переводчик, драматург, литературный критик и педагог. Его культурное наследие широко и глубоко, а творческая эволюция отличалась внутренней логикой, последовательностью и устойчивостью художественно-эстетической системы и «духовных координат». В его наследии много плодотворного сможет найти любой носитель культуры и тем более творческий человек. А от музыканта ему отдельное спасибо – за осмысление европейской музыки от Баха до новейшего времени, за нахождение живительных связей современной музыки с античной, и особенно за огромную и ценную работу по художественному и духовному осмыслению фенóмена А.Н. Скрябина, для меня эти два замечательных лика неразрывны. 33