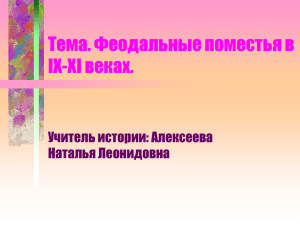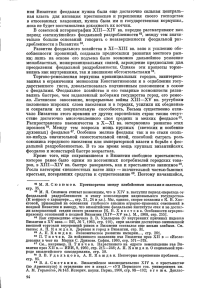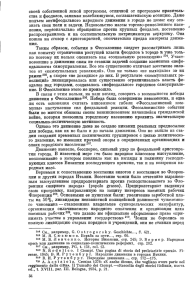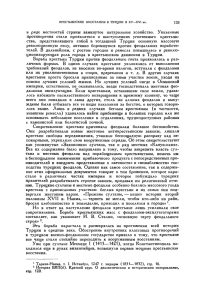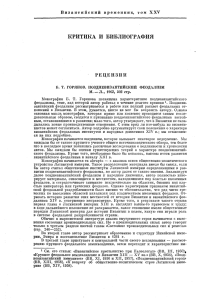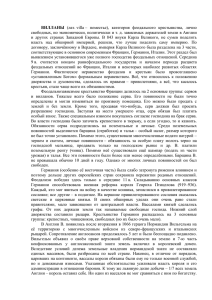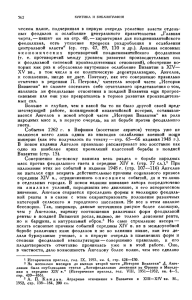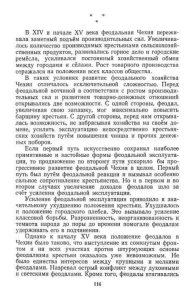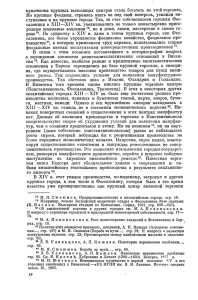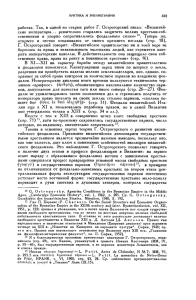ББК 63.3(0)4 И 90 С. В. Близнюк, Л. М. Брагина, В. М. Володарский, А. Я. Гуревич, Т. П. Гусарова, Е. В. Гутнова, М. А. Заборов, С. П. Карпов, Г. Г. Литаврин, Б. Г. Могильницкий. И. И. Орлик, В. И. Рутенбург, А. А. Сванидзе, 3. В. Удальцова. В. И. Уколова, И. С. Филиппов, Б. Н. Флоря, Н. А. Хачатурян, С. Д. Червонов. В. П. Шушарин Редколлегия: Е. В. Гутнова, С.П.Карпов, [Л. А. Котельникова], А. А. Сванидзе, В. И. Уколова Рецензенты: кафедра истории древнего мира и средних веков Уральского государственного университета (зав. кафедрой профессор М. А. Поляковская); доктор исторических наук, профессор Н. И. Басовская (Московский государственный историко-архивный институт) Допущено Государственным комитетом СССР по народному образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «История» История средних веков. В 2 т. Т. I: Учеб. для вузов по И90 спец. «История»/Л. М. Брагина, Е. В. Гутнова, С. П. Карпов и др.; Под ред. 3. В. Удальцовой и С. П. Карпова. — М.: Высш. шк., 1990. — 495 с. ISBN 5-06-000011-7 (т. 1) В первом томе учебника изложены важнейшие события истории средневекового общества на протяжении десяти столетий — с конца V до конца XV в. Специальные главы посвящены возникновению и развитию средневековых городов, крестовым походам, международным связям, истории христианства и еретических движений, культуре Западной Европы и Византии. ISBN 5-06-000011-7 (т 1) ISBN 5-06-001521-1 С Коллектив авторов, 1990 Предисловие Учебник «История средних веков» для студентов университетов охватывает период с V до середины XVII в. В первом томе, согласно принятой в советской историографии периодизации, излагается история раннего (V — середина XI в.) и развитого (конец XI — XV в.), во втором томе — позднего (XVI — середина XVII в.) средневековья. В главах учебника нашли отражение теоретико-методологические и историографические проблемы истории феодальной общественно-экономической формации в целом, важнейшие процессы в жизни средневекового общества, развитие отдельных регионов и стран Западной Европы и Византии. Материал по истории южных и западных славян, а также истории стран Азии и Африки в средние века не включен в учебник, так как по учебному плану исторических факультетов университетов эти курсы изучаются отдельно. Исключение сделано лишь для тех тем, где анализируются международные отношения и контакты между западноевропейскими государствами и славянскими странами, Османской империей и т. д. Данная книга является новым изданием учебника по истории средних веков, в котором авторы стремились отразить достижения отечественной и зарубежной медиевистики последних лет. Вместе с тем редколлегия сочла оправданной ту структуру учебника, которая была принята в изданиях 1966 и 1977 гг., сохранив лучшие традиции университетских учебников, заложенные выдающимися советскими медиевистами академиками Е. А. Косминским и С. Д. Сказкиным. Впервые в университетский учебник введены главы и специальные разделы о развитии производительных сил средневекового общества с V по XV в. (гл. 19), о Северной Европе и Испании в VIII-—XI вв. (гл. 6), о Латинской Романии (гл. 17). В авторском коллективе учебника — профессора и преподаватели кафедры истории средних веков исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, научные сотрудники сектора истории средних веков и других секторов Института всеобщей истории АН СССР, Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР, Института славяноведения и балканистики АН СССР, Томского государственного университета, а также сотрудники ряда других научных учреждений (авторы глав и параграфов указаны в оглавлении). После кончины 3. В. Удальцовой и М. А. Заборова принадлежащие им разделы учебника были отредактированы Т. Ю. Бородай (гл. 22) и С. П. Карповым (гл. 5, § 1, гл. 8, гл. 22). Научновспомогательная и организационная работа проведена М. А. Бойцовым (т. I) и О.В.Дмитриевой (т. II). Библиография ко всему курсу дана во втором томе учебника. В редактировании библиографии принимал участие Л. Д. Беспалько. Введение История средних веков охватывает длительный период, насыщенный многообразными событиями. Он ознаменовался возникновением и развитием новых форм экономической и общественно-политической жизни, значительным прогрессом в развитии материальной и духовной культуры по сравнению с предыдущими историческими эпохами. Наряду с проявлением феодального насилия, невежества, господством догматического мировоззрения и жестоким преследованием инакомыслия, голодом и опустошительными эпидемиями средневековье оставило в памяти человечества примеры героической борьбы народных масс против угнетения, патриотических движений против иноземных завоевателей, ранних проявлений свободомыслия. В сокровищницу мировой культуры по праву вошли выдающиеся произведения писателей, поэтов и мастеров средневековья, памятники народного творчества. К концу этой эпохи относится переворот в развитии естествознания, расцвет гуманистической мысли, появление шедевров Ренессанса. Термин «средние века» (точнее «средний век» — от лат. medium aevum) возник в Италии в XV— XVI вв. в кругах гуманистов'. На разных этапах развития исторической науки в понятие «средние века» вкладывали различное содержание. Историки XVII— XVIII вв., закрепившие деление истории на древнюю, среднюю и новую, считали средние века периодом глубокого культурного упадка в противовес высокому взлету культуры в античном мире и в новое время. В дальнейшем буржуазные историки не смогли выдвинуть какого-либо единого научного определения понятия «средние века». В современной немарксистской историографии преобладает мнение, что термины «средние века», «древний мир», «новое время» лишены определенного содержания и приняты лишь как традиционные деления исторического материала. Марксистско-ленинская историческая наука вкладывает в эту традиционную периодизацию совершенно иное содержание. Рассматривая исторический процесс как закономерную смену общественно-экономических формаций, историки-марксисты понимают средние века прежде всего как время возникновения, господства и упадка феодальной общественно-экономической формации, сменившей рабовладельческий или первобытнообщинный строй, а затем в новое время уступившей историческую арену капитализму. Тем не менее понятия «средние века» и «феодализм» не вполне тождественны. С одной стороны, в период средневековья с феодализмом сосуществовали и иные общественно-экономические уклады (патриархальный, рабовладельческий, затем капиталистический). Более того, долгое время в раннее средневековье в ряде регионов Европы (особенно в Византии, Скандинавских странах) феодальный способ производства не был господствующим. С другой стороны, феодальный уклад сохранялся в экономике многих От этого латинского термина ведет свое происхождение и термин «медиевистика), которым называют область исторической науки, изучающую историю средних веков стран столетиями спустя после средневековой эпохи. Поэтому лишь рассматривая формацию в диалектике всех этапов ее развития, можно говорить о том, что по своей сущности средневековая эпоха была феодальной. Почти все народы, ныне населяющие Европу и Азию, а также многие народы Африки и Латинской Америки прошли в своем развитии стадию феодальной формации и, следовательно, пережили свое средневековье. Поэтому в советской исторической науке понятие «средние века» относится не только к истории европейских народов. Ему придается всемирно-историческое значение. Данный учебник посвящен истории стран Западной и Центральной Европы, а также Византии. Периодизация истории средних веков. Переход к феодализму у разных народов происходил не одновременно. Поэтому хронологические рамки средневекового периода неодинаковы для разных континентов и даже отдельных стран. В странах Западной Европы у истоков средневековья по периодизации, принятой в советской историографии, стоит крушение во второй половине V в. Западной Римской империи, которая погибла в результате кризиса рабовладельческого строя, сделавшего ее беззащитной перед варварскими вторжениями германских и славянских племен. Эти вторжения привели к распаду империи и постепенной ликвидации рабовладельческого строя на ее территории, стали началом глубокого социального переворота, отделяющего средние века от древней истории. Для истории Византии началом средневековья считают IV век, когда Восточно-римская империя оформилась в качестве самостоятельного государства. Рубежом между средними веками и новым временем в советской историографии считается первая буржуазная революция общеевропейского значения, положившая начало господству капитализма в Западной Европе, — английская революция 1640— 1660 гг., а также окончание первой общеевропейской — Тридцатилетней— войны (1648). Эта периодизация используется в данном учебнике. Она не является, однако, ни единственной, ни бесспорной. В зарубежной историографии как капиталистических, так и социалистических стран гранью, отделяющей средние века от нового времени, принято считать либо середину XV в., либо конец XV — начало XVI в. То есть в качестве рубежа рассматривают завоевание турками-османами Константинополя и крушение Византии, окончание Столетней войны (1453) или начало эры Великих географических открытий, особенно открытие Колумбом Америки. В частности, некоторые советские исследователи полагают, что XVI век, эпоху первых буржуазных революций, следует отнести к особому периоду нового времени. С другой стороны, ряд историков придерживаются той точки зрения, что если рассматривать средневековье как период господства феодальной формации, то в него следует включать для Западной Европы и XVIII век — до Великой французской революции 1789—1794 гг. Таким образом, этот вопрос принадлежит к числу дискуссионных. В советской историографии историю средних веков принято делить на три основных периода: I. Конец VB. — середина XI в.— раннее средневековье (раннефеодальный период), когда феодализм только складывался как господствующий способ производства; II. Середина XI в.—конец XV в. — период развитого феодализма, когда феодальный строй достиг наивысшего расцвета; III. XVI в. — первая половина XVII в. — период разложения феодализма, когда в недрах феодального общества зарождаются и начинают складываться капиталистические отношения. Сущность феодального строя. Буржуазно-дворянская историография, широко пользуясь с начала XVIII в. термином «феодализм», не сформулировала, однако, его единое научное определение. Чаще всего историки-немарксисты определяют феодализм по его второстепенным, главным образом политическим и юридическим, признакам. Одни считают его главной отличительной чертой политическую раздробленность; другие — феодальную иерархию; третьи — соединение политической власти с землевладением; некоторые — господство личностных связей и т. д. Историки-марксисты видят сущность феодализма не в этих вторичных признаках, а в имманентно присущих ему производственных отношениях, обусловленных определенным уровнем развития производительных сил общества. Для производственных отношений феодального строя характерно прежде всего господство крупной земельной собственности, которая находилась в руках класса феодалов и «была подлинной основой средневекового, феодального общества 1. Другой важной чертой, отличавшей феодальный строй от рабовладельческого, с одной стороны, и от капиталистического — с другой, было сочетание крупной земельной собственности с мелким индивидуальным хозяйством непосредственных производителей — крестьян, которым феодалы раздавали в держания большую часть своей земли. Крестьяне в феодальном обществе не являлись собственниками обрабатываемой ими земли; они были лишь ее держателями на тех или иных условиях, вплоть до права наследственного пользования. На этой земле они вели самостоятельное мелкое хозяйство. В отличие от античного раба и наемного рабочего при капитализме непосредственный производитель феодального общества был наделен основным средством производства — землей — и, кроме того, являлся собственником орудий труда и рабочего скота. Сущность производственных отношений феодализма, по словам В. И. Ленина, состояла в том, что «земля разделена была между крупными землевладельцами, помещиками, что помещики наделяли крестьян этой землей для того, чтобы эксплуатировать их, так что земля была как бы натуральной заработной платой: она да1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 6. С. 258. вала крестьянину необходимые продукты, чтобы он мог производить прибавочный продукт на помещика...»1. Эти отношения собственности порождали необходимость внеэкономического принуждения, применения насилия для обеспечения эксплуатации крестьян, а для этого — наделения феодалов политической властью в больших или меньших масштабах. «Если бы помещик не имел прямой власти над личностью крестьянина, то он не мог бы заставить работать на себя человека, наделенного землей и ведущего свое хозяйство»2. Формы и степень внеэкономического принуждения при феодализме были самые различные: личная и поземельная зависимость, судебное подчинение власти феодала; в позднее средневековье — сословное неполноправие крестьянства. Перечисленные характерные черты феодального способа производства порождали многие специфические особенности социальной структуры, политической, правовой и идеологической надстройки феодальной социально-экономической формации. В области права к их числу относится условный характер феодальной земельной собственности на землю и разделение права на нее между несколькими феодалами. Развитая форма феодальной собственности — «феод» (отсюда «феодализм») являл собой наследственную земельную собственность представителя господствующего класса, связанную с обязательным несением военной службы и выполнением некоторых других обязательств в пользу вышестоящего сеньора. Последний, а иногда и другие стоявшие над ним сеньоры юридически также считались собственниками данного феода. Такое юридическое разделение земельной собственности в феодальном обществе придавало ей, а вместе с тем и классу феодалов иерархическую структуру, определявшую значительную роль в его среде личных вассально-ленных связей. Объединяя представителей господствующего класса всех рангов поземельными и вассальными связями, феодальная иерархия играла важную роль в организации военных сил общества, а также в эксплуатации крестьянства и подавлении его сопротивления. Лишенные права собственности на землю крестьяне противостояли феодалам — собственникам земли — как эксплуатируемый антагонистический класс. Эксплуатация крестьянства осуществлялась, как правило, в рамках феодальной вотчины (сеньории, манора), в которой наиболее полно реализовались экономическое и социальное назначение феодальной собственности. Вотчина была организацией для взимания феодальной ренты. Однако в некоторых случаях и особенно в раннее и позднее средневековье эксплуатация крестьян осуществлялась и феодальным государством с помощью системы государственных налогов. Феодальная земельная рента — это часть прибавочного труда или прибавочного продукта зависимых крестьян, присваиваемая землевладельцем. Таким образом, ' Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 191. 2 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 185. феодальная рента выступает как экономическая форма реализации собственности феодала на землю. Средством этой реализации является внеэкономическое принуждение, которое проявляется также в личных отношениях — в той или иной степени зависимости крестьянина от феодала. Феодальная рента выступала в трех формах: отработочная рента (барщина), продуктовая (натуральный оброк), денежная (денежный оброк). В IX—XI вв., когда складывалась феодальная вотчина, ее владельцы обычно вели домениальное хозяйство и в ней преобладала отработочная рента и связанная с ней барщинная система, или рента продуктами. Во второй период феодализма в большинстве стран Западной и Центральной Европы наряду с отработочной и продуктовой рентой приобретает большое значение и денежная, что было связано со значительным распространением в этот период товарно-денежных отношений и ростом городов как центров ремесла и торговли. Использование в широких масштабах ренты продуктами, и особенно денежной ренты, исподволь подрывало систему барщинного хозяйства. На смену ей шла другая система, при которой феодал почти полностью свертывал свое собственное хозяйство, передавал барскую землю в держание крестьянам и жил за счет натурального или денежного оброка крестьян-держателей. Это вело к росту экономической независимости крестьянского хозяйства, укреплению владельческих прав крестьянина на землю и как следствие этого — к дальнейшему развитию производительных сил в деревне. В позднее средневековье, когда в феодальном обществе зарождаются капиталистические отношения, денежная рента еще господствует в большинстве стран Западной Европы. Вместе с тем в этот период начинается ее разложение; наряду с феодальной денежной рентой постепенно распространяется капиталистическая земельная рента. Место феодального способа производства в истории человечества. Одни народы перешли к феодализму от рабовладельческого строя, другие — непосредственно от первобытнообщинного. И в том и в другом случае переход к новой формации был важным прогрессивным фактом. Прогрессивность феодального строя по сравнению с рабовладельческим заключалась прежде всего в том, что при феодализме утвердилось мелкое крестьянское производство, которое при достигнутом к тому времени уровне производительных сил и сложившихся феодальных производственных отношениях было «единственно выгодной формой земледелия»1. В отличие от античного раба, лишенного средств производства и не заинтересованного в результатах труда, крестьянин феодального общества как самостоятельный хозяин ищет пути для повышения производительности своего труда. При переходе к феодализму смягчились и формы внеэкономического принуждения: даже 1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 148. самые тяжелые формы личной зависимости крестьян, широко распространившиеся в странах Европы еще в раннее средневековье, были значительно легче, чем рабство. В еще большей степени это относится к зависимости поземельной и судебной, которые стали преобладающими в большинстве стран Западной Европы уже в конце второго периода средних веков, когда основная масса крестьян оказалась лично свободной. Такие смягченные формы зависимости при феодализме по сравнению с рабовладельческим строем, как подчеркнул Ф. Энгельс, давали крестьянам средство к постепенному освобождению их как класса, что было абсолютно недоступно для рабов'. Исторически прогрессивным был переход к феодализму и от первобытнообщинного строя. Этот переход, обусловленный развитием производительных сил, требовал роста индивидуального производства, снятия или смягчения ограничений, налагавшихся на него родоплеменным и общинным строем. Хотя в условиях крайне низкой производительности труда этой переходной эпохи развитие мелкого хозяйства с неизбежностью вело к зарождению частной земельной собственности, а общественное разделение труда — к возникновению классов и эксплуатации, все же феодальный строй открывал большие возможности для дальнейшего укрепления индивидуального производства и повышения производительности мелкого крестьянского хозяйства, чем первобытнообщинный. Вот почему, несмотря на жестокую эксплуатацию крестьянства, низкое и рутинное состояние техники, обусловленное отчасти этой эксплуатацией, отчасти мелким характером производства, в феодальном обществе росли производительные силы. Уже в раннее средневековье в рамках барщинной системы повышение производительности труда в сельском хозяйстве, развитие торговли создали предпосылки для отделения ремесла от земледелия и развития товарного производства. Во второй период средневековья на этой основе стали быстро расти средневековые города — центры ремесла и торговли, значительно ускорившие прогресс производительных сил в феодальном обществе и во многом изменившие его облик. В позднее средневековье на основе дальнейшего роста производительных сил в недрах феодального строя начали формироваться новые капиталистические отношения. В феодальном, как и во всяком классовом, обществе на всех этапах его развития шла повседневная классовая борьба крестьянства с феодалами, которая во второй и третий периоды средних веков принимала часто форму массовых крестьянских восстаний. И хотя эти восстания обычно терпели поражения, они немало способствовали некоторому ослаблению феодальной эксплуатации, побуждая феодалов к осторожности в давлении на крестьянство. Более свободное развитие крестьянского хозяйства приводило к дальнейшему повышению уровня производительных сил. Во второй период средних веков горожане вели упорную борьбу с феодаль1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 155. ными сеньорами. Сами города становились часто ареной ожесточенной внутренней социальной борьбы массы цеховых ремесленников с городской верхушкой (патрициатом), а затем и борьбы городских низов (плебса) против купеческой и цеховой олигархии. В позднее средневековье массовые антифеодальные крестьянские и плебейские восстания являлись уже составной частью ранних буржуазных революций и сыграли решающую роль в ниспровержении феодального строя. Государство, право и церковь в феодальном обществе. Социально-экономический строй феодального общества и порождаемая им классовая структура определили характер и функции его политической и идеологической надстройки. Государство, право, официальная религия и церковь в средние века стояли на страже интересов феодалов и были враждебны массам народа. Вместе с тем они оказывали обратное и в некоторых отношениях прогрессивное воздействие на жизнь общества. Феодальное государство в разные периоды выступало в разных формах: в раннефеодальный период — в форме крупных, но непрочных государственных объединений (подобных империи Карла Великого); затем в X—XII вв.—в виде мелких политических образований — княжеств, герцогств, графств и т. п., располагавших значительной политической властью над их подданными, иногда совсем самостоятельных, иногда лишь номинально объединенных под властью слабого короля (так называемый период феодальной раздробленности); в XIII—XV вв. во многих странах идет процесс централизации государства, которое постепенно принимает форму сословной монархии, где уже относительно сильная королевская власть сочетается с наличием сословно-представительных собраний; только в Византии на протяжении всего средневековья сохранялось сильное централизованное государство. Наконец, в позднее средневековье феодальное государство принимает свою последнюю, наиболее централизованную форму — абсолютной монархии. Процесс централизации, способствуя созданию национальных государств, укрепляя экономическое и культурное единство стран средневековой Европы, имел несомненно во многом прогрессивное значение. Вместе с тем сопровождавший его рост государственных налогов, аппарата насилия и его злоупотреблений давил на все слои общества, но в первую очередь на трудовое население. Феодальное право, зафиксированное либо обычаем, либо королевским законодательством, закрепляло и освящало монополию земельной собственности феодалов, часто их права на личность крестьян, на судебную и политическую власть над ними. Большую роль в укреплении господства феодалов в странах Западной и Центральной Европы играла римско-католическая, а в Византии — православная церковь. Ортодоксальное христианское вероучение в руках церкви превратилось в идеологию господствующего класса. Вместе с тем церковь, как католическая, так и православная, в средние века оказывала огромное, долгое время монопольное влияние на всю духовную жизнь общества, способствуя, особенно до XII — XIII вв., развитию его культуры — письменности, литературы, архитектуры, изобразительного искусства. Христианская религия содействовала укреплению единства европейских народов, приобщению их к новым этическим ценностям, складыванию общеевропейской цивилизации. Однако церковь отчасти подавляла народную культуру, уходящую корнями в языческую древность, а в XI—XV вв. жестоко преследовала всякое инакомыслие, в том числе и многочисленные средневековые ереси. История средних веков и современность. Чем дальше изучается история средних веков, тем более сложной, многогранной, богатой нюансами она представляется и тем более односторонним и упрощенным становится ее изображение как мрачного провала в истории. Средневековый мир предстает перед нами не только как закономерный этап в прогрессивном развитии общества, но и как самобытная, неповторимая эпоха в истории Европы со своей своеобразной, одновременно примитивной и утонченной, духовной культурой, знакомство с которой обогащает и современного человека. Средневековье отделено от нашего времени многими столетиями развития общества и рядом революций. Казалось бы, в современном мире история средних веков представляет лишь академический интерес. Однако и в наши дни изучение эпохи феодализма имеет большое теоретическое и практическое значение. Без знания истории этого многовекового периода, через который прошли почти все народы, невозможно понять общие закономерности возникновения, развития и гибели формаций, основанных на эксплуатации человека человеком. Не менее важно и то, что корни многих явлений и отношений современности уходят в далекое средневековое общество, когда начали складываться основные классы капиталистического общества — буржуазия и пролетариат — и образовалось большинство народностей и государств современной Европы. К этому периоду относится зарождение национальной культуры, формирование языка и национального характера этих народов, начало складывания наций, окончательно оформившихся уже при капитализме, и государственных границ. В средневековой эпохе коренятся многие национальные, этнические, религиозные конфликты современной Европы, всплески провинциального сепаратизма в разных частях континента. В средние века были сделаны первые шаги колониализма, последние остатки которого исчезают теперь на наших глазах. От массовых крестьянских и городских движений средневековья, от первых буржуазных революций ведут свое начало революционные традиции народов, опыт их борьбы против национального угнетения и духовной диктатуры церкви. В средние века в Европе возникли первые университеты, многие из которых продолжают существовать и сегодня, сословно-представительные собрания, к которым восходят исторические корни ряда современных парламентов. В аграрном строе многих стран Европы (в Испании, Португалии, Южной Италии, даже в Англии) сохранились пережитки средневековья. Не зная природы феодализма и общих закономерностей развития этой формации, невозможно с научных позиций рассмотреть современное положение и судьбы большинства стран Европы. Одним из влиятельных институтов, унаследованных ею от средневековья, является церковь — римско-католическая, православная, разные виды протестантской. Выросшие на феодальной почве, приспособившиеся позднее к новым капиталистическим отношениям и сохранившиеся в социалистических странах, эти церковные организации до сих пор оказывают значительное влияние на сознание народных масс Европы. Для правильной оценки их места в современном мире необходимо знать средневековое прошлое этих церковных организаций, основы их идеологии. Многие города современной Западной Европы сохраняют аромат средневековой эпохи в планировке, архитектуре, в романском и готическом стиле их соборов и ратуш, в иконописи и витражах, в удивительной скульптуре и резьбе по камню, в книжной миниатюре. Все это давно вошло в общий фонд культуры и исторического сознания нашего времени, во многом их обогащая. Живая связь времен, запечатленная в памяти европейских народов, делает изучение средних веков всегда актуальным. Об этом свидетельствует и то, что вокруг многих проблем истории средневековья до сих пор идут оживленные споры как между историками-марксистами и немарксистами, так и среди тех и других. Эти споры касаются вопросов типологии генезиса и развития феодализма в разных странах Западной Европы, роли рабовладения в средние века, путей возникновения средневековых городов и различий в их характере на разных этапах этой многовековой эпохи, их места в феодальном обществе. Ведутся дискуссии о характере средневековой общины, роли вотчины при феодализме, о значении государства и его политики в эту эпоху, о соотношении в феодальном обществе экономического и внеэкономических факторов, в частности о роли социальной психологии и идеологических структур, церкви и религии. Ученые спорят о том, был ли кризис феодализма в XIV—XV вв., о границах собственно средневековой культуры и культуры Возрождения, о соотношении гуманизма и Реформации и, как уже отмечалось, о периодизации средневековой истории. Серьезное знание конкретной истории и основных закономерностей развития феодального общества необходимо для аргументированного участия в подобных дискуссиях. Глава 1. Источники по истории средних веков V—XV вв. Под историческим источником понимается все созданное в процессе человеческой деятельности или испытавшее ее воздействие. Все что в ходе истории порождалось или видоизменялось обществом, объективно отражает его развитие, несет в себе информацию о нем. Исторический источник неисчерпаем. Проблема в том, как извлечь и правильно истолковать содержащуюся в нем информацию. Классификация средневековых источников. Применительно к средневековью целесообразно выделить пять типов источников, различающихся по формам фиксирования социальной информации: 1) природно-географические, т. е. поддающиеся непосредственному изучению данные о ландшафте, климате, почвах, растительности и других компонентах окружающей среды, как подвергшихся воздействию человеческой деятельности, так И просто важных для понимания ее конкретно-географической специфики; 2) этнографические, представленные дожившими до наших дней старинными технологиями, обычаями, стереотипами мышления, обликом жилищ, костюмом, кухней, а также фольклором и древними пластами современных живых языков; 3) вещественные, к которым относятся добытые археологией или как-то иначе уцелевшие материальные реликты прошлого: постройки, орудия труда, средства транспорта, домашняя утварь, оружие и т. д.; 4) художественно-изобразительные, отразившие свою эпоху в художественных образах, запечатленных в памятниках архитектуры, живописи, скульптуры и прикладного искусства; 5) письменные, каковыми считаются любые тексты, записанные буквами, цифрами, нотами и другими знаками письма. В принципе лишь сочетание данных всех типов источников позволяет составить всестороннее представление о средневековом обществе. Однако в практической работе медиевиста они играют неодинаковую роль. Вещественные источники имеют наибольшее значение при исследовании раннего средневековья. Фольклорные, этнографические источники, напротив, наиболее важны для изучения позднего средневековья, так как за редкими исключениями при передаче информации по памяти более или менее точно сохраняются реалии и представления лишь сравнительно недавнего времени. Главными же для всех периодов средневековья и почти для всех аспектов его истории являются источники письменные, причем с течением времени, в связи с распространением грамотности и улучшением условий хранения рукописей, их количество, разнообразие и информативность возрастают. Средневековые письменные источники уместно разделить на три класса: 1) нарративные (повествовательные), описывающие реальную или иллюзорную действительность во всем богатстве ее проявлений и в относительно свободной форме; 2) документальные, фиксирующие отдельные моменты преимущественно социально-экономической, социально-юридической и социально-политической жизни посредством специальной, во многом формализованной лексики; 3) законодательные, которые, будучи также юридическими по форме, отличаются от документальных тем, что отражают не только (подчас и не столько) существующую правовую практику, но и преобразующую волю законодателя, желающего эту практику изменить, а главное — попыткой упорядочить общественные отношения, систематизировать социальные градации и ситуации. Постепенно, особенно в эпоху Возрождения, в рамках нарративных, а отчасти и законодательных источников конституируется особый класс научной литературы, где описание явлений уступает место раскрытию их сущности при помощи теоретического анализа. Несколько раньше от нарративных памятников отделилась художественная литература, отображающая действительность путем обобщения различных явлений в художественных образах. Названные классы письменных источников распадаются на виды. Так, среди нарративных источников выделяют исторические повествования, специально освещающие ход политических (по преимуществу) событий; разнообразные агиографические сочинения, рассказывающие о подвижничестве и чудесах святых; памятники эпистолярного творчества; проповеди и всевозможные наставления; до определенного времени также научная и художественная литература. В свою очередь они могут быть поделены на многочисленные разновидности. Например, среди исторических сочинений средневековья различают анналы, хроники, биографии, генеалогии и так называемые истории, т. е. посвященные какомулибо конкретному событию или отрезку времени «монографии». Хроники делят по различным признакам на всемирные и местные, прозаические и стихотворные, церковные и светские, расчленяя последние на сеньориальные, городские и т. д. Будучи удобной в работе, эта классификация, разумеется, достаточно условна. Ведь монета или исписанный пергаментный свиток могут рассматриваться одновременно как источник вещественный, художественно-изобразительный и письменный. Средневековые нарративные источники нередко включают в себя тексты документов, а последние — пространные экскурсы повествовательного характера. Отнесение источника к тому или иному разряду определяется спецификой информации, получаемой при анализе его с той или иной точки зрения. Общая характеристика средневековых источников и методов их изучения. Средневековые письменные источники по сравнению с источниками по истории античности или нового времени обладают определенными особенностями. В силу малого распространения и в целом низкого уровня грамотности в средние века к письму обращались сравнительно редко. Культура той эпохи, прежде всего раннего средневековья, была в значительной мере устно-ритуальной, так что информация в основном передавалась по памяти. Такое положение вещей было во многом связано с языковой ситуацией. За исключением Византии, где писали на понятном для большинства населения греческом языке, Руси, где пользовались старославянским, Болгарии и Сербии, где применялись оба эти языка, а также мусульманской Испании, где в ходу был арабский, в средневековой Европе писали по большей части на латыни, мало понятной или вовсе непонятной для большинства населения. В результате между живым разговорным языком и языком письменным существовал разрыв, сказавшийся на стиле, терминологии и характере использования изучаемых источников. Подобный разрыв существовал и в Византии, где литературные произведения создавались на архаизированном языке, подражающем языку античной классики. Положение стало меняться только во второй период средневековья, когда появляется все больше текстов на народных языках. К XIV — XV вв. в большинстве стран Западной Европы они уже преобладают, однако в некоторых областях общественной жизни (дипломатия, церковь, наука) латынь сохраняет свои позиции вплоть до нового времени. Кроме того, в ряде стран латынь сосуществовала сразу с двумя народными языками — местным и чужеземным (французский язык в Англии XII — XIV вв., немецкий язык в Венгрии, Чехии, Прибалтике в XIV—XVI вв. и т. д.). Современную науку интересуют и те аспекты жизни средневекового общества, которые создатели источников освещать не собирались — либо по идейным соображениям, либо потому, что это казалось им слишком банальным и недостойным внимания. Технология производства, урожайность сельскохозяйственных культур, имущественное расслоение, тип семьи, повседневная жизнь, мировосприятие народных масс — все это и многое другое крайне редко находило непосредственное отражение в источниках. Искомые сведения присутствуют, как правило, в виде скрытой информации (запечатлевшейся помимо воли автора), уловить которую бывает чрезвычайно трудно. До недавнего времени источниковедение различало внешнюю и внутреннюю критику источника, т. е. анализ рукописной традиции, стиля, формуляра текста, и, с другой стороны, анализ его смыслового содержания. Однако современное источниковедение основывается на комплексном, целостном изучении памятника. Изучение, например, эволюции формуляра документа проливает свет на социальноэкономическое развитие общества, а исследование содержания текста нередко становится решающим при определении его достоверности, датировке и т. д. Незаменимую помощь в интерпретации источника как продукта определенной социокультурной среды оказывают неписьменные источники и изучающие их вспомогательные исторические дисциплины: историческое ландшафтоведение, археология, этнография, ономастика (наука об именах собственных, в том числе о географических названиях), искусствознание, нумизматика и др. Не менее важно хорошо знать средневековые реалии, ориентироваться в средневековой генеалогии, геральдике, хронологии, метрологии, титулатуре, географии, а также в церковной топике (в типичных, часто употребляемых образах и выражениях) и догматике. Рассмотрение источников в их историческом контексте следует сочетать с изучением их рукописной традиции, судьбы в рамках многовековой истории архивных и библиотечных фондов. Этим занимаются такие специальные дисциплины, как кодикология — наука, изучающая средневековую рукописную книгу в целом; палеография, рассматривающая древнее письмо как таковое; археография, занимающаяся выявлением, обработкой и изданием текстов; дипломатика, анализирующая документы с точки зрения их подлинности, типичности и т. п.; сфрагистика (сигиллография), исследующая печати. Надежным средством познания прошлого остается апробированный многими поколениями ученых метод сочетания данных различных видов и классов источников, которые, освещая общество как бы с разных сторон, не просто дополняют, но и корректируют друг друга. В последние десятилетия этот метод получил дополнительный импульс в связи с развитием междисциплинарных исследований. Широко проникают в медиевистику количественные методы анализа источников. Источники по истории V—XI вв. Раннее средневековье характеризуется переходом от античности и варварства к феодализму, и это в полной мере отразилось на источниках V—XI вв. Это эпоха господства натурального хозяйства, слабых торговых и иных связей между странами и областями, весьма примитивной государственности, низкой грамотности и растущей клерикализации культуры. В раннее средневековье большинство населения Западной и Южной Европы жило по старым римским законам, постепенно приспособляемым к меняющейся действительности. В VI в. по распоряжению византийского императора Юстиниана I они были кодифицированы. Это законы римских императоров II — начала VI в. (так называемый Кодекс Юстиниана), «Новые законы» (новеллы) самого Юстиниана, систематизированные высказывания наиболее авторитетных юристов античности (так называемые Дигесты, или Пандекты), а также краткий специальный учебник права (Институции). Все они составили обширный свод, получивший позднее, в XII в., название «Корпус юрис цивилис» — «Свод гражданского права». Тогда же, в XII в., оформился и так называемый «Корпус юрис каноницис» — «Свод канонического права», вобравший в себя важнейшие акты церковного законодательства; последнее помимо собственно церковных дел регулировало также многие сферы повседневной жизни верующих. Поскольку законодательная комиссия Юстиниана отбирала те из древних законов, которые сохраняли значение, не только «Новеллы», но и весь «Свод гражданского права» является ценным источником по истории VI в. В дальнейшем в Византии этот памятник неоднократно перерабатывался, послужив основой для всего раннесредневекового византийского законодательства («Эклога» 726 г., «Василики» 886— 912 гг. и др.). На Западе Свод Юстиниана почти не был известен до XI— XII вв., когда в условиях возникшего оживления товарно-денежных отношений и усиления королевской власти началась так называемая рецепция (перенимание и усвоение) римского права. До этого западноевропейские юристы пользовались более ранним сводом римских законов — Кодексом императора Феодосия II (438 г.). На его основе в начале VI в. в некоторых варварских королевствах были составлены юридические компиляции, предназначенные для романизированного населения («Римский закон вестготов» и др.). Это романизированное население и в дальнейшем придерживалось римских правовых норм, превращавшихся постепенно в обычай. Римское право оказывало определенное влияние и на формирующееся королевское законодательство. Германские, кельтские и славянские народы, обосновавшиеся на территории бывшей Римской империи, сохранили свои древние обычаи, передававшиеся изустно из поколения в поколение и менявшиеся очень медленно. Образование у них государств, а также тесное соприкосновение с «римлянами», имевшими письменные законы, вызвали необходимость в фиксации этих обычаев на письме. Результатом явились записанные с конца V в. по начало IX в. судебники, известные в нашей медиевистике как «правды» (Бургундская, Вестготская, Салическая, Саксонская и т.д.). На Британских островах в связи с замедленными темпами феодализации такие судебники были составлены позднее, в VII—XI вв., в Скандинавии по той же причине — в XII—XIII вв., причем в обоих случаях на народных языках в отличие от континентальных судебников, записанных на латыни. Представляя собой запись действующих правовых норм, варварские правды, однако, не были вполне адекватны древним обычаям. Составители записывали далеко не все из них, фиксируя в основном штрафы и другие наказания за различные преступления и проступки; производя отбор, они вносили в текст и некоторые добавления и изменения, отражающие складывание нового общественного строя и государства. Тем не менее ранние редакции правд сохранили важнейшие нормы древнего обычного права; в этом плане особый интерес представляет Салическая правда, созданная в начале VI в. (см. гл. 4). Из добавлений и поправок к правдам постепенно выросло королевское законодательство. Наиболее значительным его памятником являются капитулярии франкских королей (от латинского слова capitula — главы, на которые подразделялся текст законов), обретшие свою классическую форму на рубеже VIII—IX вв. Сочетая в себе черты публичного, т. е. государственного, и частного, т. е. вотчинного, права, капитулярии содержат разнообразнейшую информацию о хозяйстве, социальном строе, политических институтах, военном деле и т. п. По сравнению с законодательными источниками, доступными исследователю истории практически всех стран Европы той эпохи, документальные источники распределяются по регионам очень неравномерно, что объясняется как неодинаковой изначальной распространенностью документации в разных странах, так и неодинаковой ее сохранностью. В Северной и Центральной Европе к письменному оформлению сделок, распоряжений и других актов стали прибегать (притом изредка и в основном по инициативе государства и церкви) только на исходе раннего средневековья; до этого деловые соглашения заключались при помощи торжественных ритуализированных процедур на народных собраниях в присутствии значительного числа свидетелей. На территории бывшей Римской империи составление документов оставалось достаточно привычным делом, однако в ряде случаев внешние факторы, например захват арабами большей части Испании или турецкое завоевание Византии, приводили к гибели архивов, ломали сложившееся публичное делопроизводство и почти полностью лишили нас раннесредневековой документации из этих стран. Недолговечность папируса, на котором в основном писали в то время, также препятствовала сохранению этой документации. В значительном количестве она уцелела (благодаря особым климатическим условиям) только в Египте; немногочисленными, в несколько десятков единиц, памятниками представлены также Италия и Галлия. От VIII в. до нас дошли сотни документов (теперь уже на пергамене), преимущественно из Италии, прирейнской и придунайской Германии и Северо-Восточной Франции, от IX—X вв. — также из других районов Франции, из Испании и Англии. В XI в. количество западноевропейских документов (называемых чаще всего грамотами, а также хартиями, актами) измеряется уже многими тысячами. Подавляющее большинство их происходит из церковных архивов и сохранилось не в подлинниках, а в копиях — как правило, переписанных, иногда с сокращениями и вставками (интерполяциями), в специальные сборники — так называемые картулярии (от латинского carta — грамота). Практически все документы этого времени написаны на латыни. Документы делопроизводства раннего средневековья закрепляли разнообразные, хотя и не все существовавшие тогда правоотношения. Они фиксировали постановления королевских, реже — княжеских судов, личные распоряжения и пожалования монархов (так называемые дипломы), акты дарений, купли-продажи, обмена и предоставления в держание земли, оформляли завещания, вступление в зависимость, а также некоторые процедуры церковной жизни: избрание аббатов, освящение церквей и т. д. Лучше всего сохранились грамоты, удостоверяющие законность смены земельного собственника. Акты о вступлении в зависимость, арендные договоры, довольно быстро терявшие значение, берегли меньше; сделки с движимым имуществом, долговые обязательства, решения по уголовным делам и т. д. сравнительно редко подлежали тогда фиксации на письме, как слишком маловажные в глазах современников. Грамоты составлялись по определенным образцам, они назывались формулами. В абстрактной форме, без упоминания конкретных имен, дат, географических названий, чисел в них излагалось существо дела: дарение земельного участка, освобождение раба и т. п. Отражая несомненно типичные правоотношения, формулы как источник по социально-экономической и социально-политической истории очень ценны; иногда (как это было, например, в вестготской Испании) наличие сборника формул отчасти компенсирует утрату настоящих документов. Но в целом благодаря своей конкретности (а порой и отступлениям от образца) грамоты, тем более комплексы грамот, неизмеримо богаче информацией. Это важнейший источник по истории экономики, общественного строя, политических институтов, верований, по хронологии, ономастике, географии, генеалогии. Наряду с документами делопроизводства в распоряжении историка раннего средневековья имеются документы инвентарные, представленные главным образом описями церковных поместий. Науке известны несколько их десятков (в основном французских, немецких и итальянских), созданных с VI по XI в. Называют их обычно политиками, что по-гречески означает «многолистные», т. е. попросту книги. В большинстве своем это перечни крестьянских держаний, как правило, с указанием местонахождения и причитающихся с них повинностей, иногда также имен и социального статуса держателей и членов их семей. Эти и некоторые другие данные, содержащиеся в полиптиках, давно сделали их классическим источником по истории раннефеодальной вотчины. В последние годы они активно используются также при изучении демографии, истории поселений и социальной психологии. Раннесредневековые нарративные источники разнообразны и многочисленны. До нас дошли, разумеется, далеко не все сочинения, созданные в ту эпоху. Очень немногие из них пользовались даже региональной, тем более общегосударственной известностью; большинство авторов довольствовалось составлением одного, доступного весьма ограниченному кругу лиц, экземпляра, судьба которого зависела от множества случайностей (войн, пожаров и т.д.), не говоря уже о перипетиях политической и религиозной борьбы, в ходе которой расправлялись не только с людьми, но и с книгами. Дороговизна пергамена также мешала сохранности раннесредневековых сочинений, поскольку нередко старый текст соскабливали, чтобы освободить место для нового (так называемые палимпсесты). Среди историографических сочинений раннего средневековья на первое место следует поставить «истории» — крупные произведения, посвященные серии значительных и в основном современных автору политических событий. Примером может служить «История войн Юстиниана» византийского историка Прокопия Кесарийского (VI в.), написанная в традициях классической античной историографии. Несколько иной характер имеют западноевропейские «истории» того времени: «История франков» Григория Турского (VI в.), «Церковная история народа англов» Беды Достопочтенного (VIII в.). Они создавались в рамках позднеантичной христианской традиции, делавшей упор на изложение истории от сотворения мира. Текущие события занимают центральное место и здесь, но они лишь венчают пространные повествования о давних временах, построенные на Библии, сочинениях предшественников и устных преданиях. Такие повествования послужили одним из истоков жанра хроники, представляющего собой соединение оригинального конкретного рассказа о современных и хорошо известных автору событиях в одной стране (княжестве, городе) с компилятивным и схематичным очерком «мировой» истории предшествующего периода. Наряду с историями и хрониками средневековая историография представлена также биографиями (например, «Жизнь Карла Великого» Эйнгарда, начало IX в.) и анналами — погодными записями наиболее важных событий. Анналы являются достаточно краткими, сухими, внешне беспристрастными перечнями малосвязанных между собой основных вех политической и церковной жизни, пришедшихся на тот или иной год. Большинство анналов называются по монастырям и кафедральным соборам, в которых они создавались. Расцвет западноевропейской анналистики приходится на VIII—X века. Важным источником по истории раннего средневековья являются агиографические сочинения: жития реальных и вымышленных людей, причисленных церковью к лику святых, описания их подвижничества, мученичеств, видений и чудес. Создание большинства из них приходится на период христианизации (в Галлии это IV— VI вв., в Британии и Германии — VII—VIII вв. и т.д.), а также на время крупных потрясений внутри самой церкви, например на эпоху иконоборчества в Византии (VIII— IX вв.). Разумеется, события, о которых повествуют агиографы, следуя определенному принятому трафарету, иногда вымышлены, однако авторы сообщают и о вполне реальных людях, которых знали лично, в том числе о крупных политических деятелях [о канцлере Людовика Благочестивого аббате Бенедикте Анианском, о «крестителе Скандинавии» гамбургском епископе Ансгарии (IX в.) и др.]. Кроме того, даже самые неправдоподобные жития содержат огромное количество побочной и потому достаточно достоверной информации по истории материальной культуры и экономики, судопроизводства, классовых конфликтов, быта и нравов, верований, а также по исторической географии и генеалогии. Будучи наиболее читаемым, а главное пропагандируемым с церковной кафедры жанром ран-несредневековой литературы, агиография ценна также для изучения духовной культуры простого народа. С этой же точки зрения значительный интерес для медиевиста представляет церковная проповедь. Поясняя сложные места из Библии, внедряя в сознание паствы христианские заповеди, рассказывая о подвигах и благодати праведников, проповедник должен был, дабы сделать свою речь доходчивой и действенной, учитывать кругозор и умонастроение прихожан и поэтому обязательно приводил примеры из жизни, апеллировал к их представлениям о мире, справедливости, добре и зле. При работе с этим источником главная проблема — отделить реальные штрихи от общих мест (топосов). Публицистика в рассматриваемую эпоху еще не выделилась в самостоятельный жанр и была как бы растворена в историографии, а также в посланиях (ценных как источник и по другим аспектам истории, от экономики до философии) и особенно в трактатах, имевших часто открыто дидактический характер. Таковы, например, трактат «О дворцовом и государственном управлении», написанный реймсским архиепископом Гинкмаром для короля Карла Простоватого (конец IX в.), и трактат «Об управлении империей», адресованный византийским императором Константином VII Багрянородным своему сыну Роману (середина X в.). Подобные наставления интересны не только как памятники общественной мысли; они содержат важные сведения о государственном строе, внешней политике, соседних народах, взаимоотношениях внутри господствующего класса и т. д. По-своему прагматично и большинство других, неполитических трактатов. Так, «Христианская топография» византийского купца Косьмы Индикоплова (VI в.) рассказывает об облике и богатствах заморских стран, о торговых путях, ведущих в эти страны; «Установление для мирян» орлеанского епископа Ионы (начало IX в.) имеет целью привить франкской знати христианские нормы бытового и публичного поведения; анонимный английский трактат начала XI в. «Обязанности различных лиц» служит наставлением вотчинникам в вопросах хозяйствования и в отношениях с вассалами. Несколько более академичны общие и специальные энциклопедии того времени: «Этимологии» Исидора Севильского (начало VII в.), «О вселенной» майнцского архиепископа Рабана Мавра (начало IX в.), византийские «Геопоники» (середина X в.), представляющие собой сумму агрономических и агротехнических знаний. Эти сочинения содержат интересный, иногда уникальный материал по самым разным вопросам; ценность его, однако, снижается тем, что создатели таких компендиумов часто (в том числе говоря о праве, экономике, географии) основывались не на современных свидетельствах, а на сообщениях наиболее чтимых древних авторов. Будучи не всегда оригинальными, произведения раннесредневековых писателей являются именно поэтому важным источником по истории образованности и культуры в целом, так как позволяют понять, что читали изучаемые авторы и их современники, что и в каком виде сохранило раннефеодальное общество из классического наследия. Многое в этом плане может дать и анализ (качественный и количественный) рукописной традиции — ведь подавляющее большинство сочинений античных писателей дошло до нас именно в раннесредневековых списках, как византийских, так и западноевропейских. С этой же точки зрения целесообразно подходить и к художественной литературе этой эпохи, по крайней мере «ученой», латиноязычной литературе, нередко также подражательной. Помимо того что из нее можно почерпнуть сведения о многих сторонах придворной, военной, социальнополитической, а иногда и хозяйственной жизни, сама тематика и стиль ее, ориентация на определенную (чаще всего античную или библейскую) систему художественных образов проливают свет на культурное развитие общества. Принципиально иной облик свойствен народной литературе раннего средневековья, тесно связанной с фольклором и представленной по преимуществу героическими песнями и сказаниями, создававшимися уже на народных языках. Таковы немецкая «Песнь о Хильдебранте» и английский «Беовульф», дошедшие в списках IX—X вв., германский эпический памятник «Песнь о Нибелунгах», французская «Песнь о Роланде», исландские саги, уцелевшие в записях и обработке XI—XIII вв. В любом случае, однако, это произведения раннего средневековья, отражающие реалии и мышление этого периода. Памятники раннесредневекового эпоса служат очень ценным, иногда незаменимым (как саги) источником по самым разным вопросам, рисуя нам живую, красочную картину общества. Источники по истории XI—XV вв. Прогресс производительных сил, рост городов, формирование централизованных государств, наступление нового этапа в истории культуры в период развитого феодализма сказались и на характере источников. Их становится намного больше, появляются новые виды, усложняется структура. Углубление общественного разделения труда, развитие товарноденежных отношений требовали более детального юридического оформления договоров и сделок, а совершенствование аппарата управления, расширение его функций повлияли на официальное делопроизводство. Дипломатика различает акты публичные и частные. К числу первых относятся грамоты и дипломы императоров, королей, феодалов, обладавших суверенными правами, городских коммун и сеньорий, а также глав церковного управления — римских пап, патриархов и епископов. К грамотам на шнурках нередко привешивались печати, по названию которых иногда именовали и сам документ. В Византии, например, императорские пожалования в виде грамоты с золотой печатью назывались хрисовулами («злато-печатным Словом»), а в папской канцелярии, где использовались свинцовые печати — буллы, сами «апостольские послания» стали именовать буллами. К частным актам относят документы, составленные нотариями, лицами, получившими специальное юридическое образование и обладавшими особым статусом, который давался им императорами, королями или папами. Нотарии составляли документы по строго определенным образцам для каждого типа актов. В случае нарушения условий сделки пострадавшая сторона могла представить нотариальный акт в суд как официальный документ для разбора дела. Нотариальными актами оформлялись купля-продажа имущества, долговые обязательства, сдача в аренду, контракты по транспортировке грузов и фрахт судов, заключение коммерческих соглашений и образование торговых обществ, завещания, дарения, отпуск на волю рабов и т. д. Нотариальные акты дошли до нас в основном в виде копий или кратких записей (минут) в составе картуляриев, сдаваемых для хранения в городские архивы. Богатейшими собраниями актов располагают, например, архивы Италии. Институт нотариата получил наибольшее распространение в XII—XV вв. в странах Средиземноморья. С конца XIV в. дорогостоящие для заказчиков нотариальные акты начинают вытесняться частными записями, не имевшими юридической силы. Их распространению содействовали торговые компании с развитой системой внутреннего делопроизводства. Компании и банки, а также отдельные купцы использовали для учета движения капиталов и товаров книги бухгалтерской отчетности (счетные книги). Постепенно, с середины XIV в. эти счетные книги, основанные на наиболее совершенной для того времени бухгалтерской системе, с взаимопроверяемыми статьями дебита и кредита, стали использоваться и в финансовой практике итальянских республик (Флоренции, Генуи, Венеции) и других государств Западной Европы. Для ориентации в сложном мире коммерции создавались руководства по ведению торговли, с информацией о конъюнктуре на всех известных рынках Европы и Левана. Наиболее известна из них «Практика торговли» флорентийца Фран-ческо Балдуччи Пеголотти (первая половина XIV в.). Важными источниками по истории хозяйства являются земельные описи и кадастры (переписи населения, уплачивавшего налоги), составляемые с фискальными целями. К ним относятся, например, английская «Книга Страшного суда» (1086) —материалы всеобщей поземельной переписи королевства, произведенной с целью определить возможности налогообложения на территории Англии, а также «Сотенные свитки» — описи земельных владений Англии конца XIII в. Византийские земельные описи назывались практиками. Они составлялись либо в связи с передачей земельному собственнику определенных владений с правом сбора налогов в свою пользу, либо в связи с очередной кадастрской ревизией. В основном сохранились монастырские практики. Большим разнообразием отличаются юридические источники периода развитого феодализма. Подъем городов, складывание городского самоуправления требовали правовой регламентации как внутригородской жизни, так и отношений с феодальными сеньорами. На основе договоров с последними, местных обычаев и рецепции римского права формируется собственно городское право, отраженное в городских хартиях и статутах. Одной из наиболее древних является хартия, пожалованная французским королем Людовиком VI городу Лорису (Орлеанэ) в первой половине XII в. По ее образцу давались многие другие хартии, оформлявшие ограниченные городские привилегии на землях королевского домена. Статуты итальянских городов, нередко объединяемые в большие, веками составлявшиеся своды, как, например, «Книга прав Генуэзской Республики», предусматривали гораздо более широкие свободы, оформляли независимость городов-коммун от феодалов и автономию от императорской власти, регламентировали все стороны хозяйственной жизни. Помимо городских статутов существовали статуты цехов, торговых корпораций, университетов, уставы монастырей. Первым европейским цеховым статутом была византийская «Книга эпарха» X в. — сборник постановлений, касающихся торгово-ремесленных коллегий Константинополя (см. гл. 5). Однако цель составления «Книги эпарха» заключалась в детальном правительственном регулировании и контролировании деятельности коллегий, лишенных хозяйственной самостоятельности. Иной характер имели цеховые статуты западноевропейских городов XIII—XV вв., оформлявшие создание и функционирование самоуправляемой цеховой общины с присущей ей социальной иерархией мастеров, подмастерьев и учеников. К ним относятся, например, «Книга ремесел города Парижа» XIII в., многочисленные уставы цехов германских городов (Кёльна, Любека, Франкфурта и др.) XIV—XV вв. В XIII—XV вв. составляются записи феодального обычного права, действовавшего в отдельных областях или провинциях Западной Европы. К ним относятся французские кутюмы, немецкие «зерцала», испанские фуэрос. Эти памятники хорошо отражают специфические формы феодальной земельной собственности, структуру господствующего класса, характер эксплуатации крестьян, местные особенности административного управления и судопроизводства. Некоторые кутюмы, особенно южнофранцузские, испытали значительное влияние норм римского права. Наиболее известны «Кутюмы Бовези» — запись права Северо-Восточной Франции (конец XIII в.), «Саксонское зерцало» (начало XIII в.), с характерным разделением права на ленное (только для лиц феодального сословия) и земское (для неблагородных, но лично свободных). Права низших сословий, в том числе зависимых крестьян, в этом законодательстве не фиксировались. К этой же категории источников относится и право государств крестоносцев на Востоке — «Иерусалимские ассизы», также распадающиеся на «Книги Ассиз Высшего Суда» и «Книги Ассиз Суда горожан», а также «Ассизы Романии», составленные в Морее, на Пелопоннесе, на рубеже XIII и XIV вв. Первоначально «Ассизы Романии» были не официальной, а частной судебной компиляцией. Кодификация их была произведена Венецианской республикой в XV в. Наряду с записью кутюм в государствах Европы развивалось и королевское (императорское) законодательство: ордонансы во Франции и Англии, привилегии, патенты и мандаты в Священной Римской империи. Византийское право в это время по-прежнему основывалось на нормах Юстинианова права. Различные юридические компиляции (Прохирон и Василики конца IX в., Пира XI в., «Шестикнижие» фессалоникийского судьи XIV в. Константина Арменопула) лишь систематизировали и комментировали это право, а также несколько модернизировали его. Императорские законы в Византии назывались новеллами. В XI—XV вв. они чаще всего издавались в виде жалованных грамот. Новые виды источников появляются в период становления сословной монархии. Это парламентские акты и статуты в Англии, протоколы заседаний Генеральных и провинциальных штатов во Франции, акты германских имперских собраний, решения кастильских и арагонских кортесов и т. д. Протоколы судебных решений и заседаний непосредственно отражают различные стороны имущественных и социальных отношений, позволяют проверить эффективность и направленность действующего законодательства. В XIII—XV вв. наряду с королевскими и городскими, а также вотчинными судами появляются специализированные судебные магистратуры, рассматривающие определенный род дел. К ним относится, в частности, венецианский апелляционный суд по торговым искам. Акты специальных судебных комиссий (например, инквизиции) содержат важные сведения по политической истории, истории классовой борьбы и народно-еретических движений. Стремление к систематизации знаний, хозяйственного опыта привело к умножению такого вида источников, как трактаты. Они охватывают почти все сферы науки и общественной практики: от математики и астрономии до политики, военного дела и земледелия. К агрономическим трактатам относятся, например, византийские «Геопоники» (X в.) и сочинение итальянца Пьетро Крешенци (1305). Большую известность получил трактат византийского императора Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» (X в.). В ряде теологических трактатов, например в «Сумме теологии» Фомы Аквинского (XIII в.), изложены, помимо прочего, средневековые экономические теории. Трактат английского аббата Неккама «Об утвари и орудиях труда» (конец XII в.) детально рисует картину крестьянского хозяйства. Среди нарративных источников XI—XV вв. наиболее важны исторические сочинения — анналы, хроники и истории. В XII— XIII вв. анналы, особенно церковные, с их схематизмом, локальностью все более вытесняются хрониками, авторами которых нередко были и светские люди. Хронисты XII—XV вв. обладали несравненно большим кругозором, чем их предшественники — анналисты. С XIII в. они нередко писали свои сочинения не на латыни, а на народных языках. Хроники отличаются большей детальностью описания событий, их авторы не просто регистрировали факты, но и стремились дать им собственную, пусть идеалистическую, интерпретацию. Вера в чудеса, божественное провидение (провиденциализм), отсутствие критики источника отличали хро-нистику XII—XIV вв. Большое число хроник связано с историей крестовых походов. Среди них «Деяния франков и прочих иеруса-лимцев», написанные простым и не слишком образованным рыцарем, участником Первого крестового похода; «Деяния бога через франков» (начало XII в.), чьим автором был ученый аббат Гвиберт Ножанский; «Взятие Константинополя» одного из вождей Четвертого крестового похода, маршала Шампани Жоффруа Виллардуэ-на, и описание того же события амьенским рыцарем Робером де Клари. Две последние хроники написаны на французском языке. С XIII в. создаются сводные хроники, относящиеся к истории страны в целом. Это Большие французские хроники, Сент-Олбан-ские хроники в Англии (XIII—XV вв.), Всеобщая испанская хроника, составленная в XIII в. кастильским королем Альфонсом X и продолженная в XIV в. В Италии и Германии хроники в основном освещают историю отдельных областей и городов. Со второй половины XIII в. появляются и историко-мемуарные произведения, например Жана де Жуанвиля, маршала Шампани (конец XIII — начало XIV в.) и Филиппа де Коммина, советника короля Людовика XI (конец XV в.). С конца XIV в. в Италии зарождается гуманистическая историография, более решительно разрывающая с провиденциализмом, стоящая на позициях рационального истолкования событий с элементами научной критики источника. Вместе с тем она испытала значительное влияние образцов античной историографии («История Флоренции» Леонардо Бруни, конец XIV в., и др.). Эти образцы никогда не были забыты в Византии, где исторические сочинения довольно четко делились на «истории», написанные классическим языком и охватывающие сравнительно небольшой промежуток времени, и «хроники». Византийские хроники делятся на всемирные, с сухим, суммарным изложением фактов, начиная от сотворения мира до времени составления хроники, краткие (памятные хронологические записи произвольно отбираемых событий) и местные, появившиеся в период децентрализации Византии, в XIII— XV вв., и освещающие историю отдельных династий или городов. С XIV в. в Византии также появляются историко-мемуарные произведения (сочинение императора Иоанна VI Кантакузина, «Малая хроника» Георгия Сфрандзи и др.). Значительное влияние на историографию и на другие жанры литературы оказывала риторика. Многие собственно риторические произведения содержат ценную информацию об исторических явлениях и реалиях. Это так называемые экфрасы (описания) византийских городов и энкомии (похвальные слова) императорам и другим политическим и церковным деятелям. Наши знания о средневековом мире, о системе дорог и коммуникаций в значительной мере основываются на «Книгах путешествий», итинерариях (описаниях маршрутов путей), навигационных картах-портоланах. Наиболее известна «Книга» венецианского путешественника XIII в. Марко Поло, посетившего страны Леванта, Юго-Восточной и Средней Азии, Китая. Немалую ценность представляет и средневековое эпистолярное наследие, насчитывающее сотни тысяч писем, различных по типу и содержанию: от деловых и дипломатических до литературных, рассчитанных на публикацию и широкое распространение и создаваемых по строго соблюдаемым специальным канонам. Большая группа источников отражает разные стороны деятельности римско-католической и православной церквей. Это и акты соборов, и папские и патриаршие послания и постановления, и богатейшая богословская и полемическая (против иноверцев, еретиков, схизматиков, вероотступников) литература. Для медиевиста интересна и церковная проповедь, дающая представление о системе ценностей средневекового человека, о его мировосприятии, о позиции церкви по важнейшим политическим, экономическим и моральным вопросам. Правила составления и произнесения проповеди предписывала гомилетика, специальная дисциплина, опиравшаяся на многовековую практику риторики. Покаянные книги (пенитенциалии) в отличие от проповедей предназначались не для оглашения, а для внутреннего использования проповедниками. Классифицируя и анализируя типичные прегрешения прихожан, назначая за них разные виды покаяния, пенитенциалии содержат богатый материал о повседневной жизни простых людей, о народной культуре средневековья. Весьма многообразны и литературные памятники периода развитого феодализма — от рыцарского романа и поэзии трубадуров и вагантов до народных песен и баллад. Глава 2. Понимание сущности феодализма в исторической науке Понимание феодализма в историографии XVIII в. Термин «феодализм» стал широко употребляться в исторической науке с начала XVIII в. Произошел он от латинского слова feodum — феод, которым в средние века во многих странах Западной Европы обозначались наследственное «условное» земельное держание, получаемое вассалом от сеньора на условии выполнения какой-либо (обычно военной) службы. Историки эпохи Просвещения впервые стали рассматривать феодализм как строй, господствовавший в средневековой Европе, трактуя его только как политическую или правовую систему. Главными чертами феодализма некоторые из них считали политическую раздробленность и как следствие ее — господство в средние века папской теократии. Другие, в частности Монтескье и Мабли (во Франции), определяли феодализм как систему феодов и феодальной иерархии. Историки-просветители относились к феодализму, как и к средневековому периоду, в целом отрицательно. Понимание феодализма в историографии первой половины XIX в. Историки первой половины XIX в. в определении сущности феодализма недалеко ушли от историков эпохи Просвещения, хотя в отличие от них оценивали феодализм как положительное историческое явление: реакционные романтики — потому, что видели в нем свой политический идеал, либерально-буржуазные — потому, что в рамках феодального строя зародились, выросли в борьбе с дворянством предшественники современной им буржуазии в лице «третьего сословия». И те и другие в большинстве своем также понимали феодализм как систему политической раздробленности или господства вассально-ленных отношений. Французский буржуазно-либеральный историк Ф. Гизо дал на этой основе определение феодализма, надолго затем укоренившееся в буржуазной медиевистике. Основными чертами феодализма он считал: 1) условный характер земельной собственности, 2) соединение земельной собственности с верховной властью, 3) иерархическую структуру класса феодальных землевладельцев. Формула Гизо правильно характеризовала социальные отношения, существовавшие внутри господствующего класса феодалов, но страдала односторонностью и неполнотой, так как не затрагивала основы социальной структуры феодального строя — отношений между феодалами и крестьянами. Акцентируя внимание на второстепенных, хотя и наиболее бросающихся в глаза, его чертах, историки начала XIX в. видели в феодализме специфическое западноевропейское явление. Наиболее передовые из буржуазных ученых (О. Тьерри, Ж. Мишле — во Франции, К. Ф. Шлоссер, В. Циммерман — в Германии, Т. Н. Грановский — в России) в конкретной характеристике феодального строя подчеркивали его эксплуататорский характер по отношению к крестьянству. Понимание феодализма К. Марксом и Ф. Энгельсом. Основоположники марксизма впервые выдвинули материалистическое понимание феодализма как особой социально-экономической формации, существовавшей на протяжении столетий у многих народов мира. Они проанализировали основные экономические и социальные черты этого строя, пути его возникновения, развития и гибели в Западной Европе. В своих работах («Немецкая идеология», «Манифест Коммунистической партии», «Капитал», «Анти-Дюринг» и др.) К. Маркс и Ф. Энгельс дали глубокую характеристику феодального способа производства (см. введение). Научная теория феодализма и ее важнейшая составная часть — учение о феодальной ренте — позднее были развиты и обогащены в трудах В. И. Ленина («К характеристике экономического романтизма», «Развитие капитализма в России», «Аграрный вопрос в России к концу XIX века», «О государстве» и др.). Вместе с тем, характеризуя феодальный строй в целом, К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали значительную, хотя и не определяющую роль в его структуре политического фактора (связь крупного землевладения с политической властью) и личностных связей как между крестьянами и феодалами, так и внутри класса феодалов, в виде вассально-ленной системы. Эволюция понимания феодализма в буржуазной медиевистике второй половины XIX в. Со второй половины XIX в. буржуазные ученые также неоднократно пытались дать более глубокие, соответствующие, по их мнению, новому уровню развития науки, определения феодализма. Эти поиски отражали также возросший интерес буржуазной исторической науки к экономической и социальной проблематике в условиях быстроразвивающегося капитализма. Такую тенденцию обнаружили уже немецкие буржуазно-либеральные историки 40—70-х годов Г. Л. Маурер, Г. Вайц, П. Рот, О. Гирке и др. Правда, все они в своих попытках определения феодализма были также близки к Гизо. Но именно они впервые на богатом конкретном материале показали, что политико-правовые признаки феодализма имеют своим основанием крупную земельную собственность. Поэтому Г. Маурер, например, связывал развитой феодализм с вотчинным строем, Г. Вайц и П. Рот, хотя и понимали процесс феодализации как утверждение бенефициальной, позднее военно-ленной системы, также видели его материальную основу в утере свободными общинниками своей земли и свободы. Еще дальше в этом направлении пошли многие историки-позитивисты, полагавшие, что на развитие общества наряду с факторами духовными и политико-правовыми воздействуют и материальные: географическая среда, движение народонаселения, экономические отношения. Последним позитивистские ученые, особенно примыкавшие к так называемому историко-экономическому направлению, придавали нередко весьма значительное, а в некоторых конкретных исследованиях иногда даже первостепенное значение. Они ближе, чем все их предшественники, подошли к социально-экономической трактовке феодализма. Феодализм в трактовке «классической вотчинной теории» второй половины XIX в. Эта теория широко распространилась в европейской медиевистике в последней трети XIX в. Ее создатели и последователи — К. Инама-Штернегг, К. Лампрехт, К. Бюхер и многие другие — в Германии; Н.-Д. Фюстель де Куланж, Э. Глас-сон, А. Сэ и другие — во Франции; Т. Роджерс, У. Кеннингем, Ф. Сибом и другие — в Англии; М. М. Ковалевский, П. Г. Виноградов, Н. И. Кареев, Д. М. Петрушевский, А. Н. Савин и другие — в России — при всех различиях во взглядах сходились в одном. Все они считали, что экономический фундамент феодального строя и его основную ячейку составляла крупная вотчина, основанная на барщинном труде зависимых крестьян, сидевших на помещичьей земле, в которой господствовало натуральное хозяйство. Тем самым они характеризовали феодализм не только политикоюридическими, но и социально-экономическими признаками. Однако сторонники «классической вотчинной теории» пытались совместить это новое понимание феодализма с традиционным, политико-юридическим, что достигалось разными способами. Чаще всего историки этого толка (например, Н.-Д. Фюстель де Куланж, Э. Глассон, П. Виолле, А. Сэ, Т. Роджерс, Ф. Сибом и многие другие ученые) отличали феодализм «в собственном смысле слова» от его экономических предпосылок. Первый они определяли как вассально-ленную систему; вотчинный же, или сеньориальный (в Англии — манориальный), строй, крестьянско-сеньориальные отношения, а также натуральное хозяйство они выводили за рамки собственно феодализма, рассматривая его в качестве экономического фона последнего, развивавшегося параллельно этому политико-правовому строю. Другие ученые историко-экономического направления включали социально-экономические признаки в характеристику феодализма, но трактовали этот строй как совокупность равноправных факторов: политического, социального, экономического, — не отводя определяющего места ни одному из них. Так смотрели на феодализм К. Лампрехт, М. М. Ковалевский, П. Г. Виноградов, Н. И. Кареев и некоторые другие. Формулировку Гизо они относили только к политической стороне феодализма; социально-экономическую же сторону они видели в господстве натурального хозяйства и вотчинного строя. Дальнейшим развитием этой концепции феодализма стала в конце XIX — начале XX в. теория «двух феодализмов» — «политического» и «социального» (ее придерживались Д. М. Петрушевский, А. Н. Савин, американский медиевист Дж. Б. Адамс и некоторые другие). Таким образом, историкипозитивисты не признавали определяющей роли социально-экономической основы феодального строя — господствующих отношений собственности; объясняя возникновение этого строя, они отдавали предпочтение роли государства или социально-психологическому фактору. Наиболее распространенным и среди сторонников вотчинной теории был взгляд, согласно которому главным источником возникновения феодального строя явилась не эволюция отношений собственности и социальной структуры общества, а необходимость для стоящего над обществом, как они считали, государства организовать военные силы страны в условиях натурального хозяйства. Для этого государство вынуждено было создать военноленную систему, обеспечив ее функционирование с помощью вотчинного строя. В такой трактовке и сам вотчинный строй выступал в идеализированном виде: вотчина рисовалась как орган классовой гармонии между связанными якобы общими экономическими и политическими интересами феодалами и крестьянами. При этом сторонники классической вотчинной теории игнорировали главное социальное назначение вотчины — организацию эксплуатации крестьянства, — выдвигая на первый план ее чисто хозяйственные функции. При этом вотчине необоснованно приписывалась роль единственного носителя и организатора технического и социального прогресса в феодальном обществе, особенно в раннее средневековье. Понимание феодализма как системы личных связей. В 80-е годы XIX в. традиционная политико-юридическая трактовка феодализма была модифицирована французским историком Ж. Флакком, предложившим понимать феодализм как систему личных связей. Абсолютизируя роль этих связей в феодальном обществе, Флакк считал, что источником его возникновения и подлинной его основой были не поземельные, а личные отношения «верности» и «покровительства» между сеньорами и вассалами. Эти личные отношения, по мнению Флакка, возникали вне всякой связи с земельными пожалованиями, но в силу присущих людям потребностей в защите и чувства любви к близким — семье, товарищам, сеньору и ненависти к чужакам. К одной и той же сфере «личных связей» Флакк относил и вассальные связи между феодалами, и крестьянско-сеньориальные отношения. Лишь позднее, по его мнению, эти личные связи стали дополняться поземельными, которые постепенно, в XII—XIII вв., стали определяющими в феодальном обществе. Такая социально-психологическая трактовка феодализма была направлена против экономического детерминизма в подходе к истории, подчеркивая роль в ней человеческого фактора. Однако Флакк впадал в другую крайность, недооценивая роль материальных, экономических интересов в развитии феодального строя. Понимание феодализма медиевистами «критического направления». На рубеже XIX и XX вв. начался пересмотр классической вотчинной теории, связанный с наметившимся в то время кризисом позитивистской историографии. Этот кризис проявился в отрицании закономерностей исторической действительности и т. д. В плане общеметодологическом он отражал также неприятие буржуазными учеными марксистского понимания истории. Выражением кризиса буржуазной исторической мысли было появление в медиевистике так называемого критического направления. Оно возникло в Германии, но затем распространилось в других европейских странах. Его представители, открыто выступая против исторического материализма, обвиняли историков-позитивистов в «пособничестве» материализму и марксизму и требовали пересмотра выдвинутых позитивистами представлений и концепций. Сторонники «критического направления» стремились всемерно умалить значение экономического и социального факторов в истории, утверждали примат государства, политики и права в ее развитии. Основатель «критического направления» в Германии Г. фон Белов, а позднее один из виднейших его представителей — австрийский медиевист А. Допш (1868—1953) считали феодализм «системой управления», главную, характерную черту которой они видели в «отчуждении верховной власти» представителям «местных властей», т. е. в политической раздробленности. Эта феодальная система управления не связывалась ими ни с какими экономическими предпосылками: ни с вотчинным строем, ни с натуральным хозяйством. Господство последних в средние века они вообще отрицали. А. Допш, идя еще дальше, вообще считал вотчину предприятием «капиталистического типа». По его теории выходило, что в средние века «феодализм» как политическая система сочетался с «вотчинным капитализмом» в качестве экономической основы общества. В 20-е годы к этой точке зрения присоединился Д. М. Петрушевский, отказавшись от теории «двух феодализмов». Дальнейшее развитие комплексного понимания феодализма. В первые десятилетия XX в. лишь немногие западные медиевисты сохраняли традиции более сложного и многостороннего подхода к феодализму. Так, известный бельгийский медиевист Анри Пиренн (1862—1935) продолжал придерживаться концепции, близкой к теории «двух феодализмов», и критиковал с этих позиций Допша. Не принимал чисто политического понимания феодализма и выдающийся французский медиевист Марк Блок (1886— 1944). Еще в 20-е годы он решительно выступил против концепции А. Допша. В своих работах 30 — начала 40-х годов М. Блок провозгласил требование комплексного изучения и понимания феодализма как целостного социального типа, определяемого условиями существования этого общества и соответствующей им духовной атмосферы. Главные признаки этого строя он видел в подчинении крестьян их господам, в наличии феодов, жалуемых за службу, в господстве отношений повиновения и покровительства внутри военного класса в виде вассалитета, в распылении политической власти, порождавшем анархию, которая лишь постепенно ослабевала по мере усиления государства во второй период феодализма (XI—XIII вв.). Важным элементом экономической структуры феодализма М. Блок считал сеньорию и порожденные ею крестьянско-сеньориальные отношения. Однако, по его мнению, вотчина существовала задолго до возникновения в Западной Европе феодализма «в собственном смысле слова», т. е. вассально-ленного права, и на определенном этапе выпала из системы феодальных отношений, которые, как полагал историк, просуществовали только до конца XIII в. Иными словами, он, по сути дела, возвращался к теории «двух феодализмов» — экономического и политико-правового. Отводя столь большую роль в определении феодального строя крестьянско-сеньориальным отношениям, М. Блок в то же время отрицал их определяющее для всей структуры общества значение. Решающий фактор в его складывании и развитии М. Блок видел в системе личных связей, в которой усматривал отражение социально-психологических мотивов и представлений, порожденных примитивностью жизненного уклада, быта и мышления эпохи раннего средневековья. Считая главным средоточием феодальной системы области, входившие в империю Каролингов, он допускал, что подобные системы могли существовать и в других странах как Европы, так и иных частей света. Взгляды М. Блока на феодализм оказали очень большое влияние на современную зарубежную медиевистику. Понимание феодализма в немарксистской медиевистике в период после второй мировой войны. В современной немарксистской медиевистике нет единого понимания сущности феодализма. Значительное число ученых придерживается традиционной политико-юридической трактовки этого термина. Часть из них смотрит на феодализм крайне узко, как на вассально-ленную систему или даже только специфическую военную организацию, возникновение и функционирование которой объясняется исключительно потребностями военной защиты и не связано с развитием вотчины и даже государства. Наиболее типичны в этом плане взгляды Ф. Гансхофа (Бельгия), Ф. Стентона (Англия), К. Стефенсона, Р. С. Хойта, К. В. Холлистера (США). Феодализм они считают специфически западноевропейским явлением. Другая группа историков, видящих в феодализме политико-правовой институт, хотя также считает вассально-ленные связи главной характерной чертой феодального общества, однако трактует феодализм в духе «критического направления», как форму государства. По мнению этих ученых, такая форма управления возникала в разное время у разных народов в результате военного завоевания или захвата власти узкой общественной группой в переходные периоды распада старых политических и экономических систем. Феодализм, таким образом, рассматривается как временное средство оздоровления прогнившей системы, функционирующее до тех пор, пока не сложится новая, более совершенная система, не как закономерный и прогрессивный этап в развитии общества, а лишь как случайный результат политического развития. Наиболее отчетливо эта концепция выразилась в сборнике статей американских медиевистов «Феодализм в истории», изданном в 1956 г. под редакцией Р. Кулборна. Близки к ней и многие западногерманские историки, которые, однако, вносят в нее свои коррективы. Так, Г. Миттайс видит в феодализме «ленное государство», основанное на «ленном праве», социально никак не обусловленное и складывающееся там, где возникает потребность «политически организовать» обширное пространство при отсутствии развитых экономических связей. Разделяющий эту точку зрения О. Брукнер особенно настойчиво подчеркивает, что могущество господствующего класса в «ленном государстве» целиком вытекало из политических функций его представителей и никак не было связано с их богатством, в том числе земельным. Сторонники такой государственно-правовой концепции феодализма допускают существование последнего не только в Западной Европе, но и в других регионах мира и даже пытаются рассматривать его в сравнительно историческом или типологическом плане. Наряду с разными вариантами политико-юридической трактовки феодализма в современной немарксистской историографии существует и все более распространяется широкое, комплексное его понимание. Такое понимание продолжают развивать последователи М. Блока, историки школы так называемой «новой истории», вышедшей из школы «Анналов» во Франции и Бельгии (например, Р. Бутрюш, Ш. Перрен, Ж. Дюби, Р. Фоссье и др.), а также представители близких к ней направлений «новой социальной истории» — в Италии, Англии, ФРГ, США. Все они придают большое значение крупному землевладению, сеньории и крестьянско-сеньориальным отношениям в функционировании феодализма как единой системы. Это дает им возможность вести плодотворные исследования, в том числе и сравнительно-исторического, типологического характера в области аграрной и социальной истории средневековья. Некоторые из них считают феодализм «универсальным строем», фазой общественного развития если не всех, то многих народов. Вместе с тем феодальный строй предстает в их работах более многогранным и многомерным, в том числе раскрываются мировосприятие, социальная роль и место человека в эпоху средневековья. Но при всем том ученые этой школы, как и М. Блок, отрывают во времени процесс складывания феодализма как ленной системы от формирования сеньориального строя, которое уводят в седую древность. Некоторые из них, например Р. Бутрюш, вообще разделяют понятия «феодализм» (под которым понимают вас-сально-ленную систему) и «сеньориальный режим», как это делали в свое время сторонники теории «двух феодализмов». Такого взгляда придерживаются даже многие ученые, специально занимающиеся экономической, в частности аграрной, историей средневековья; например, М. Постан и его школа в Англии различают феодализм как политическую структуру и сеньориальный строй (по-английски «манориализм») как его экономическую основу. Известный французский историк Ж. Дюби, видя, как и М. Блок, в феодализме целостную систему экономических, социальных, политических, идейных и ментальных (социально-психологических) структур, подчеркивает наличие в феодальном обществе постоянных враждебных отношений между феодалами и крестьянством. Однако определяющей основой господства в этом обществе класса феодалов он считает не столько их экономическое могущество — сосредоточение в их руках крупной земельной собственности, сколько их политические функции, переданные им государством в процессе отчуждения государственного суверенитета. Только эти политические права и выросшие на их основе идеи и представления о личной верности и покровительстве, считает Дюби, формируют социальную и экономическую структуру феодального общества — крупное землевладение и сеньориальный строй. Таким образом, Ж. Дюби в конечном счете также тяготеет к трактовке феодализма как результата определенной политической системы. При этом он выдвигает на первый план значение личных связей в происхождении «сеньориализма». Такое понимание сущности феодализма ярко отразила выдвинутая в последние годы Ж. Дюби, Р. Фоссье, Тубером теория «феодальной революции», широко распространившаяся во Франции и Италии. Ее сторонники считают, что рабовладельческий строй продолжал сохраняться в Западной Европе, несмотря на германские завоевания, до конца IX — начала X в. В это время произошла «феодальная революция», главным двигателем которой было отчуждение государством политической власти в пользу военных слуг и должностных лиц короля. Средоточием власти этих новых правителей стали замки, в короткий срок покрывшие всю Западную Европу. Опираясь на свою мощь, их владельцы стали подчинять себе окрестное население, превращать его в своих зависимых людей и эксплуатировать их. «Революцию», таким образом, произвели представители власти, ставшие феодалами, подчинившие себе крестьян и создавшие в IX—X вв. новый, феодальный, строй. Эта теория справедливо подчеркивает роль королевских пожалований широких политических, административных, судебных и налоговых прав слугам и приближенным короля в становлении феодальной собственности и сеньориального режима. Вместе с тем ее слабыми сторонами являются: положение об исключительно политических истоках феодализма, а также полное отрицание спонтанного процесса генезиса этого строя в ходе постепенного разорения масс свободного крестьянства и концентрации земельной собственности в руках крупных землевладельцев. При всем видимом многообразии взглядов на природу и сущность феодализма, бытующих в современной западной немарксистской историографии, ей свойственны и некоторые общие черты. Это прежде всего то, что она не признает определяющую роль экономической и социальной основы феодального строя. В противовес этому подчеркивается большое, а в конечном счете решающее значение политической и правовой структуры феодального общества, а также специфического социально- психологического настроя людей средневековья, их тяготения к системе «личностных», договорных связей (внутри класса феодалов, а также между феодалами и крестьянами), которые и определяют якобы всю экономическую, социальную и политическую жизнь общества при этом строе. Понятие феодализма в современной марксистской медиевистике. Как было уже замечено во введении, советские историки (они впервые начали развивать это понятие с марксистских позиций) понимают феодализм как социально-экономическую формацию и считают определяющими те его черты, которые характеризуют лежащий в основе этой формации феодальный способ производства: преобладание аграрной экономики, господство натурального хозяйства и крупной земельной собственности в сочетании с мелким хозяйством наделенных землей, но лишенных права собственности на эту землю крестьян, эксплуатируемых крупными землевладельцами и находящихся в более или менее тяжелой личной поземельной зависимости от них. Советские медиевисты отмечают и такие важные признаки феодализма, как наличие вассальноленной системы, значительная роль личных связей и частного права при этом строе, условный характер феодальной собственности и связь последней с политической властью и внеэкономическим принуждением в той или иной форме, наконец, как следствие этого — политическая раздробленность на некоторых этапах истории феодального общества. Однако в отличие от концепций историков-немарксистов советские медиевисты считают политико-юридические признаки не главными и определяющими, но вытекающими из господства феодальной собственности и антагонистических отношений между крестьянами и феодалами. Так, значительная роль личных связей в ту эпоху, как считает большинство советских ученых, была одним из проявлений того экономического факта, что непосредственные производители — крестьяне — сидели на земле феодала, но вели самостоятельное хозяйство, и принудить их к уплате ренты можно было только с помощью личного внеэкономического подчинения феодалу, в частности наделения последнего большей или меньшей долей политической власти; личные же отношения внутри господствующего класса определялись условным характером феодальной земельной собственности, который вытекал из монопольного права феодалов на эту собственность. На этой почве сложилась и иерархическая структура класса землевладельцев, также порожденная потребностью сплочения этого класса перед лицом внешней опасности и перед лицом эксплуатируемого и враждебного феодалам крестьянства (см. введение). Значение личностных связей при феодализме определялось во многом отсутствием (за исключением Византии) по крайней мере до конца XIII — начала XIV в. централизованного государства, общегосударственного права, незащищенностью людей в обстановке постоянных внешних войн и внутренних междоусобиц, насилий крупных феодалов, потребностью более слабых в защите и покровительстве. В политико-юридических признаках феодализма, с точки зрения советских ученых, неправомерно видеть основу феодализма еще и потому, что не во всех странах и не во все периоды средневековья эти признаки были выражены одинаково четко, а следовательно, носили не всеобщий характер. Это в первую очередь относится к вассально-ленному строю, который даже в Западной Европе играл значительную роль только в XI—XIII вв., а в Византии так и не сложился, тогда как феодализм как социально-политическая система просуществовал еще много столетий. Так же обстоит дело и с политической раздробленностью, которая была характерна лишь для сравнительно короткого этапа в истории феодального общества: у большинства европейских народов уже в XIII—XV вв. феодальная раздробленность сменяется разными типами сословной, а позднее абсолютной монархии. Находя подлинную основу феодализма в характерных для этого строя экономических и социальных отношениях, советская медиевистика видит в феодализме закономерный прогрессивный этап в истории большинства народов мира на пути от рабовладельческого или первобытнообщинного строя к капиталистическому. Создатели и виднейшие представители советской медиевистики — Е. А. Косминский, А. Д. Удальцов, Н. П. Грацианский, С. Д. Сказкин, А. И. Неусыхин своими исследованиями прочно утвердили марксистский взгляд на феодальную вотчину как по преимуществу социальную организацию, главной целью которой была наиболее эффективная эксплуатация крестьянства. В отличие от вотчинной теории XIX — начала XX в., изображавшей феодальную вотчину как орган социальной гармонии, советские ученые раскрывают наличие в ней острых классовых конфликтов на всех этапах ее развития. При этом они подчеркивают, что хотя возникновение вотчинного строя способствовало прогрессу в сельском хозяйстве, особенно на ранних этапах феодализма, прогресс этот был связан и с крестьянским хозяйством, в котором зачастую раньше и быстрее развивались новые приемы земледелия, повышалась производительность труда. Поэтому большое значение они придают развитию производительных сил в крестьянском хозяйстве, а также судьбам крестьянства, формам его эксплуатации, его антифеодальной борьбе и мировосприятию на всех этапах истории феодализма. Признавая натурально-хозяйственные основы феодальной экономики, историки-марксисты не считают, однако, полное и повсеместное господство натурального хозяйства определяющим признаком феодального строя. Е. А. Косминский, С. Д. Сказкин, А. В. Конокотин, Ю. Л. Бессмертный, Л. А. Котельникова, Е. В. Гутнова, М. А. Барг, А. А. Сванидзе, М. Л. Абрамсон и другие в своих конкретных исследованиях убедительно показали, что на определенном этапе развития феодального общества (с XI— XII вв. в Западной Европе), когда быстро растут города, торговля, товарно-денежные отношения становятся неотъемлемым органическим элементом экономической и социальной жизни и постепенно широко охватывают феодальную деревню.Товарно-денежные отношения вносят вносят важные изменения в жизнь феодального общества, в структуру вотчины, в положение крестьян и в их отношения с феодалами, становятся на этом этапе одним из главных двигателей прогресса общества. Однако советские ученые не отождествляют эти новые явления даже на том относительно высоком уровне, которого они достигают во второй период средневековья с капитализмом (как это делали и делают некоторые западные историки). Они видят в развитии этих отношений одну из предпосылок разложения феодального способа производства и зарождения капиталистического уклада на последнем этапе развития феодальной формации. Эти взгляды на феодализм в целом разделяются и большинством историков социалистических стран. На современном этапе большое внимание в советской медиевистике уделяется проблемам общего и особенного в развитии феодального строя в разных странах и регионах, проблемам типологии генезиса этого строя, особенностям вотчинной организации и форм эксплуатации крестьянства, процесса формирования рынка и его воздействия на феодальные структуры. В последние десятилетия понимание феодализма, сложившееся в советской медиевистике, все шире распространяется также в марксистской историографии капиталистических стран влияние которой заметно возрастает (например, Г. Буа, П. Виллар и другие - во Франции), а также среди ученых, по существу близких к марксистским воззрениям (например, Р. Хилтон и его школа, Э. Хобсбоум и его ученики - в Англии). Влияние марксистской трактовки феодплизма сказывается и на трудах некоторых ученых школы «новой истории», или «новой социальной истории», как это видно из приведенных выше некоторых положений Ж. Дюби. Раннее средневековье Глава 3. Возникновение феодального строя в Западной Европе Европейский феодализм зарождается в условиях столкновения и взаимодействия античного рабовладельческого общества с доклассовым «варварским» обществом германских, кельтских, славянских и других народов Центральной, Северной и Восточной Европы. § 1. Кризис рабовладельческого строя и зарождение элементов феодализма в Римской империи Кризис рабовладения. Античное общество характеризовалось ярко выраженной социальноэкономической разнородностью. Рабовладельческие виллы с их централизованным производством, основанные на непосредственной эксплуатации труда рабов, сосуществовали с поместьями, механически объединявшими мелкие самостоятельные хозяйства зависимых людей (клиентов, арендаторов разного рода, испомещенных на землю рабов), и с небольшими хозяйствами полисных крестьян, в которых рабский труд играл лишь вспомогательную роль или отсутствовал вовсе. Рабовладельческое хозяйство было рентабельным до тех пор, пока дешевизна и стабильность притока новых рабов позволяла эксплуатировать их нещадно, не заботясь об их физическом износе. Однако со II в. н. э. приток новых рабов с варварской периферии (основного их источника) стал уменьшаться, а цена их расти. Тем самым рабовладельцы были поставлены перед необходимостью наладить естественное воспроизводство рабов в своих поместьях и вообще перейти к долговременному их использованию. И то и другое предполагало определенное снижение интенсивности эксплуатации. Наиболее состоятельные рабовладельцы попытались компенсировать снижение доходов путем простого расширения хозяйства, т. е. прежде всего — увеличением числа эксплуатируемых рабов. Но возникшие таким образом рабовладельческие латифундии себя не оправдывали, так как при этом резко возрастали расходы на надзор за рабами и управление вообще. В этих условиях изменение отношения к рабам как к агентам производства оказалось неизбежным. В рабе начинают видеть человека, признают его право на семью, запрещают разлучать ее членов, закон все решительнее отказывает господам в праве самим казнить рабов (теперь это можно было сделать только по решению суда), рабы получают право жаловаться в суд на плохое обращение с ними и добиваться, чтобы их продали другому человеку. Поощряется отпуск рабов на волю, законодательство предусматривает больше случаев и способов их освобождения. Однако главным стимулом для увеличения производительности рабского труда служило предоставление рабу вместе с правом на семью некоторого имущества — пекулия, под которым подразумевались не только личные вещи, но и средства производства: рабочий инструмент, скот, мастерская, участок земли. Собственником пекулия считался рабовладелец, раб же — всего лишь держателем, пользователем, но реальные права такого держателя были весьма обширными и обеспечивали ему хозяйственную и бытовую самостоятельность: он мог вступать в деловые отношения даже со своим господином, давать ему в долг, совместно с ним заключать сделки с третьими лицами. Хотя, согласно правовым представлениям, а затем и законам римлян, господин всегда имел право отобрать у раба его имущество, на практике это, вероятно, случалось нечасто, так как было невыгодно рабовладельцу к осуждалось моралью. Наибольшее значение для судеб общественного развития имело наделение земельным пекулием сельских рабов, ставшее в период поздней античности обычным явлением, особенно в крупных поместьях — латифундиях. Стимулируя таким образом заинтересованность раба в труде и экономя на надсмотрщиках, латифундист одновременно перекладывал хотя бы часть расходов на плечи непосредственного производителя. Со временем такой раб превращался в прикрепленного к земле и продаваемого только вместе с ней самостоятельно хозяйствующего земледельца, уплачивающего господину в виде ренты определенную часть урожая. Эмфитевсис. В поздней античности значительное распространение получает аренда — теперь уже не только на государственных и муниципальных, но и на частных землях. Аренда претерпевает качественные изменения: из долгосрочной она развивается в вечную, так называемую эмфитевтическую аренду, обеспечивающую владельцу широчайшие права, сопоставимые с правом собственности. Эмфитевт был обязан собственнику небольшой фиксированной платой (каноном), должен был вносить налоги с земли и тщательно ее обрабатывать. В остальном он мог распоряжаться ею по своему усмотрению: передавать по наследству, сдавать в субаренду, закладывать, даже продавать. В последнем случае собственник имел лишь право преимущественной покупки; не воспользовавшись им, он получал только пошлину в размере 2 % продажной цены. Съемщиками земли на эмфитевтическом праве чаще всего были крупные землевладельцы, поэтому распространение эмфитевсиса знаменовало серьезную перестройку господствующего класса в направлении феодализации. Прекарий. Заметно большую роль стала играть и мелкая аренда, также приобретшая новые черты. Особенно показательна эволюция так называемого прекария (буквально — «испрошенного» держания). Прекарист первоначально, по-видимому, вообще не нес каких-либо повинностей в пользу собственника, довольствовавшегося тем, что земля его не пустует и не может быть на этом основании конфискована общиной. Однако собственник был вправе в любой момент согнать прекариста с предоставленного ему участка, невзирая на то как долго тот ею обрабатывал; соответственно прекарист считался не владельцем, а лишь держателем. В эпоху домината прекарий все чаще оформляется письменно, становится долгосрочным, нередко пожизненным, и обусловливается определенными в договоре платежами. В перспективе это приводило к попаданию прекариста в зависимость от земельного собственника, но при этом владельческие права его укреплялись, а сам прекарий становился если не юридически, то фактически своеобразной формой условного землевладения, отчасти предвосхищавшей отношения зависимого крестьянина и феодала. Патронат и коммендация. Важную роль в трансформации отношений собственности сыграло развитие еще одного древнего института, а именно патроната (патроциния), заключавшегося в самоотдаче, разумеется, не всегда добровольной, одних граждан под покровительство других, более обеспеченных и влиятельных. Такой акт назывался коммендацией. Патроцинии III—V вв. — это, по сути дела, форма личной зависимости мелких, а также средних землевладельцев от землевладельцев крупных. Стремясь ценой личной свободы и гражданского полноправия избавиться хотя бы от некоторых государственных и муниципальных повинностей, найти защиту от притеснений со стороны властей и более сильных соседей, вступавший под патронат человек в конце концов, а иногда и сразу, утрачивал право собственности на землю, превращаясь в ее держателя. Логичным следствием установления патро-. ната являлось поэтому возникновение в латифундиях режима частной власти, противостоящей государству. Императоры, хотя и безуспешно, боролись с патронатом. Эволюция колоната. Особая роль в рассматриваемом процессе принадлежит колонату. Изначально колон — это поселенец, колонист, а также земледелец вообще, но уже с I в. н. э. так называли мелких арендаторов различного статуса — свободных людей, граждан, обрабатывающих чужую землю на договорных началах, чаще всего на условиях уплаты денежного, а со II в. н. э. натурального оброка, как правило, трети урожая. В это время колонат обычно уже не оформляется договором и колон становится, по сути дела, наследственным съемщиком, постепенно оказываясь в зависимости от земельного собственника. В IV—V вв. колоны делились на свободных (либери, по-гречески— элевтеры) и приписных (адскриптиции, энапографы). Первые обладали большим объемом личных и имущественных прав; их приобретения не считались собственностью господина. Вторые рассматривались как «рабы земли» (но не рабы господина!), записывались в ценз поместья, их держания расценивались как пекулий и принадлежали землевладельцу. И те и другие несли разнообразные повинности в пользу господ. Постепенно различие между этими категориями колонов стираются. Колон эпохи домината утрачивает многие черты свободного человека и гражданина. Он еще уплачивает государственные налоги, но сбор их уже поручается землевладельцам, которые с середины IV в. становятся ответственны за выдачу колонов в суд, посылают их на военную службу, причем вправе заменить поставки рекрутов внесением государству специальной подати, а к середине V в. добиваются полного отстранения колонов от воинской повинности. К этому времени частная власть поссессоров над колонами настолько усиливается, что грань, отделяющая их от рабов, становится, по мнению римских юристов, трудноразличимой: все чаще ставится под сомнение личная свобода колонов, они подвергаются одинаковым с рабами наказаниям, не могут свидетельствовать против своего господина и т. д. Владельческие права колонов на возделываемые ими участки остаются в силе, но приобретают новое качество. Не позволяя землевладельцам сгонять колонов с земли, отчуждать землю без сидящих на ней колонов, использовать их в качестве домашней челяди, закон в то же время прикреплял колонов к этой земле. Эдикт Константина I от 332 г. запрещал колонам под угрозой наложения оков переходить из одного имения в другое, обязывая землевладельцев возвращать обосновавшихся у них чужих колонов их прежнему хозяину. Эдиктом Валентиниана I от 371 г. была окончательно санкционирована наследственная прикрепленность колонов к тому или иному имению. Несмотря на ущемление гражданского статуса колонов, ограничения их владельческих прав, колоны были более самостоятельны в хозяйственном отношении, чем рабы; их повинности фиксировались законом и обычаем. В римском колонате угадываются контуры новых, феодальных отношений. Число самостоятельно хозяйствующих, но зависимых и эксплуатируемых производителей увеличивалось и за счет других социальных источников: крестьян, подпавших под власть какого-нибудь магната, пленных варваров, которых теперь все чаще обращают не в в рабов, а в колонов, и т. п. Тем самым в эпоху поздней империи ведущим постепенно становится тип хозяйства, связанный с эксплуатацией мелких землевладельцев в крупных поместьях. Организатором производства в этом случае являлся не собственник земли, а непосредственный производитель. Более того, в той мере, в какой в рамках такого хозяйства осуществлялось развитие, в руках непосредственного производителя должна была оставаться и какая-то доля прибавочного продукта'. Этот механизм имеет сходство с экономическим механизмом, характерным для феодализма. Но поскольку в эпоху домината 1 См.. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. III. С. 437. продолжали сохраняться многие специфические рабовладельческие методы эксплуатации и огромная масса самостоятельно хозяйствующих землевладельцев в социально-юридическом смысле оставалась рабами, а с другой стороны, заметно усилился налоговый гнет, непосредственный производитель, видимо, редко располагал многим больше, чем весьма урезанным необходимым продуктом. В конечном счете это явилось одной из важнейших причин наблюдавшегося в эту эпоху экономического застоя, одним из главных препятствий, стоявших на пути осуществления тех возможностей, которые были заложены в формирующемся новом хозяйственном механизме. Натурализация хозяйства. Постепенное превращение рабовладельческой виллы в децентрализованную латифундию имело далеко идущие последствия для всей позднеантичной экономики. Важнейшим из них следует признать растущую натурализацию, ослабление рыночных связей. Посаженные на землю рабы и мелкие арендаторы, оплачивавшие соответствующие расходы из своего кармана, старались свести их к минимуму и по возможности обходиться изделиями, изготовленными самолично или в пределах латифундии. С другой стороны, свертывание латифундистами собственного земледельческого хозяйства (особенно хлебопашенного) нередко сопровождалось развитием поместного ремесла. В крупных позднеантичных имениях появились самостоятельно хозяйствующие ремесленники, в том числе перебравшиеся из городов. Экономические связи господского хозяйства с городом ослабевали. Солидная часть сельскохозяйственной продукции попадала в город, минуя рынок, прежде всего по государственным каналам, через налоговую систему. Экономический спад III—V вв. Ослабление рыночных связей сопровождалось экономическим спадом. Он выразился в таких явлениях, как сокращение посевных площадей, снижение урожайности, огрубление ремесленной продукции, уменьшение масштабов городского строительства и торговых перевозок. Спад был порожден кризисом рабовладельческого строя в целом. Непосредственной же его причиной следует считать саму перестройку производственных отношений, вызвавшую нарушение устоявшихся хозяйственных связей и ориентиров и совпавшую по времени с рядом неблагоприятных конкретно-исторических обстоятельств. В их числе похолодание и увлажнение климата, пагубно сказавшееся на севооборотах; демографический кризис (обусловленный не в последнюю очередь принесенными с Востока эпидемиями), усиление политической нестабильности и вторжения варваров; иссякание в Средиземноморье большинства известных тогда месторождений драгоценных металлов и хронический дефицит в торговле с Востоком, способствовавшие монетному голоду и порче монеты. Вместе с тем экономический спад III—V вв. было бы неправильно расценивать как катастрофу. Земледелие и ремесло оставались все же на высоком уровне, несомненно превосходящем уровень раннего средневековья. Города, хотя и сокращались в размерах, не утратили своей специфически римской инфраструктуры. Сохранялась и поддерживалась густая сеть хороших мощеных дорог, Средиземное море оставалось относительно безопасным для судоходства до середины V в. Денежное обращение все еще играло немаловажную роль, обслуживая довольно бойкую местную и региональную торговлю. Материальные возможности античной цивилизации далеко еще не были исчерпаны, о чем свидетельствует, между прочим, монументальное строительство, продолжавшееся в V в. в Риме, Равенне, Арле, Гиппоне, не говоря уже о городах восточной половины империи. В экономическом спаде поздней античности проглядывают и черты обновления. Интенсивное хозяйствование предшествовавшей эпохи, еще не подкрепленное соответствующими техническими и естественнонаучными достижениями, было возможно лишь благодаря хищнической эксплуатации двух источников всякого богатства: природы и человеческого труда, — предполагавшей неограниченность этих ресурсов. Экономический подъем рубежа старой и новой эры был оплачен истощением плодородия и износом работника, как физическим, так и моральным. Поэтому переход к экстенсивным формам хозяйствования в известной мере содействовал улучшению экологической и социальной ситуации. Особого внимания заслуживает процесс становления работника нового типа: из простого исполнителя, безразличного к результату своего труда, социально одинокого, забитого и озлобленного, убогого в своих желаниях и наклонностях, он постепенно превращался в рачительного хозяина, гордого своей сопричастностью какому-то коллективу, важностью своего труда для общества. Эти социальноэкономические возможности, заложенные в развитии работника новой формации, проявились не сразу, но в конечном счете именно они обусловили более высокий уровень средневековой цивилизации по сравнению с античной. Общественный и государственный строй Римской империи в конце III—V в. В эпоху домината государственный строй Римской империи претерпел радикальные изменения. Они были вызваны как рассмотренными выше экономическими процессами, так и существенными социальными сдвигами. Во II — начале III в. н. э. возникает новое сословное деление: на honestiores («достойные», «почтенные») и humiliores («смиренные», «ничтожные»). В период домината сословная структура еще более усложняется, так как среди «достойных» выделяется элита — так называемые clarissimi («светлейшие»), в свою очередь с IV в. подразделявшиеся на три разряда. Что же касается «смиренных», то в эту группу наряду со свободнорожденными плебеями все чаще включают неполноправные слои населения: колонов, отпущенников, в дальнейшем и рабов. Так складывается принципиально новая структура общества, в рамках которой постепенно преодолевается деление на свободных и рабов, а древние полисные градации уступают место иным, отражающим усиливающуюся иерархичность общественной организации. В этой ситуации древние римские магистратуры окончательно утрачивают всякое значение: одни (квесторы, эдилы) исчезают вовсе, другие (консулы, преторы) превращаются в почетные должности, замещаемые по воле государя его приближенными, в том числе варварами, или собственными, подчас малолетними, детьми. Сенат, разросшийся к 369 г. (когда представители восточных провинций стали собираться в Константинополе) до 2 тыс. человек, выродился в собрание тщеславных магнатов, то раболепствующих перед императором, то фрондирующих, озабоченных в основном защитой своих сословных привилегий и внешних атрибутов власти. С конца III в. многие императоры, выбранные армией или назначенные предшественником, не обращаются в сенат даже за формальным утверждением в этом сане. Поскольку резиденция императора все чаще находится вне Рима (в Константинополе, Медиолане, Равенне, Аквилее и т. д.), он все реже удостаивает сенаторов своего посещения, предоставляя последним автоматически регистрировать направляемые им эдикты. В периоды политической нестабильности, например в середине V в., значение сената возрастало, случалось, он открыто вмешивался в борьбу за власть, оспаривая ее у армии. При «сильных» императорах его роль низводилась до роли городского совета столицы империи, каковым он оставался на протяжении всего раннего средневековья. Реальная власть сосредоточивается в совете императора, получившем название священного консистория. Отныне император уже не принцепс — первый среди равных, лучший из граждан, высший магистрат, чья деятельность хотя бы в теории регулируется законом, а доминус — господин, владыка, воля которого сама является высшим законом. Особа его объявляется священной, публичная и даже частная жизнь обставляется сложным помпезным церемониалом, заимствованным во многом у персидских царей. Из «республики» империя превратилась в деспотию, а граждане — в подданных. Управление государством все в большей мере осуществлялось при помощи огромного, иерархически организованного и разветвленного бюрократического аппарата, включавшего помимо центральных ведомств многочисленную провинциальную администрацию и целую армию контролировавших и инспектировавших ее столичных чиновников. В конце III в. было ликвидировано старое административное устройство империи с его традиционным делением на императорские и сенаторские провинции, личные владения императора (таковым считался Египет), союзные общины и колонии разного статуса. Задуманная Диоклетианом тетрархия, т. е. совместное управление государством двумя «августами» и двумя их младшими соправителями и преемниками — «цезарями», себя не оправдала, но в административном отношении четырехчастное деление империи было сохранено. Отныне Восток и Запад имели, как правило, а с 395 г. всегда, раздельное управление. При этом каждая из империй (Западная и Восточная) делилась на 2 префектуры, те в свою очередь — на диоцезы (общим количеством 12), а последние — на более или менее равновеликие провинции, число которых резко возросло и достигло при Диоклетиане 101 (в дальнейшем 117), причем в нарушение многовековой традиции одной из провинций был объявлен Рим. Наместники провинций, называемые теперь ректорами, раньше управлявшие вверенными им территориями, регулярно объезжая их и опираясь в решении дела на магистратов автономных общин, теперь прочно обосновываются, вместе с многочисленными чиновниками, в постоянных резиденциях. Главными их обязанностями становятся сбор налогов и высшая юрисдикция; военные функции постепенно переходят к специально назначенным военачальникам, подчиненным только вышестоящим военным инстанциям. Шедшее вразрез с древней римской практикой разграничение гражданской и военной власти на местах было вызвано стремлением центрального правительства ограничить могущество провинциальной администрации, воспрепятствовать возможным проявлениям сепаратизма. В то же время оно явилось следствием коренной перестройки римской армии, все реже комплектовавшейся из полноправных римских граждан. Причина этого кроется не только в сокращении общей численности земельных собственников. С предоставлением в 212 г. римского гражданства большинству свободного населения империи исчез один из главных стимулов, побуждавших перегринов идти на военную службу. В условиях социально-политической нестабильности и прогрессирующего обесценивания денег нужного эффекта не давали и такие меры, как постоянное повышение солдатского жалования и освобождение ветеранского землевладения от муниципальных налогов. Попытка найти выход из положения путем превращения легионеров в особое наследственное сословие и своего рода прикрепление их вместе с потомством к предоставленным им наделам имела результатом лишь дальнейшее падение престижа и боеспособности армии. Более успешными — на первых порах — оказались рекрутчина, при которой магнатам вменялось в обязанность выставлять определенное число новобранцев из своих колонов, и особенно наем варваров (отдельных лиц и целых формирований), а также поручение охраны границ варварским племенам, поселяемым там на правах федератов. В дальнейшем, однако, именно эта практика явилась одной из главных непосредственных причин крушения империи. Финансовые реформы эпохи домината. В эпоху домината коренным образом трансформируется и система налогообложения. До конца III в. римские граждане были освобождены от уплаты регулярных прямых налогов; допускались лишь экстраординарные налоги, связанные по большей части с военной угрозой, которые к тому же формально считались не податью, а займом государству. Прямые налоги платило лишь население провинций. Доходы казны складывались также из средств от эксплуатации государственной собственности и косвенных налогов, которыми облагались, например, заграничная и морская торговля, продажа с аукциона, крупные наследства, оставляемые не близким родственникам, отпуск на волю рабов. Расхищение фонда государственных земель, происходившее непрерывно в результате законных пожалований и незаконных захватов, в общем и целом компенсировалось регулярной их конфискацией у политических противников; покупками, при совершении которых казна имела преимущество перед частными лицами; завещанием доли состояния императору, считавшимся делом приличия; приобретением выморочных имуществ, весьма многочисленных в условиях демографического спада. Угроза финансового краха исходила в основном из другого источника, а именно из неуклонно расширявшейся практики предоставления римского гражданства все большему числу провинциалов и провинциальных общин. Эта практика нашла логическое завершение в знаменитом эдикте 212 г., весьма отрицательно сказавшемся на налоговых поступлениях. Ситуация усугублялась систематической порчей монеты (снижением содержания серебра в ней), что привело к дезорганизации хозяйства и также способствовало оскудению казны. Преодоление кризиса, охватившего в III в. римское общество, предполагало поэтому и упорядочение государственных финансов. Энергичные меры по выпуску полноценной монеты были предприняты в первые же годы правления Диоклетиана (284—305), попытавшегося также — впервые в истории — регламентировать цены на основные продукты и услуги, но стабилизировать денежное обращение удалось лишь при Константине I (306—337). Была уточнена стоимость золота в слитках и введен монометаллический золотой стандарт; из серебра наряду с медью чеканили только мелкую разменную монету. На этой основе был налажен выпуск новой высокопробной золотой монеты — солида — весом в 1/72 римского фунта, реальная стоимость которой в целом соответствовала номиналу. Эти меры подготовили базу для проведения налоговой реформы, начатой при Диоклетиане и завершенной при Константине I. Отныне все собственники (исключая все же жителей Средней и Южной Италии) должны были уплачивать прямые налоги. В сельской местности размер налога определялся соотношением количества земли, принадлежащей тому или иному человеку (с учетом ее качества, расположения и характера использования), и количества занятых на ней работников. Для оценки земельной собственности и рабочей силы вводились условные расчетные единицы — iugum («ярмо», т. е. упряжка волов) и caput («голова»), по которым вся система получила название tugatio-capitatio. Co «смиренных» налог взимался в натуре, он именовался термином, обозначавшим годовой урожай, — анноной. «Достойные» вносили его в звонкой монете. В городах оценка имущества производилась с учетом доходности мастерской, лавки и т. д. Низшие слои общества (и горожане, и селяне) были, кроме того, обязаны государству многочисленными — до 40 наименований — отработочными повинностями: по ремонту дорог и мостов, обеспечению транспортом и т. п. В целом по сравнению с эпохой принципата налоговый пресс заметно усилился, затронув и городские общины. Со времени Валентиниана I (364—375) городам оставалась лишь треть доходов с принадлежащих им общественных земель. Города, в меньшей мере племенные общины, сами уже не справлялись с выполнением общественно необходимых функций по поддержанию хозяйственной деятельности, охране правопорядка и т. д. Императоры все чаще прибегали к административным мерам, постепенно переходя от ограниченного контроля к жесткой регламентации. Этой цели, помимо превращения органов муниципального самоуправления в придаток общеимперского государственного аппарата, служил и ряд конкретных мер, направленных на сохранение разлагавшейся общественной системы. Сталкиваясь с непрекращающимся бегством граждан из городской общины, Диоклетиан, а затем Константин I законодательно запретили выход из нее представителям всех сословий. Принадлежность к некоторым профессиональным коллегиям стала наследственной уже в 317 г., к концу IV в. ремесленникам было отказано в праве служить в армии, принимать сан священника, занимать муниципальные должности. Эдиктами 316 и 325 гг. к своему сословию и к своей курии (городскому сенату) были прикреплены и декурионы, называемые теперь чаще куриалами. На них была возложена тягостная обязанность по сбору налогов, причем куриалы должны были возмещать недоимки из своих средств. Результатом явилось разорение этого сословия, бывшего главной социальной опорой ранней империи. Государственные реформы эпохи домината продлили Римскому государству жизнь примерно на полтора столетия, отсрочив его гибель, казавшуюся в середине III в. близкой и неотвратимой. Некоторые из этих реформ, например монетная, были весьма успешными: солид Константина I служил расчетной единицей на протяжении всего раннего, а в Византии и классического, средневековья. Удачными в целом следует признать также нововведения в области провинциальною управления и кодификации римского права. Однако многие мероприятия императоров, в частности в военных и финансовых вопросах, дав временный эффект, возымели в конечном счете самые плачевные последствия. Государственность периода домината была по природе своей чужда как уходящему в прошлое античному обществу, так и нарождавшемуся феодальному. Прообраз феодальной государственности можно усмотреть скорее в тех социально-политических явлениях, с которыми императоры эпохи домината энергично, но не очень последовательно и в общем безуспешно боролись, прежде всего в режиме частной власти, складывавшемся в латифундиях. Кризис идеологии. Главнейшим проявлением кризиса в идеологии позднеантичного общества был постепенный отход от представления о гармонии интересов отдельного человека и гражданской общины, в целом. Для всех категорий населения утрачивают значение социально значимые цели и ориентиры. К III в. стала совершенно очевидной иллюзорность, если не лживость, регулярно провозглашаемого императорами (начиная с Августа) наступления золотого века, якобы гарантируемого мощью и слаженностью Римского государства. Неустанно повторяя фальшивый тезис о совершенстве существующего строя, нацеливая граждан на благоговейное оберегание раз и навсегда установленного положения вещей, официальная пропаганда содействовала лишь усилению социальной апатии и недоверия к любому публичному слову и действию. Растущее число римских граждан, от плебеев до сенаторов, самоустраняется от общественных дел, стремится жить незаметно, не обнаруживая лишний раз свое богатство, искусство, личное превосходство вообще. Человек все больше сосредоточивается на своих внутренних переживаниях, приобретавших постепенно большую важность, чем политические перипетии внешнего мира. Поскольку, сообразно общей тональности античной культуры, отчуждение от общества воспринималось и осмысливалось в превращенном виде как отчуждение от гармонии космоса, интеллектуальная и эмоциональная энергия индивида направляется на восстановление нарушенной связи человека и миропорядка, все чаще воплощенного для него в божестве. Одновременно пересматриваются и другие идеологические представления классической эпохи. Теряет прежнюю четкость деление людей на свободных и рабов, в рабе начинают видеть личность, философы все настойчивее проводят мысль о том, что свобода и рабство — это состояния не столько юридические, сколько моральные: сенатор может быть рабом порочных страстей, тогда как добродетельный раб внутренне свободен. Меняется и отношение к труду: в среде «почтенных» на него попрежнему смотрят с презрением, но для «смиренных», чьи взгляды все меньше определяются стереотипами разлагающейся, но пока что поддерживаемой государством полисной идеологии, труд становится благом, залогом здоровой и честной жизни. Складывается новая система ценностей, во многом уже чуждая рабовладельческому обществу. С наибольшей силой и ясностью перестройка общественного сознания проявилась в сфере религии. Это выразилось, в частности, в попытках создать, все еще в рамках полисной религии, единый для всей империи культ верховного и всемогущего, как правило, солнечного божества. В том же направлении эволюционировали и религиозные настроения народных масс, все чаще искавших в культе не помощи в конкретном деле, находящемся в «ведении» того или иного божества, а одновременного утешения во всех мыслимых горестях и обретения душевного равновесия через индивидуальное приобщение к божественной силе, мудрости и благодати. В древних земледельческих и солнечных культах упор теперь делается преимущественно на единое животворное начало всего сущего, приобретают популярность дуалистические учения (например, митраизм) с их представлениями о равновеликости и бескомпромиссной борьбе добра и зла. Однако яснее и последовательнее всего на духовные запросы своего времени ответило христианство, на долю которого выпал поэтому наибольший успех. Христианизация империи. Христианство представляло собой уже не полисную, а мировую религию, преодолевающую жесткие этнические и социально-правовые барьеры, присущие умирающему античному обществу. «Для бога несть эллина и иудея, ни свободного, ни раба», — говорится в одном из посланий апостола Павла. Бог христиан воплощает в себе мировой порядок, его величие столь беспредельно, что в сравнении с ним любые социальные градации и общности оказываются несущественными, поэтому ему предстоит абстрактный человек, оцениваемый по его личным качествам, а не по принадлежности к той или иной общественной группе. Связь человека с богом мыслится в христианстве как основополагающая, опосредующая его связи с другими людьми. Соответственно истинная благодать достигается не суетными мирскими усилиями (к каковым относилась и всякая гражданская деятельность), а через близость к богу, понимаемую одновременно как прижизненная причастность его величию («царство божее внутри нас») и как посмертное воздаяние за праведную жизнь. Отсюда следует, что человеку надлежит заботиться не о внешних обстоятельствах своего существования, но о духовном и уповать во всем на бога. Так в превращенной форме христианство отразило социальную действительность поздней античности: далеко зашедшее стирание национальных, политических, отчасти правовых и идеологических различий; прогрессирующее исчезновение привычных общественных гарантий существования, делавшее человека беззащитным перед лицом все более авторитарной политической власти; природных и экономических катаклизмов; отсутствие общего для всех обездоленных реального выхода из тупика, в который завело общество рабство; растущая разобщенность людей, их социально-психологическое одиночество и индивидуализм как проявление кризиса общественного строя на личностном уровне. Распространению христианства немало способствовало и то обстоятельство, что оно предлагало своим сторонникам не только мировоззрение (более стройное и содержательное, чем в соперничавших религиях), но и сплоченную церковную организацию. Принадлежность к ней временами была небезопасна, но зато обеспечивала прихожанам многообразную моральную и материальную помощь, объединяла их в коллектив. Своим влиянием, а постепенно и богатством христианская община объективно, часто и субъективно, противостояла государству и его идеологии. Периодические гонения, обрушивавшиеся на христиан (особенно жестокие в середине III и в первые годы IV в., при Диоклетиане) возымели, однако, противоположный результат, способствовав сплочению христианских общин и привлечению в них новых приверженцев, плененных душевной стойкостью мучеников за веру и солидарностью их единомышленников. Убедившись в тщетности попыток сломить христианскую церковь, преемники Диоклетиана прекратили преследования и постарались поставить ее на службу государству, делая при этом акцент на те стороны христианского учения, которые могли быть использованы для пресечения социальных конфликтов: идеи смирения, непротивления злу насилием, признания греховности всего человеческого рода, тезис «нет власти не от бога». В 313 г. императоры Лициний и Константин, сами оставаясь еще язычниками, издали знаменитый Медиоланский (Миланский) эдикт, предоставлявший христианам свободу вероисповедания. Их перестали принуждать к совершению языческого обряда поклонения гению императора, а христианская церковь получила даже некоторые привилегии, в частности статус юридического лица, позволявший ей наследовать имущество. Церковь не замедлила откликнуться на этот шаг и уже в 314 г. епископы Галлии призвали своих единоверцев не уклоняться впредь от воинской службы, вообще не чураться гражданской деятельности. В 323 г. христианин стал консулом и очень скоро церковная организация оказалась подключенной к системе государственного управления. Со своей стороны императоры оказывали церкви растущую поддержку. В 325 г. в малоазийском городе Никее с целью уладить спорные богословские вопросы, упорядочить богослужение и церковную догматику вообще под эгидой императора Константина был созван I Вселенский собор, т.е. собрание всего высшего христианского духовенства. На соборе был выработан так называемый символ веры — краткое официальное изложение сути христианского учения, произведен отбор и канонизация текстов священных для христиан книг, сформулированы обязательные для них правила поведения; несогласные (а таких было немало) объявлялись еретиками, иначе говоря, отколовшимися от церкви. Сам Константин принял крещение лишь на смертном одре в 337 г., но его преемники были уже христианами, а в 381 г. христианство было провозглашено государственной религией и начались преследования уже язычников. Столетие спустя в язычестве продолжали упорствовать главным образом жители глухих сельских районов и отдельные прослойки городской интеллигенции, основная же масса населения была обращена в христианство. Однако обращение это носило нередко формальный характер. В своих представлениях и повседневной жизни многие из принявших крещение еще долго оставались язычниками и даже совершали языческие обряды. Подлинная христианизация культуры произошла в Западной Европе уже в эпоху средневековья, отражая общий процесс становления феодализма. Формы социального протеста народных масс. Кризис античного общества проявился также в обострении социальных конфликтов. Усилившийся налоговый гнет, произвол чиновников, притеснения со стороны магнатов, бесчинства германских наемников, вторжения варваров — все это усугубляло прежние социальные противоречия, вовлекало в социальную борьбу новые группы населения. В народных движениях III—V вв. активно участвуют не только рабы, но и колоны, мелкие земельные собственники, городской плебс, иногда и средние слои общества — куриалы. Эти движения переплетаются с внутриполитической борьбой и вторжениями иноземцев, сепаратистскими выступлениями провинциальной знати и конфессиональными конфликтами. Наряду со старыми формами сопротивления — бегством рабов от своих господ и налогоплательщиков от государственных чиновников — в этот период наблюдаются и более активные формы, в том числе восстания, направленные как против латифундистов, так и государства в целом. Самое крупное из этих восстаний связано с движением багаудов (от кельтского «бага» — борьба), охватившим Северо-Западную Галлию, особенно Арморику, позднее также Северо-Восточную Испанию. Выступления багаудов продолжались с перерывами с III по V в. и были особенно интенсивными в 30—50е годы V в. Это были мелкие землевладельцы, в основном, видимо, кельтского и иберийского происхождения, а также рабы и арендаторы, пытавшиеся отложиться от Рима, установить свои порядки и жить никому не подвластными самоуправляющимися общинами. Активизируется и социальный протест городского плебса, требовавшего теперь не только хлеба и зрелищ, но и защиты от злоупотреблений местных магнатов, все чаще контролирующих городскую администрацию. Защиты добивались и куриалы. Это побудило Валентиниана I учредить в 365 г. должность дефенсора (защитника) города, призванного оберегать простой народ от притеснений, разбирать жалобы и наблюдать за отправлением правосудия. Первоначально дефенсоры назначались из Рима, затем их стали выбирать сами горожане, обычно отдававшие предпочтение кому-то из именитых сограждан, например епископу. Очень скоро поэтому пост дефенсора оказался в руках городской верхушки и к середине V в. лишился прежнего значения. Достаточно часто народные движения облекались в одежды религиозного протеста или сочетались с ним. В языческий период истории Римской империи сопротивление рабовладельческому обществу и государству чаще всего проявлялось в исповедании христианского вероучения. С превращением христианства в государственную религию эту функцию стали выполнять различные ереси, иногда также язычество. Ереси IV—V вв. по преимуществу питали не народные истолкования Евангелия, а богословская мысль, тонкости которой простому люду обычно были недоступны. Тем не менее многие массовые движения того времени происходили под знаменем того или иного еретического учения: арианства, несто-рианства, монофиситства на Востоке (см. гл. 5), донатизма и пелагианства на Западе. Пелагианство, названное так по имени священника Пелагия (начало V в.), отвергавшее один из основных догматов христианской церкви о греховности человеческого рода, делало из этого далеко идущий вывод о противоправности рабства и других форм социального угнетения. Получив значительное распространение, особенно в Галлии, пелагианство послужило одним из важных источников еретической мысли средневековья, но не породило массового народного движения. Иначе было в Северной Африке, где действовали донатисты — последователи жившего в начале IV в. епископа Доната. Они ратовали за очищение церкви от мирской скверны, настаивали на вторичном крещении грешников, выступали против вмешательства государства в церковные дела. Дона-тистов поддержали различные слои населения Северной Африки, от сепаратистски настроенной части знати до рабов, мелких арендаторов и городских низов, видевших в донатистском учении отрицание ненавистных им порядков как безбожных. К середине IV в. в рамках донатизма оформилось течение так называемых агонистиков («борющихся»), иначе циркумцеллионов («блуждающих вокруг хижин»). Они отвергали существующий мир как неправедный и стремились либо добровольно уйти из него через аскетизм или самоубийство, либо преодолеть его неправедность силой, изгоняя католических священников и сборщиков налогов, освобождая рабов, уничтожая долговые расписки и т. д. Подобные действия вызывали осуждение со стороны донатистского духовенства и карательные меры со стороны государства, нередко воспринимавшиеся агонистиками как возможность уйти в мир иной. Народные движения эпохи домината немало способствовали расшатыванию основ рабовладельческого общества, но уничтожить его не могли. Эксплуатируемые массы империи представляли собой конгломерат множества социальных групп, разделенных сословными перегородками и несовпадающими интересами. Мелкие земельные собственники, арендаторы и даже колоны нередко сами являлись рабовладельцами. Городской плебс, существовавший в значительной мере за счет государства, оказывался соучастником эксплуатации налогоплательщиков. «Для всех этих элементов, — писал Ф. Энгельс, — абсолютно не существовало какого-либо общего пути к освобождению»1. Не могли его автоматически принести и вторжения варваров, которые нередко сами были не прочь захватить рабов, обложить данью землевладельцев. Отношение обездоленных слоев населения римского государства к варварам было неоднозначным: иногда они приветствовали их, помогая овладеть городом (как случилось в 410 г. в Риме), в других случаях вместе с регулярными войсками оказывали им сопротивление. Союз низших слоев империи с варварами в реальной истории не имел места. Крушение рабовладельческого способа производства произошло в результате длительного процесса социальной революции, растянувшегося на несколько столетий. 1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 482. § 2. Разложение первобытнообщинного строя у германских племен Северные соседи Римской империи — варварские, по оценке греков и римлян, племена германцев, а также кельтов, славян, фракийцев, сарматов — в первые столетия новой эры жили еще первобытнообщинным строем. Уровень развития этих племен был весьма различен, но к моменту массовых вторжений варваров на территорию империи в IV—VI вв. все они в той или иной мере и форме обнаруживали признаки складывания классов и государства, причем постепенно все более очевидной становилась феодальная направленность происходящих изменений. У германцев эта тенденция прослеживается с особой ясностью. Хозяйственный строй. Хозяйственный строй древних германцев остается предметом острых историографических дискуссий, что обусловлено прежде всего состоянием источников. Согласно преобладающей точке зрения, учитывающей наряду с письменными источниками достижения археологии, ономастики и исторической лингвистики, германцы уже в I в. вели оседлый образ жизни, хотя эпизодические перемещения отдельных коллективов и целых племен на значительные расстояния еще имели место. Миграции вызывались по большей части внешнеполитическими осложнениями, иногда нарушениями экологического равновесия в результате колебаний климата, демографического роста и другими причинами, но отнюдь не диктовались природой хозяйственного строя. Наиболее развитыми являлись племена, жившие на границах империи, по Рейну и Дунаю, тогда как по мере удаления от римского лиме-са уровень цивилизованности падал. Главной отраслью хозяйства у германцев было скотоводство, игравшее особо важную роль в Скандинавии, Ютландии и Северной (Нижней) Германии, где много прекрасных лугов; земли же, пригодной для земледелия, мало, а почвы сравнительно бедны. Разводили в основном крупный рогатый скот, а также овец и свиней. Земледелие было на втором плане, но по важности уже мало уступало скотоводству, особенно к IV в. Местами еще сохранялись подсечно-огневое земледелие и перелог, однако преобладала эксплуатация давно расчищенных и притом постоянно используемых участков. Обрабатывались они ралом (сохой) либо плугом, приводимыми в движение упряжкой быков или волов. В отличие от рала плуг не просто бороздит взрыхляемую лемехом землю, но подрезает глыбу земли по диагонали и с помощью специального устройства — отвала — отбрасывает ее в какую-то одну от борозды сторону, обеспечивая более глубокую пахоту. Позволяя таким образом существенно интенсифицировать земледелие, плуг явился поистине революционным изобретением. Однако его применение или неприменение в конкретном районе было обусловлено не столько стадией развития, сколько особенностями почв: плуг незаменим на тяжелых глинистых почвах, отвоеванных у леса; на распаханных лугах с их легкими податливыми почвами он необязателен; в горной местности, где плодородный слой неглубок, использование плуга чревато эрозией. Правильные севообороты еще только складывались, тем не менее к концу рассматриваемого периода начало распространяться двухполье с обретающим понемногу регулярность чередованием яровых и озимых, реже — зерновых с бобовыми и льном. В Скандинавии сеяли в основном морозоустойчивый неприхотливый овес и быстросозревающий яровой ячмень, на самом юге, в Сконе, также яровые сорта ржи и пшеницы. Зерна здесь хронически не хватало, основой пищевого рациона служили мясо-молочные продукты и рыба. В Ютландии и в собственно Германии пшеница занимала значительные и все расширявшиеся площади, но преобладали все же ячмень, из которого помимо хлеба и каши изготовляли также пиво — главный хмельной напиток германцев, и особенно рожь. Германцы возделывали также некоторые огородные культуры, в частности корнеплоды, капусту и салат, принесенный ими впоследствии на территорию империи, но садоводства и виноградарства не знали, удовлетворяя потребность в сахаре за счет меда. Охота уже не имела большого хозяйственного значения, рыболовство же играло важную роль, прежде всего у приморских племен. Вопреки сообщению Тацита, германцы не испытывали недостатка в железе, которое производилось в основном на месте. Велась также добыча золота, серебра, меди, свинца. Достаточно развито было ткачество, обработка дерева (в том числе для нужд кораблестроения), выделка кож, ювелирное дело. Напротив, каменное строительство почти не практиковалось, керамика была невысокого качества: гончарный круг получил распространение лишь к эпохе Великого переселения народов — массовому миграционному процессу в Европе в IV—VII вв. Видное место в хозяйственной жизни германцев занимал товарообмен. Предметом внутрирегиональной торговли чаще всего служили металлические изделия; римлянам германцы поставляли рабов, скот, кожу, меха, янтарь, сами же покупали у них дорогие ткани, керамику, драгоценности, вино. Преобладал натуральный обмен, лишь в пограничных с империей областях имели хождение римские монеты. Население всего германского мира едва ли превышало тогда 4 млн. человек, и в первые столетия нашей эры имело тенденцию к сокращению из-за эпидемий, непрерывных войн, а также неблагоприятных экологических изменений. Соответственно, плотность населения была крайне низка, и поселения, как правило, разделялись большими массивами леса и пустоши. Согласно Тациту, германцы «не выносят, чтобы их жилища соприкасались; селятся они в отдалении друг от друга, где кому приглянулся ручей, или поляна, или роща». Это свидетельство подтверждается раскопками, выявившими во всех германских землях уединенно стоящие усадьбы и небольшие, в несколько домов, хутора. Известны и выросшие из таких хуторов крупные кучевые деревни, все более многочисленные к середине I тысячелетия, однако и в это время типичным остается все же сравнительно небольшое поселение. Жилища древних германцев представляли собой высокие удлиненные постройки размером до 200 кв. м, рассчитанные на два-три десятка человек; в ненастье здесь содержали и скот. Вокруг или неподалеку лежали кормившие их поля и выгоны. При близком соседстве нескольких домохозяйств поля или их участки отделялись от соседских не подлежащими распашке межами, возникавшими из камней, удаляемых с поля и постепенно скрепляемых наносами земли и проросшей травой; эти межи были достаточно широки, чтобы пахарь мог проехать с упряжкой к своему участку, не повредив чужие. С увеличением населения такие поля иногда делились на несколько сопоставимых по площади долей, но сами границы поля оставались, по-видимому, неизменными. Такая система полей была наиболее характерна для открытых низменностей Северной Германии и Ютландии. В Средней и Южной Германии, где хлебопашество велось в основном на землях, очищенных от леса, положение было, вероятно, несколько иным, поскольку лесные почвы требовали более длительного отдыха, который нельзя было заменить, как на богатом скотом Севере, избыточным унавоживанием. Соответственно здесь дольше держался перелог и связанное с ним периодическое перекраивание участков. Социально-экономическая структура. Община в доклассовом обществе прошла три стадии развития: 1) родовая, или кровнородственная община, основанная на совместном ведении хозяйства и совместном пользовании и владении землей кровными родственниками; 2) земледельческая, в которой собственность общины на территорию сочеталась с разделом пахотных участков между большими семьями; 3) соседская, или община-марка, в которой господствовала индивидуальная собственность малых семей на наделы пахотной земли при сохранении коллективной собственности общины на другие угодья. Жители древнегерманских хуторов и деревень несомненно также образовывали некую общность. В первые века нашей эры род все еще играл очень важную роль в жизни германцев. Члены его селились если не вместе, то компактно (что особенно ясно проявлялось в ходе миграций), вместе шли в бой, выступали соприсяж-никами в суде, в определенных случаях наследовали друг другу. Но в повседневной хозяйственной практике роду уже не было места. Даже такое трудоемкое дело, как корчевание леса, было по силам большой семье, и именно большая семья, занимавшая описанное выше просторное жилище и состоявшая из трех поколений или взрослых женатых сыновей с детьми, иногда и с несколькими невольниками, и являлась главной производственной ячейкой германского общества. Поэтому независимо от того, происходили ли жители поселения от общего предка или нет, соседские связи между ними преобладали над кровнородственными. При небольшой плотности населения и обилии свободных, хотя обычно не освоенных еще земель споры из-за возделываемых площадей, равно как и общие всем проблемы, связанные с их обработкой, вряд ли часто возникали между домохозяйствами. Господство примитивных систем земледелия, чуждых строгому, обязательному для всех соседей чередованию культур и неукоснительному соблюдению ритма сельскохозяйственных работ (что свойственно для развитого двухполья и особенно трехполья), также не способствовало превращению этой общности в слаженный производственный организм, каким была средневековая крестьянская община. Функционирование древнегерманской общины еще сравнительно мало зависело от организации хлебопашества и земледелия в целом. Большее, надо полагать, значение имело для этой общины регулирование эксплуатации необрабатываемых, но по-своему не менее жизненно важных угодий: лугов, лесов, водоемов и т. д. Ведь главной отраслью хозяйства оставалось скотоводство, а для нормальной его организации безусловно требовалось согласие всех соседей, чьи интересы в данном случае уже не защищались автоматически неприкосновенностью полевых межей. Без согласия соседей невозможно было наладить удовлетворяющее всех использование и других ресурсов дикой природы: рубку леса, заготовку сена и т. д. Членов общины объединяло также совместное участие во множестве общих дел: защите от врагов и хищных зверей, отправлении культа, поддержании элементарного правопорядка, соблюдении простейших норм санитарии, в строительстве укреплений. Однако коллективные работы все же не перевешивали труда общинника в своем домохозяйстве, бывшем поэтому с социально-экономической точки зрения по отношению к общине первичным образованием. В конечном счете именно по этой причине, сопоставляя германскую общину с азиатской и античной, К. Маркс писал, что «индивидуальная земельная собственность не выступает здесь ни как форма, противоположная земельной собственности общины, ни как ею опосредствованная, а, наоборот, община существует только во взаимных отношениях друг к другу этих индивидуальных земельных собственников» '. «Индивидуальным собственником» в древнегерманской общине было, разумеется, домохозяйство. Глава семьи имел решающий голос во всех делах, но власть его все же существенно отличалась от власти римского pater familias: германский домовладыка гораздо менее свободно мог распоряжаться «своим» имуществом, которое мыслилось и являлось достоянием семьи, отчасти и всего рода. Для германца начала нашей эры его земля — это не просто объект владения, но прежде всего малая родина, «отчина и дедина», наследие длинной, восходящей к богам, вереницы предков, которое ему в свою очередь надлежало передать детям и их потомкам, иначе жизнь теряла смысл. Это не только и даже не столько источник пропитания, сколько неотъемлемая часть или продолжение его «я»: досконально зная все секреты и капризы своей земли 1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. I. С. 472. (и мало что зная кроме нее), будучи включен в присущие ей природные ритмы, человек составлял с ней единое целое и вне его мыслил себя с трудом. В отличие от скота, рабов, утвари земля не подлежала отчуждению; продать или обменять ее, во всяком случае за пределы рода, было практически так же невозможно, нелепо, святотатственно, как и бросить. Покидая отчий дом в поисках славы и богатства, германец не порывал с ним навсегда, да его личная судьба и не имела особого значения — главное было не дать прерваться роду, тысячами уз связанному с занимаемой им землей. Когда же под давлением обстоятельств с места снималось целое племя, вместе с экономическими и социальными устоями общества начинала деформироваться и сложившаяся в нем система ценностей. В частности, возрастала роль движимого имущества, а земля все яснее обнаруживала свойства вещи, которую можно оценивать и приобретать. Не случайно архаические воззрения германцев на землю если не изживаются, то претерпевают принципиальные изменения именно в эпоху Великого переселения народов. Имущественное и социальное неравенство, известное германскому обществу по крайней мере в I в., еще долго выражалось сравнительно слабо. Наиболее типичной фигурой этого общества был свободный, ни от кого не зависящий человек — домовладыка, занятый сельскохозяйственным трудом, и одновременно воин, член народного собрания, хранитель обычаев и культов своего племени. Это еще не крестьянин в средневековом смысле слова, так как хозяйственная деятельность пока что не стала для него единственной, заслонившей и заменившей ему всякую другую: при очень низкой производительности труда, позволявшей прокормить общество лишь при условии личного участия почти всех его членов в сельском хозяйстве, общественное разделение труда и разграничение социальных функций (производство, управление, культ и т. д.) еще только намечалось. Следует отметить, что сочетание производственной и общественной деятельности, в котором наряду с экономической самостоятельностью и воплощалось полноправие древнего германца, было возможно только благодаря его принадлежности к большесемейному коллективу, достаточно мощному и сплоченному, чтобы без особого ущерба для хозяйства переносить периодическое отсутствие домовладыки и его взрослых сыновей. Поэтому социальный статус германца определялся в первую очередь статусом его семьи, зависевшим еще не столько от богатства, сколько от численности, родословной и общей репутации семьи и рода в целом. Комбинация этих ревностно оберегаемых признаков определяла степень знатности человека, т. е. уровень гражданского достоинства, признаваемый за ним обществом. Большая знатность давала известные привилегии. Если верить Тациту, она обеспечивала наряду с уважением преимущество при дележе земли и доставляла предводительство на войне даже юношам; судя по тому, что последние могли позволить себе подолгу пребывать в праздности, чураясь сельскохозяйственного труда, большая знатность, как правило, сочеталась с большим достатком. О крепнущей взаимосвязи социального превосходства с богатством свидетельствуют и материалы раскопок, показавших, что наиболее солидная богатая усадьба обычно занимала в поселении центральное место, соседствуя с культовым помещением и как бы группируя остальные жилища вокруг себя. Однако во времена Тацита знатность еще не превратилась у германцев в особый социальный статус. Все свободные и свободнорожденные оставались полноправными и в целом равноправными членами племени: различия в их среде по сравнению с их общим отличием от несвободных были еще относительно несущественными и определялись принадлежностью не к тому или иному социальному разряду, а к конкретному роду. Несвободные, как и у римлян, формально стояли вне общества, но в остальном рабство играло в жизни германцев принципиально другую роль. Хотя обычаи германцев не запрещали обращать в рабство соплеменников, а беспрестанные войны с соседями обеспечивали стабильный источник пополнения рабов за счет чужаков, рабы образовывали достаточно узкий слой населения. Пленных часто выменивали или продавали римлянам, а иногда и убивали на поле боя или приносили в жертву, рабов же по прошествии некоторою времени нередко отпускали на волю и даже усыновляли. По-видимому, рабы имелись далеко не во всяком домохозяйстве, и даже в самых крупных и зажиточных они вряд ли были столь многочисленными, чтобы господская семья могла переложить на них главные хозяйственные заботы. Рабство оставалось патриархальным, и в том, что касается повседневной производственной деятельности и условий существования, образ жизни рабов мало отличался от образа жизни свободных. Часть рабов работала рука об руку с хозяином и делила с ним кров и пищу, однако внимание Тацита больше привлекло то обстоятельство, что германцы «пользуются рабами иначе, чем мы, распределяющие обязанности между челядью, — каждый из них распоряжается в своем доме, в своем хозяйстве. Господин только облагает его, словно колона, известным количеством зерна, скота или ткани, и лишь в этом выражаются его повинности как раба». Можно гадать, действительно ли то были рабы или какой-то другой, чуждый социальному опыту римлянина разряд населения, однако показателен сам факт существования слоя эксплуатируемых частным лицом, но самостоятельно хозяйствующих производителей. Отношения этого типа, разумеется, не определяли социально-экономический облик германского общества конца I в., еще не знавшего систематической эксплуатации человека человеком. Тем не менее налицо симптомы разложения древнего общественного строя и формирования качественно нового хозяйственного механизма. В последующие три-четыре столетия германское общество делает заметный шаг вперед. Археологический материал недвусмысленно говорит о дальнейшем имущественном и социальном расслоении погребения все больше различаются по инвентарю, наиболее богатые из них сопровождают символические атрибуты власти; в скученных поселениях крупнейшая усадьба понемногу становится не только административным, но и экономическим центром: в частности, в ней концентрируются ремесло и торговля. Углубление социальной дифференциации зафиксировано и позднеантичными авторами. Так, в изображении Аммиана Марцеллина (конец IV в.), аламанская знать (нобилитет) уже вполне определенно противостоит простонародью и держится обособленно даже в бою. Ретроспективные данные варварских правд также позволяют сделать вывод, что к эпохе Великого переселения свободные уже не составляли единой массы ни в имущественном, ни в социально-правовом отношении. Как правило, преобладающим было трехчастное деление соплеменников на знатных, свободных в узком смысле слова и полусвободных, в германских наречиях именуемых обычно литами. С большей или меньшей четкостью эти категории уже различались объемом прав. Например, по обычаям саксов, жизнь знатных защищались более высоким вергельдом (штрафом за убийство — ср. древнерусское «вира»), его клятва оценивалась выше, чем клятва просто свободного, но в ряде случаев строже карались и совершенные им преступления. Степень знатности в канун Великого переселения по-прежнему в большой мере определялась происхождением: учитывалось, например, были ли в роду несвободные или представители покоренных племен. Однако все более заметную роль при этом играло имущественное положение человека. Типичный знатный варварских правд окружен многочисленной родней, рабами, отпущенниками, зависимыми людьми. Рабы и зависимые могли быть и у свободного простолюдина, и даже у лита, но чаще лит, а иногда и свободный на положении лита сам являлся чьим-то человеком, обязанным своему господину послушанием и какими-то повинностями. Его свобода, понимаемая в варварском обществе как нерасторжимое единство известных прав и обязанностей, постепенно ущемлялась, а сам он понемногу устранялся от участия в общественных делах, все больше сосредоточиваясь на хозяйственных заботах. Характерно, что даже некоторые древнейшие правды причисляют к литам вольноотпущенников (чей статус, по германским понятиям, непреодолимо ущербен), а подчас прямо противопоставляют литов свободным, что свидетельствует об опускании низшей группы свободных и все более очевидном стирании реальных различий между ними и людьми, несущими на себе пятно несвободного происхождения. Самым существенным в этом процессе было то, что, сохраняя хозяйственную самостоятельность, неполноправные свободные становились зависимыми эксплуатируемыми людьми, сближаясь таким образом с испомещенными на землю рабами. Однако при всей значимости этого процесса в период, предшествующий Великому переселению народов, он успел создать лишь предпосылки становления классового феодального общества, причем во многих случаях самые ранние, отдаленные предпосылки. Социально-политическая организация. Первые государства германцев возникли в V—VI вв., и лишь у тех племен, которые, вторгшись на территорию Западной Римской империи и по частям завоевав ее, уже самим фактом господства над намного более развитыми народами были поставлены перед необходимостью приспособить свою систему управления к новым условиям. У других (как правило, более отсталых) племен, не столкнувшихся непосредственно с классовым обществом и политическими институтами римлян, складывание государства затянулось на несколько столетий и завершилось опятьтаки не без внешнего воздействия со стороны франкского, англосаксонского и других обогнавших их в своем развитии обществ. Таким образом, даже накануне Великого переселения германские племена были еще сравнительно далеки от образования органов власти, которые можно было бы квалифицировать как государственные. Социально-политический строй древних германцев — это строй, характерный для высшей ступени варварства, притом отнюдь еще не исчерпавший своих возможностей. В марксистской литературе этот строй обычно называют военной демократией, поскольку на данной стадии эволюции «война и организация для войны становятся», по выражению Энгельса, «регулярными функциями народной жизни»', оказывая сильнейшее воздействие на общественную и хозяйственную деятельность. Отсутствие у древних германцев государства проявлялось прежде всего в том, что каждый полноправный член племени был лично и непосредственно сопричастен управлению, не только в принципе, но и на деле выступая носителем народовластия. Высшим органом власти было народное собрание, или вече племени, куда имели доступ все совершеннолетние свободные мужчины, за исключением тех, кто обесчестил себя трусостью в сражении. Народное собрание созывалось от случая к случаю (но, видимо, не реже, чем раз в год) для решения наиболее важных дел, каковыми считались вопросы войны и мира, суд по особо тяжким или запутанным преступлениям, посвящение в воины, а значит, и в полноправные члены общества, а также выдвижение предводителей племени. Согласно Тациту, последние ведали всеми текущими делами, в первую очередь судебными; кроме того, они предварительно обсуждали в своем кругу выносимые на тинг вопросы и предлагали рядовым его участникам заранее подготовленные решения, которые те вольны были, однако, шумом и криками отвергнуть либо, потрясая, по обычаю, оружием, принять. Тацит именует этих предводителей principes («начальствующие», «главенствующие»). Специального термина для обозначения совета принцепсов у Тацита нет, и, похоже, не случайно: судя по всему, это было достаточно аморфное образование, объединявшее первых лиц племени. Цезарь, однако, усмотрел в нем подобие сената, и, по всей вероятности, речь действительно идет о совете старейшин, состоявшем, правда, уже не из патриархов всех родов племени, а из представителей родоплеменной знати, оказавшихся к началу нашей эры на положении «старших» в обществе. 1 Мари К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 164. Наряду с коллективной властью народного собрания и совета старейшин у германцев существовала индивидуальная власть племенных вождей. Античные авторы называют их по-разному: одних — принцепсами, дуксами, архонтами, игемонами, т. е. предводителями, других — так же, как своих правителей героической эпохи, — рексами или василевсами, иначе говоря, царями. Тацит, например, рассказывает, что когда Арминий — знаменитый предводитель херусков, нанесший в 9 г. в Тевтобургском лесу сокрушительное поражение легионам Квинтилия Вара, вознамерился стать рексом, свободолюбивые соплеменники убили его. Однако смысл этого противопоставления от нас ускользает. Перед нами племенные вожди или верховные вожди племенных союзов, чью власть лишь условно, с учетом исторической перспективы, можно квалифицировать как монархическую. Могущество и прочность положения этих вождей, естественно, различались, но зависели ли эти различия от уровня развития племени и находили ли отражение в языке самих германцев, неясно. Переходный характер древнегерманских институтов власти, еще несомненно догосударственных, но уже далеко не первобытных, затрудняет выбор терминов, которые бы правильно передавали их суть. Это касается и титулатуры. Так, применительно к вождям германцев термины «василевс» и «реке» чаще всего переводятся на русский язык как «король». Между тем это слово, произведенное славянами от собственного имени Карла Великого (франкского монарха, умершего в 814 г.), принадлежит уже эпохе феодализма и может быть отнесено к политическим реалиям доклассового общества лишь с оговорками. Говоря о германских древностях, разумнее, наверное, взять на вооружение лексику самих германцев, лучше всего общегерманское слово konung. Как и связанное с ним славянское «князь», слово «конунг» восходит к индоевропейскому keni — «род» (ср. латинское gens). Таким образом, в первичном значении термина конунг — это родовитый, благородный, следовательно, знатный и в силу этого достойный уважения и послушания человек, но никак не повелитель и не господин. По наблюдениям Тацита, конунг располагал весьма ограниченной властью и управлял соплеменниками, скорее убеждая и увлекая примером, нежели приказывая. Конунг был военным предводителем племени, представлял его в международных делах, имел преимущество при дележе военной добычи и право на более или менее регулярные, хотя и добровольные, подношения со стороны соплеменников, а также на часть штрафов с осужденных, причитавшуюся ему именно как главе племени. Однако ни судьей, ни хранителем, тем более творцом племенных обычаев он не был и особой распорядительной властью не обладал. Даже на войне, пишет Тацит, «казнить, .заключать в оковы, подвергать телесному наказанию не дозволено никому, кроме жрецов», действующих как бы по повелению божества. Вместе с тем конунг и сам выполнял определенные сакральные функции. У ряда племен он и много столетий спустя играл важную роль в совершении публичных гаданий и жертвоприношений, считался лично ответственным за неудачу на войне и неурожай и мог быть на этом основании не только смещен, но и принесен в жертву, дабы умилостивить богов. Власть конунга была выборной. Избирали его на народном собрании из числа наиболее знатных мужей, еще не обязательно принадлежащих к одному роду, иногда по жребию, но чаще сознательным решением присутствовавших, поднимавших тогда своего избранника на щит. На народном собрании же, не без подстрекательства со стороны оппозиционно настроенной части знати, происходило и смещение ставшего почему-либо неугодным конунга. Некоторые из них пытались возвыситься над народным собранием и советом старейшин, что, по всей вероятности, и трактовалось античными авторами как борьба племенных вождей за царскую власть. Особое место в древнегерманском обществе занимали предводители дружин. В отличие от племенного войска-ополчения, включавшего всех боеспособных членов племени, строившегося по родам и семьям и возглавлявшегося конунгом, дружины составлялись из случайных, не связанных родством людей, надумавших сообща попытать ратное счастье и ради этого примкнувших к какому-то бывалому, удачливому, известному своей отвагой воину. В основном это была молодежь, часто знатного происхождения, надолго, если не навсегда, отрывавшаяся от отчего дома и сельскохозяйственного труда и всецело посвящавшая себя войне, а точнее, разбойным набегам на соседей. В промежутках между набегами дружинники проводили время в охотах, пирах, состязаниях и азартных играх, постепенно проедая и проматывая награбленное. Эту долю, может быть и желанную для всего германского юношества, избирали, однако, далеко не все: в дружинники шли наиболее знатные и богатые, чьи семьи могли позволить себе потерю работника, либо самые беспокойные и беспутные, вольные или невольные изгои, порвавшие с родней, а то и с племенем. Нередко они нанимались в солдаты к римлянам; так, например, начинал свою карьеру Арминий. Внутри дружины существовала своя специфическая иерархия, положение в ней определялось не столько знатностью рода, сколько личной доблестью. Это порождало соперничество между дружинниками, но все противоречия между ними заслонялись общей безоговорочной преданностью предводителю. Считалось, что предводителю принадлежит не только слава, но и добыча, дружинники же кормятся, получают оружие, видимо, и кров от его щедрот. Будучи чрезвычайно сплоченной, дружина занимала особое место в племенной организации. Она то противопоставляла себя племени, в частности нарушала заключенные им договоры (чего, похоже, не понимали дисциплинированные римляне, принимавшие самовольные вылазки отдельных отрядов за вероломство целого племени), то составляла ядро племенного войска, оказываясь средоточием его мощи и нередко обеспечивая своему предводителю достоинство конунга. По мере того как такие случаи учащались, ее облик менялся, и постепенно из разбойничьей ватаги, существовавшей как бы на периферии племени, она превращалась в настоящую княжескую дружину и в этом качестве становилась основой власти племенного вождя. В дальнейшем, к эпохе Великого переселения, из дружины, во всяком случае «старшей» ее части, вырастала новая, служилая знать, постепенно оттеснявшая старую, родо-племенную, хотя корнями многие представители новой знати были связаны со старой. Древние германцы не составляли этнического целого и, по-видимому, не воспринимали себя как единый народ. Привычный нам этноним Germani возник как название какого-то одного германского племени; кельты распространили его на всех своих северо-восточных соседей и в этом значении передали римлянам. Сами германцы, хотя и осознавали общность своего происхождения, культов и языка, похоже, не испытывали потребности в общем наименовании. Показательно, что слово diutisk (от thiuda — «народ»), к которому восходит современное самоназвание немцев — Deutsch, зарегистрировано в источниках только с конца VIII — начала IX в. При этом и на континенте, и в Англии оно первоначально употреблялось (в смысле «простонародный») лишь в отношении языка германцев, противопоставляемого латыни. Этнической характеристикой оно стало не ранее XI в., закрепившись, однако, к этому времени за одними немцами. Связанный с тем же корнем этноним «тевтоны», в средние века и в новое время применявшийся иногда ко всем германцам, в древности обозначал только одно, правда, знаменитое, племя — первое, наряду с кимврами, с которым столкнулись средиземноморские народы и которое едва не погубило римскую державу. Реальной политической единицей древнегерманского мира являлось племя. Возникавшие время от времени племенные объединения строились не столько по родственному, сколько по территориальному признаку и в условиях непрестанных миграций нередко включали и негерманские (кельтские, славянские, фракийские) племена. Таким объединением было, например, недолговечное «царство» Маробода — предводителя германцев и кельтов, населявших в начале I в. н. э. территорию современной Чехии. Племенные объединения рубежа старой и новой эры были еще очень рыхлыми и непрочными. Они вызывались к жизни временными, главным образом внешнеполитическими обстоятельствами (переселением в чужую страну и покорением ее или угрозой завоевания, нависшей над собственной страной) и с переменой обстоятельств распадались. Этническая разнородность являлась важной, но не единственной причиной их неустойчивости; не менее существенно, что и взятое в отдельности племя тогда еще не представляло собой достаточно прочного образования. Иногда вообще трудно решить, действительно ли в источнике говорится о племени или все-таки о конгломерате мелких племен. В изображении римских авторов, склонных принимать родоплеменные подразделения германцев за чисто территориальные, германская «цивитас» состоит из довольно обособленных, живущих своей жизнью округов, управляемых собственными принцеп-сами. Римляне обозначали эти округа словом pagus, германским эквивалентом правильно, видимо, считать слово Gau. Судя по данным топонимики, это были крупные, порядка 1000 кв. км, территории, жители которых обычно имели общее название, отличающее их от прочих соплеменников. Примером может служить расположенный в большой излучине Рейна Брейсгау — «округ бризов». Внутреннюю организацию округов приходится изучать в основном по материалам раннесредневековых источников, рисующих институты военной демократии не просто угасающими, но и деформированными. В той мере, в какой ретроспективный анализ этих источников все же оправдан, можно сделать вывод, что в каждом округе имелось свое, малое собрание, где избирался военный вождь, а также лагман — знаток и хранитель местных обычаев. Округ в свою очередь дробился на несколько сотен (hundert), обязанных выставлять в племенное ополчение по сотне воинов и потому так называвшихся. В сотне также существовав свое собрание (mallus «Салической правды», gemot англосаксонских судебников), созывавшееся чаще, чем собрания более высокого уровня, по нескольку раз в год. На сотенном собрании заключались сделки, рассматривались совершенные в пределах сотни правонарушения, вообще все значимые для нее вопросы правового характера. Дела, касавшиеся сразу двух и более сотен (например, тяжбы между членами разных сотен), слушались в окружном или даже в пле- . менном собрании. Поскольку жизнь ставила перед племенем более разнообразные и сложные проблемы, чем перед округом или сотней, круг вопросов, обсуждавшихся на племенном собрании, был шире, а сами вопросы — серьезнее. Так, внешнеполитические дела имело смысл решать всем племенем сообща. Однако полномочия и функции собраний были в принципе одни и те же, принудить округа и сотни к выполнению своих решений племенное собрание было не в состоянии: все держалось на добровольном согласии соплеменников, объединенных в сотни и округа. Не будучи политически самостоятельными, они являлись все же вполне жизнеспособными образованиями и, если решения племени шли вразрез с их частными интересами, сравнительно легко и безболезненно откалывались от него, чтобы затем примкнуть — в целях самосохранения — к другому племени. Случалось, что раскол совершался не в результате разногласий, а под натиском врагов, подчинивших и увлекших за собой жителей отдельных округов и сотен, или даже как вынужденная мера — вследствие перенаселенности, истощения почв и т. д. Тогда бросали жребий, и часть племени отправлялась в путь в поисках новой родины. Так, по всей вероятности, обстояло дело у семнонов, позднее у вандалов, саксов, некоторых других племен. Эволюция политического строя германцев в IV—V вв. К IV— V вв. в политическом строе германцев происходят важные изменения. Племенные объединения перерастают в племенные союзы, более сплоченные, устойчивые и, как правило, более многочисленные. Некоторые из этих союзов (например, аламанский, готский, франкский) насчитывали по нескольку сот тысяч человек и занимали или контролировали огромные территории. Уже по этой причине совместный сбор всех полноправных членов союза был практически невозможен. Нормально продолжали функционировать лишь окружные и сотенные собрания, постепенно утрачивавшие, однако, политический характер. Собрание племенного союза сохранялось лишь как собрание идущего войной или явившегося на смотр войска. Таковы Мартовские поля франков, войсковой тинг лангобардов. На общесоюзном собрании продолжали решать вопросы войны и мира, провозглашать и низвергать конунгов, но по сравнению с эпохой Тацита сфера его деятельности сузилась, активность и реальное значение как самостоятельной политической силы упали. На первый план выдвинулись другие органы власти. Совет родоплеменных старейшин окончательно уступил место совету дружинной, служилой знати, группирующейся вокруг конунга. Среди советников выделялись предводители подразделений племенного союза — «царьки» (reguli), как называет их Аммиан Марцеллин в отличие от остальной знати (optimates). Каждый из них располагал собственной дружиной, уже заметно обособившейся от массы соплеменников и проживавшей вместе с ним в специально построенной крепости (бурге), бывшей поначалу чисто военным, впоследствии также торговоремесленным, но никак не сельскохозяйственным поселением. Знать оказывала весьма ощутимое влияние на действия верховного союзного конунга, непосредственно или через войсковое собрание заставляя его считаться со своими интересами. Тем не менее власть конунга несомненно усилилась. Не будучи еще наследственной, она уже стала прерогативой какого-то одного рода, из которого и надлежало выбирать конунга. Сосредоточение власти в руках одной семьи способствовало накоплению ею все больших богатств, в свою очередь укреплявших политические позиции правящей династии. У вестготов на этой основе уже в V в., если не раньше, возникает казна — важный элемент зарождавшейся государственности. Возросший авторитет королевской власти выразился также в изменившемся отношении к личности конунга. Оскорбление и даже убийство конунга еще может быть искуплено уплатой вергельда, но размер его уже заметно (обычно вдвое) выше, чем вергельд других знатных людей. Конунги и их родня начинают выделяться и внешним обликом: платьем, прической, атрибутами власти. У франков, например, признаком принадлежности к королевскому роду Меровингов были длинные, до плеч, волосы. Начиная с IV в. предводители отдельных германских племен и племенных подразделений все чаще поступают на службу к римлянам, сражаясь со своими дружинами в составе римской армии там, куда их пошлют (будь то даже Сирия), но в большинстве случаев оставаясь на прежнем месте и обязуясь всем племенем охранять на своем участке границу империи от других германцев. Эта практика еще больше, чем торговля с Римом, содействовала приобщению германцев к римской культуре, в том числе культуре политической. Получая от римского правительства высокие должности в военной, затем гражданской администрации и сопутствующие этим должностям звания, конунги пытались соответствующим образом перестроить и свои отношения с соплеменниками. Важным средством социально-политического возвышения конунгов, как и знати в целом, явилось восприятие германцами (разумеется, поверхностное) христианства, более подходящего меняющейся общественной структуре варварского мира, чем древняя языческая религия германцев. Первыми на эту стезю вступили вестготы. Начало массового распространения христианства в их среде относится к середине IV в. и связано с миссионерской деятельностью вестготского священника Ульфилы, приспособившего латинский алфавит к готскому языку и переведшего на него Библию. Рукоположенный в сан епископа в 341 г., когда в церкви временно возобладали ариане, Ульфила проповедовал соплеменникам христианство арианского толка, которое в самой империи вскоре было объявлено ересью. Познакомившись с христианским учением в основном через вестготов и не вникая, естественно, во всяком случае поначалу, в богословские споры, другие германские народы также восприняли его по большей части в форме арианства. Различия в вероисповедании усугубили и без того непростые взаимоотношения германцев с империей; арианство нередко служило им знаменем борьбы против Рима. Однако сама по себе христианизация сыграла очень важную роль в социально-политическом развитии германских племен, ускорив и идеологически оформив становление у них классового общества и государства. § 3. Падение Западной Римской империи и образование варварских государств Причины Великого переселения народов. Период с IV в. по VII в. вошел в историю Европы как эпоха Великого переселения народов, названная так потому, что на эти четыре столетия приходится пик миграционных процессов, захвативших практически весь континент и радикально изменивших его этнический, культурный и политический облик. Это эпоха гибели античной цивилизации и зарождения феодализма. Усиление имущественного и социального неравенства подталкивало различные слои варварских племен к тому, чтобы попытаться захватить новые, занятые чужаками, земли — варварское общество на стадии военной демократии склонно к экспансии. Сказалось также давление шедших с Востока степных кочевников. Однако наиболее общей причиной, вызвавшей одновременное перемещение огромной разноплеменной массы людей, по всей видимости, было резкое изменение климата. Приблизительно со II в. начинается и к V в. достигает максимума похолодание, в рамках которого сначала происходило усыхание сухих и увлажнение влажных почв с соответствующими изменениями растительного покрова. Эти перемены отрицательно сказались на условиях хозяйствования как кочевых народов евразийских степей, так и оседлого населения европейского севера, побуждая и тех и других искать новую среду обитания в менее высоких широтах. Ухудшение климата хронологически совпало для многих варварских племен Европы с разложением у них первобытнообщинного строя. Экстенсивное по преимуществу развитие производства и сопутствовавший ему рост народонаселения натолкнулись в начале новой эры на ограниченность природных ресурсов лесной, отчасти и лесостепной зоны континента, которые при тогдашнем уровне производительных сил были менее удобны в хозяйственном отношении, чем районы Средиземноморья. В числе основных причин миграций нужно назвать и внешнеполитические факторы, а именно: давление одних варварских племен (чаще всего кочевых) на другие и ослабление Римской империи, оказавшейся более неспособной противостоять натиску со стороны своих окрепших соседей. В IV—V вв. главную роль в Великом переселении играли германские и тюркские, впоследствии также славянские и угро-финские племена. Передвижения германских племен. Родиной германцев были северные, приморские области Германии, Ютландия и Южная Скандинавия. Южнее жили кельты, восточнее — славяне и балты. Первая волна германской экспансии вылилась в грандиозные перемещения кимвров и тевтонов, за четверть века исколесивших полЕвропы (крайние точки: Ютландия, Венгрия, Испания) и наконец в 102—101 гг. до н. э. разгромленных Гаем Марием в отрогах Западных Альп. Вторая волна приходится на 60-е годы I в. до н. э., когда свевы под предводительством Ариовиста попытались закрепиться в Восточной Галлии. В 58 г. до н. э. они были разбиты Цезарем. Однако к этому времени германцы уже прочно обосновались на среднем Рейне, к концу столетия и на верхнем Дунае, покорив и по большей части ассимилировав местное кельтское население. Дальнейшее продвижение германцев на юг было остановлено римлянами, поэтому с конца I в. до н. э. экспансия их направляется в основном на восток и юго-восток: в верховья Эльбы и Одера, на средний, затем и нижний Дунай. После разгрома в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.) римляне больше не предпринимали серьезных попыток завоевать Германию. Редкие экспедиции в глубь германской территории носили по преимуществу демонстрационный характер; более действенным было признано дипломатическое вмешательство, позволявшее при помощи подкупа, шантажа и натравливания одних племен на другие удерживать пограничных варваров от нападения. Граница же установилась по Рейну и Дунаю, где впредь в многочисленных крепостях было сосредоточено большинство легионов. В последней трети I в. н. э. для облегчения переброски войск в стратегически важном районе Шварцвальда были сооружены новые мощные укрепления — лимес; земли между лимесом, Рейном и Дунаем (так называемые Десятинные поля) были заселены приглашенными из Галлии кельтами. В начале II в. римляне захватили также Дакию, обезопасив себя от варварских набегов и на нижнем Дунае. Положение стало меняться во второй половине II в., когда в ходе так называемой Маркоманской войны (166—180) значительные массы варваров впервые прорвали римскую границу, создав угрозу даже Италии. Марку Аврелию с трудом удалось отбросить их за Дунай, но с этого времени германские вторжения заметно учащаются. Борясь с ними и сталкиваясь с падением боеспособности и численности собственных войск, римляне пошли по пути поселения отдельных варварских племен на территории империи, перепоручая им охрану ряда рубежей; одновременно усилилась варваризация самой римской армии. В 50-е годы III в., воспользовавшись охватившей империю смутой, германцы проникли на римскую территорию сразу на нескольких участках. Наибольшую опасность для Рима представляли вторжения аламанов и франков в Галлию и дальше в Испанию, а также появление готов на северных Балканах, откуда они совершали набеги во внутренние районы полуострова и пиратские нападения с моря на побережье Пропонтиды и Эгеиды. Франки и аламаны были оттеснены за Рейн приблизительно в 260 г.; последние, правда, закрепились на Десятинных полях. На Балканах в 269 г. готы потерпели сокрушительное поражение при Наиссусе и отступили за Дунай. Однако, несмотря на несомненный успех, два года спустя римляне эвакуировали войска и гражданское население из Дакии. После этого граница на несколько десятилетий стабилизировалась. В дальнейшем, несмотря на периодические вторжения и мятежи германских поселенцев (например, в середине IV в., когда франки и аламаны вновь попытались перейти в наступление), римляне прочно удерживали рейнско-дунайский вал: на Западе — до 406 г., на Востоке — до последней трети VI в. Вестготы. К середине IV в. из объединения готских племен выделились союзы западных и восточных готов (иначе вест- и остготов), занимавшие соответственно земли между Дунаем и Днепром и между Днепром и Доном, включая Крым. В состав союзов входили не только германские, но также фракийские, сарматские, возможно, и славянские племена. В 375 г. остготский союз был разгромлен гуннами — кочевниками тюркского происхождения, пришедшими из Центральной Азии и подчинившими к этому времени некоторые угорские и сарматские племена, в том числе аланов. Теперь эта участь постигла и остготов. Спасаясь от гуннского нашествия, вестготы в 376 г. обратились к правительству Восточной Римской империи с просьбой об убежище. Они были поселены на правом берегу нижнего Дуная, в Мезии, в качестве федератов — союзников с обязательством охранять дунайскую границу в обмен на поставки продовольствия. Буквально через год вмешательство римских чиновников во внутренние дела вестготов (которым было обещано самоуправление) и злоупотребления с поставками вызвали восстание вестготов; к ним примкнули отдельные отряды из других варварских племен и многие рабы из поместий и рудников Мезии и Фракии. В решающем сражении у Адрианополя в 378 г. римская армия была наголову разбита, при этом погиб император Валент. В 382 г. новому императору Феодосию I удалось подавить восстание, но теперь вестготам для поселения была предоставлена не только Мезия, но также Фракия и Македония. В 395 г. они снова восстали, опустошив Грецию и вынудив римлян выделить им новую провинцию — Иллирию, откуда они начиная с 401 г. совершали набеги в Италию. Армия Западной Римской империи состояла к этому времени по большей части из варваров, во главе ее стоял вандал Стилихон. В течение нескольких лет он достаточно успешно отбивал нападения вестготов и других германцев. Хороший полководец, Стилихон вместе с тем понимал, что силы империи истощены, и стремился по возможности откупиться от варваров. В 408 г., обвиненный в потворстве своим соплеменникам, разорявшим тем временем Галлию, и вообще в чрезмерной уступчивости варварам, он был смещен и вскоре казнен. Взявшая верх «антигерманская партия» оказалась, однако, неспособной организовать сопротивление варварам. Вестготы снова и снова вторгались в Италию, требуя все большей контрибуции и новых земель. Наконец в 410 г. Аларих после долгой осады взял Рим, разграбил его и двинулся на юг Италии, намереваясь переправиться в Сицилию, но по пути внезапно умер. Падение Вечного города произвело страшное впечатление на современников, многие восприняли это событие как крушение всей империи и даже как начало светопреставления. Однако, получив военную помощь с Востока, правительство Западной Римской империи сумело в короткий срок взять ситуацию под контроль. С вестготами было заключено соглашение: преемник Алариха Атаульф получал в жены сестру императора Гонория Галлу Плацидию и обещание земель для поселения в Аквитании. С 412 г. вестготы воюют в Галлии и Испании с врагами империи, иногда и против нее, пока в конце концов не оседают — формально на правах федератов — в Юго-Западной Галлии, в районе Тулузы, ставшей столицей их государства — первого варварского государства, возникшего на территории империи (418 г.). Вандалы. Поражение римлян под Адрианополем совпало по времени с их последним походом за Рейн, после чего они окончательно перешли к обороне и на западном участке границы. Охрана рубежей на нижнем Рейне была поручена франкам, которым пришлось уступить крайний север Галлии — Токсандрию; на среднем Рейне и верхнем Дунае все еще преобладали римские гарнизоны, местами поддерживаемые аламанскими федератами. В 406 г., пользуясь тем, что основные силы Западной Римской империи были отвлечены на борьбу с вестготами, вандалы, аланы и квады (принявшие теперь имя свевов), преодолев сопротивление франков, прорвали римский лимес в районе Майнца и хлынули в Галлию. Другая часть вандалов, аланов и свевов присоединилась к остготскому союзу, возглавлявшемуся Радагаисом; вместе они форсировали Дунай возле Аугсбурга и через Норик вторглись в Италию. В 406 г. недалеко от Флоренции Стилихон разгромил воинство Радагайса, год спустя британские легионы восстановили границу на среднем Рейне, но выдворить варваров из Галлии римлянам уже не удалось. Разорив восточные, центральные и юго-западные районы страны, вандалы, аланы и свевы в 409 г. пересекли Пиренеи и ворвались в Испанию, закрепившись в основном в ее западных областях. Наибольшую опасность для Рима в тот период представляли вандалы, к которым в 416 г. присоединились остатки разбитых вестготами аланов. Отличаясь особой дикостью и агрессивностью, они не шли на договор с империей, не оседали в какой-то одной местности, предпочитая временный захват и грабеж все новых и новых территорий. Между 422 и 428 гг. жертвами вандалов стали приморские города Восточной Испании. Завладев находящимися там кораблями, они в 429 г. под предводительством Гейзериха высадились в Африке в районе Тингиса (Танжера) и начали наступление на запад. Римское господство в Северной Африке было основательно поколеблено участившимися набегами берберских племен, только что закончившейся войной наместника Бонифация против центрального правительства, наконец непрекращающимися выступлениями народных масс. В этой обстановке вандалы без труда преодолели за год 1000 км и осадили Гиппон-Регий, где епископом был знаменитый христианский богослов Августин. Взяв город в 431 г. после 14-месячной осады, вандалы четыре года спустя вырвали у империи согласие на владение захваченными землями в качестве федератов. Мир был, однако, недолгим. Уже в конце 435 г. вандалы заняли Карфаген и, получив в свои руки огромный торговый флот, стали совершать налеты на побережье Сицилии и Южной Италии. В 442 г. римское правительство было вынуждено признать их полную независимость и власть над большей частью Северной Африки. Гунны. Потеря главных африканских провинций, снабжавших Италию зерном и оливковым маслом, явилась для римлян тяжелым ударом: враг обосновался в глубоком тылу. И все же военная угроза исходила прежде всего с севера. После вторжений 406 г. имперские войска уже почти не контролировали рейнско-дунайский вал. Римские гарнизоны оставались лишь в некоторых пунктах Реции и Норика, тогда как защита рейнского рубежа была почти всецело передана германским федератам — теперь уже не только франкам, но также бургундам, пришедшим вслед за вандалами и обосновавшимся на среднем Рейне в районе Вормса, и аламанам, постепенно занявшим современный Эльзас. Что же касается Паннонии, то там к 20-м годам V в. прочно утвердились гунны. С гуннами Рим столкнулся еще в 379 г., когда те, идя по пятам вестготов, вторглись в Мезию. С тех пор они неоднократно нападали на балканские провинции Восточной Римской империи, иногда терпели поражение, но чаще уходили лишь по получении откупного, так что понемногу константинопольское правительство превратилось в их данника. Отношения гуннов с Западной Римской империей поначалу строились на другой основе: гуннские наемники составляли заметную часть западноримской армии, особенно с 20-х годов V в. Равенна активно использовала их для борьбы с то и дело поднимавшими мятеж франками и бургундами, обосновавшимися на Рейне, а также с багаудами — крестьянами северо-западной Галлии, пытавшимися отложиться от Рима и жить никому не подвластными самоуправляющимися общинами. В 436 г. гунны, возглавляемые к тому времени Аттилой (за свои насилия прозванным христианскими писателями Бичом божьим), разгромили королевство бургундов; это событие легло в основу сюжета «Песни о Нибелунгах». В результате часть бургундов влилась в состав гуннского союза, другая была переселена римлянами к Женевскому озеру, где позднее, в 457 г., возникло так называемое второе Бургундское королевство с центром в Лионе. В конце 40-х годов ситуация изменилась. Аттила стал вмешиваться во внутренние дела Западной Римской империи и претендовать на часть ее территории. В 451 г. гунны вторглись в Галлию, вместе с ними шли гепиды, герулы, остготы, ругии, скиры, другие германские племена. В решающем сражении на Каталаунских полях (близ Труа в Шампани) римский полководец Аэций, бывший когда-то заложником у гуннов и не раз водивший в бой гуннские отряды, с помощью вестготов, франков и бургундов разбил войско Аттилы. Это сражение по праву считается одним из важнейших в мировой истории, поскольку на Каталаунских полях в известной мере решалась судьба не только римского владычества в Галлии, но и всей западной цивилизации. Однако силы гуннов отнюдь еще не были исчерпаны. На следующий год Аттила предпринял поход в Италию, взяв Аквилею, Милан, ряд других городов. Лишенная поддержки германских союзников римская армия оказалась не в состоянии ему противостоять, но Аттила, опасаясь поразившей Италию эпидемии, сам ушел за Альпы. В 453 г. он умер, и среди гуннов начались усобицы. Два года спустя восстали подчиненные им германские племена. Потерпев поражение сначала от гепидов, затем от остготов, гунны откочевали из Паннонии в Северное Причерноморье. Держава гуннов распалась, остатки их постепенно смешались с идущими с востока тюркскими и угорскими племенами. Крушение Западной Римской империи. Победа на Каталаунских полях явилась последним крупным успехом Западной Римской империи. В 454 г. по приказанию Валентиниана III был убит чрезмерно популярный и независимый, по его мнению, Аэций, которого в литературе нередко называют последним римлянином. В 455 г. от рук одного из военачальников Аэция свева Рикимера погиб сам император. После этого началась политическая чехарда: за 21 год на престоле Западной Римской империи сменилось 9 правителей, ставленников италийской или галльской знати, варварской армии под командованием Рикимера (сместившего или убравшего не одного августа), а после его смерти в 472 г. — Византии, вандалов и бургундов. Это время дальнейшего нарастания кризиса империи и стремительного сокращения ее границ. В мае 455 г., вскоре после убийства Валентиниана III, вандальский флот внезапно появился в устье Тибра; в Риме вспыхнула паника, император Петроний Максим не сумел организовать сопротивление и погиб. Вандалы без труда захватили город и подвергли его 14-дневному разгрому, уничтожив при этом множество бесценных памятников культуры. Отсюда происходит термин «вандализм», которым обозначают намеренное бессмысленное уничтожение культурных ценностей. Вандалы не пытались закрепиться в Италии, но с этого времени твердо контролировали все крупные острова и морские коммуникации в Западном Средиземноморье. Тогда же начинается экспансия бургундского государства. В 461 г. бургунды овладевают Лионом и начинают успешное продвижение вниз по Роне, в сторону Прованса, и одновременно на север, завоевав к концу 70-х годов те земли, которые в средние века и получили название Бургундия. Навстречу им с севера, на территорию нынешней Лотарингии, продвигались франки, а с северо-востока, в современный Эльзас (позднее также в немецкую Швейцарию), — аламаны. Наибольший успех в этот период выпал на долю вестготов, понемногу занявших прилегающие к Бискайскому заливу области Аквитании, а затем большую часть Центральной Галлии, до среднего течения Луары. В отличие от вандалов вестготы, бургунды, франки и аламаны формально оставались федератами, их правители имели высший римский титул патриция, контролируемые ими земли продолжали считаться частью римского государства. Однако на деле это были уже вполне самостоятельные политические образования, притом далеко не всегда дружественные по отношению к Риму. Вестготы, например, неоднократно пытались захватить средиземноморские области римской Галлии. Будучи призваны в начале 50-х годов в Испанию для борьбы с багаудами, а также со свевами, прочно обосновавшимися на северо-западе страны и регулярно совершавшими набеги в другие ее районы, вестготы действительно помогли римлянам разгромить и тех и других, но уйти из Испании уже не пожелали. К началу 70-х годов они шаг за шагом подчинили почти весь полуостров, кроме удерживаемого свевами северо-запада и твердынь басков в Западных Пиренеях и Кантабрии. То обстоятельство, что вестготы выступали не как враги, а как уважающие римские законы федераты империи, лишь облегчило им расширение своего государства. В последние годы своего существования Западная Римская империя являла собой причудливое и в целом печальное зрелище. Под прямым контролем Равенны оставались: Италия (без островов), приморская часть Иллирии, некоторые районы в Реции и Норике, три оторванные друг от друга области Галлии — Прованс, Овернь и территория между средним течением Луары, Соммой и Ла Маншем (будущая Нейстрия), а также прибрежная Мавретания и, может быть, отдельные пункты в Юго-Восточной Испании. При этом центральное правительство, как правило, не было в состоянии реально помочь удаленным от Италии провинциям, предоставляя местным властям самим решать возникающие проблемы. Ярким примером служит история Британии, которая после 408 г. с уходом римских легионов была, по сути дела, брошена на произвол судьбы. На неоднократные мольбы жителей Британии о помощи против вторгавшихся из Ирландии и Шотландии кельтов западно-римское правительство, насколько известно, не реагировало. Некоторое время британцы защищались самостоятельно, затем, в 20-е годы, пригласили с этой целью германское племя саксов, выделив им для поселения земли в юго-восточной части острова, в Кенте. В 40-е годы саксы перестали повиноваться римским властям, объявили себя независимыми и, опираясь на все прибывающие с континента отряды соплеменников (а также англов, ютов и фризов), начали войну с вчерашними хозяевами острова. Британцы сопротивлялись, временами нанося противнику серьезные поражения (перипетии этой борьбы в преобразованном виде нашли отражение в легендах о короле Артуре), но постепенно отступали все дальше на запад к Ирландскому морю. Нечто подобное происходило и на других территориях, где еще сохранялась римская государственность. В Норике римская власть удерживалась в некоторых городах лишь благодаря союзу с германским племенем ругиев, которым платили что-то среднее между данью и жалованьем за службу; в Мавретании сохранность римских порядков зависела от умения местных магнатов договориться с берберами; Овернь долгое время оставалась римской из-за соперничества бургундов и вестготов. Даже в самой Италии власть императора обеспечивалась главным образом поддержкой почти полностью варварской армии, периодически домогавшейся увеличения жалованья. В 476 г. варвары потребовали также земель для поселения; отказ римлян удовлетворить это требование привел к государственному перевороту: предводитель германских наемников Одоакр из племени скиров сместил последнего западноримского императора Ромула Августула и был провозглашен солдатами конунгом Италии. Заручившись поддержкой римского сената, Одоакр отослал знаки императорского достоинства в Константинополь с заверениями в послушании. Восточноримский василевс Зенон, вынужденный признать сложившееся положение вещей, пожаловал ему титул патриция, тем самым узаконив его власть над италийцами. Так прекратила существование Западная Римская империя. Варварские государства после падения империи. Свержение Ромула Августула принято считать концом не только Западной Римской империи, но и всего античного периода истории. Дата эта, разумеется, условная, символическая, поскольку большая часть империи уже давно находилась вне реального контроля равеннского правительства, так что образование еще одного варварского государства, теперь уже на территории Италии, знаменовало лишь завершение длительного процесса. Оценивая дальнейшее политическое развитие Западной Европы, нужно прежде всего иметь в виду, что Великое переселение народов отнюдь не закончилось в 476 г. В VI в. приходят в движение баски: успешно сдерживая натиск вестготов в Кантабрии и Пиренеях, они одновременно начинают колонизацию галльских земель к югу и западу от Гаронны, о чем свидетельствует, помимо всего прочего, закрепившийся за этой территорией топоним Гасконь. Продолжается миграция в Британию саксов, англов и их союзников, и к концу раннего средневековья ее уже обычно называют Англией, тогда как северозападная оконечность Галлии — Армо-рик, куда переселилась часть бежавших от германцев бриттов, получила название Бретань. Другая часть саксов с лангобардами переместилась с низовий Эльбы на верхний Дунай, в то время едва ли не самый неспокойный район Европы, где одно германское племя чаще всего сменяло другое, а посреди этой варварской стихии еще несколько десятилетий сохранялись островки римского населения. Лежащая дальше на восток Паннония стала в VI в. ареной борьбы между германцами, славянами и аварами — тюркоязычными по преимуществу племенами, пришедшими из евразийских степей. Последние в итоге взяли верх и в 60-е годы VI в. создали на среднем Дунае могущественное государство, терроризировавшее всех своих соседей, — Аварский каганат. К тому же примерно времени относится начало массовых вторжений славян на Балканы и их постепенное движение на запад к Эльбе и Альпам. Средиземноморье в то время оставалось относительно спокойным; положение стало меняться в середине VII в., когда на Леванте, а затем в Египте и Северной Африке обосновались арабы, которые стали оказывать все более заметное воздействие на исторические судьбы Западной Европы. После падения Западной Римской империи ее провинциальные владения были скоро захвачены варварскими государствами. Вестготы окончательно утвердились на большей части Испании, закрепили за собой Овернь и поделили с бургундами Прованс, вандалы тем временем прибрали к рукам мавретанские порты. Дольше всех сопротивлялись римляне Северной Галлии, создавшие там самостоятельное государство. Однако в 486 г. близ Суа-ссона они потерпели поражение от салических (приморских) франков, захвативших после этого все галльские земли к северу от Луары, кроме Арморики. К концу V в. на обломках Зайадной Римской империи сложилось несколько варварских государств: Вандальское, Вестготское, Свевское, Бургундское, Франкское и государство Одоакра в Италии. Племена, обитавшие во внутренних областях Германии, равно как в Британии, а тем более в Скандинавии, еще не имели собственной государственности. Судьба этих политических образований была неодинаковой. Наименее долговечным оказалось созданное бывшими наемниками, в основном- из числа герулов, скиров и некоторых других столь же немногочисленных германских племен, государство Одоакра — видимо, потому, что не обладало прочной племенной основой. В 493 г. оно было уничтожено пришедшими из Норика и Паннонии остготами; возглавлял их конунг Теодорих (493—526), действовавший с ведома восточноримского императора Зенона. Государство остготов, включавшее помимо Италии Сицилию, Норик, часть Паннонии и Иллирии, а позднее также Прованс, вскоре стало самым сильным в Западной Европе, но в 555 г., после затяжной войны, было завоевано Византией. Еще раньше, в 534 г., эта участь постигла государство вандалов (см. гл. 5). Наиболее жизнеспособным и динамичным оказалось Франкское государство (см. гл. 4). В сражении возле Пуатье в 507 г. франки одержали решительную победу над вестготами и в течение нескольких месяцев захватили почти все их владения в Галлии, включая Тулузу. Вмешательство остготов предотвратило завоевание франками и действовавшими в союзе с ними бургундами средиземноморских областей Галлии. Прованс около 510 г. отошел к остготам, Септимания осталась за вестготами, чья столица была перенесена за Пиренеи в Толедо. Однако с этого времени верховенство в Галлии перешло к франкам. В 534 г. они завоевали государство бургундов. Дальнейшая история варварских государств связана с завоевательной политикой восточноримского императора Юстиниана I. Помимо Северной Африки и Италии ему удалось отобрать в 551 г. у ослабевших вестготов ряд городов в Южной Испании: Картахену, Кордову, Малагу и др. Но развить успех византийцы уже не сумели. В 568 г., теснимые аварами, на Апеннинский полуостров вторглись лангобарды, в считанные годы овладевшие большей частью Северной и Южной Италии, после чего Константинополь перешел к обороне и уже не пытался расширить владения империи. Тем временем в наступление перешло стабилизировавшееся государство вестготов. В 585 г. они положили конец независимости свевов и одновременно начали теснить византийцев, отвоевав южную часть полуострова к 636 г. Северная Африка оставалась в руках Константинополя до арабского завоевания в 60-е годы VII в. В начале VIII столетия арабы вышли к Гибралтарскому проливу, пересекли его и за несколько лет полностью уничтожили Вестготское государство. § 4. Сущность генезиса феодализма в Западной Европе Становление феодализма — долгий и многосложный процесс, подготовленный развитием более древних обществ — рабовладельческого и первобытнообщинного. И в позднеантичном, и в варварском обществе возникли предпосылки для формирования феодальных отношений. Исторически сложилось так, что в Западной Европе дальнейшее становление феодализма происходило в условиях столкновения и взаимодействия этих обществ. Речь идет не о механическом соединении протофеодальных элементов обоих обществ, а именно о взаимодействии, синтезе этих элементов и двух общественных систем в целом, в результате которого родились качественно новые отношения. Даже такой удаленный от рубежей античной цивилизации регион, как Скандинавия, не избежал ее воздействия, правда, косвенного через торговлю и политические контакты с другими частями континента, через христианскую церковь, чья религиозная доктрина, а также право выросли на античной почве, через технологические и идеологические заимствования. То же можно сказать о районах, которые практически не испытали непосредственного воздействия варварского мира, например о побережье Южной Италии, Провансе, островах Западного Средиземноморья, где классически античные общественные отношения были все же заметно деформированы вследствие подвластности этих районов варварским правителям, нарушения прежних экономических связей, изменения социокультурного климата и т. д. Полное отсутствие синтеза можно констатировать в тех случаях, когда в соприкосновение с античной цивилизацией вступали народы, находившиеся на слишком низком уровне общественного развития, такие, как гунны или берберы. Каково сравнительное значение античного и варварского компонентов феодального синтеза? Ответить на этот вопрос позволяет сопоставление различных вариантов генезиса феодализма, представленных историей отдельных регионов Западной Европы. Наиболее активно феодальный синтез протекал там, где античное и варварское начала были достаточно уравновешены. Классическим примером такого варианта развития является Северо-Восточная Галлия, где феодализм утвердился рано, уже в VIII—IX вв. и был относительно слабо отягощен дофеодальными пережитками в виде различных модификаций первобытнообщинного и рабовладельческого укладов и их надстроечных проявлений. Напротив, в тех случаях, когда один из компонентов явно и безусловно преобладал, процесс становления феодализма замедлялся, осложняясь при этом многоукладностью и другими привходящими обстоятельствами и принимая подчас причудливые формы. Первоначально варварское общество обнаруживало меньше феодальных потенций, чем античное; объясняется это, вероятно, тем, что оно в меньшей степени исчерпало свои исторические возможности, а также трудностями преодоления порога, отделяющего классовое общество от доклассового. Однако впоследствии в числе наиболее отстающих по темпам развития оказались как раз те области, где античный элемент синтеза решительно превалировал над варварским. Показательно, что именно эти области служат примером особенно очевидных отклонений от северофранцузской модели феодализма, условно принимаемой за эталон. Иными словами, по сравнению с позднеантичным римским обществом разлагавшийся первобытнообщинный строй древних германцев нес в себе более сильный феодальный заряд. Степень активности феодального синтеза в том или другом регионе зависела от многих факторов. На первое место среди них следует поставить численное соотношение варваров и римлян (включая романизированных галлов, иберов и т.п.), оказавшихся на одной территории. В большинстве провинций бывшей Римской империи германцы составляли всего лишь 2—3 % населения; правда, за счет неравномерности расселения в некоторых местах (например, в районах Бургоса и Толедо в Испании, Тулузы и Нарбон-ны в Южной Галлии, Павии и Вероны в Италии) доля их была заметно выше. В Британии и Токсандрии, а также на Рейне и Верхнем Дунае германцы преобладали, в Северо-Восточной Галлии уступали галло-римлянам приблизительно в соотношении 1 к 10. То обстоятельство, что наиболее успешно феодализм развивался именно в этой части континента, доказывает, что влияние германцев как господствующего этноса, к тому же принесших с собой совершенно новые порядки, было намного больше их доли в населении. По всей видимости, требовалось достаточно определенное количественное сочетание носителей двух культур, чтобы имевшиеся в них протофеодальные элементы вступили в энергичное взаимодействие. Второй важный фактор — это сам характер расселения варваров на территории империи. Чаще всего германцы занимали земли фиска, если же их не хватало в данной местности, — производили раздел земли и другого имущества тамошних посессоров, оставляя им обычно треть пахотных земель и половину угодий. Так поступали вестготы, бургунды, герулы и остготы. Некоторые племена, стремясь селиться компактно, захватывали приглянувшуюся им местность целиком, изгоняя оттуда всех прежних собственников. Особенно яркий пример такой политики дает история освоения Италии лангобардами. Случалось, что римские посессоры вместе с челядью сами покидали свои пенаты и варварам доставались фактически безлюдные земли. Такой ход событий характерен, в частности, для Британии и Норика. Естественно, что в тех случаях, когда германцы создавали новые, отдельные поселения, как бы отгораживаясь от римлян, хозяйственные, правовые и прочие контакты между ними оказывались довольно слабыми, и это сказывалось отрицательно на темпах феодализации. Поэтому, например, развитие феодальных отношений у лангобардов происходило медленнее, чем у бургундов и вестготов, чьи владения, хотя и достаточно обособленные, все же соприкасались с владениями римлян, способствуя тем самым хозяйственным заимствованиям и появлению общих дел и интересов. Третий фактор — сравнительный культурный уровень пришлого и местного населения. Провинции были освоены римлянами далеко не равномерно. Если средиземноморские районы Галлии и Испании мало чем отличались от Италии, то, например, Арморика, тем более Британия или Кантабрия, были романизированы сравнительно слабо, так что германцы застали там не столько рабовладельческие виллы, сколько деревни и хутора древнего автохтонного населения, мало в чем превосходящего их самих по уровню культуры. Да и сами германские племена находились на достаточно разных ступенях развития. Так, вестготы к моменту своего закрепления в Испании уже около ста лет проживали на территории империи. Предки франков были непосредственными соседями римлян фактически с самого начала новой эры. Другое дело лангобарды, переселившиеся с низовий удаленной от лимеса Эльбы в уже утратившую следы римского владычества Паннонию и оттуда вторгшиеся в Италию. Лангобарды оказались в целом не готовы к восприятию достижений античной цивилизации в области сельского хозяйства и ремесла, тем более права и политических институтов. Понадобилось около полутора веков их пребывания в Италии, чтобы феодальный синтез пошел полным ходом. Скорость этого процесса зависела и от других факторов, в том числе религиозных и правовых. То что франки сразу же, в 496 г., приняли христианство в католической форме, несомненно облегчало им контакты с римлянами, тогда как приверженность вестготов и лангобардов арианству (соответственно до конца VI и начала VII в.) эти контакты сильно затрудняла. Не говоря уже об определенном антагонизме, существовавшем между арианами и католиками, законы вестготов и лангобардов категорически запрещали им браки с римлянами. На конкретные формы феодализации в том или ином районе заметное влияние оказывали также природ-но-географические и внешнеполитические условия. Так, замедленность темпов феодализации в Скандинавии и яркое своеобразие скандинавского феодализма (в частности, высокий удельный вес свободного крестьянства) помимо всего прочего связаны с бедностью здешних почв, ориентацией на скотоводство и рыболовство и с обусловленными особенностями ландшафта трудностями организации крупного хозяйства. Поселение варваров на территории империи создало лишь предпосылки феодального синтеза, автоматически качественного скачка не произошло. Для того чтобы действительно произошло взаимодействие двух систем, потребовалось минимум полтора-два столетия, в первые же десятилетия феодализация проходила у каждого из двух народов по-своему, продолжая прежнюю линию развития, но уже в принципиально новых условиях. Поначалу эволюция к феодализму обозначилась с наибольшей силой в римской части общества, преимущественно в крупных поместьях, где прото-феодальные явления были налицо по крайней мере с IV в. Резкое ослабление государственного вмешательства, открывшее дорогу росту частной власти, стоящий перед глазами пример общества мелких сельских хозяев, дальнейшее сокращение рыночных связей, распространение под влиянием варварской стихии нового, более уважительного отношения к физическому труду — все это несомненно способствовало развитию феодальных тенденций в поместьях галльской, испанской и италийской знати. Продолжается начавшаяся еще в позднеантичный период трансформация социально-экономической структуры и права классической древности. Рабство распространено еще очень широко, но статус раба уже существенно иной: закон все чаще рассматривает его как обладателя имущества, в том числе земли, и предполагает в какой-то мере его правовую ответственность. Вольноотпущенники понемногу утрачивают признаки свободы и опускаются до положения зависимых людей, держателей земли своих патронов. Мелкая аренда также все больше становится формой зависимости. Медленно, но неуклонно римское поместье превращается в феодальную вотчину. В еще большей степени испытывают на себе влияние новой среды варвары. Они знакомятся с римской агротехникой и организацией римских поместий, с римским правом, проводящим более жесткие различия между свободой и рабством, чем их собственные обычаи, с развитой торговлей, допускающей куплю-продажу всякого имущества, не исключая земли, с мощной государственностью, приучающей к дисциплине и четкому делению на тех, кто управляет, и тех, кем управляют. В общественном строе варваров еще очень много первобытного. Сохраняются пережитки родовых связей, в первую очередь кровная месть, но этими связями начинают тяготиться, и «Салическая правда» даже предусматривает специальную процедуру отказа от родства. Еще сильны догосударст-венные институты власти и правосудия, но в целом государство все больше отдаляется от народа. Этому очень содействовало знакомство германцев с римскими политическими институтами. Армия по-прежнему представляет собой народное ополчение с дружиной конунга во главе, и римлян в нее решительно не пускают. Но в некоторых отношениях свободные германцы уже приравнены к законопослушным римлянам, в первую очередь в том, что касается уплаты налогов. Возникнув как нечто чуждое социальной природе завоеванного римского общества, как продолжение еще первобытной в своей основе власти, варварское государство к концу рассматриваемого периода оказывается вполне в гармонии с этим обществом. Эта трансформация стала возможной в результате перерождения варварской знати, превращения ее в слой” крупных землевладельцев, сплотившихся вокруг теперь уже настоящего монарха. Германская по происхождению знать идет на установление родственных связей со знатью римской, начинает подражать ее образу жизни, участвовать в ее политических интригах и к началу VIII в. постепенно смыкается с ней. Этнические и социальные различия в среде господствующего класса если не исчезают полностью (в Галлии и Италии на это понадобилось еще два столетия), то ощутимо сглаживаются. Подобный процесс наблюдался и в нижних слоях общества, но протекал он медленнее. Для того чтобы сравняться с зависимым людом римского происхождения, германцам нужно было растерять ряд прочно укоренившихся в варварском обществе прав и обязанностей. Германец должен был перестать быть воином, членом сотенного собрания, наконец, собственником своей земли, а этому препятствовали многие обстоятельства, в том числе необходимость контролировать отнюдь не всегда дружественное римское население, представления о праве как о сумме древних и единственно возможных установлений, архаическое отношение к земле как к продолжению своего «я». В соответствии с темпами развития и несомненно под римским влиянием у разных германских племен постепенно совершается переход к свободной от родовых и общинных ограничений земельной собственности — аллоду. Это еще не вполне свободная частная собственность наподобие римской, но распоряжение ею ограничено уже заметно слабее, менее сильно выражена и наследственная связь с нею ее обладателя. Кроме того, понемногу исчезает связь между обладанием земельной собственностью и свободой. Все это постепенно привело к превращению германских общинников в зависимых крестьян, держащих землю от феодальных господ. Глава 4. Развитие феодализма во Франкском государстве § 1. Франкское завоевание Галлии. Государство Меровингов В 486 г. в результате франкского завоевания в Северной Галлии возникло Франкское государство, во главе которого стоял вождь салических франков Хлодвиг (486—511) из рода Меровея (отсюда династия Меровингов). Так начался первый период истории Франкского государства — с конца V до конца VII в., обычно называемый меровингским периодом. При Хлодвиге была завоевана Аквитания (507), при его преемниках — Бургундия (534); остготы уступили франкам Прованс (536). К середине VI в. Франкское государство включало почти всю территорию бывшей римской провинции Галлии. Франки подчинили себе также ряд германских племен, живших за Рейном: верховную власть франков признали тюринги, аламаны и бавары; саксы принуждены были платить им ежегодную дань. Франкское государство просуществовало значительно дольше, чем все другие варварские королевства континентальной Европы, многие из которых (сначала часть Вестготского и Бургундское, затем Лангобард-ское) оно включило в свой состав. История Франкского государства позволяет проследить развитие феодальных отношений от самой ранней стадии до преобладания на этой территории феодального уклада; от зарождения раннефеодального государства до его расцвета в виде первой на Западе Европы средневековой империи — Каролингской. Процесс феодализации происходил здесь в форме синтеза разлагающихся позднеримских и германских родоплеменных отношений. Соотношение тех и других было неодинаково на севере и на юге королевства. К северу от Луары романизация галльского населения в I —начале V в. была заметно слабее, чем на юге страны. Однако согласно новейшим данным археологии и аэрофотосъемки, в эти столетия здесь оставалось много римских рабовладельческих вилл, где главной рабочей силой были рабы и колоны, и даже после франкского завоевания основную массу населения составляли галло-римляне. С другой стороны, для этих областей была характерна и более быстрая и глубокая варваризация общества, чем в южных частях королевства в ходе франкских завоеваний. Это объяснялось тем, что франки к концу V в. находились на более низком уровне общественного развития, чем, например, вестготы или бургунды, не говоря уже о галло-римлянах. Принесенные ими примитивные отношения поэтому способствовали распространению здесь разлагающегося первобытнообщинного уклада. Кроме того, после первой волны франкских вторжений при Хлодвиге последовали другие в VI и VII вв., значительно усиливавшие германизацию и варваризацию этой области. Первоначально франки селились здесь изолированно от галло-римского населения. Это, с одной стороны, консервировало их примитивный варварский строй, с другой — на первых порах замедляло взаимодействие с галло-римским населением с его разлагающимся рабовладельческим укладом. К югу от Луары варварское население — сначала бургундов и вестготов, а затем и франков — было малочисленнее, чем на севере, но зато проживало по большей части в одних и тех же поселениях с местными жителями. Поэтому влияние разлагающихся позд-неантичных отношений было здесь более сильным и длительным, разложение варварских общественных порядков происходило быстрее, но складывание новых феодальных отношений шло медленнее, чем на севере. При этом и на севере, и на юге Франкского государства важным фактором варварского влияния в процессе феодального синтеза было сосредоточение политической власти в руках варварской верхушки, облегчавшее ей насаждение своих порядков. На первом этапе существования Франкского государства (конец V — конец VII в.) на севере Галлии позднеримская и варварская структуры существовали в виде различных укладов: разлагающихся рабовладельческого и варварского, родоплеменного, а также зарождающегося феодального (колонат, разные формы поземельной зависимости, дружинные отношения у франков), которому принадлежало будущее. «Салическая правда». Важнейшим источником для изучения общественного строя франков (преимущественно Северной Галлии) в меровингский период является «Салическая правда» (Lex Salica). Она представляет собой запись судебных обычаев салических франков, произведенную, как полагают, в начале VI в., еще при Хлодвиге. Римское влияние сказалось здесь гораздо меньше, чем в других варварских правдах, и обнаруживается главным образом во внешних чертах: латинский язык, штрафы в римских денежных единицах. «Салическая правда» в более или менее чистом виде отражает архаические порядки первобытнообщинного строя, существовавшие у франков еще до завоевания, и слабо отражает жизнь и правовое положение галло-римского населения. Но на протяжении VI — IX вв. франкские короли делали все новые и новые дополнения к «Салической правде», поэтому в сочетании с другими источниками более позднего периода она позволяет проследить также и дальнейшую эволюцию от родоплеменного строя к феодализму франкского общества в целом. Хозяйство и общинная организация франков по данным «Салической правды». В земледелии, которое в VI в. являлось основным занятием франков, по-видимому, уже господствовало двухполье. Помимо зерновых культур — ржи, пшеницы, овса, ячменя — получили широкое распространение бобовые культуры и лен. Активно возделывались огороды, сады, виноградники. Повсеместное распространение получает плуг с железным лемехом. В сельском хозяйстве использовались различные виды рабочего скота: быки, мулы, ослы. Обычными стали двух- или трехкратная вспашка, бороньба, прополка посевов, вместо ручных начали применяться водяные мельницы. Значительно развилось и скотоводство. Франки держали в большом количестве крупный рогатый и мелкий скот — овец, коз, а также свиней и разные виды домашней птицы, занимались охотой, рыболовством, пчеловодством. Прогресс в хозяйстве был следствием не только внутреннего развития франкского общества, но и результатом заимствования германцами более совершенных методов ведения сельского хозяйства, с которыми они столкнулись на завоеванной римской территории. В этот период у франков существует вполне развитая частная, свободноотчуждаемая собственность на движимое имущество. Но такой собственности на землю, за исключением приусадебных участков, «Салическая правда» еще не знает. Основной земельный фонд каждой деревни принадлежал коллективу ее жителей — свободных мелких земледельцев, составлявших общину. По данным древнейшего текста «Салической правды», франкские общины представляли собой очень разные по размеру поселения, состоявшие из родственных семей. В большинстве случаев это были большие (патриархальные) семьи, включавшие близких родственников обычно трех поколений — отца и взрослых сыновей с их семьями, ведущих хозяйство совместно. Но появлялись уже и малые, индивидуальные семьи. Дома и приусадебные участки находились в индивидуальной собственности отдельных больших или малых семей, а пахотные и иногда луговые наделы — в их наследственном пользовании. Однако право свободно распоряжаться наследственными наделами принадлежало только всему коллективу общины. Индивидуально-семейная собственность на землю у франков в конце V и в VI в. только зарождалась. Об этом свидетельствует IX глава «Салической правды» — «Об аллодах», согласно которой земельное наследство в отличие от движимого имущества (оно могло свободно переходить по наследству или передаваться в дар) наследовалось только по мужской линии — сыновьями умершего главы большой семьи; женское потомство исключалось из наследования земли. В случае отсутствия сыновей земля переходила в распоряжение соседей (т.е. общины). Община имела также ряд других прав на земли, находившиеся в индивидуальном пользовании ее членов. У франков на севере страны существовала «система открытых полей»: все пахотные наделы после снятия урожая и луговые наделы после сенокоса превращались в общее пастбище, и на это время с них снимались все изгороди. Земли под паром также служили общественным пастбищем. Такой -порядок связан с чересполосицей и принудительным севооборотом для всех членов общины. Земли, не входившие в приусадебное хозяйство и в пахотные и луговые наделы (леса, пустоши, болота, дороги, неподеленные луга), оставались в общем владении, и каждый член общины имел равную долю в пользовании этими угодьями. Вопреки утверждениям ряда буржуазных историков конца XIX и XX в. (Н.-Д. Фюстель де Куландж, В. Виттих, А. Допш, Т. Майер, К. Босль, О. Брукнер и др.) о том, что у франков в V—VI вв. господствовала полная частная собственность на землю, «Салическая правда» предполагает наличие у франков общины. Так, глава XLV «О переселенцах» гласит: «Если кто захочет переселиться в виллу (в данном контексте «вилла» означает деревню. — Ред.) к другому и если один или несколько из жителей виллы захотят принять его, но найдется хоть один, который воспротивится переселению, он не будет иметь права там поселиться». Если пришелец все же поселится в деревне, то протестующий может возбудить против него судебное преследование и изгнать его через суд. Жители виллы здесь выступают как члены общины, регулирующие поземельные отношения в своей деревне. Община «Салической правды» представляла собой в V—VI вв. переходный этап от большесемейной «земледельческой» общины (где сохранялась коллективная собственность рода на всю землю, включая и пахотные наделы больших семей) к соседской общине-марке, в которой уже господствует индивидуальная собственность малых семей на надельную пахотную землю при сохранении общинной собственности на основной фонд лесов, лугов, пустошей, пастбищ и пр. В «Салической правде» отчетливо прослеживается еще заметная роль у франков родовых отношений. Сородичи продолжали играть большую роль в жизни свободного франка. Из них состоял тесный союз, включавший всех родичей «до шестого колена» (третьего поколения по нашему счету), все члены которого в определенном порядке обязаны были выступать в суде в качестве сопри-сяжников (принося присягу в пользу сородича). В случае убийства франка в получении и уплате вергельда участвовала не только семья убитого или убийцы, но и их ближайшие родственники со стороны отца и матери. Но в то же время «Салическая правда» показывает уже процесс разложения и упадка родовых отношений. Среди членов родовой организации намечается имущественная дифференциация. Глава «О горсти земли» предусматривает случай, когда обедневший сородич не может помочь своему родственнику в уплате вергельда: в этом случае он должен «бросить горсть земли на кого-нибудь из более зажиточных, чтобы тот уплатил все по закону». Наблюдается стремление со стороны более зажиточных членов выйти из союза родичей. Глава IX «Салической правды» подробно описывает процедуру отказа от родства, во время которой человек должен публично, в судебном заседании отказаться от сопри-сяжничества, от участия в уплате и получении вергельда, от наследства и от других отношений с родичами. В случае смерти такого человека его наследство поступает не родичам, а в королевскую казну. В конце VI в. под воздействием имущественного расслоения и ослабления родовых связей наследственный надел свободных франков превращается в индивидуальную, отчуждаемую земельную собственность отдельных малых семей — аллод. Ранее, в «Салической правде», этим термином обозначалось всякое наследство: применительно к движимости аллод в ту пору понимался как собственность, но применительно к земле — только как наследственный надел. Но в эдикте короля Хильперика (561—584) во изменение главы «Салической правды» «Об аллодах» было установлено, что в случае отсутствия сына землю могут наследовать дочь, брат или сестра умершего, но «не соседи», т. е. община. Земля становится объектом завещаний, дарений, а затем и купли-продажи, другими словами, превращается в собственность общинника. Это изменение носило принципиальный характер и вело к дальнейшему углублению имущественной и социальной дифференциации в общине, к ее разложению. По словам Ф. Энгельса, «аллодом создана была не только возможность, но и необходимость превращения первоначального равенства земельных владений в его противоположность»'. Община сохраняется, но ее права теперь распространяются лишь на неподеленные угодья (леса, пустоши, болота, общественные выпасы, дороги и т. п.), которые продолжают оставаться в коллективном пользовании всех ее членов. К концу VI в. луговые и лесные участки нередко также переходят в аллодиальную собственность отдельных общинников. В ходе становления аллода большая семья все больше уступает место малой индивидуальной семье, состоящей из родителей и детей. Меняет свой характер и община. Из коллектива больших семей она к концу VI в. превращается в объединение индивидуальных семей, владеющих аллодами, — соседскую общину или общину-марку. Она представляет собой последнюю форму общинного землевладения, в рамках которой завершается разложение первобытнообщинного строя и зарождаются классовые феодальные отношения. Социальное расслоение во франкском обществе меровингского периода. Зародыши социального расслоения в среде франков-завоевателей проявляются в «Салической правде» в различных размерах вергельда разных категорий свободного населения. Для простых свободных франков он составляет 200 солидов, для королевских дружинников (антрустионов) или должностных лиц, состоящих на службе у короля, — 600 (о родовой знати «правда» не 1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 497. упоминает). Жизнь полусвободных — литов — защищалась сравнительно низким вергельдом — в 100 солидов. У франков имелись и рабы, совершенно не защищаемые вергельдом: убийца лишь возмещал ущерб, причиненный господину раба. Развитию рабства у франков способствовали завоевания Галлии и последующие войны, дававшие обильный приток рабов. Позднее источником рабства становилась кабала, в которую попадали разорившиеся свободные люди, а также преступники, не заплатившие судебного штрафа или вергельда: они превращались в рабов тех, кто уплачивал за них эти взносы. Однако рабский труд у франков не был основой производства, как в Римском государстве. Рабы использовались чаще всего как дворовые слуги или ремесленники — кузнецы, золотых дел мастера, иногда как пастухи и конюхи, но не как основная рабочая сила в сельском хозяйстве. Уже в источниках VI в. имеются данные о наличии в среде франков имущественного расслоения. Это не только приведенные выше сведения о расслоении среди сородичей, но и указания на распространение во франкском обществе займов и долговых обязательств. Постоянно упоминаются, с одной стороны, богатые и влиятельные «лучшие люди», с другой — «бедные» и вовсе разорившиеся, не способные уплатить штрафы бродяги. Возникновение аллода стимулировало рост крупного землевладения у франков. Еще в ходе завоевания Хлодвиг присвоил себе земли бывшего императорского фиска. Его преемники постепенно захватили все свободные земли, которые сначала считались достоянием всего народа. Из этого фонда франкские короли щедро раздавали земельные пожалования в полную, свободно отчуждаемую (аллодиальную) собственность своим приближенным и церкви. Так, к концу VI в. во франкском обществе уже зарождается слой крупных землевладельцев. В их владениях наряду с франкскими рабами эксплуатировались также полусвободные — литы — и зависимые люди из числа галло-римского населения — вольноотпущенники по римскому праву, рабы, галло-римляне, обязанные нести повинности («римляне-трибутарии»), возможно, из числа бывших римских колонов. На этом этапе истории франкского государства рост крупной земельной собственности осуществлялся в первую очередь за счет королевских пожалований. Крупное землевладение росло и изнутри общины. Концентрация земельных владений совершалась не только в результате королевских пожалований, но и путем обогащения одних общинников за счет других. Началось разорение части свободных общинников, причиной которого послужило вынужденное отчуждение их наследственных аллодов. Рост крупной земельной собственности приводил к возникновению частной власти крупных землевладельцев, которая как орудие внеэкономического принуждения была характерна для складывающегося феодального строя. Средневековая деревня. Схематически показано примерное расположение угодий с системой открытых полей. В центре деревни — площадь(С церковью), через которую проходит главная дорога. Усадьбы располагаются вдоль дороги, а также хаотично — дворами. Пахотная земля лежит отдельными массивами, которые в период созревания урожая обносят временными изгородями. После уборки урожая изгороди снимают и поля «открываются» для коллективного выпаса скота. Эта практика предполагает принудительный севооборот (необходимость одновременной уборки урожая влечет за собой единообразие культур в рамках одного массива). Пахотный надел крестьянина расположен чересполосно — по участку в каждом массиве. Остальные угодья — лес, пустоши — как правило, не поделены и используются совместно всеми общинниками. Луга также в основном общинные, однако часть их на время сенокоса поступает в распоряжение отдельных семей Притеснения со стороны крупных светских землевладельцев, церковных учреждений и королевских должностных лиц вынуждали свободных франков отдаваться под покровительство (mundium) светских и духовных крупных землевладельцев, которые таким образом становились их сеньорами (господами). Акт вступления под личное покровительство, как и в античности, назывался «коммендацией». На практике он нередко сопровождался вступлением в поземельную зависимость, что для безземельных и малоземельных людей часто означало постепенное втягивание их в личную зависимость. Коммендация усиливала в то же время политическое влияние крупных землевладельцев и способствовала окончательному разложению родовых союзов и общинной организации. Все эти изменения в среде франков происходили на фоне все усиливающегося с середины VII в. их взаимодействия с галло-римским населением Франкского государства. Галло-римское население и его роль в феодализации франкского общества. О том, что происходило в среде галло-римского населения в VI—VII вв., известно немного, в основном из нарративных источников и данных археологии. Мы знаем, что варварские завоевания, хотя и подорвали основы рабовладельческого строя и крупного землевладения, не уничтожили частную собственность на землю (в том числе и крупную). Повсюду в среде галло-римского населения сохранилась не только мелкая крестьянская земельная собственность, но и крупное церковное и светское землевладение, основанное на эксплуатации рабов, часто уже посаженных на землю, и разных категорий сидевших на чужой земле людей, близких по положению к римским колонам. Значительная часть поселений V—VI вв. располагалась на территории бывших вилл еще III века. «Салическая правда» делит галло-римлян на три категории: «королевских сотрапезников», в которых можно видеть привилегированную группу местного населения, приближенную к королю, повидимому, крупных землевладельцев; посессоров — землевладельцев мелкопоместного и крестьянского типа; тяглых людей (трибутариев), обязанных нести повинности. По-видимому, это были люди, пользующиеся чужой землей на определенных условиях. По сведениям Григория Турского и ряда других источников, в VI в. на этой территории сохранились сенаторы, по традиции крупные землевладельцы — высшая категория населения. Большими земельными владениями, в том числе укрепленными центрами, часто находившимися в пределах старых римских городов, располагали епископы. Хотя эти центры — «города» — в основном были резиденциями епископов, в них обычно проживало и некоторое количество торговцев и ремесленников. Крупные землевладельцы, как и в позднеримское время, сохраняли в своих владениях определенные политические права над зависимыми от них людьми. Для галло-римского населения, во всяком случае в Северной Галлии, продолжали действовать нормы римского права, а не «Салическая правда». Дальнейшая эволюция галло-рим-ских социальных отношений шла в сторону наметившегося еще во II—III вв. (см. гл. 3) исчезновения крупных вилл рабовладельческого типа, сокращения числа рабов, массового поселения их на земле, закрепления поземельной зависимости колонов от их господ. Определенную роль в ускорении этих процессов сыграли пожалования земли и судебных прав галло-римским землевладельцам франкскими королями уже в конце VI—VII в., их привлечение на королевскую службу в качестве придворных и администраторов. Новые волны франкской колонизации в конце VI—VII в. усиливали воздействие разлагающихся варварских отношений на галло-римское население, способствовали более интенсивному синтезу и укреплению феодального уклада. Но гораздо более заметным было воздействие галло-римского социального строя на разложение общинных отношений и феодализации общества. Положение галло-римских рабов и колонов оказывало влияние на формы зависимости, в которые втягивались обедневшие франкские общинники. Галлоримская крупная собственность служила образцом для вновь складывающейся франкской. Объектом эксплуатации германских крупных землевладельцев до конца VII в. являлись не столько зависимые крестьяне из числа их соплеменников, сколько посаженные на землю германские и галло-римские рабы, колоны и вольноотпущенники из галло-римлян, статус которых определялся римским правом. На протяжении VII века крупное землевладение галло-римлян и франков постепенно унифицировалось, по мере того как смешивались эти этнические группы. Начали сливаться в единый слой зависимого крестьянства галло-римские и франкские рабы, колоны, вольноотпущенники, германские литы, мелкие галло-римские и франкские крестьяне. Прежнее противопоставление рабов и рабовладельцев постепенно утрачивало свое значение. Так в ходе синтеза двух разлагающихся старых укладов развивался и набирал силу новый — феодальный. Влияние разлагающихся позднеантичных отношений в процессе феодализации было особенно велико в Южной Галлии. Здесь раньше, чем на севере, среди германцев, утвердилась частная собственность на землю в ее римской форме, раньше совершился переход к общине-марке, быстрее шло ее разложение и рост крупной земельной собственности варварской знати. Вместе с тем франкское завоевание Южной Галлии способствовало дроблению крупных доменов и варварской и галло-римской знати и укрепило слой мелких крестьян-собственников, смешанный по своему этническому составу. В процессе синтеза галло-римских и германских отношений правовые и этнические различия между завоевателями и местным населением во всех областях королевства постепенно стирались. При сыновьях Хлодвига участие в военном ополчении становится обязанностью всех жителей королевства, в том числе и галло-римлян. С другой стороны, франкские короли пытаются распространять поземельный и подушный налоги, сохранившиеся от Римской империи и сначала взимавшиеся только с галло-римского населения, и на завоевателей-германцев. В связи с этой политикой королевской власти в Галлии неоднократно вспыхивали восстания. Самое крупное из них произошло в 579 г. в Лиможе. Народные массы, возмущенные тем, что король Хильперик повысил поземельный налог, захватили и сожгли податные списки и хотели убить королевского сборщика налогов. Хильперик жестоко расправился с восставшими и подверг население Лиможа еще более тяжелому обложению. На первый план в жизни франкского общества все более выдвигаются социальные различия: происходит все большее сближение галло-римской, бургундской и франкской землевладельческой знати, с одной стороны, и германских и галло-римских мелких земледельцев разного правового статуса — с другой. Начинают складываться основные классы будущего феодального общества — феодалы и зависимые крестьяне. Франкское государство. Одновременно с феодализацией франкского общества шел процесс зарождения раннефеодального государства. Органы управления, присущие родоплеменному строю на стадии военной демократии, постепенно уступают место усилившейся власти военного вождя, ставшего королем. Это превращение было ускорено самим фактом завоевания, поставившим франков лицом к лицу с галло-римским населением, которое необходимо было держать в повиновении. Кроме того, на завоеванной территории франки столкнулись с развитым классовым обществом, дальнейшее существование которого требовало создания новой государственной власти взамен разрушенного государственного аппарата рабовладельческой империи. Поэтому, возникнув в процессе завоевания как примитивное, варварское, Франкское государство уже в VII в. приобретает характер раннефеодального, ускорявшего процесс феодализации. Король сосредоточил в своих руках все функции государственного управления, центром которого стал королевский двор. Власть короля основывалась прежде всего на том, что он являлся крупнейшим земельным собственником в королевстве и стоял во главе многочисленной, лично преданной ему дружины. Государством он управлял как личным хозяйством, дарил своим приближенным в частую собственность земли, ранее составлявшие общеплеменную собственность, произвольно распоряжался государственными доходами, поступавшими к нему в виде налогов, штрафов и торговых пошлин. Королевская власть опиралась на поддержку складывающегося класса крупных землевладельцев. С момента своего возникновения государство всемерно защищало интересы этого слоя и способствовало своей политикой разорению и закабалению свободных общинников, росту крупной земельной собственности, организовывало новые завоевания. В центральном управлении Франкского государства сохранились лишь слабые следы былой родоплеменной организации в виде ежегодных военных смотров — «мартовских полей». Поскольку в меровингский период основную массу франков составляли еще свободные общинники, из которых состояло и всеобщее военное ополчение, на «мартовские поля» сходились все взрослые свободные франки. Однако эти собрания в отличие от общенародных собраний периода военной демократии не имели теперь серьезного политического значения. Зато франкские короли периодически созывали собрания виднейших магнатов, на которых обсуждались общегосударственные вопросы. Следы древних порядков родоплеменного строя больше сохранились в местном управлении Франкского государства. «Сотни» из подразделений племени у древних франков после завоевания Галлии превратились в территориальные административные единицы. Управление графством — более крупной территорией — всецело находилось в руках королевского должностного лица — графа, который был главным судьей в графстве и взимал в пользу короля треть всех судебных штрафов. В «сотнях» же собирались еще народные собрания всех свободных людей (malms), выполнявшие главным образом судебные функции и проходившие под председательством выборного лица — тунгина Но и здесь присутствовал представитель королевской администрации — сотник (центенарий), контролировавший деятельность собрания и собиравший долю штрафов в пользу короля. По мере развития социальной дифференциации в среде франков руководящая роль в этих собраниях переходит к более зажиточным и влиятельным лицам — рахинбургам, или «добрым людям». Франкское государство при Меровингах Завоевания франков: 1- к 481 году, 2- при Хлодвиге, 3 - после Хлодвига, 4 - полузависимые области и временно завоеванные территории. Полнее всего сохранилось самоуправление в деревенской общине, которая на сельских сходах избирала своих должностных лиц, творила суд по мелким правонарушениям и следила за соблюдением обычаев марки. Попытки меровингских королей использовать в управлении страной римские институты касались главным образом налоговой системы и галло-римского населения В целом государственная машина Западной Римской империи была разрушена завоеванием. Дробление государства при преемниках Хлодвига. Рост крупного землевладения и частной власти крупных земельных собственников в связи с зарождением нового феодального уклада уже при сыновьях Хлодвига привел к ослаблению королевской власти. Лишившись вследствие щедрых земельных раздач значительной части своих домениальных владений и доходов, франкские короли оказались бессильными в борьбе с сепаратистскими устремлениями крупных землевладельцев. После смерти Хлодвига началось дробление Франкского государства. В VII в. намечается обособление трех самостоятельных политических единиц в составе Франкского государства: Нейстрии — Северо-Западной Галлии с центром в Париже; Австразии — северовосточной части Франкского государства, включавшей исконные франкские области по обоим беретам Рейна и Мааса; Бургундии — территории бывшего королевства бургундов. В конце VII в. на юго-западе выделилась Аквитания. Эти четыре области различались между собой и этническим составом населения, и особенностями социального строя, и степенью феодализации. В Нейстрии, которая к моменту франкского завоевания была сильно романизована, галлоримляне, составлявшие и после завоевания большинство населения, раньше, чем в других областях королевства, слились с франками-завоевателями. Здесь уже к концу VI — началу VII в. важное значение приобрело крупное церковное и светское землевладение и быстро шел процесс исчезновения свободного крестьянства. Австразия, где основную массу населения составляли франки и подвластные им другие германские племена, а влияние галло-римских порядков было слабее, до начала VIII в. сохраняла более примитивный общественный строй; здесь медленнее разлагалась община-марка — большую роль продолжали играть мелкие свободные землевладельцы-аллодисты, составлявшие основу военного ополчения. Складывающийся класс феодалов был в основном представлен мелкими и средними феодалами. Церковное землевладение здесь было слабее, чем в Нейстрии. В Бургундии и Аквитании, где галло-римское население также значительно преобладало и быстро ассимилировало сначала бургундов и вестготов, а затем франков, долго сохранялось мелкое свободное крестьянское и среднепоместное землевладение. Но вместе с тем там имелись и крупные земельные владения, особенно церковные, а свободная община уже в VI в. исчезла почти повсеместно. Все названные области Франкского королевства были слабо связаны между собой экономически (в то время господствовали натурально-хозяйственные отношения), что препятствовало их объединению в одном государстве. Короли из дома Меровингов, возглавлявшие эти области после раздробления Франкского государства, вели между собой борьбу за верховенство, которая осложнялась непрерывными столкновениями между королями и крупными землевладельцами внутри каждой из областей. Объединение страны майордомами Австразии. В конце VII в. фактическая власть во всех областях королевства оказалась в руках майордомов. Первоначально это были должностные лица, возглавлявшие королевское дворцовое управление (majordomus — старший по дому, управляющий хозяйством двора). Затем майордомы превратились в крупнейших землевладельцев. Все управление каждой из названных областей королевства сосредоточивалось в их руках, и майордом выступал как вождь и военный предводитель местной земельной аристократии. Короли из дома Ме-ровингов, потерявшие всякую реальную власть, назначались и смещались по воле майордомов и получили от современников пренебрежительное прозвище «ленивых королей». После продолжительной борьбы в среде франкской знати в 687 г. майордом Австразии Пипин Геристальский стал майордо-мом всего Франкского государства. Это удалось ему потому, что в Австразии, где крупное землевладение было слабее, чем в других частях королевства, майордомы могли опираться на довольно значительный слой мелких и средних вотчинников, а также свободных аллодистов крестьянского типа, заинтересованных в усилении центральной власти для борьбы с притеснениями крупных землевладельцев, подавления втягивавшегося в зависимость крестьянства и для завоевания новых земель. При поддержке этих социальных слоев майордомы Австразии смогли вновь объединить под своей властью все Франкское государство. § 2. Франкская монархия Каролингов Ускорение процесса феодализации. Бенефициальная реформа. Майордомы Австразии из дома Пипинидов (потомки Пипина Геристальского), став правителями объединенного Франкского государства, положили начало новой династии франкских королей, которая позднее по имени самого крупного из своих представителей — Карла Великого — получила название династии Каролингов. Представители дома Каролингов (Пипинидов) правили Франкским государством с конца VII в. сначала в качестве майордомов при «ленивых королях», затем с 751 г. — в качестве королей. Этот период в истории Франкского королевства, до его распада в середине IX в., обычно называют каролингским. В правление Каролингов во франкском обществе сложились основы феодального строя. Ускорился рост крупной земельной собственности за счет социального расслоения внутри общины там, где она сохранилась, разорения массы свободных крестьян, которые, теряя свои аллоды, постепенно превращались в поземельно, а затем и лично зависимых людей. Процесс этот, начавшийся еще при Меровингах, в VIII—IX вв. принял бурный характер; он стимулировался прямым захватом крестьянских наделов крупными светскими и церковными землевладельцами. И те и другие разными способами, в том числе и насильственными, присваивали себе земли общинников. Разорению крестьян способствовали бесконечные внутренние и внешние войны, отрывавшие их от хозяйства для выполнения военной повинности, а также частые неурожаи и голод. Крестьянская земля становилась господской и чаще всего передавалась прежним владельцам — крестьянам — в пользование за оброк или барщину. Сам же крестьянин из свободного землевладельца превращался в поземельно зависимого в той или иной степени человека. К началу VIII в. во Франкском государстве уже сложились два враждебных друг другу социальных слоя: первый — крупные землевладельцы галло-римского и германского происхождения, которые владели своими землями по большей части на правах безусловной частной собственности (аллод); второй — уже в той или иной степени зависимые крестьяне, не имевшие земельной собственности или сохранившие ее в небольшом количестве и подвергавшиеся эксплуатации со стороны собственников земли, на которой они жили. Значительную часть этих зависимых людей составляли потомки галло-римских рабов, колонов, вольноотпущенников, германских рабов и литов. Различия между названными категориями постепенно все более сглаживались. Но наряду с ними во франкском обществе, особенно на юге, еще существовали довольно многочисленные промежуточные группы населения; мелкие и средние земельные собственники крестьянского типа, частично также пользовавшиеся трудом несвободных. Иногда наряду с аллодом они владели землями как мелкие вотчинники, составлявшие промежуточный слой между феодалами и свободными крестьянами. За счет размывания этих промежуточных слоев также складывались в VIII — начале IX в. основные классы феодального общества, в частности класс зависимого крестьянства. Сдвиги в социальной структуре франкского общества определили политику преемника Пипина Геристальского — майордома Карла Мартелла. Карл Мартелл («Молот», 715—741 гг.) начал свое правление с усмирения внутренних смут в королевстве. Разбив восставших против него феодалов Нейстрии, а затем, в союзе с арабами, — герцогов Аквитании и владетелей Прованса, Карл выступил против вышедших из повиновения германских зарейнских племен — саксов, фризов, аламанов, баваров — и вновь обложил их данью. В 732 г., в решающем сражении при Пуатье, Карл Мартелл нанес поражение арабам, которые, завоевав в начале VIII в. Испанию, вторглись в 720 г. в Южную Галлию, угрожая Франкскому государству. Большую роль в борьбе с арабами сыграло незадолго до этого созданное франкское феодальное конное войско. Победа франков при Пуатье положила предел дальнейшему продвижению арабов в Европе. В руках арабов теперь осталась лишь небольшая часть Южной Галлии — Септимания. Развитие феодальных отношений, происходившее во Франкском государстве, требовало изменения форм земельной собственности. Аллодиальная собственность должна была уступить место более зрелой форме феодальной собственности. Деление общества на два антагонистических класса нуждалось в юридическом закреплении сословной неполноправности утративших свободу крестьянских масс. Поскольку значительная часть разорившихся свободных крестьян уже не имела материальных средств для службы в ополчении, особенно в качестве конных воинов, встал вопрос о коренной реорганизации военных сил. Таковы были социальные предпосылки так называемой бенефициальной реформы Карла Мартелла. Сущность ее состояла в том, что вместо преобладавших при Меровингах дарений земли в полную, безусловную собственность (аллод) после этой реформы получила широкое распространение и законченную форму система пожалований земли в условную феодальную собственность в виде бенефиция (beneficium—дословно «благодеяние»). Бенефиций жаловался в пожизненное пользование на условиях выполнения определенных служб, чаще всего конной военной службы. В случае смерти жалователя или получателя бенефиция бенефиций возвращался первоначальному собственнику или его наследникам. Если наследник бенефициария хотел получить бенефиций своего предшественника или сам бенефициарий хотел пользоваться таким владением после смерти жалователя, требовалось возобновление пожалования. Бенефиций мог быть отнят, если не выполнялась требуемая за него служба или разорялось хозяйство бенефиция. С течением времени бенефиций стал превращаться из пожизненного в наследственное владение и в течение IX—X веков приобрел черты феода (лена), т.е. наследственного условного держания, связанного с обязанностью несения военной службы. Карл Мартелл провел широкую раздачу бенефициев. Фондом для этих пожалований служили сначала земли, конфискуемые у мятежных магнатов, а когда эти земли иссякли, он провел частичную секуляризацию церковных земель, за счет которых наделил большое количество бенефициариев. Карл Мартелл вместе с тем деятельно содействовал распространению христианства и расширению владений церкви на покоренных им территориях. Проводя реформу, Карл Мартелл преследовал, конечно, и политические цели. Заменив аллодиальные пожалования, истощавшие фонд королевских земель, бенефициями, он надеялся привязать бунтующих крупных феодалов к трону угрозой отнятия у них пожалований; с помощью бенефициальной системы он рассчитывал создать взамен пришедшего в упадок пешего крестьянского ополчения боеспособное конное войско. К этому времени конница стала играть в войнах решающую роль. Бенефициальная реформа имела ряд важных социальных последствий. Во-первых, она значительно укрепила складывавшийся слой мелких и средних феодалов, которые в качестве профессиональных воинов стали основой конного ополчения и всей военной организации; они были предшественниками будущего рыцарства. Крестьянство же, составлявшее раньше основу пешего франкского ополчения, утратило значение главной военной силы, что свидетельствовало о его неполноправном положении в государстве. Во-вторых, распространение бенефициальных пожалований вело к укреплению феодальной земельной собственности и крестьянской зависимости. Бенефициарий обычно получал землю вместе с сидящими на ней людьми, которые несли в его пользу барщину или платили оброк. Широкий слой бенефициариев жил целиком эксплуатацией зависимого крестьянства. Втретьих, бе-нефициальные пожалования создавали поземельные связи между жалователем и бенефициарием и способствовали установлению отношений личной верности и покровительства (вассалитет — см. ниже) между ними. Таким образом, реформа способствовала дальнейшему утверждению феодальных отношений во Франкском государстве. По примеру короля другие крупные землевладельцы тоже стали практиковать эту форму пожалований, что содействовало оформлению иерархической структуры земельной собственности и складывавшегося класса феодалов По усиливая военное значение магнатов и создавая иерархические отношения внутри класса феодалов, бенефиииальная реформа немало способствовала в дальнейшем политическому распаду Франкского королевства. На первых порах, однако, реформа Карла Мартелла усилила центральную власть, что было одной из ее целей. Укрепившийся благодаря ей слой средних феодальных землевладельцев-бенефициариев составил на некоторое время опору каролингской династии. Этот слой был заинтересован в сильной центральной власти, так как она могла оказать ему помощь в подчинении крестьян и подавлении их сопротивления, защитить от своеволия крупных феодалов и обеспечить захват новых территорий. Опираясь на этот слой, Карл Мартелл и его преемники значительно расширили границы Франкского государства и усилили свою власть. Переход королевского титула к Пипину Короткому. Образование Папского государства. Сын и преемник Карла Мартелла майордом Пипин Короткий (741—768) урегулировал взаимоотношения с церковью, обостренные проведением секуляризации церковных земель при Карле Мартелле. Все розданные в бенефиции церковные земли признавались собственностью церкви, которой бенефициарий должны были вносить определенные платежи. Такие земельные держания назывались «прекариями по королевскому повелению» (precaria verbo regis). Однако бенефициарий обязаны были нести военную службу только в пользу государства, и без разрешения короля церковь не имела права отнять у них землю. Со времени этого компромисса Каролинги находились всегда в тесном союзе с католической церковью и с ее главой — римским папой. Теснимый лангобардами, папа все свои надежды возлагал на помощь франков, поэтому он санкционировал присвоение Пипи-ном королевского титула. В 751 г. на собрании франкской знати и своих вассалов в Суассоне Пипин был официально провозглашен королем франков. Последний меровингский король Хильдерик III был заключен в монастырь. В свою очередь по призыву папы Стефана II Пипин силой оружия принудил лангобардского короля отдать папе захваченные им ранее города Римской области и земли Равеннского экзархата (бывшего византийского владения). На этих землях в Средней Италии в 756 г. возникло Папское государство (см. гл. 20). Дальнейшее расширение Франкского государства. При сыне Пипина Короткого Карле, прозванном Великим (768—814), Каролингское государство пережило наивысший расцвет. Продолжая завоевательную политику своих предшественников, Карл в 774 г. совершил поход в Италию, сверг последнего лангобардского короля Дезидерия и присоединил к Франкскому государству Лангобардское королевство. Карл Великий перешел от обороны к наступлению и против арабов в Испании. Первый поход туда он предпринял в 778 г., однако смог дойти только до Сарагоссы и, не взяв ее, вынужден был вернуться за Пиренеи. События этого похода послужили сюжетной основой для знаменитого средневекового французского эпоса «Песни о Роланде». Ее героем стал один из военачальников Карла — Роланд, погибший в стычке с басками1 вместе с арьергардом франкских войск, прикрывая отход франков в Ронсевальском ущелье. Несмотря на первую неудачу, Карл продолжал попытки продвинуться к югу от Пиренеев. В 801 г. ему удалось захватить Барселону и основать на северо-востоке Испании пограничную территорию — Испанскую марку. Наиболее длительные и кровопролитные войны Карл вел в Саксонии (с 772 по 802 г.), расположенной между реками Эмсом и Нижним Рейном на западе, Эльбой на востоке и Эйдером на севере. Саксонские племена находились еще на стадии военной демократии. Хотя у них уже существовало социальное расслоение: родоплеменная знать — эде-линги, простые свободные — фрилинги, полусвободные лацци, — но классы еще не сложились, не было королевской власти, господствовало язычество. Саксы, особенно основная их масса — фрилинги, отчаянно сопротивлялись франкам, которые несли им потерю земли и свободы, насильственную христианизацию. Сначала в борьбе с франками участвовали и эделинги. Но уже с 777 г. благодаря ловкой политике Карла большинство их стало постепенно переходить на его сторону, получая от него щедрые земельные пожалования. 1 В «Песни о Роланде» христиане — баски — превратились в мусульман — арабов. Франкское государство при Каролингах: 1 — граница раздела империи по Верденскому договору После этого борьба широких масс саксов направлялась одновременно и против франков, и против феодализирующейся саксонской знати. Там, где саксы отбивали нападения франков, они восстанавливали язычество как символ независимости. Упорное сопротивление саксов Карл пытался сломить крайне жестокими мерами. После победы над ними на Везере в 782 г. он приказал казнить 4500 саксонских заложников. Тогда же он издал «Капитулярий по делам Саксонии», угрожавший смертной казнью всем, кто будет выступать против церкви и короля, и предписывавший саксам платить десятину церкви. Вскоре сложил оружие и принял христианство Видукинд, один из немногих эделин-гов, возглавлявших саксонское сопротивление после 777 г. За это он получил от Карла богатые дары и земельные пожалования. Теперь борьба саксов — фрилингов сосредоточилась на небольшой территории Северо-Восточной Саксонии. Чтобы сломить непокорных, Карл заключил временный союз с их восточными соседями, полабскими славянамиободритами, издавна враждовавшими с саксами. В ходе войны и после ее завершения в 804 г. Карл практиковал массовые переселения саксов во внутренние области Франкского королевства, а франков и ободритов — в Саксонию. Завоевания Карла были направлены и на юго-восток. В 788 г. он окончательно присоединил Баварию, ликвидировав там герцогскую власть. Благодаря этому влияние франков распространилось и на соседнюю с ней Каринтию (Хорутанию), населенную славянами — словенцами. На юго-восточных границах разросшегося Франкского государства Карл столкнулся с Аварским каганатом в Паннонии, Кочевники-авары совершали постоянные грабительские набеги на соседние земледельческие племена. В 788 г. они напали и на Франкское государство, положив начало франк-ско-аварским войнам (они продолжались с перерывами до 803 г.). Только союз франков с южными славянами позволил им при участии хорутанского князя Войномира, который возглавил этот поход, разгромить в 796 г. центральную крепость аваров. В результате Аварская держава распалась, а Паннония временно оказалась в руках славян. Империя Карла Великого. Франкское государство охватывало теперь огромную территорию. Оно простиралось от среднего течения реки Эбро и Барселоны на юго-западе до Эльбы, Салы, Богемских гор и Венского леса на востоке, от границы Ютландии на севере до Средней Италии на юге. Эта территория была населена множеством племен и народностей, различных по уровню развития. Карл и его приближенные видели в новом государстве возрождение Западной Римской империи, франкского короля манил титул императора. Уже в его политике проявились универсалистские тенденции в политическом развитии средневековья, приводившие время от времени к созданию обширных полиэтнических образований. Воспользовавшись тем, что папа Лев III, спасаясь от враждебной ему римской знати, укрылся при дворе франкского короля, Карл предпринял поход в Рим в защиту папы. Благодарный папа, не без давления Карла, в 800 г. венчал его императорской короной в соборе Св. Петра в Риме. Так на западе возникла новая империя, что вызвало конфликт между Карлом и Византией, императоры которой считали себя единственными наследниками старой Римской империи. На несколько десятилетий империя франков стала сильнейшим государством в Западной Европе. Постоянной резиденцией императора в конце его жизни стал город Аахен. Новые рубежи империи были укреплены пограничными областями — «марками». На северо-западе была создана Бретонская, на юге Испанская марка, в Италии Франкское государство было отделено от византийских владений полузависимыми герцогствами Сполето и Беневент. На границах со славянскими племенами, простиравшихся от Балтики до Адриатики (ободритами, лютичами, лужицкими сербами, чехами, моравами, словенцами, хорватами), велись периодические войны. И здесь были созданы пограничные укрепленные зоны: Датская марка у Шлезвига, Саксонский рубеж против прибалтийских славян, Сербский рубеж от Эльбы до Дуная, Паннонская, или Восточная, марка в среднем течении Дуная (составившая ядро будущей Австрии). Северную Италию от Византии и южных славян прикрывала Фриульская марка. Высок был в начале IX в. и международный престиж империи Каролингов: покровительства Карла домогались короли Шотландии и Астурии, вожди племенных ирландских княжеств. В 812 г. императорский титул Карла был с оговорками признан и императором Византии. При Карле Великом Франкское раннефеодальное государство достигло своего расцвета. В VIII— IX вв. оно все более отчетливо выступало как орудие политической власти быстро складывавшегося класса феодалов. Для того чтобы держать в повиновении крестьянство, теряющее земли и свободу, для завоевания и освоения новых территорий феодалам необходима была относительно сильная центральная власть. Этим объясняется временное усиление королевской власти при первых Каролингах, особенно заметное в правление Карла Великого. Дважды в год при дворе короля собирались совещания наиболее влиятельных крупных землевладельцев. По их совету король издавал указы — капитулярии — по самым различным вопросам государственного управления, действовавшие по всей обширной империи. Контроль за органами местного управления осуществлялся через «государевых посланцев», которые разъезжали по графствам и наблюдали за действиями местных должностных лиц. Военные смотры теперь происходили не в марте, а в мае и назывались «майскими полями», В отличие от «мартовских полей» они были не собраниями народного ополчения, а преимущественно съездами королевских бенефициариев. Карл Великий провел новую военную реформу. Теперь служить в армии обязаны были только относительно зажиточные свободные землевладельцы, имевшие 3—4 средних крестьянских надела (манса). Все менее состоятельные люди (в первую очередь свободные крестьяне, наделы которых обычно не превышали одного манса) должны были объединяться в группы и за общий счет выставлять одного вооруженного воина. Таким образом, крестьянство, не только зависимое, но и свободное, все более устранялось от военной службы, которая постепенно становилась привилегией класса феодалов. Однако за внешней централизацией империи скрывалась ее внутренняя слабость и непрочность. Созданная путем завоевания, она была чрезвычайно пестра по своему этническому составу. Помимо франков и подвластных им племен и народностей на территории бывшей Галлии (бургундов, аквитанцев и др.) в империю Карла Великого входили саксы, фризы, бавары, аламаны, тюринги, лангобарды, бретонцы, романское население Галлии и Италии, баски и жители Наварры, частично хорутане и авары, кельты (потомки бриттов). Каждая из земель империи, населенных разными племенными группами и народностями, была мало связана с другими и без постоянного военного и административного принуждения не хотела подчиняться власти завоевателей. Поэтому Карл Великий проводил всю свою жизнь в походах, отправляясь каждый раз туда, где возникала реальная угроза отпадения той или иной территории. С течением времени удерживать завоеванные племена и народности становилось все труднее. Такая форма империи — внешне централизованного, но внутренне аморфного и непрочного политического объединения, тяготевшего к универсализму, — была характерна для многих наиболее крупных раннефеодальных государств в Европе (Велико-моравская держава в IX в., империя Оттонов в X в., держава Кнута Великого, объединявшая в начале XI в. Англию и Скандинавские страны, и др.). Современникам Каролингская держава, особенно при Карле Великом, представлялась блестящей и величественной, образ этого императора героизировался, а затем вошел во многие легенды, сказания и песни средневековья. Современников восхищала действительно незаурядная личность Карла, его неутомимая энергия, стремление вникать во все детали управления обширным государством, в дела военные, дипломатические, развивать образование и культуру (см. гл. 21), его успехи в военных походах. Им импонировала и внешность императора: его высокий рост, крепкое телосложение, благообразный лик, — и его относительная образованность, интерес к литературе и поэзии, в частности античной, умение читать по-латыни и по-гречески (хотя писать он так и не научился). Образ Карла был сильно идеализирован последующей средневековой традицией, а через нее и западной историографией XIX—XX вв. Ему даже приписывалась роль защитника крестьян от притеснений феодалов. Реальный исторический Карл Великий, хотя и был выдающимся государственным деятелем своего времени, проводил политику в интересах складывающегося класса феодалов, был жесток и беспощаден по отношению к народным массам и к населению завоеванных им земель. § 3. Складывание основ феодальных отношений в Каролингском государстве Завершение переворота в поземельных отношениях. К концу VIII и началу IX в. переворот в поземельных отношениях во Франкском государстве привел к господству феодальной земельной собственности — основы феодального строя. Захват крестьянских земель светскими и церковными крупными землевладельцами сопровождался усилением различных форм внеэкономического принуждения. Это было неизбежным следствием утверждения феодальной земельной собственности, так как при условии наделения непосредственных производителей (крестьян) землей и средствами производства прибавочный труд в пользу собственника земли «можно выжать из них только внеэкономическим принуждением, какую бы форму ни принимало последнее»1. Захваты крупными феодалами крестьянских наделов принимают особенно массовый характер к началу IX в. Это вынуждены были констатировать даже королевские капитулярии того времени. Так, в капитулярии Карла Великого 811 г. говорится, что «бедняки жалуются на лишение их собственности; одинаково жалуются на епископов, и на аббатов, и на попечителей, на графов и на их сотников». Крупные землевладельцы, в частности те из них, которые в качестве графов или других должностных лиц располагали средствами принуждения по отношению к местному крестьянскому населению, силой превращали его в зависимых людей. Разорению крестьянства способствовали, как уже отмечалось, активная завоевательная политика Каролингов, особенно Карла Великого, требования от еще сохранявшихся, в основном в германских областях, свободных крестьян продолжительной военной службы, надолго отрывавшей их от хозяйства, а также церковная десятина, тяжелые государственные налоги, высокие судебные штрафы. Большую роль в обезземелении и втягивании в зависимость крестьянства играла церковь. Для расширения своих земельных владений наряду с прямым насилием она использовала религиозные чувства крестьянских масс, внушая верущим, что дарения в пользу церкви обеспечат им отпущение грехов и вечное блаженство в загробном мире. Церковные учреждения, отдельные прелаты и прежде всего сами папы широко практиковали подделку документов, чтобы утвердить свои права на те или иные земельные владения. Установление феодальной поземельной и личной зависимости крестьянства. Иммунитет. Зарождение феодальной иерархии. Разорившиеся или стоявшие на грани разорения свободные крестьяне легко попадали в зависимость от крупных землевладельцев. При этом, однако, феодалы не были заинтересованы в сгоне крестьян с земли, ибо при феодальном строе «не освобождение народа от земли, а напротив, прикрепление его к земле было источником феодальной эксплуатации»2. Земля была в условиях господства натурального хозяйства единственным средством существования. Поэтому, даже теряя аллоды, свободные общинники брали у феодалов землю в пользование на условии выполнения определенных повинностей. Одним из самых распространенных способов втягивания свободного крестьянства в зависимость еще при Меровингах являлась практика передачи земли в прекарий (precaria). В VIII— IX вв. эта практика получила особенно широкое распространение как одно из важнейших средств феодализации. Прекарий, что дословно означает «переданное по просьбе», — это условное земельное держание, которое крупный собственник передавал во 1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. С. 353. ' Маркс К., Энгельс Ф Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 349. временное пользование (иногда на несколько лет, иногда пожизненно) какому-либо человеку, чаще всего безземельному или малоземельному. За пользование этим наделом его получатель обычно должен был платить оброк или в отдельных случаях выполнять барщину в пользу собственника земли. Существовали прекарии нескольких видов; иногда такое условное держание передавалось человеку, у которого было недостаточно или вовсе не было земли (precaria data), но иногда мелкий собственник сам передавал под давлением нужды и насилий соседних крупных землевладельцев право собственности на свою землю одному из них, чаще всего церкви, и получал эту же землю обратно в качестве прекария пожизненно или наследственно — в пределах одного-двух поколений (precaria oblata) — на условиях несения определенных повинностей. Иногда прекарист получал в пользование не только отданную землю, но еще и дополнительный участок. Такой прекарии назывался «прекарии с вознаграждением» (precaria remuneratoria). Прекарии последнего типа были особенно распространены на землях церкви, которая стремилась таким образом привлечь побольше крестьян-дарителей, чтобы округлить свои владения. Прибавки к дарениям давались обычно из необработанных земель, освоение которых требовало приложения крестьянского труда. Прекарист, отказываясь о г права собственности на землю, превращался из собственника ее в держателя. Хотя первоначально он и сохранял личную свободу, но попадал в поземельную зависимость от собственника земли. Таким образом, хотя прекарные отношения имели форму «добровольного договора», в действительности они являлись результатом тяжелого экономического положения крестьян, вынуждавшего их отдавать землю крупным землевладельцам, а иногда и следствием прямого насилия. Наряду с крестьянами в VIII—IX вв. в качестве прекаристов часто выступали мелкие вотчинники, сами эксплуатировавшие труд зависимых людей, обычно вышедшие из среды более зажиточных аллодистов-общинников. В этих случаях прекарии служил для оформления поземельных отношений внутри складывающегося класса феодалов, так как такой мелкий вотчинник был уже, по существу, феодальным землевладельцем, вступившим в определенные отношения с более крупным феодальным земельным собственником, предоставившим ему землю в прекарии. Если в VI—VII вв. решающую роль в складывании крупной феодальной собственности и установлении крестьянской зависимости играли королевские пожалования, то в VIII—IX вв. более важным фактором этих процессов становится разорение массы крестьянства и втягивание его в поземельную зависимость от крупных феодалов даже без активной роли государства. Теряя землю, крестьянин часто вскоре терял и свою личную свободу. Но могло быть и иначе. Так, бедняк, будучи не в состоянии уплатить долг, попадал в кабалу к кредитору, а затем и в положение лично зависимого человека, мало чем отличавшегося от раба. Такая же участь часто ожидала бедняка, которого нужда толкнула на кражу или другие преступления и который, не имея возможности возместить ущерб потерпевшему, становился его кабальным рабом. К личной зависимости часто вел акт коммендации мелкого свободного крестьянина светскому магнату или церкви (см. выше). На практике установление личной зависимости крестьянина от феодала могло иногда предшествовать утере им аллода. Однако широкое распространение таких личных отношений между ними имело своей общей предпосылкой быстрый рост крупного землевладения за счет мелкой крестьянской и общинной собственности, выражавший главную тенденцию социального развития франкского государства той эпохи. Разорению и втягиванию крестьянства в зависимость способствовала в немалой степени и дальнейшая концентрация в руках отдельных крупных землевладельцев политической власти, служившей им орудием внеэкономического принуждения. Короли, будучи не в силах препятствовать этому процессу, вынуждены были санкционировать его путем специальных пожалований. Такие пожалования появились еще при Меровингах, но широкое их распространение относится к каролингскому периоду. Сущность их заключается в том, что особыми королевскими грамотами должностным лицам — графам, сотникам и их помощникам — запрещалось вступать на территорию, принадлежащую тому или иному магнату, для выполнения на ней каких-либо судебных, административных, полицейских или фискальных функций. Все эти функции передавались магнатам и их должностным лицам. Такое пожалование называлось иммунитетом (от латинского immunitas — неприкосновенность, освобождение от чего-либо). Обычно иммунитетные права крупного землевладельца сводились к следующему: он пользовался на своей земле судебной властью; имел право взимать на территории иммунитета все поступления, которые до этого шли в пользу короля (налоги, судебные штрафы и иные поборы); наконец, он являлся предводителем военного ополчения, созываемого на территории иммунитетного округа. Юрисдикции иммуниста обычно подлежали иски о земле и другом имуществе и дела о мелких правонарушениях не только лично зависимых, но и лично свободных жителей его владений. Высший уголовный суд обычно оставался в руках графов, хотя некоторые иммунисты присваивают себе также и права высшей юрисдикции. Иммунитетное пожалование чаще всего лишь оформляло те средства внеэкономического принуждения, которые феодал в качестве крупного землевладельца присваивал себе обычно задолго до получения пожалования. Располагая судебно-административными и фискальными полномочиями, иммунист использовал их для приобретения все новых земельных владений, усиления эксплуатации и укрепления зависимости своих крестьян, в том числе и еще лично свободных. В каролингский период иммунитетное пожалование часто распространяло власть иммуниста на землю и людей, до этого не находившихся под чьей-либо частной властью. Вместе с тем иммунитет способствовал усилению независимости феодалов от центральной власти, подготовляя тем самым последующий политический распад Каролингской империи. Росту политической самостоятельности феодалов немало способствовало и развитие вассальных отношений. Вассалами первоначально назывались свободные люди, вступившие в личные договорные отношения с крупным землевладельцем, большей частью в качестве его военных слуг — дружинников. В каролингский период вступление в вассальную зависимость часто сопровождалось пожалованием вассалу бенефиция, что придавало ей характер не только личной, но и поземельной связи. Вассал обязывался верно служить своему господину (сеньору), становясь его «человеком» (homo), а сеньор обязывался защищать вассала. Располагая большим количеством вассалов, крупный землевладелец приобретал политическое влияние и военную силу, укреплял свою независимость от королевской администрации. В 847 г. внук Карла Великого Карл Лысый в своем Мерсенском капитулярии предписывал, чтобы «каждый свободный человек выбрал себе сеньора». Таким образом, вассалитет признавался главной законной формой общественной связи. Развитие вассалитета вело к формированию иерархической структуры господствующего класса феодалов, ослабляло центральную власть и способствовало усилению частной власти феодалов. Организация крупного землевладения. Феодальная вотчина. С утверждением и оформлением к началу IX в. крупной феодальной собственности на землю происходят существенные изменения в хозяйственной и социальной организации франкского общества. В VIII — начале IX в. основой ее становится феодальная вотчина — сеньория, поглотившая как свободные франкские общины, так и крупные земельные комплексы галло-римского типа. Структура крупного феодального землевладения, сложившегося в каролингский период, не была однородной. Крупные землевладельцы, как светские, так и духовные, располагали землями самого различного размера и качества. Среди их владений имелись крупные вотчины, которые занимали сплошные территории, совпадавшие с целой деревней или состоявшие из ряда деревень. Вотчины такого типа были наиболее широко распространены в северных областях Франкского государства — между Рейном и Луарой. Но и там иногда владения даже крупных землевладельцев складывались из небольших вотчин, включавших часть большой деревни или лежавших в разных деревнях, либо даже из отдельных дворов, расположенных вперемежку с владениями других собственников, иногда еще свободных крестьян. Такой тип был особенно характерен для южных областей государства. Разнообразие в структуре крупного землевладения объяснялось тем, что как на севере, так и на юге страны далеко не всегда крупный землевладелец становился сразу собственником всей деревни. Иногда он приобретал сначала несколько мелких крестьянских участков, а затем постепенно округлял свои владения путем обмена, покупки или прямого захвата, пока вся деревня не превращалась в его вотчину или ее часть. Источники по истории крупной феодальной вотчины каролингского периода [полиптики, картулярии, «Капитулярий о поместьях» (Capitulare de villis) Карла Великого] более полно рисуют нам феодальную вотчину Франкского государства. Они показывают, что уже в эту эпоху она являлась организацией для эксплуатации зависимого крестьянства, для присвоения крупными землевладельцами феодальной ренты — прибавочного труда крестьян в форме оброков и барщины. Земля в феодальной вотчине обычно делилась на две части: на господскую землю, или домен (от латинского dominus — господин), на которой велось хозяйство федодала, и на землю, находившуюся в пользовании зависимых крестьян и состоявшую из наделов. На севере домен в таких вотчинах был довольно велик, составляя не менее 1/3 всех входивших в них земель. В состав господской, или домениальной, земли входили барская усадьба — дом и двор с хозяйственными постройками, иногда с мастерскими вотчинных ремесленников, сад, огород, виноградник, скотный двор и птичник сеньора. С барской усадьбой обычно были связаны мельницы и церковь, которая считалась собственностью феодала. Пахотные земли, луга и виноградники вотчинника, разделенные на мелкие участки, в северных областях королевства лежали вперемежку (чересполосно) с участками зависимых крестьян. Часть лесных массивов и тех пастбищ, лугов -и пустошей, которые прежде принадлежали свободной общине, теперь также превратилась в собственность феодала. Вследствие чересполосицы в вотчине господствовали принудительный севооборот с выпасом скота по пару и по жнивью после снятия урожая. Обработка господской земли велась в основном зависимыми крестьянами, трудившимися на барщине со своим скотом и инвентарем, а также, хотя и в гораздо меньшей степени, дворовыми рабами, использовавшими инвентарь и скот вотчинника. Земли, находившиеся в пользовании крестьян, делились на наделы, называвшиеся в западной части Франкского государства мансами, в восточной — туфами, а на юге — колониками. В каждый надел входили: крестьянский двор с домом и дворовыми постройками, иногда сад и виноградник, примыкавшие ко двору, и полевой пахотный надел, состоявший из отдельных полос пашни, разбросанных чересполосно с земельными участками других крестьян и самого вотчинника. Кроме того, крестьяне пользовались выпасами, оставшимися в распоряжении общины, а иногда и в руках феодала (за плату). Таким образом, общинная организация с принудительным севооборотом и коллективным пользованием неподеленными угодьями не исчезла с возникновением вотчины. Однако из свободной она превратилась теперь в зависимую, а сельский сход свободных общинников — в сход зависимых крестьян. Он проходил под председательством назначенного сеньором старосты, проводившего в жизнь требования сеньора, но вместе с тем отстаивавшего перед ним интересы крестьян. Наделы, на которых сидели зависимые крестьяне, были тяглыми наделами, так как на них лежали определенные повинности (оброк, барщина). На землях вотчины обычно имелись и свободные держания — прекарии и бенефиции должностных лиц вотчинной администрации, которыми они пользовались как платой за свою службу, а также бенефиции мелких вассалов сеньора. Положение зависимого крестьянства. Крестьянское население вотчины не было единым по своему происхождению и правовому положению. Оно делилось на три основные группы — колонов (coloni, ingenui), литов и рабов-сервов (servi, mancipia). Большинство зависимого крестьянства в каролингской феодальной вотчине составляли колоны. Они не утратили полностью личной свободы, но уже находились в поземельной зависимости от вотчинника, не могли уйти со своего надела, находившегося у них в наследственном пользовании, и были ограничены в распоряжении этим наделом. Основную массу колонов этой эпохи составляли потомки ранее свободных крестьян — как франкского, так и галло-римского происхождения. С течением времени они все больше теряли личную свободу и сливались с литами и посаженными на землю рабами в одну массу лично зависимых крестьян. Рабы (сервы), жившие в вотчине, разделялись на две категории: дворовые рабы, не имевшие надела (mancipia non casata), и рабы, сидевшие на земле (servi casati). Первые жили и работали на барском дворе; их можно было продать и купить, и все то, что они имели или приобретали, рассматривалось как собственность господина. Рабы (сервы), наделенные землей и прикрепленные к ней, обычно не отчуждались без земли и по своему фактическому положению были уже не рабами, а лично зависимыми крестьянами. В отличие от колонов они находились не только в поземельной, но и в полной личной зависимости от феодала. В большинстве своем сервы были потомками зависимых людей позднеримского и меровингского времени — рабов, колонов и др. Промежуточное положение между колонами и сервами занимали литы, обычно находившиеся под патронатом какого-либо светского или духовного крупного землевладельца и державшие свой земельный надел в наследственном пользовании. В зависимости от того, кому первоначально принадлежали крестьянские наделы (мансы) — колону, литу или серву, — они назывались свободными, литскими или рабскими (mansi ingenuiles, mansi lidiles, mansi serviles). Однако в IX в. рабские или литские мансы часто попадали в руки колонов, и наоборот. При этом повинности, которые крестьяне должны были выполнять в пользу феодала, определялись не стоько правовым положением самого держателя, сколько характером манса (свободного, литского или рабского). Грани в правовом положении отдельных категорий крестьян постепенно стирались и они все больше сливались в единую массу зависимых. Зависимые крестьяне всех категорий обязаны были нести повинности в пользу сеньора — выполнять барщину и платить оброк. Тяжелее всех была барщина сервов, составлявшая обычно не менее трех дней в неделю. Сервы выполняли при этом особенно трудные работы. Колоны также работали на барщине, но основной ее формой у них была не недельная, а поурочная барщина, при которой они обязывались обработать в пользу помещика определенный участок земли и собрать с него урожай, выполнять извозную повинность, рубить лес и т. п. С начала IX в. наблюдается тенденция к росту размеров барщины и у колонов. Все зависимые крестьяне обязаны были платить сеньору, кроме того, и оброк, большей частью в натуральной форме — зерном, мукой, вином, пивом, домашней птицей, яйцами, ремесленными изделиями. Иногда оброк взимался в денежной форме (например, поголовный сбор — capaticum) с лично зависимых крестьян. Однако денежная рента не имела большого распространения. В южных областях преобладали вотчины, более мелкие по размеру. Домен занимал в них меньше места, с чем связана была и относительно небольшая барщина, зато дольше сохранял значение рабский труд на домене. При относительно значительной прослойке свободных крестьян-аллодистов положение зависимых — колонов, манципиев, вольноотпущенников — сохраняло больше позднеантичных черт, присущих рабскому состоянию, чем на Севере. В силу природных условий: горного ландшафта, теплого климата, допускавшего разнообразие возделываемых культур, — система открытых полей с чересполосицей и принудительным севооборотом на Юге не была распространена. Здесь господствовали компактные домен и крестьянские наделы, на которых велось поликультурное земледельческое хозяйство (возделывались одновременно зерновые, виноград, оливки и др.), а также было развито скотоводство. Натуральный характер хозяйства. В феодальной деревне каролингского периода господствовало натуральное хозяйство. Преобладание натурально-хозяйственных отношений объясняется низким уровнем развития производительных сил, в частности отсутствием общественного разделения труда между ремеслом и сельским хозяйством1. В феодальной вотчине каролингского периода ремесленный труд был соединен с сельским хозяйством, что обеспечивало феодала также основными изделиями ремесла. Производством одежды, обуви и необходимого инвентаря занимались сами зависимые крестьяне или дворовые ремесленники, обслуживавшие также население деревни. Все что производилось в вотчине, шло 1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. П. С. 349. ишвным образом на снабжение всем необходимым барского двора и за редким исключением потреблялось внутри вотчины. Это, конечно, не значит, что в каролингский период вовсе не было торговли. Существовали рынки и даже ярмарки, денежное обращение. Но торговые связи не играли существенной роли в хозяйственной жизни вотчины и вообще деревни. Продавались излишки, в том числе иногда зерна или шерсти, а покупалось то, что нельзя было произвести в вотчине: соль, вино, металл, иногда оружие, а также предметы роскоши, пряности, привозимые иностранными купцами из заморских стран. Постоянных торговых связей между отдельными частями Каролингской империи не было. Внешняя торговля была развита слабо, удовлетворяла только потребность верхушки общества в предметах роскоши и не оказывала серьезного влияния на общий уровень экономической жизни. Данные источников VIII—IX вв. убедительно доказывают несостоятельность утверждений австрийского историка А. Допша и его последователей о том, что во времена Каролингов господствовало якобы «капиталистическое хозяйство» в форме «вотчинного капитализма», всецело руководствовавшееся торговыми интересами. Борьба народных масс против феодализации. Лишение крестьян собственности на землю и втягивание их в зависимость вызывали ожесточенное сопротивление как еще свободного, так и уже зависимого крестьянства. Оно принимало различные формы. Одной из них были массовые побеги крестьян. Нередко происходили и открытые крестьянские выступления. Об упорном сопротивлении крестьянства феодализации свидетельствует капитулярий 821 г. короля Людовика Благочестивого, сообщающий о существовании во Фландрии «незаконных» заговоров и союзов зависимых крестьян. Крестьянские восстания происходили в 848 и 866 гг. во владениях майнцского епископа. Наиболее крупное восстание имело место в Саксонии в 841 — 842 гг. Лозунгом крестьян, поднявшихся против угнетателей — саксонских и франкских феодалов и поддерживавшей их королевской администрации, — был возврат к старым, дофеодальным порядкам: крестьяне изгнали господ и «стали жить по старине». Отсюда и название движения — восстание «Стеллинга», что можно перевести: «Дети древнего закона». Восстание это лишь с большим трудом было подавлено феодалами. Крестьянские восстания обычно терпели поражения вследствие своей стихийности и неорганизованности. Однако сопротивление крестьян вынуждало представителей господствующего класса фиксировать повинности зависимых крестьян. Фиксация феодальных повинностей, хотя бы на некоторое время ограждавшая крестьянина от повышения нормы эксплуатации, в значительной мере была следствием непрерывной, каждодневно возобновляемой борьбы крестьянства против феодалов. Фиксация феодальных повинностей диктовалась и стремлением феодалов определить и закрепить размеры своих вотчинных доходов. Следствием переворота в поземельных отношениях в VIII— IX вв. явилось значительное укрепление феодализма в Каролингском государстве. Уже к началу IX в. здесь сложились крупная феодальная вотчина и основные классы феодального общества — феодалы и зависимые крестьяне. По словам Энгельса, за эти четыреста лет, прошедшие со времени крушения Западной Римской империи, был сделан шаг вперед, «исчезло античное рабство, исчезли разорившиеся, нищие свободные, презиравшие труд как рабское занятие. Между римским колоном и новым крепостным стоял свободный франкский крестьянин»1. Развившиеся на развалинах античного общества феодальные отношения обеспечивали дальнейший подъем общественных производительных сил и «были теперь для нового поколения исходным моментом нового развития»2. § 4. Эволюция Каролингского государства и его распад Под покровом временной централизации в империи происходила феодализация местного управления: граф из государственного должностного лица стал постепенно превращаться в сеньора своего округа, захватывая в собственность земли, вверенные его управлению, а свободное население графства оказывалось в положении его вассалов или зависимых крестьян. Керсийский капитулярий 877 г. официально признал наследственность графской должности, закрепив ее за крупнейшими землевладельцами каждого графства. Этому же способствовали раздачи иммунитетов каролингскими королями и признание ими вассалитета в качестве главной законной общественной связи. Империя Каролингов как раннефеодальное государство защищала интересы класса феодалов. Представители Каролингской династии вели завоевательные войны, выгодные господствующему классу, и способствовали развитию феодализма во вновь завоеванных областях. Своими земельными пожалованиями, раздачей бенефициев и иммунитетов они содействовали росту крупного землевладения и втягиванию в зависимость крестьян. Распад империи Карла Великого. Временное объединение под властью Каролингов различных племен и народностей при отсутствии экономического, социально-правового, этнического и культурного единства между ними было возможно лишь до тех пор, пока франкские феодалы, особенно слой мелких и средних феодалов-бенефициариев, поддерживали королевскую власть. Когда же к середине IX в. в империи сложились основы феодального строя, позиция новых крупных землевладельцев по отношению к центральной власти изменилась. 1 2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 153—154. Там же. С. 154. Крупные феодалы стали почти независимыми от нее; мелкие и средние феодалы, становясь их вассалами, были гораздо больше связаны с магнатами, чем с королем. Крестьянство в основном стало уже зависимым. Подавление крестьянских движений, носивших лишь местный характер, производилось силами самих феодалов, связанных узами вассалитета. Сын и преемник Карла Великого Людовик Благочестивый (814—840), прозванный так за свою ревностную приверженность церкви и щедрые дары ей, уже в 817 г. разделил империю между своими сыновьями, сохранив за собой лишь верховную власть. За этим разделом последовал ряд новых, которые привели к длительным междоусобиям и смутам. Наконец, в 843 г. после смерти Людовика его сыновья, собравшись в Вердене, заключили договор о новом разделе империи. По Верденскому договору младший сын Людовика Благочестивого Карл по прозвищу Лысый получил земли к западу от рек Шельды, Мааса и Роны — Западно-Франкское королевство, включавшее основные территории будущей Франции. На этих землях господствовали романские языки, легшие впоследствии в основу французского языка. Средний из братьев — Людовик Немецкий — завладел областями к востоку от Рейна и к северу от Альп, население которых говорило на германских диалектах. Это королевство стало называться Восточно-Франкским, а позднее — Германией. Старший сын Людовика Лотарь, согласно Верденскому договору, сохранил за собой императорский титул. Его государство состояло из Италии, а также земель, расположенных вдоль Рейна. Империя Лотаря представляла собой искусственное соединение осколков различных политических и этнических образований. Более или менее единым целым в нем была лишь Италия. Таким образом, Верденский договор положил начало складыванию трех современных государств Европы — Франции, Германии, Италии — и соответственно французской, германской и итальянской народностей. Глава 5 . Возникновение и формирование феодальных отношений в Византии IV—XI вв. § 1. Византия в IV — первой половине IX в. Образование Византийской империи. Византия (Восточная Римская империя), оформившаяся как самостоятельное государство в IV в. в результате разделения Римской империи на Восточную и Западную (395), превосходила Западную по степени развития ремесла и торговли, богатству городов, уровню духовной культуры. В период домината центр экономической и культурной жизни Римской империи все явственнее перемещался на Восток. Поэтому в 324—330 гг. император Константин I построил новую столицу империи — Новый Рим — на месте Византия, древней мегарской колонии на Босфоре. По имени основателя город был назван Константинополем. Перенесение столицы на Босфор объяснялось благоприятным положением города' здесь пересекались важнейшие торговые пути из Европы в Азию и из Черного моря в Эгейское. Константинополь стал военно-стратегическим центром, превосходно укрепленным как с суши, так и с моря. В состав Византии вошли Балканский полуостров, Малая Азия, Сирия, Палестина, Египет, Киренаика, часть Месопотамии и Армении, Кипр, Крит, Родос и другие острова Эгейского моря, Южный берег Крыма, ряд опорных пунктов на Западном Кавказе (в Грузии), некоторые области Аравии, а с V в. — Иллирик и Далмация. На землях империи жили различные народности и племена греки, фракийцы, иллирийцы, эллинизированные малоазиатские племена (исавры и др.), сирийцы, армяне, грузины, евреи, копты, германцы (готы и др.). Господствующее положение среди пестрого населения империи занимали греки, и греческий язык был самым распространенным. Романизация носила поверхностный характер. Тем не менее жители Византии именовали себя римлянами (ромеями), а сама империя официально называлась Ромейской. Аграрный строй Византии в IV—VI вв. Византийская империя включала области с разнообразными природно-климатическими условиями. Мягкий, местами субтропический климат прибрежных районов постепенно переходил в континентальный климат внутренних областей. Горный рельеф Греции и Малой Азии, части Македонии сменялся равнинными пространствами Фракии и Фессалии на Балканах и в Северной Африке. Территория империи охватывала страны древней земледельческой культуры. Широкое распространение во многих областях имело хлебопашество. В сельском хозяйстве восточных провинций, особенно Египта и Сирии, значительную роль играла ирригация. Было развито виноградарство и культура олив, садоводство, выращивали и технические культуры (лен и др.); было распространено скотоводство. В IV—VI вв. в Византии еще господствовал рабовладельческий способ производства, хотя его кризис проявлялся все с большей силой. В социально-экономическом развитии Восточной Римской империи имелись существенные особенности. В первую очередь черты упадка сельского хозяйства стали ощутимы здесь позднее, чем на Западе, лишь в конце VI в. Второй особенностью было сравнительно меньшее и более медленное, чем на Западе, развитие крупного землевладения латифундиального типа. Крупные земельные владения принадлежали главным образом императорскому фиску. Домены императора были разбросаны по всей империи. В ранней Византии наблюдался также значительный рост церковного землевладения. Еще одной особенностью аграрного строя Византии было возрастание в IV—VI вв. роли свободного крестьянского землевладения и общины, которые преобладали в Придунайских провинциях, во Фракии, Македонии, центральных областях Малой Азии. Наиболее типичной формой крестьянской общины в Византии была соседская община митрокомия, объединявшая крестьян, владевших небольшими участками земли с довольно широкими правами собственности на эти участки. В деревне имела место долгосрочная аренда — эмфитевсис, — особенно часто встречавшаяся на императорских домениальных, а также церковных землях. Эмфитевтами обычно были свободные крестьяне, но иногда и крупные землевладельцы. Хотя рабский труд и не играл в сельском хозяйстве Византии столь большой роли, как на Западе, он применялся в хозяйстве почти всех категорий земельных собственников. Областями наибольшего распространения рабства были Греция, западная часть Малой Азии, Сирия, Египет, Киренаика. Основной формой использования труда рабов в сельском хозяйстве стало предоставление рабам участка земли в виде пекулия. В Византии еще в больших масштабах, чем на Западе, был распространен колонат (см. гл. 3). В VI в. положение колонов ухудшается. Например, шел процесс лишения имущественных прав не только энапографов, но и элейтеров. Еще раньше колоны были прикреплены к земле. Они уплачивали господину за пользование землей определенные платежи натурой, а иногда и деньгами и выполняли в его пользу полевые работы. Сохранение значительных масс свободного крестьянства и крестьянской общины, широкое распространение колоната и рабства с предоставлением пекулия обусловили большую экономическую устойчивость Восточной Римской империи и несколько замедлили кризис рабовладельческого строя, его падение, а затем и процесс феодализации Византии. Города, ремесло и торговля. Византия IV—VI вв. по праву считалась страной городов. В то время как на Западе города пришли в упадок, на Востоке они продолжали развиваться как центры ремесла и торговли. Первое место среди них принадлежало Константинополю. В его мастерских искусные ремесленники изготовляли предметы самой утонченной роскоши. Столица империи славилась лучшими архитекторами и иконописцами, ювелирами и мозаичистами. Широкой известностью пользовались константинопольские скриптории (центры изготовления рукописных книг, часто с великолепными миниатюрами). Изделия византийских мастеров оставались недосягаемым эталоном для ремесленников многих стран. Богатые запасы железа, золота, меди, мрамора стимулировали развитие горных промыслов, оружейного дела, производство орудий для ремесла и сельского хозяйства. Совершенствовались также строительная техника, стекольное и текстильное производство, особенно выработка тончайших полотняных и шерстяных, а с VI в. — шелковых тканей. Обилие удобных гаваней и господство над проливами, соединяющими Средиземное и Черное моря, способствовали развитию в Византии мореплавания и морской, в том числе транзитной, торговли. Все раннее средневековье империя оставалась великой морской державой. Византийские купцы проникали на востоке в Индию, Тапробану (Цейлон) и Китай, на юге — в Аксумское царство (Эфиопия), а также в Аравию. Оживленная торговля велась с Ираном и Согдианой (Средняя Азия). С Востока византийские купцы привозили шелк-сырец для изготовления шелковых тканей, слоновую кость, золото и драгоценные камни, жемчуг, перец и другие пряности, а вывозили туда ткани, одежды, вышивки, стеклянные изделия. На севере византийские товары достигали Британских островов и Скандинавии. На Средиземном море весь этот период византийцы сохраняли неоспоримую гегемонию. Фактории византийских купцов появляются в Неаполе, Равенне, Массилии (Марселе), Карфагене. Возрастает торговля Византии со странами Причерноморья и Кавказа. Византийские монеты — золотые солиды — играли роль международной валюты. В столицу Византийской империи съезжались купцы из отдаленных стран. Не случайно К. Маркс называл Константинополь «золотым мостом» между Востоком и Западом1. 1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 9. С. 240. Крупными экономическими центрами империи помимо Константинополя были Александрия в Египте, Антиохия в Сирии, Эдесса в Северной Месопотамии, Тир и Бейрут в Финикии, города Малой Азии — Эфес, Смирна, Никея, Никомидия, а в европейской части империи — Фессалоника и Коринф. В ремесленном производстве в городах Византии широко применялся рабский труд. Помимо рабов-ремесленников, работавших в мастерских — эргастериях, принадлежавших частным лицам, существовала довольно многочисленная, категория государственных рабов и рабов, находившихся в распоряжении муниципальных властей отдельных городов. Большинство государственных рабов работали в императорских мастерских, монополизировавших изготовление оружия и одежды для армии, а также предметов роскоши для императорского двора. В ремесленном производстве также все больше начинает практиковаться предоставление рабу пекулия в виде мастерской или лавки, что приводило к некоторому росту производительности рабского труда. Благодаря широкому применению труда рабов в городском ремесле города в Византии в течение долгого времени оставались оплотом рабовладельческих отношений. Однако здесь наряду с эргастериями известное значение приобретали мелкие мастерские свободных самостоятельных ремесленников, объединявшихся в некоторых городах в корпорации. Расцвет ремесла и доходы от богатых городов и широкой заморской торговли, значительные поступления от налогов с сельского населения и от императорских поместий доставляли правительству значительные ресурсы для содержания сильной армии и могущественного военного флота, оплаты наемников. Это помогло Византии в отличие от Западной империи, где города в это время деградировали, избежать варварского завоевания и сохраниться в виде целостного независимого государства с сильной централизованной властью. Государство. После падения Западной Римской империи Византия выступала как единственная законная наследница Рима и претендовала на господство во всем цивилизованном мире. Идея всемирной монархии с центром в Константинополе жила и в варварских королевствах Запада, которые вплоть до создания империи Карла Великого пусть номинально, но все же признавали верховную власть константинопольского императора. В самой Византийской империи получила оформление доктрина божественного происхождения власти императора, повелителя всей ойкумены, всех христианских народов (универсалистская теория ойкумениз-ма). Император (по-гречески «василевс»), в руках которого находилась вся законодательная и исполнительная власть, был окружен поклонением и восточной роскошью. Правда, теоретически власть императора была несколько ограничена такими учреждениями, как сенат (синклит), государственный совет (консисторий) и димы. Димы (от греческого слова «демос» — народ) были организациями свободных граждан византийских городов, они выполняли хозяйственные, политические и военные функции. В своей политике император должен был считаться и с церковью. В государственном устройстве Византии были особенно устойчивы традиции домината. Центральное управление сосредоточивалось в императорском дворце и делилось на ряд ведомств, во главе которых стояли высшие чиновники, назначенные императором. Провинциальное управление было также строго централизовано и подчинено центральной власти, которая постоянно и упорно боролась со всякими проявлениями сепаратизма провинциальных правителей. Вся сложная иерархия бюрократического аппарата определялась табелью о рангах. Система налогового обложения, организация армии были унаследованы от поздней Римской империи. В IV—VI вв. в армии все чаще начинает практиковаться замена поставки рекрутов землевладельцами уплатой денежных взносов. Все большую роль в ней играют наемники из различных варварских племен. Но в отличие от Западной Римской империи, где армия была сильно варваризирована, в Византии значительную часть армии и особенно флота все еще составляли контингенты, набранные из местного свободного населения. Христианская церковь и еретические движения. В идеологической и социально-политической жизни византийского общества большую роль играла христианская церковь, в IV в. ставшая союзницей и опорой государства. И в сфере церковной организации, и в области церковной догматики еще в этот период намечаются различия между западной и восточной церквами. Константинопольский патриарх постоянно соперничает с римским в борьбе за главенство в христианском мире. Однако отличительной чертой организации церкви в Византии была исторически сложившаяся большая зависимость ее от императорской власти. Уже в ранней Византии в основном складывается сложная и разветвленная церковная иерархия. Церкви принадлежали многочисленные земельные владения, обрабатываемые рабами, колонами, мелкими арендаторами, а в городах — эргастерии и лавки. Церковь получала ряд привилегий: духовенство было освобождено от налогов (за исключением поземельного) и повинностей; епископы и другие высшие иерархи имели право суда над клириками. Основные догматические положения господствующей христианской церкви вырабатывались в ожесточенной богословской и социально-политической борьбе. Много споров и возражений вызвал главнейший догмат христианского символа веры о «троичности бога». Противоречивые истолкования этого догмата породили еретические учения. За богословскими разногласиями в ересях всегда скрывались общественные силы, выступавшие против господствующей церкви и государства. В этот период широкое распространение в Восточной Римской империи получило арианство, проповедовавшее положение о том, что Христос, бог-сын, не равен богу-отцу, но сотворен им. Арианское духовенство первоначально вело простой образ жизни, чуждалось стяжательства и накопления богатств, резко критиковало господствующую церковь, чем привлекло симпатии широких народных масс и вызвало жестокие гонения со стороны церкви. Позднее арианство все больше утрачивало связь с народом. В 30—40-х годах V в. в Сирии возникло новое еретическое учение — несторианство, названное по имени главы движения Нестория. Несториане также критиковали догмат о троичности бога и считали Христа человеком, ставшим мессией в силу сошествия на него святого духа. Основное ядро несториан составляло духовенство и купечество восточных провинций Месопотамии, Сирии, отчасти Египта, настроенных сепаратистски по отношению к центральному правительству и ортодоксальной церкви. Но оппозиционность несторианства породила к нему симпатии народных масс. В 431 г. на III Вселенском соборе в Эфесе (Малая Азия) несторианство также было объявлено ересью и подвергнуто суровым гонениям. Большое распространение в ранней Византии получило моно-фиситство. В отличие от ариан и несториан монофиситы считали, что Христос обладает лишь одной и притом божественной природой. Они также требовали от духовенства отказа от роскоши и земных благ, что привлекло к ним сочувствие народных масс. Для купцов, крупных землевладельцев, высшего духовенства Египта, Палестины, Сирии оно также было знаменем сепаратизма. В 451 г. на IV Вселенском соборе в Халкидоне монофиситы были осуждены как еретики. Правление императора Юстиниана. Наивысшего расцвета Византийская империя достигла в правление императора Юстиниана I (527—565). В это время происходит внутренняя стабилизация Византийского государства и осуществляются широкие внешние завоевания. Юстиниан родился в Македонии в семье бедного иллирийского крестьянина. Его дядя император Юстин I (518—527), возведенный на престол солдатами, сделал Юстиниана своим соправителем. После смерти дяди Юстиниан стал властелином огромной империи. Юстиниан получил очень противоречивую оценку современников и потомков. Историограф Юстиниана Прокопий Кесарийский в своих официальных трудах и в «Тайной истории» создал двойственный образ императора: жестокий тиран и властный честолюбец уживался в нем с мудрым политиком и неутомимым реформатором. Обладая недюжинным умом, силой воли и получив блестящее образование, Юстиниан с необычайной энергией занимался государственными делами. Он был доступен людям различного звания, обворожителен в обращении. Но эта внешняя доступность была только маской, скрывавшей натуру беспощадную, двуличную и коварную. По словам Прокопия, он мог «тихим и ровным голосом приказать перебить десятки ни в чем не повинных людей». Юстиниан был фанатически одержим идеей величия своей императорской особы, которой, как он считал, выпала миссия возрождения былого могущества Римской империи. Сильное влияние на него оказывала его жена Феодора, одна из самых ярких и своеобразных фигур на византийском престоле. Танцовщица и куртизанка, Феодора благодаря своей редкой красоте, уму и твердой воле покорила Юстиниана, стала его законной женой и императрицей. Она обладала недюжинным государственным умом, вникала в дела правления, принимала иностранных послов, вела дипломатическую переписку, в трудные минуты проявляла редкое мужество и неукротимую энергию. Феодора безумно любила власть и требовала рабского поклонения. Внутренняя политика Юстиниана была направлена на усиление централизации государства и укрепление экономики империи, на активизацию торговли и поиски новых торговых путей. Большим успехом византийцев было раскрытие секрета производства шелка, тайны которого веками оберегались в Китае. По преданию, два несторианских монаха в своих полых посохах вывезли из Китая в Византию грены шелковичного червя; в империи (в Сирии и Финикии) возникло в VI в. собственное производство шелковых тканей. Константинополь в это время стал средоточием международной торговли. В богатых городах империи наблюдался подъем ремесленного производства, совершенствовалась строительная техника. Это дало возможность Юстиниану воздвигать в городах дворцы и храмы, строить мощные оборонительные сооружения в пограничных районах. Юстиниан покровительствовал росту крупного церковного землевладения и в то же время поддерживал средние слои землевладельцев. Он проводил, хотя и непоследовательно, политику ограничения власти крупных землевладельцев, и в первую очередь старой сенаторской аристократии. В правление Юстиниана была проведена реформа римского права. Коренные изменения социально-экономических отношений требовали переработки старых правовых норм, препятствовавших дальнейшему прогрессу византийского общества. В короткий срок (с 528 по 534 г.) комиссией из выдающихся юристов во главе с Трибонианом была проведена огромная работа по пересмотру всего богатейшего наследия римской юриспруденции и создан «Свод гражданского права» (см. гл. 1). В законодательстве, как и во всей общественной жизни Византии этого времени, определяющей была борьба старого рабовладельческого мира с нарождающимся феодальным. При сохранении в Византии в VI в. основ рабовладельческого строя фундаментом «Свода гражданского права» могло быть лишь римское право. Отюда и консерватизм законодательства Юстиниана. Но вместе с тем в нем (особенно в «Новеллах») отразились и коренные, в том числе прогрессивные, изменения в общественной жизни. Центральными среди социально-политических идей законодательства Юстиниана становятся идея неограниченной власти государя-самодержца и идея союза государства с христианской церковью. В законодательстве Юстиниана (особенно в «Кодексе» и «Новеллах») поощрялось предоставление рабам пекулия, облегчался отпуск рабов на волю, получил четкое юридическое оформление институт колоната. Сохранение в Византии в IV—VI вв. крупных городских центров, развитых ремесел и торговли требовало строгой регламентации и охраны права частной собственности. И здесь римское право, эта «совершеннейшая, какую мы только знаем, форма права, имеющего своей основой частную собственность»', явилось источником, из которого юристы VI в. могли черпать необходимые законодательные нормы. Поэтому в законодательстве Юстиниана видное место отводится регулированию торговых, кредитных операций, аренды, наследования и т. п. В сфере частноправовых отношений были отменены старые, уже изжившие себя формы собственности и вводилось юридическое понятие единой полной частной собственности — основы всего гражданского права. Обоснование, регламентирование и защита права частной собственности обусловили живучесть основных положений «Свода гражданского права» Юстиниана, которые сохранили свое значение в течение средневековья, а впоследствии были использованы в буржуазном обществе. Классовая борьба. Восстание «Ника». Активная строительная деятельность Юстиниана, завоевательная политика, содержание государственного аппарата, роскошь императорского двора требовали огромных расходов, и правительство Юстиниана принуждено было резко повысить налоговое обложение подданных. Недовольство населения налоговым гнетом и преследованием еретиков привело к восстаниям народных масс. В 532 г. вспыхнуло одно из самых грозных народных движений в Византии, известное в истории как восстание «Ника». Оно было связано с обострившейся борьбой так называемых цирковых партий Константинополя. Любимым зрелищем жителей Византии были конные ристания и различные спортивные игры в цирке (ипподроме). Вместе с тем цирк в Константинополе, как и в Риме, был центром социальнополитической борьбы, местом многолюдных собраний, где народ мог видеть императоров и предъявлять им свои требования. Цирковые партии, которые были не только спортивными, но и политическими организациями, носили названия по цвету одежд возниц, участвовавших в конных состязаниях: венеты («голубые»), прасины («зеленые»), левки («белые») и русии («красные»). Наибольшее значение имели партии венетов и прасинов. Социальный состав цирковых партий был очень пестрым. Во главе партии венетов стояли сенаторская аристократия и крупные землевладельцы. Партия прасинов отражала прежде всего интересы купцов и владельцев крупных ремесленных эргастериев, торговавших с восточными провинциями империи. Партии цирка были ' Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 105. связаны с димами городов Византии, в них входили и рядовые члены димов, принадлежавшие к средним и низшим слоям свободного населения городов. Различались прасины и венеты и по своим религиозным убеждениям: венеты были сторонниками ортодоксального церковного вероучения, а прасины выступали в защиту монофиситства. Юстиниан покровительствовал партии венетов и преследовал прасинов, что вызвало их ненависть к правительству. Восстание началось 11 января 532 г. с выступления прасинов в константинопольском ипподроме. Но вскоре к «зеленым» присоединилась и часть венетов; низы обеих партий объединились и потребовали сокращения налогов и отставки наиболее ненавистных чиновников. Восставшие стали громить и поджигать дома знати и правительственные здания. Вскоре их возмущение обратилось и против самого Юстиниана. Повсюду раздавался клич «Побеждай!» (по-гречески «Ника»). Император и его приближенные были осаждены во дворце. Юстиниан решил бежать из столицы, но императрица Феодора потребовала немедленно напасть на восставших. В это время среди участников начались разногласия, часть аристократии из партии «голубых», испугавшись выступления народных масс, отшатнулась от восстания. Правительственные войска, возглавляемые полководцами Юстиниана — Велисарием и Мундом, — внезапно напали на собравшийся в цирке народ и учинили страшную резню, во время которой погибло около 30 тыс. человек. Разгром восстания «Ника» знаменует резкий поворот в политике Юстиниана в сторону реакции. Однако народные движения в империи не прекращались. Внешняя политика и войны Юстиниана. В своей внешней политике на Западе Юстиниан руководствовался прежде всего идеей восстановления Римской империи. Для осуществления этого грандиозного замысла Юстиниану нужно было покорить варварские государства, возникшие на развалинах Западной Римской империи. Первым пало в 534 г. под ударами византийских войск государство вандалов в Северной Африке. Внутренние междоусобия вандальской знати, недовольство местных берберийских племен правлением вандалов, помощь византийцам со стороны римских рабовладельцев и ортодоксального духовенства, притесняемых ванда-лами-арианами, превосходство византийской армии обеспечили победу полководцу Юстиниана Велисарию. Однако восстановление рабовладельческих отношений и римской налоговой системы в завоеванной провинции вызвало протест населения. Его разделяли и солдаты византийской армии, недовольные тем, что правительство не обеспечивало их в завоеванной стране земельными участками. В 536 г. солдаты восстали, к ним присоединились местные берберийские племена и беглые рабы и колоны. Во главе восстания встал византийский воин Стотза. Только к концу 40-х годов VI в. Северная Африка была окончательно подчинена власти империи. Еще больших жертв стоило империи завоевание королевства остготов в Италии. Высадившись летом 535 г. на Сицилии, Вели-сарий быстро захватил этот остров, переправился в Южную Италию и начал успешное продвижение в глубь страны. Опираясь на помощь италийской рабовладельческой знати и ортодоксального духовенства (готы, как и вандалы, были арианами), Велисарий в 536 г. овладел Римом. Но и здесь реставраторская политика Юстиниана и произвол завоевателей вызвали широкое народное движение, которое возглавил остготский король Тотила (541—552), талантливый полководец и дальновидный политик. Как представитель остготской знати он, отнюдь не желая отмены института рабства, понимал, что без поддержки широких масс ему не разбить врага. Поэтому Тотила принимал в свою армию беглых рабов и колонов и давал им свободу. Одновременно он поддерживал свободное землевладение остготского и италийского крестьянства и проводил конфискации поместий части крупных римских собственников, особенно выступавших против остготов. Это обеспечило ему поддержку населения Италии, пострадавшего от реставраторской политики правительства Юстиниана. Тотила одержал блестящие победы над византийскими войсками. В 546 г. он взял Рим, вскоре отвоевал у византийцев большую часть Италии, а также Сицилию, Сардинию и Корсику. Победы Тотилы обеспокоили его соперников из числа остготской знати. Многие знатные остготы стали отходить от него. В то же время и сам Тотила не был последователен в своей политике. Часто он шел на уступки остготской и италийской знати, отталкивая тем самым от себя народные массы и теряя сторонников. В 552 г. в Италию с громадной армией прибыл преемник Велиса-рия полководец Нарсес. В июне того же года в битве у местечка Тагина армия Тотилы потерпела жестокое поражение, а сам Тотила пал в сражении. Однако остготы продолжали упорное сопротивление, и лишь в 555 г. Италия была полностью завоевана византийцами. Как и в Северной Африке, Юстиниан пытался сохранить в Италии рабовладельческие отношения и реставрировать римскую систему государственного управления. В 554 г. он издал «Прагматическую санкцию», которая отменяла все реформы Тотилы. Земли, ранее конфискованные у рабовладельческой знати, возвращались ей. Колоны и рабы, получившие свободу, вновь передавались их господам. Одновременно с завоеванием Италии Юстиниан начал войну с вестготами в Испании, где ему удалось захватить ряд опорных пунктов в юго-восточной части Пиренейского полуострова. Таким образом, казалось, что мечты Юстиниана о реставрации Римской империи близки к осуществлению. К Византийскому государству были вновь присоединены многие из ранее входивших в нее областей. Однако реставраторская политика византийцев объективно задерживала феодализационные процессы, вызывала недовольство покоренного населения, и завоевания Юстиниана оказались непрочными. На Востоке Византия в VI в. вела изнурительную войну с Са-санидским Ираном. Важнейшей причиной векового спора между ними были богатые области Закавказья, и в первую очередь Лази-ка (современная Западная Грузия). Кроме того, Византия и Иран издавна соперничали в торговле шелком и иными драгоценными товарами с Китаем, Цейлоном и Индией. Воспользовавшись тем, что Византия была втянута в войну с остготами, сасанидский шах Хосров I Аношарван в 540 г. напал на Сирию. Так началась тяжелая война с Ираном, длившаяся с перерывами до 562 г. По мирному договору Лазика осталась за Византией, Сванетия и другие области Грузии — за Ираном. Византия обязалась платить Ирану ежегодную дань, но все же не допустила персов к побережью Средиземного и Черного морей. Неудачными для Юстиниана были войны на северных границах империи. Почти ежегодно через Дунай переправлялись и нападали на территорию Византии славяне, авары, гунны, тюрки-протоболгары, герулы, гепиды и другие варварские племена и народы. Особенно опасными для Византии были вторжения славян. Вторжение славян. До середины VI в. варвары, проникая через Дунайскую границу, либо уходили дальше на запад, либо возвращались с добычей за Дунай. Положение изменилось с середины VI в., когда решающей силой в этих вторжениях стали славянские племена. В VI в. славяне были ближайшими и наиболее опасными соседями Византии. Основной отраслью хозяйства славянских племен издавна было оседлое земледелие. Широкое распространение у них получило и скотоводство. Немалое значение в их хозяйственной жизни имели рыболовство, охота и бортничество. По данным археологии, у славян были развиты обработка металлов и гончарное производство с гончарным кругом. Многочисленные находки в славянских могильниках и поселениях римских монет и изделий свидетельствуют о развитии торговых связей с империей. В VI в. у славян происходит распад родовых связей. Основной хозяйственной и социальной единицей становится община, близкая, по-видимому, по своему характеру к германской земледельческой общине, переходящей затем к соседской общине-марке. У славян долго сохранялись большие семьи, или домашние общины (у южных славян они назывались задругами), существовало и рабство патриархального типа. Политический строй славян Прокопий Кесарийский характеризует чертами, присущими военной демократии. «Эти племена, склавины и анты, — пишет он, — не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии)...» Наиболее важные дела решались у славян на народных собраниях. Каждое племя имело своих вождей, называемых князьями. В VI—VII вв. у славян растет имущественная и социальная дифференциация. В процессе образования классов власть князей становится наследственной, усиливается влияние знати, а отдельные славянские племена объединяются в племенные союзы. В конце V — начале VI в. начались массовые вторжения славян в пределы Византийской империи. Особенно опасными нападения славян становятся в правление Юстиниана, когда они повторялись чуть ли не ежегодно. Славяне доходили почти до предместий Константинополя. При Юстиниане империя, хотя и с трудом, отбивала их нашествия. Но со второй половины VI в. внутреннее ослабление Византии открыло славянам и другим варварским племенам путь для новых вторжений и для поселения в пределах империи. Византия в конце VI—VII в. При преемниках Юстиниана истощенная длительными войнами и разоренная непосильными налогами империя вступает в полосу упадка. В конце VI — начале VII в. кризис рабовладельческого способа производства достиг в Византийской империи наибольшей остроты. В стране растет количество заброшенных земель, ухудшается агрикультура, разрушаются ирригационные сооружения. Растет крупное землевладение, основанное уже на эксплуатации зависимых земледельцев разных категорий. Широкое распространение получает патронат. В личной зависимости от крупных землевладельцев — патронов — оказываются не только отпускаемые на волю рабы, но и многие свободные земледельцы, т. е. все большее развитие получают формы хозяйства и общественных отношений, характерные для феодального общества. Втягивание в зависимость ранее свободных людей вызывало обострение классовой борьбы, особенно в восточных провинциях империи — в Сирии, Палестине, Египте. Широкий размах приобретает здесь движение «разбойников», беглых колонов, боровшихся в вооруженных отрядах со своими угнетателями. В 602 г. вспыхнуло восстание в армии, стоявшей на Дунае. Императором был провозглашен простой центурион (сотник) Фока, проводивший жестокий террор против крупной землевладельческой аристократии. В стране началась гражданская война, охватившая восточные провинции, в результате которой в 610 г. Фока был свергнут и казнен, а престол захватил представитель феодализирующейся провинциальной знати Ираклий (610—641). Экономический упадок, социально-политический кризис и гражданская война начала VII в. обусловили территориальные потери империи и облегчили проникновение на ее земли славян. В начале VII в. славяне уже заселили Фракию, Македонию, Грецию, Далмацию и Истрию. К середине VII в. славянские поселения покрывают почти всю территорию Балканского полуострова. В начале 80-х годов VII в. на северо-восточных границах Византии возникло первое крупное варварское (славянопротоболгарское) государство на Балканском полуострове — Болгария. Славяне переселялись и в Малую Азию. На Востоке императору Ираклию удалось разгромить персидскую державу (627). Но в середине 30-х годов VII в. Византии пришлось столкнуться с новым грозным врагом — арабами. С 636 по 642 г. арабы отвоевали у Византии богатые и плодородные восточные провинции (Сирию, Палестину, Верхнюю Месопотамию, Египет), а в конце VII в. захватили и владения Византии в Северной Африке. В Италии за Византией сохранились лишь Равеннский экзархат, часть Южной Италии (Калабрия и Апулия) и остров Сицилия. К этому времени территория Византии составляла менее трети тех земель, которые входили в империю при Юстиниане. Армения и Лазика стали независимыми от Византии. Изменился и этнический состав населения: значительная часть Балканского полуострова и некоторые местности Малой Азии были заселены славянами, в восточной части Малой Азии появились поселения армян, персов, сирийцев и арабов. Социально-экономические и политические изменения в Византии в VII—VIII вв. Вторжения славян и других варварских племен в сочетании с народными движениями, гражданская война начала VII в. способствовали дальнейшему сокращению крупного землевладения рабовладельческого типа. Большое значение приобрели теперь свободные сельские общины. Сохранившееся крупное землевладение все более перестраивалось на новой феодальной основе; сокращалось применение труда рабов и увеличивалось значение эксплуатации различных категорий зависимых земледельцев. Коренным образом меняется административное устройство Византийского государства. Старые диоцезы и провинции заменяются новыми военно-административными округами — фемами. Ядро их населения составили расселенные в Византии массы колонистов из славян, армян, сирийцев и представителей других племен. Из них, а также из свободных византийских крестьян создавалось в VIII в. особое воинское сословие стратиотов. За несение военной службы стратиоты получали от правительства в наследственное владение земельные наделы. Стратиотское землевладение стало привилегированным, освобожденным от всех налогов, кроме поземельного. Стратиоты составили главную силу фемного войска и основу фемного строя. Во главе фем стояли командиры фемного войска — стратиги, которые сосредоточивали в своих руках всю полноту военной и гражданской власти в фемах. Создание фемного строя означало известную децентрализацию государственного управления, которая была связана с феодализацией страны. Однако особенностью византийского государственного устройства по сравнению с большинством других раннефеодальных государств было сохранение и в этот период относительно сильной центральной власти. Византийские города в VII — первой половине IX в. переживали упадок. Потеря Византией восточных провинций неблагоприятно сказалась на состоянии городской экономики империи. Правда, в IX в. Византии удалось частично восстановить торговые связи с Востоком и укрепить торговлю с Франкским государством, особенно же со славянскими странами — Болгарией, сербскими и хорватскими землями, с Великоморавской державой и Русью (через Херсонес), с народами Закавказья, с Северной Африкой. Константинополь, Фессалоника, Трапезунд были крупными центрами ремесла и торговли. Однако большинство городов империи пришло в упадок, происходила общая натурализация хозяйства, центр тяжести экономики все более переносился из города в деревню. В византийской деревне в VIII — первой половине IX в. преобладала свободная сельская община. Ее разложение дало основу для формирования феодальных отношений. Это засвидетельствовано кодифицированным в VIII в. «Земледельческим законом». «Земледельческий закон», подобно варварским правдам, представляет собой запись обычного права. По его данным, свободная соседская община являлась верховным собственником земли. Пахотные земли, сады, виноградники находились в частном владении общинников. Луга, выгоны, леса и другие угодья оставались в общем пользовании. Община в целом платила налоги государству. В ней уже происходил процесс имущественной дифференциации: наряду с основной категорией свободных общинников — георгов — появляются неимущие бедняки — апоры, которые сдают свои участки в аренду более зажиточным общинникам либо бегут в чужие края. В деревне встречаются и наемные работники — мистии (главным образом пастухи) и рабы, которые используются как всей общиной, так и в отдельных хозяйствах зажиточных общинников. Но общинные отношения были еще настолько сильны, что «Земледельческий закон» не разрешал продавать землю не членам общины; ее можно было обменивать и сдавать в аренду лишь односельчанам. Община не только разлагалась изнутри, но и испытывала нажим извне — со стороны светских и духовных крупных землевладельцев, стремившихся захватить ее земли и подчинить общинников своей власти. Этот длительный и тяжелый процесс размывания общины, роста за ее счет крупного землевладения и вовлечения крестьян в феодальную зависимость — процесс феодализации — начинается в VII—VIII вв. и завершается в основном в XI в. В VIII — первой половине IX в. в империи начинается борьба за землю между военно-служилой фемной знатью, с одной стороны, и городской сановной аристократией и растущим церковномонастырским землевладением — с другой. Малоазийской фемной знати удается посадить на престол своего ставленника Льва III Исавра (717—741), основателя Исаврийской династии (717— 867). Опираясь на фемное войско, Лев III добивается коренного перелома в борьбе с арабами. Он успешно отражает в 718 г. натиск огромной армии арабского халифа, в течение года державшей в осаде Константинополь, а в 740 г. наносит сокрушительное поражение арабам. При сыне Льва III Константине V (741—775) византийцы сами вторгаются во владения Халифата в Сирии, доходят до берегов Евфрата и границ Армении. Успешные наступательные действия вели византийские войска и против своего северного соседа — Первого Болгарского царства. Иконоборческое движение. Военные успехи укрепили положение фемной знати, которая стала требовать передачи управления государством военно-служилому сословию, проведения частичной секуляризации монастырских земель и раздачи этих земель военным. Внутри господствующего класса начинается борьба за землю и право взимания ренты с крестьян, которая приняла форму борьбы иконоборчества с иконопочитанием. Желая подорвать идеологическое влияние высшего духовенства, иконоборцы выступили против почитания икон, называя его идолопоклонством. Иконоборческое движение возглавили сами императоры Исаврийской династии, выражавшие интересы военно-служилой фемной знати. В 726 г. император Лев III открыто выступил против почитания икон. Иконоборческие идеи нашли отклик и среди части народных масс, недовольных ростом монастырского землевладения. В народной среде иконоборческие идеи принимали более радикальный характер и поддерживались еретическими сектами, например сектой павликиан. Иконоборчество встретило самый ожесточенный отпор со стороны высшего духовенства и монашества. Фанатичному монашеству в европейских областях империи удалось поднять против иконоборцев и часть народных масс. Поддержку иконопочитателям оказали городская сановная знать и верхушка константинопольских торгово-ремесленных кругов, обеспокоенные усилением военного сословия. С особой силой борьба иконоборцев и иконопочитателей развернулась при императоре Константине V, который начал проводить конфискацию церковных сокровищ и секуляризацию монастырских земель. Эти земли передавались в виде пожалований военно-служилой знати. В 754 г. Константин V созвал церковный собор, осудивший иконопочитание и отстранивший от церковных должностей всех его сторонников. Эта победа была непрочной. В 787 г. на VII Вселенском соборе иконоборчество было осуждено. Но и иконопочитатели недолго торжествовали победу. В начале IX в. вновь временно победили их противники. Народные движения в VIII — первой половине IX в. Рост крупного феодального землевладения и наступление феодалов на свободное крестьянство привели к обострению классовой борьбы. Одним из наиболее значительных по своему размаху и по своим последствиям было народноеретическое движение павликиан. Оно возникло в конце VII в. в Армении, но особенно значительное распространение получило в VIII—IX вв. в Малой Азии. Павликиане требовали восстановления равенства, как в раннехристианских общинах, которое они понимали не только как равенство перед богом, но и как социальное равенство. Их религиозное учение носило дуалистический характер; мир представлялся им разделенным на два враждебных мира — царство бога и царство сатаны, на мир духовный и мир материальный. Господствующую церковь с ее богатством они относили к царству сатаны. Павликиане требовали упрощения богослужения, уничтожения церковной иерархии и почитания икон, ликвидации монашества. Требования павликиан нашли отклик среди народных масс империи. В 820 г. вспыхнуло антифеодальное восстание Фомы Славянина. Фома, военный командир в одной из малоазийских фем, провозгласил себя императором и выступил против центральной власти. Ядро восставших состояло из зависимого крестьянства, стратиотов, притесняемых военной знатью, и части городской бедноты. В восстании участвовали и рабы. Поддержку восстанию оказали павликиане и последователи других еретических течений. Восстание охватило большую часть Малой Азии. Когда затем Фома с большой и хорошо вооруженной армией переправился во Фракию и Македонию, его поддержало также славянское население империи. В течение года восставшие держали в осаде Константинополь. Однако правительству удалось подкупить и отколоть колеблющихся и значительно ослабить восставших. Для подавления восстания император использовал также военную помощь болгарского царя. Несмотря на героическое сопротивление, повстанцы были в 823 г. разбиты, Фома схвачен и после страшных пыток казнен. Восстание Фомы Славянина напугало господствующий класс и заставило его преодолеть раскол в своих рядах, вызванный иконоборчеством. Императрица Феодора, правившая в малолетство своего сына Михаила III (842—867), восстановила в 843 г. иконо-почитание. Однако большая часть земель, конфискованных у монастырей, осталась в руках военно-служилой знати. Примирение правительства и светской аристократии с монашеством сопровождалось жестокими преследованиями павликиан. Павликиане ответили на это восстанием (в середине IX в.). Центром его стала крепость Тефрика в Малой Азии, где они создали свою республику. Под знамена павликиан стекались толпы вооруженных крестьян, ремесленников, городской бедноты. В войсках восставших царила суровая дисциплина. Они не раз наносили поражение императорским армиям. Лишь ценою напряжения всех сил правительство смогло их разбить. В 872 г. крепость Тефрика пала. Однако павликианское движение в Малой Азии не прекращалось и после этого, а в X в. распространилось и на Балканы, где, слившись с еретическим движением крестьянских масс Болгарии, стало одной из составных частей богомильства. Итак, с IV по VII в. в Византии шел процесс разложения рабовладельческих отношений и зарождались первые элементы феодального строя. С VII в. в Византии начинается период генезиса феодализма. Своеобразие этого процесса в империи по сравнению со странами Западной Европы состояло в более длительном сохранении рабовладельческого уклада (в Византии в отличие от Запада в формировании класса зависимого крестьянства значительно большую роль сыграли унаследованные от рабовладельческого периода категории зависимых людей, в первую очередь рабы, рабский труд широко применялся в VII—IX вв. как в сельском хозяйстве, так и в ремесле), в устойчивости и жизнеспособности свободной сельской общины, крупных городов как центров ремесла и торговли. Дезурбанизация ощущалась в Византии VII — середины IX в. много слабее, чем на Западе. Наконец, важной особенностью генезиса феодализма в Византии было наличие там в эпоху раннего средневековья сильного централизованного государства. § 2. Византия во второй половине IX — середине XI в. Византийская деревня во второй половине IX — в X в. После разгрома восстания Фомы Славянина и подавления движения павликиан натиск феодализирующихся землевладельцев на общину усилился. Имущественное расслоение в деревне ускорилось. Часть разорившихся общинников уходила в города, становилась наемными работниками. Большинство же оставалось на месте, шло в кабалу к разбогатевшим соседям, продавало за бесценок им свои участки, уступало на них право собственности, селилось на чужой земле на положении зависимых (париков). Иногда целые деревни-общины попадали в зависимость от крупных землевладельцев. Динаты (т. е. могущественные люди, как стали называть богатых и влиятельных лиц) нередко самовольно захватывали общинные земли и насильно превращали бывших свободных общинников в своих париков. Аграрное законодательство императоров Македонской династии. Обедневшие свободные крестьяне были не в состоянии уплачивать налоги в казну. Приходилось и из стратиотских списков вычеркивать тех, кто, разорившись, не мог отбывать службу. Поэтому доходы государства от налогового обложения стали быстро сокращаться, а численность стратиотского ополчения уменьшаться, что не могло не беспокоить правительство. Стоявшая у власти высшая чиновная знать во главе с императором, богатевшая за счет выплат из казны, пыталась помешать упадку общинного землевладения и разорению крестьян-налогоплательщиков и воинов. Императоры Македонской династии (867—1056), отражавшие интересы этой знати, издали ряд законов (новелл) о земле. В начале 20-х годов X в. было восстановлено право общинников на первоочередную покупку земли своих односельчан. Затем такое же право общины получили на покупку и динатских земель. Проданные же до 30 лет назад крестьянские участки подлежали безвозмездному возвращению прежним собственникам или их наследникам. Но законы эти соблюдались плохо. Число париков неуклонно возрастало. В новелле 934 г. признавалось, что обезземеливание крестьян убыстрилось, что динаты, «презирая императорские законы», продолжают притеснять крестьян, «сгоняют их с собственных полей, вытесняют с принадлежащей им земли». В самих новеллах делались все большие уступки динатам. В конце 60-х годов у общин было отнято право на первоочередную покупку земли динатов. Внутри самой общины появились богачи, превращавшиеся в динатов. Оставаясь юридически общинниками, они использовали «право предпочтения» при покупке земли и порой превращали целые деревни в свои поместья. В 996 г. император Василий II объявил таких разбогатевших общинников динатами, незаконно захватившими земли соседей, и отменил срок давности: отныне общины имели право требовать возвращения своих земель независимо от времени, когда они эти земли потеряли. Но и эта последняя мера лишь временно затормозила разорение свободных крестьян-налогоплательщиков. В середине X в., стремясь помешать сокращению численности войска вследствие разорения стратиотов, императоры объявили участки стратиотов неотчуждаемыми. Способных отбывать воинскую службу крестьян внесли в особые списки. С крестьянского участка определенной ценности выставлялся воин-всадник, с участка несколько меньшей ценности — воин-моряк или пехотинец. Если участок дробился, воина вооружали совладельцы в складчину. Но процесс феодализации не прекратился. Большинство стратиотов растворялось в остальной массе крестьянства, становясь либо невоеннообязанными налогоплательщиками, либо париками. Лишь малая часть стратиотов превращалась в динатов. Социальный состав армии изменялся. Возрастала роль тяжеловооруженной конницы в качестве ядра армии. Повышалась стоимость вооружения конного воина, а вместе с нею — и стоимость участка, с которого выставлялся всадник. Владелец такого участка уже резко выделялся среди крестьян: он являлся, в сущности, мелким вотчинником. Таких стратиотов в X в. было, однако, еще немного. Опасаясь усиления военной знати в провинциях, императоры продолжали созывать терявшие боеспособность крестьянские ополчения и все чаще прибегали к услугам наемников — норманнов, русских, армян, грузин, арабов и др. Категории сельского населения. Сложившееся в VIII—XI вв. крупное землевладение являлось землевладением нового, феодального типа. Оно было основано на труде зависимого держателя — парика, пришедшего на смену рабу, колону, полусвободному арендатору. В XI в. значительная часть крестьян превратилась в наследственных зависимых держателей земли, принадлежавшей крупным феодальным землевладельцам. На положение париков переводили и наемных работников, и рабов. Труд рабов в X в. еще использовали в крупных поместьях, особенно в качестве пастухов, но в XI в. они уже не играли почти никакой роли в сельском хозяйстве. Парики всех категорий в IX—XI вв. еще не были прикреплены к земле. Юридически они признавались свободными и полноправными подданными, фактически их свобода была резко ограничена как государством, так и землевладельцем. Господствующим видом ренты была продуктовая, но возрастала также роль отработочной. Если феодал получал от императора право оставлять себе, а не сдавать в казну налоги, собранные с париков его имений, эти налоги фактически превращались в денежную ренту. Много крупных имений принадлежало в то время императорской семье и правительственным учреждениям. Зависимых крестьян таких имений называли государственными париками. Они платили ренту продуктами и налоги в казну. Феодальная рента в 2—3 раза превышала размеры государственных налогов. Однако нелегкой была и участь свободных налогоплательщиков. В XI в. государство, взимавшее налоги в денежной форме, резко усилило налоговый гнет. Крестьяне платили синдну — ее долго взыскивали натурой, а с конца X в. стали переводить на деньги — и капникон (подворный денежный взнос), взимавшийся даже с безземельных. Кроме того, существовало множество иных поборов и пошлин, нерегулярных и регулярных, на все виды собственности и доходы крестьян. Привлекали крестьян и к разного рода отработкам в пользу казны. Но главным бедствием был не столько податной гнет, сколько чиновный произвол при исчислении и взыскании государственных налогов. В X—XI вв. императоры щедро одаривали церковь и монастыри, а также угодных им сановников землей из императорского домена и деревнями с государственными париками. Все чаще они стали практиковать и раздачу солёмниев, т. е. пожалований, получателям прав взыскивать в свою пользу все или часть казенных налогов с сел или округов. Уже в XI в. появился особый вид солемния — пожалование на срок жизни в награду за службу налогов с определенной территории с правом управлять этой территорией. Этот вид пожалования назывался иронией. Полное развитие он получил в XII в. (см. гл. 17). К концу XI — началу XII в. в Византии, несколько позже, чем в Западной Европе, завершилось оформление основ феодальных отношений и становление основных классов и институтов феодального общества. Феодальный город в Византии. «Книга эпарха». С середины IX в. начался подъем византийских городов, происходивший уже на новой основе: большинство их населения составляли свободные мелкие производители-ремесленники, обладавшие своим инструментарием и самостоятельно трудившиеся в мастерских-лавках. Значительно возросло производство ремесленных изделий, улучшилось их качество, расширилась внутренняя и внешняя торговля. Увеличилось количество денег в обращении. Крупнейшую роль в торговле с южнославянскими странами, Востоком и Западной Европой играла в X—XI вв. Фессалоника. Возросло значение Коринфа, Фив, Адрианополя, а в Малой Азии — Никеи, Эфеса, Амастриды, Трапезунда. Самым крупным и многолюдным городом оставалась столица — Константинополь, важнейший торговый центр всего европейского средневековья, главный посредник в связях между Европой и Азией, надежно защищенный узел мировых торговых связей. О формах организации ремесла и торговли в Константинополе сообщает важный памятник X в. «Книга эпарха» — сборник постановлений эпарха, сановника, возглавляющего городское управление. Лица, занимавшиеся важнейшими видами ремесла и торговли, были объединены в корпорации — профессиональные организации, пользовавшиеся рядом льгот и защитой властей. Не объединенные в корпорации ремесленники и торговцы могли заниматься своим делом лишь в том случае, когда они не составляли корпорациям конкуренции. Наибольшие привилегии имели корпорации торговцев, а не ремесленников. Состоятельные мастера использовали труд наемных работников — мистиев, а также рабов. Корпорации находились в полной зависимости от государственной власти; она обеспечивала их крупными заказами на вооружение и снаряжение армии и флота, на убранство дворцов, роскошные одежды, драгоценную утварь церквей. Государство осуществляло над корпорациями мелочный, придирчивый контроль. Масштабы производства, размеры мастерской, запасы сырья, место и время торговли определялись не корпорациями, а специальными чиновниками городского эпарха и обусловливались интересами государственной казны. Константинопольские ремесленники и торговые корпорации были генетически связаны с позднеримскими коллегиями и существенно отличались от возникших позднее западноевропейских цехов (см. гл. 7). Государственный аппарат. Всемерное укрепление центральной власти — таков был путь развития системы управления империей в X—XI вв. Сложилась громоздкая иерархия должностей. Количество ведомств достигло шестидесяти. Важнейшим из них было налоговое. Большую роль играло ведомство государственной почты и внешних сношений, славившееся искусством дипломатии, а также обеспечивавшее разведку за границами империи и тайный сыск внутри страны. Каждому должностному лицу присваивался титул. Иерархия титулов была узаконена особой табелью о рангах. Помимо высших чиновников, возглавлявших ведомства, крупные должностные лица, располагавшие многочисленным штатом, имелись и в императорском дворце. В руках придворных сановников сосредоточивалась иногда огромная власть. Подчас они оказывались в роли всесильных временщиков при слабых императорах. Императорский синклит был всецело подчинен главе империи, но его значение в определении внутренней и внешней политики возрастало в кризисных ситуациях, во время междоусобий. С середины IX до конца XI в. в синклите преобладала чиновная знать. Церковь в Византии во второй половине IX—XI в. Влияние церкви на общественную жизнь Византии в этот период снова значительно усилилось. Союз церкви с государством отличался здесь особой прочностью; церковь при этом находилась в подчинении у центральной власти. Патриарх не являлся, подобно папе, главой светского государства, да и выборы его целиком зависели от воли императора. Епископы не имели личных владений. Доходы церкви определялись в основном милостью императора. Имевшие силу обычая «добровольные» приношения населения лишь в конце X в. были узаконены государством как церковный налог (каноникон), уплачивавшийся подворно деньгами и натурой. Монашество в Византии было несравненно более многочисленным, чем на Западе. На землях империи имелось множество крупных, средних и мельчайших монастырей. Мистические настроения были широко распространены среди угнетенных, и немало крестьян укрывалось в монастырях от безотрадной действительности. Но монахи-крестьяне попадали в разряд низшей братии, неустанно трудившейся на монастырской земле и мало отличавшейся от париков. Особенно быстро монастыри росли в XI—XII вв. Каждый император, видный сановник, полководец и церковный иерарх возводил свой монастырь, наделяя его богатыми владениями. Крупнейшие монастыри (Студийский в столице и монастыри Афона) активно вмешивались в политику. Соперничавшие за власть группировки господствующего класса искали поддержки монашеских кругов. Официально христианская церковь считалась единой. Фактически это единство стало фикцией уже во время варварских вторжений в Западную Римскую империю, и особенно с момента образования светского государства пап в VIII в. Соперничество римской и византийской церквей обострилось во второй половине IX в.: византийские миссионеры Кирилл и Мефодий успешно действовали в Великой Моравии; Болгария приняла христианство по восточному образцу, обманув все ожидания папства; церковное влияние Византии нарастало в Сербии; столетие спустя эмиссары папы потерпели неудачу и на Руси — великого князя киевского Владимира крестили византийские священники. В середине XI в. усилившееся папство, пользуясь ослаблением византийской власти в Южной Италии, подчинило ее своему церковному главенству, вызвав резкий протест патриарха. Летом 1054 г. папские послы (легаты), прибыв в Константинополь, потребовали восстановить «законные права» папства в Иллирии и Болгарии. Их требование было отвергнуто, и легаты провозгласили анафему константинопольскому патриарху. Таким же был и ответ патриарха. Произошел официальный разрыв церквей — «схизма» (см. гл. 10). Внешняя политика Византии во второй половине IX — середине XI в. Основатель Македонской династии Василий I (867— 886) временно упрочил внешнеполитическое положение империи. Было отражено наступление арабов. Однако вскоре после его смерти арабы и болгары стали снова теснить Византию. В конце IX — начале X в. арабы овладели почти всей Сицилией и угрожали византийским владениям в Южной Италии. Захватили они и Кипр. Крит же стал гнездом арабских пиратов, разорявших острова и побережья. В 904 г. арабы разграбили Фессалонику. Не менее жестокими были поражения Византии в борьбе с усилившейся Болгарией. Война с болгарами длилась почти 30 лет. Неудачи империи в войнах с арабами и болгарами были следствием глубоких социальных сдвигов. Стратиотское ополчение с развитием феодализации сходило со сцены. Феодальная конница еще не стала основой армии, а наемное войско было слишком малочисленным. Международное положение Византии стало улучшаться с середины X в. В значительной мере это объяснялось ослаблением Болгарии и распадом арабского Багдадского халифата на ряд феодальных государств. Византия отвоевала у арабов Верхнюю Месопотамию, часть Малой Азии и значительную часть Сирии; вернула империя также Крит и Кипр. Влияние Византии вновь распространилось на Армению и Грузию. Дальнейшее усиление Византии позволило ей начать систематическое наступление на Болгарию. Византийский император, энергичный и жестокий Василий II «Болгаробойца» (976—1025), пользуясь относительным спокойствием на восточных границах, стянул против болгар огромные силы. Использовал он и предательство части болгарских феодалов. В 1018 г. Болгария была завоевана, и снова весь Балканский полуостров до Дуная оказался под властью Византийской империи. Однако с 30-х годов XI в. раздираемая внутренними смутами империя перешла к обороне. Границы ее стали сокращаться. На восточные провинции наступали новые враги — турки-сельджуки, в балканские владения хлынули из причерноморских степей полчища печенегов, набеги которых становились все более опасными. Русско-византийские отношения в IX—XI вв. С древними ру-сами византийцы сталкивались уже на рубеже VIII—IX вв. Известно о нападении русских на византийские владения в Крыму (Херсон) и на Южное побережье Черного моря уже в первые десятилетия IX в. В 860 г. отряды русов, неожиданно прибыв по морю на небольших судах, осадили Константинополь с суши и моря. Столкновение завершилось мирным соглашением. Начались регулярные русско-византийские связи. Однако на рубеже IX—X вв. произошел разрыв. Летом 907 г. русские снова появились на Босфоре, прибыв на этот раз и по суше и по морю, и разорили окрестности Константинополя. Византия была вынуждена согласиться на выгодный для русских договор о торговле, подписанный в 911 г. Завязались регулярные торговые сношения. «Великий путь из варяг в греки» уже в первой половине X в. был хорошо известен византийцам. В 941 г. князь Игорь совершил новый поход на Византию. Русский флот опустошил побережье Босфора, Никомидии и Пафлагонии, но под Константинополем был разбит с помощью «греческого огня» (выбрасывавшейся из труб горючей смеси). Через три года войска Игоря снова дошли до Дуная и империя поспешила возобновить торговый договор с Русью. Князь Святослав вмешался в византийско-болгарскую борьбу и совершил два похода на Балканы. В 969 и 970 гг. в союзе с болгарами он разорил Северную Фракию, но в 971 г. императору Иоанну I Цимисхию удалось вытеснить Святослава из Болгарии. Мир был возобновлен. Во время мятежа малоазийской феодальной знати против Василия II киевский князь Владимир прислал русский отряд. Условием помощи было согласие императора выдать за Владимира свою сестру Анну. Русские помогли подавить мятеж, но Василий II не спешил выполнить обещание. Владимир принудил его к этому, взяв Херсон и вернув город только после выполнения (в 988 г.) условия договора. Тогда же на Руси было принято христианство из Византии, вместе с которым на Русь пришли и элементы более высокой византийской культуры. Из Болгарии и Византии ввозились сначала богослужебные, а затем и светские книги, приезжали и жили на Руси живописцы и зодчие. Последний поход русских на Константинополь в 1043 г. тоже был связан с защитой торговых интересов русской знати. Поход кончился неудачей: флот русских был разбит бурей и сожжен «греческим огнем». Конфликт вскоре был улажен. В 1047 г. русский отряд уже помогал Константину IX Мономаху (1042—1055) подавить мятеж феодалов. Затем дочь Мономаха была выдана замуж за князя Всеволода — сына великого князя киевского Ярослава Мудрого. Классовая борьба в Византии в X—XI вв. Классовая борьба в указанный период стала приобретать узкий, местный характер. Феодально зависимое крестьянство оказалось раздробленным и разобщенным. Его разновременные непродолжительные выступления не могли слиться в широкое движение. Крупным для этого времени можно считать восстание 932 г. в феме Опсикий в Малой Азии. Восставшие захватили крепость и стали совершать нападения на владения феодалов. Возглавлял восстание Василий по прозвищу «Медная Рука». Хронисты сообщают, что правую руку ему отрубил палач за участие в одном из предшествующих восстаний. Василий приделал себе медную руку, к которой был прикреплен меч. Восставшие были осаждены и схвачены правительственными войсками. Василий Медная Рука был сожжен на одной из площадей Константинополя. В X—XI вв. часто вспыхивали городские восстания. Главной их причиной были налоговый гнет и произвол чиновников. Крупнейшим было восстание в Константинополе весной 1042 г. Восставшие захватили часть императорского дворца и уничтожили налоговые списки. Гораздо большими масштабами, длительностью и упорством отличались в это время восстания в окраинных фемах империи, населенных негреками (Италия, Болгария, Армения, Киликия). Народноосвободительные по своей основе, эти движения носили одновременно и антифеодальный характер. Таким, например, было крупнейшее в XI в. восстание славянских западных фем в 1040—1041 гг. под руководством болгарина Петра Деляна. Оно охватило большую территорию на Балканах. Борьба внутри господствующего класса. Усилившаяся в X в. военно-служилая земледельческая знать Малой Азии в начале правления Василия II сделала попытку отнять трон у чиновной аристократии. Подняв мятеж, она двинулась на Константинополь. Василий II срочно отзывал войска со всех концов империи, обратившись за помощью даже на Русь. Мятеж был подавлен с огромным трудом, но борьба внутри господствующего класса вскоре возобновилась с новой силой. Оформление основ феодальных отношений в Византии завершалось, обусловив усиление феодалов и ослабление центральной власти. Частые феодальные междоусобия в середине XI в. подорвали военные силы империи. В 1071 г. турки-сельджуки разгромили византийскую армию при Манцикерте (в Армении). Император Роман IV Диоген (1067—1071) попал в плен. Турки овладели почти всей Малой Азией и Арменией. В этом же году в Италии норманны захватили последний принадлежавший здесь Византии город— Бари (в Апулии). Последовал новый этап ожесточенных феодальных междоусобий в борьбе за власть, завершившийся в 1081 г. победой военной служилой землевладельческой знати, посадившей на императорский трон основателя новой династии Алексея I Комни-на (1081 — 1118). Глава 6. Западная Европа в конце раннего средневековья § 1. Основные черты феодального строя Западной Европы к концу XI в. Утверждение феодального строя в странах Западной Европы в IX— XI вв. В большинстве государств Западной Европы завершается процесс формирования феодальных отношений. В одних странах, например в Италии и Франции, феодальный строй в основных чертах сложился уже в X в.; в Англии и Византии этот процесс завершился в основном только к концу XI в., в Германии еще позднее — к началу XII в. Еще медленнее шла феодализация в Скандинавских странах. Но к концу XI в. феодальные производственные отношения господствовали в большинстве стран Западной Европы и в Византии. При всем своеобразии развития отдельных стран Западной Европы отчетливо выступают общие черты, характерные для сложившегося феодального способа производства. Господствует феодальная земельная собственность в виде вотчины в сочетании с мелким индивидуальным крестьянским хозяйством. Основная масса крестьян находится уже в той или иной форме зависимости от землевладельца и подвергается тяжелой эксплуатации с его стороны. Эта эксплуатация выражается в феодальной ренте и осуществляется с помощью различных средств внеэкономического принуждения. Ранее свободная сельская община превращается к этому времени в зависимую общину, а традиционные формы общинного землепользования заимствуются феодалами для организации эксплуатации крестьянства. В Византии, хотя вотчины отдельных феодалов также приобретают все более заметное место, большую роль продолжает играть еще государственная собственность и лично свободные и полусвободные категории крестьянства. На раннем этапе развития феодализма господствовало натуральное хозяйство; обмен был незначителен, торговые связи не развиты; ремесло еще только начинало отделяться от сельского хозяйства. В западноевропейских странах у лично зависимых крестьян, особенно в крупных поместьях, преобладала отработочная рента и связанная с ней барщинная система хозяйства. Широко распространяется также натуральный оброк с крестьян, находившихся в более легкой зависимости. Денежная рента была развита еще слабо. Мелкое крестьянское хозяйство, хотя и подвергалось эксплуатации со стороны феодала, было, однако, более производительным, чем крупное рабовладельческое хозяйство или то, что было при первобытнообщинном строе. Установление феодальных отношений в Европе в IX — XI вв. в целом привело к подъему экономики и скачку в развитии производительных сил (см. гл. 19). Развивалось ремесло, постепенно отделяясь от сельскохозяйственных занятий, и обмен, возрождались на новой феодальной основе пришедшие в упадок римские города, возникали новые предгород-ские поселения, рыночные центры, порты для морской торговли как в Южной, так и в Северной Европе (см. гл. 7). Характерной чертой социально-политических отношений, сложившихся в Европе к середине XI в., была неразрывная связь между феодальной собственностью на землю и политической властью феодала. Крупная вотчина представляла собой не только хозяйственную единицу, но и как бы маленькое независимое государство — сеньорию. По отношению к населению своих владений феодал был не только землевладельцем, но и государем — сеньором, в руках которого находился суд, администрация, военные и политические силы. Такая организация общества обусловила господство в Европе в X—XI вв. (в некоторых странах и позже) политической раздробленности. Основные классы феодального общества. Крестьянство. В большинстве стран Западной Европы и в Византии в XI в. общество уже делилось на два антагонистических класса: класс землевладельцевфеодалов и класс феодально зависимых крестьян. В наиболее тяжелом положении повсеместно находились лично зависимые крестьяне, в некоторых странах (например, во Франции) уже в X—XI вв. составлявшие значительную часть крестьянства. Они зависели от своего сеньора и в личном, и в поземельном, и в судебно-административном отношении и подвергались особенно тяжелой эксплуатации. Таких крестьян можно было отчуждать (обычно только вместе с землей); они были стеснены в распоряжении своим наследственным наделом и даже своей движимостью, которые считались собственностью феодала. Кроме того, такие крестьяне выполняли и ряд унизительных повинностей и облагались платежами, подчеркивавшими их личную зависимость. В категорию таких крестьян постепенно вливались и бывшие рабы. В ряде стран этот наиболее зависимый слой крестьянства именовался сервами, хотя они уже не были рабами в античном значении этого слова. Несколько легче было положение лично свободных крестьян, находившихся, однако, в поземельной и судебной зависимости от своих сеньоров. В целом по Западной Европе они составляли весьма значительную часть крестьянства. Они могли более свободно распоряжаться своей движимостью, а иногда и земельным наделом с согласия феодала, однако также платили ему высокие ренты. В некоторых странах (Англии, Германии, на юге Франции, в Италии) сохранялся в IX—XI вв. еще небольшой слой свободных крестьян — земельных собственников аллодиального типа, зависимость которых от сеньора носила в первую очередь судебный и политический характер. Класс феодалов. Феодальная иерархия. Отношения между отдельными представителями класса феодалов в государствах Западной Европы строились по принципу так называемой феодальной иерархии («лестницы»). На ее вершине находился король, считавшийся верховным сеньором всех феодалов, их сюзереном — главой феодальной иерархии. Ниже его стояли крупнейшие светские и духовные феодалы, державшие свои земли — нередко большие области — непосредственно от короля. Это была титулованная знать: герцоги, а также высшие представители клира, графы, архиепископы, епископы и аббаты крупнейших монастырей, державшие земли от короля. Формально они подчинялись королю как его вассалы, но фактически были почти независимы от него: имели право вести войны, чеканить монету, иногда осуществлять высшую юрисдикцию в своих владениях. Их вассалы — обычно тоже весьма крупные землевладельцы, — носившие часто название баронов, были рангом ниже, но и они пользовались в своих владениях определенной политической властью. Ниже баронов стояли более мелкие феодалы — рыцари — низшие представители господствующего класса, у которых не всегда были вассалы. В IX — начале XI в. термин «рыцарь» (miles) обозначал просто воина, несшего вассальную, обычно конную военную службу своему сеньору (немецкое — Ritter, от которого происходит русское «рыцарь»). Позднее, в XI—XII в., по мере укрепления феодального строя и консолидации класса феодалов, он приобретает более широкое значение, становится, с одной стороны, синонимом знатности, «благородства» по отношению к простолюдинам, с другой — принадлежности к военному сословию в отличие от духовных феодалов. В подчинении у рыцарей обычно были только крестьяне-держатели, не входившие в феодальную иерархию. Каждый феодал был сеньором по отношению к нижестоящему феодалу, если тот держал от него землю, и вассалом вышестоящего феодала, держателем которого он сам являлся. Феодалы, стоявшие на низших ступенях феодальной лестницы, как правило, не подчинялись феодалам, вассалами которых являлись их непосредственные сеньоры. Во всех странах Западной Европы (кроме Англии) отношения внутри феодальной иерархии регулировались правилом «вассал моего вассала — не мой вассал». Среди церковных феодалов также существовала своя иерархия по рангу занимаемых ими должностей (от папы римского до приходских священников). Многие из них одновременно могли быть вассалами светских феодалов по своим земельным владениям, и наоборот. Основой и обеспечением вассальных отношений являлось феодальное земельное владение — феод, или по-немецки лен, которое вассал держал от своего сеньора (см. гл. 4). В качестве специфического военного держания феод считался привилегированным, «благородным» владением, которое могло находиться только в руках представителей господствующего класса. Собственником феода считался не только его непосредственный держатель — вассал, но и сеньор, от которого вассал держал землю, и ряд Других вышестоящих по иерархической лестнице сеньоров. Иерархия внутри класса феодалов определялась, таким образом, условной и иерархической структурой феодальной земельной собственности. Но оформлялась она в виде личных договорных отношений покровительства и верности между сеньором и вассалом. Передача феода вассалу — ввод во владение — носила название инвеституры. Акту инвеституры сопутствовала торжественная церемония вступления в вассальную зависимость — принесение оммажа (hommage — от французского слова 1'homme — человек), — во время которой феодал, вступающий в вассальную зависимость от другого феодала, публично признавал себя его «человеком». При этом он приносил клятву верности сеньору. У французов она называлась «фуа» (по-французски foi — верность) . Западная Европа в конце IX — начале XI в. 1 — завоевания арабов, 2 — Великоморавское государство в конце IX в, 3 — Первое Болгарское царство в конце IX в, 4 — Германская империя в X в, 5 — границы крупнейших феодальных владений ок 1000 г, б — область «Датского права» Набеги 7 — венгров, 8 — норманнов, 9 — арабов Помимо основной обязанности нести в пользу сеньора и по его призыву военную службу (обычно 40 дней в течение года) вассал должен был никогда ничего не предпринимать ему во вред и по требованию сеньора защищать своими силами его владения, участвовать в его судебной курии и в известных случаях, определенных феодальным обычаем, оказывать ему денежную помощь: на принятие рыцарского звания его старшим сыном, при выдаче замуж его дочерей, при выкупе из плена. Сеньор в свою очередь обязан был защищать вассала в случае нападения врагов и оказывать ему помощь в других затруднительных случаях — быть опекуном его малолетних наследников, защитником его вдовы и дочерей. Вследствие запутанности вассальных отношений и частого несоблюдения вассальных обязательств конфликты на этой почве были в IX—XI вв. обычным явлением. Война считалась законным способом решения всех споров между феодалами. Однако с первой половины XI в. церковь, хотя и не всегда успешно, пыталась ослабить военные конфликты, пропагандируя идею «божьего мира» как альтернативу войне. От междоусобных войн больше всего страдали крестьяне, поля которых вытаптывались, деревни сжигались и опустошались при каждом очередном столкновении их сеньора с его многочисленными врагами. Иерархическая организация, несмотря на частые конфликты внутри господствующего класса, связывала и объединяла всех его членов в привилегированный слой. В условиях политической раздробленности IX—XI вв. и отсутствия сильного центрального государственного аппарата только феодальная иерархия могла обеспечить отдельным феодалам возможность усиленной эксплуатации крестьянства и подавления крестьянских выступлений. Перед лицом последних феодалы неизменно действовали единодушно, забывая свои распри. Быт и нравы феодалов. Главным занятием феодалов, особенно в этот ранний период, была война и сопутствующий ей грабеж. Любимыми их развлечениями были охота, конные состязания, турниры. В X—XI вв. Европа покрылась замками. Замок — обычное жилище феодала — одновременно был крепостью, его убежищем и от внешних врагов, и от соседей-феодалов, и от восставших крестьян. Он являлся центром политической, судебной, административной и военной власти феодала, позволяя ему господствовать над близлежащей округой и держать в подчинении все ее население. Замки строились обычно на холме или на высоком берегу реки, откуда хорошо обозревалась окрестность и где легче было обороняться от врага. Средневековый замок (Шато-Гаияр, Франция). Типичный феодальный замок XII в Расположенный на высоком холме недалеко от Сены, Шато-Гайяр был в свое время практически неприступен. В центре замка находится высокая башня — донжон (1), место пребывания сеньора и его семьи. Внутренний двор (2) также окружен высокой стеной с башней и рвом Во внешнем дворе (3) и отдельно стоящей «вспомогательной крепости» (4) размещались различные постройки, церковь (5) Здесь проживало основное население замка — дружина и челядь феодала. Дорогу к Сене прикрывало предмостное укрепление (6) До конца X в. замки представляли собой чаще всего двухэтажную деревянную башню, в верхнем этаже которой жил феодал, а в нижнем — дружина и слуги. Здесь же или в пристройках находились склады оружия, провианта, помещения для скота и т. п. Замок окружался валом и рвом, наполненным водой. Через ров перебрасывался подъемный мост. Приблизительно с начала XI в. феодалы стали строить замки из камня, окруженные обычно двумя или даже тремя высокими стенами с бойницами и башнями по углам. В центре по-прежнему возвышалась главная многоэтажная башня — «донжон». Подземелья таких башен часто служили тюрьмой, где в цепях томились пленники, непокорные вассалы и провинившиеся в чем-либо крестьяне. Обычно замок сдавался врагу лишь в результате многомесячной осады. Мелкие феодалы, не имевшие средств для возведения столь мощных сооружений, старались укрепить свои жилища крепкими стенами и сторожевыми башнями. Основным видом войск в Европе X — XI вв. становится тяжеловооруженная конница. Каждый феодал обязан был своему сеньору конной военной службой. Главным оружием рыцаря в то время был меч с крестообразной рукоятью и длинное тяжелое копье. Он пользовался также палицей и боевым топором (секирой); для защиты от врага служили кольчуга и щит, шлем с металлической решетчатой пластиной — забралом. Позже, в XII—XIII вв., появились рыцарские латы. Проводившие всю свою жизнь в войнах, насилиях и грабежах, презиравшие физический труд феодалы, особенно светские, были невежественными, грубыми и жестокими. Выше всего они ценили физическую силу, ловкость, отвагу в бою и щедрость в отношении своих слуг и вассалов, в которой видели проявление своего могущества и прирожденного благородства в отличие от презираемых или «скаредных», по их мнению, мужиков и горожан. Идеализированный кодекс «рыцарского» поведения, рисующий рыцаря как благородного защитника слабых и обиженных, сложился в феодальной Европе значительно позднее — в XII—XIII вв. (см. гл. 21). Но и тогда он мало соответствовал действительному облику феодала-рыцаря, оставаясь для большинства лишь недостижимым идеалом. С грубым рыцаремварваром раннего средневековья этот идеал тем более не имел ничего общего. Быт и повседневная жизнь крестьян. Крестьяне были к XI в. почти полностью отстранены от военной службы, что являлось признаком их неполноправия. Уделом их был тяжелый сельскохозяйственный труд, кормивший, по существу, все общество. Крестьяне жили в деревнях, расположенных часто под стенами замка, в центре которых обычно находилась церковь. Деревни в зависимости от географических условий могли быть большие и малые, кое-где, особенно в горных районах, преобладали хутора. Дома, смотря по наличию строительных материалов, могли быть деревянными или из древесных каркасов, наполненных и обмазанных глиной, каменными (особенно на юге); иногда это были небольшие хижины или землянки. В домах было тесно и грязно, зимой холодно. Многие дома топились «по-черному» или согревались с помощью открытого очага, часто в доме находилась и скотина, иногда на усадьбе жило несколько семей. Нередкими были неурожаи и голод, падеж скота и эпидемии. Особенно высока была детская смертность. Однако и в трудной жизни крестьян были свои радости: праздники, многие из которых восходили к языческим временам, но были приурочены церковью к христианским праздникам — Рождества, Пасхи, Духова дня, Троицы и др. Тогда, например в день отмечавшегося почти повсеместно в Европе весеннего праздника «Майского дерева», водились хороводы, распевались народные песни, от дома к дому ходили ряженые с «колядками». С жизнью крестьян было связано большинство фольклорных традиций, зародившихся в раннее средневековье, а порой в еще более далеком прошлом: народные песни, пляски, сказки, пословицы, поговорки. В этой народной культуре проявлялась в раннее средневековье духовная жизнь в большинстве своем неграмотного крестьянства. Между замком феодала и крестьянской деревней отношения складывались противоречиво. С одной стороны, в повседневной жизни между ними существовали взаимная вражда и недоверие. Но с другой стороны, крестьяне зачастую видели в своем сеньоре покровителя и защитника от насилий других феодалов, спасались от них в стенах его замка. Там же собирались они иногда, чтобы посмотреть на рыцарские турниры, послушать заезжего жонглера (скомороха) или певца. Большую роль в жизни крестьян играла приходская церковь, также удовлетворявшая духовные потребности крестьян, мировосприятие которых пронизывала религиозность. Но кроме того, церковь — самое крупное здание деревни — являлась для ее населения центром общественной жизни: местом собраний, хранилищем ценностей, убежищем в случае вражеских набегов. § 2. Франция в IX—XI вв. Возникновение Французского королевства. Начало Французскому королевству положил Верденский договор 843 г., по которому франкское государство было поделено между сыновьями Людовика Благочестивого (см. гл. 4). После смерти Лотаря в 855 г. его королевство распалось: старшему из его сыновей, Людовику, унаследовавшему императорский титул, досталось королевство Италия, второму, Карлу, — Юго-Восточная Галлия, составившая королевство Прованс (в дальнейшем Бургундия, или Арелат), младшему, Лотарю, — области между Северным морем и Вогезами — так называемая Лотарингия (впоследствии это название закрепилось лишь за землями в верховьях Мааса и Мозеля). Территория бывшего Франкского государства продолжала мыслиться как общее достояние потомков Карла Великого, поэтому смерть кого-то из них, как правило, влекла за собой перекройку границ, временные объединения и новые разделы. Чаще всего яблоком раздора становилась Лотарингия — средоточие родовых поместий Каролингов, где своя династия не сложилась. Поделенная в 870 г. между Карлом Лысым и Людовиком Немецким по Мерсенскому договору, она вскоре была восстановлена в прежних границах и в течение нескольких десятилетий переходила из рук в руки, но в конце концов вошла в состав Восточно-Франкского королевства на правах племенного герцогства. Западно-Франкское королевство, или, как оно стало со временем называться, Франция, вернулось к границам 843 г. и оставалось в их пределах до конца XIII в. В этническом отношении Французское королевство представляло собой довольно сложное образование. На крайнем юго-западе страны, в Гаскони, проживали баски, на крайнем северо-западе, в Бретани, — кельты, на севере, во Фландрии, — германоязычные фламандцы. В начале X в. земли в низовьях Сены захватили норманны. Остальная территория была романоязычной, но занимали ее две народности: северофранцузская и южнофранцузская, или провансальская. Условная граница между ними проходила примерно по линии Пуатье — Лион. Население Испанской марки в основном составляли близкие по языку и культуре к провансальцам предки нынешних каталонцев. Центр политической жизни королевства традиционно находился на северо-востоке страны. Постоянной столицы еще не было, королевский двор переезжал с места на место, чаще всего задерживаясь в Лане, а с конца X в. — в Париже. Управление удаленными областями было возложено на графов (comites) и их заместителей — виконтов (vicecomites). До середины IX в. они оставались государственными чиновниками; борясь с сепаратизмом и местничеством, Каролинги старались назначать их наместниками в те районы, где у тех не было имений, и при этом почаще менять их местами, но иногда (особенно на юге) были вынуждены привлекать к управлению и старую местную аристократию. Другим средством держать графов и виконтов в узде служили периодические наезды из центра так называемых государевых посланцев — ревизоров, третейских судей, глашатаев и т. д. Однако по мере того как графы и виконты обзаводились на вверенных им территориях вассалами и землями (в первую очередь благодаря установлению родственных связей с местной знатью), они все больше превращались из простых исполнителей монаршей воли в наделенных публичной властью феодалов. Постепенное врастание их в формирующиеся на местах феодальные структуры, наряду с расширяющейся практикой раздачи иммунитетных привилегий, затрудняло деятельность государевых посланцев, подрывало основы той относительно централизованной государственности, которая существовала при Карле Великом и Людовике Благочестивом. Отправляясь в 877 г. в поход за Альпы, Карл Лысый был вынужден согласиться на то, чтобы должности и другие бенефиции тех его вассалов, которые не вернутся из похода, наследовали их сыновья. Закрепивший это решение Кьерсий-ский капитулярий оказался важным шагом на пути признания наследственного характера государственных должностей и других государевых пожалований. Принцип наследственности бенефициев (принятие которого знаменовало превращение их в феоды) утверждался постепенно и стал само собой разумеющимся лишь к концу X в. С конца IX в. династия Каролингов правила лишь номинально. Реальная власть находилась в этот период в руках кого-либо из наиболее влиятельных северофранцузских феодалов, обычно графа Парижского из рода Робертинов, отличившихся в борьбе с норманнами. С пресечением в 987 г. династии Каролингов магнаты возвели на трон представителя именно этого рода, к тому времени также несколько утратившего былое могущество, — Гуго Капета (такое прозвище было ему дано по названию излюбленного головного убора). Его потомки — Капетинги — правили страной до 1848 г. (с перерывами в конце XVIII — начале XIX в.). Политическая чехарда, вызывавшая помимо всего прочего нарушение вассально-ленных обязательств, слабость и нерадивость большинства преемников Карла Лысого (ум. в 877 г.) немало содействовали падению авторитета королевской власти. Смена династии нанесла ему новый удар, поскольку во многих районах, особенно на юге, Капетинги были признаны далеко не сразу, а главное, формально. Наиболее сильными центробежные тенденции были в окраинных районах с нероманским в большинстве своем населением. Неудивительно поэтому, что уже в начале X в. Гасконь (составлявшая в дальнейшем одно целое с Гиенью), Бретань, Нормандия, в меньшей степени Бургундия оказались фактически независимыми. Особый статус этих земель получил отражение в титулатуре их правителей — герцогов. С властью короля всерьез считались только на северо-востоке, но и здесь ему противостояло несколько крупных вассалов, из которых по крайней мере двое — графы Фландрии и Шампани — были сильнее своего сеньора. Суверенные права Гуго Капета и его ближайших преемников — Роберта Благочестивого (996—1031), Генриха I (1031 — 1060) и Филиппа I (1060—1108) —на деле ограничивались их собственным доменом — небольшой и до начала XII в. почти не увеличившейся территорией между Парижем и Орлеаном, получившей впоследствии название Иль-де-Франс — «Остров Франции». За пределами домена их власть признавалась лишь постольку, поскольку они выступали как сюзерены, т. е. верховные сеньоры, возглавлявшие феодальную иерархию. Король улаживал конфликты между своими вассалами, в случае их гибели опекал их несовершеннолетних детей, предводительствовал на войне. В остальном крупные сеньоры были вполне самостоятельны: вершили суд, чеканили свою монету, собирали в свою пользу налоги, затевали частные войны, открыто вступали в контакт с другими монархами и их вассалами, тем более что международные отношения строились на лично-сеньориальной основе. Вмешательству короля в свои внутренние дела они решительно противились, напоминая, что именно они возвели Капетингов на престол. Социально-экономическое развитие. В истории Франции на IX—XI вв. приходится заключительный этап процесса феодализации. В начале этого периода в стране имелось еще много крестьян, не находившихся в какой-либо зависимости от частных лиц и подчинявшихся непосредственно короне. Не менее важно, что значительная часть крестьян, уже оказавшихся на положении держателей, еще не попала в полную зависимость к своим сеньорам и в политическом, судебном, административном отношении продолжала оставаться свободной. Вместе с тем возрастало число крестьян, находившихся в личнонаследственной зависимости, сервов и колонов, а также жителей иммунитетных территорий. Не завершен был и процесс складывания господствующего класса, который еще не обособился окончательно от других социальных групп и не до конца обрел характерную для феодализма иерархическую структуру. К исходу XI в. на фоне прогрессирующего ослабления королевской власти крупные сеньоры уже утрачивали способность управлять своими обширными владениями централизованно. На местах стал возникать своего рода вакуум власти; в этих условиях значительная часть публичных прав и полномочий перешла к сеньорам средней руки — владельцам нескольких, а то и одного замка. Не случайно именно со второй половины IX в. и особенно в X—XI вв. в обстановке непрекращающихся междоусобиц и периодических вторжений норманнов, арабов и венгров во Франции возникает множество хорошо укрепленных замков. Этот процесс, более или менее общий для всей Юго-Западной Европы, получил в специальной литературе последних лет наименование инкастел-ламенто (буквально — «озамкование»). Владельцы замков — шателены — понемногу сосредоточили в своих руках судебно-административную власть над окрестным сельским населением, жившим как бы «в тени» их господствовавших над округой замков. В результате все жители округи, будь они в личной либо поземельной зависимости от данного или какого-нибудь другого феодала или нет, становились его «людьми» в судебно-административном отношении. Поскольку это подчинение выражалось прежде всего в определенных поборах и службах (постойной, посыльной, строительной и т.д.), по форме мало или вовсе не отличавшихся от обычных феодальных повинностей, несшие их крестьяне постепенно оказывались фактически на положении плательщиков ренты, правда, не очень обременительной. Для поземельно- и лично зависимых крестьян .установление судебно-административной зависимости обернулось утратой всех или почти всех остававшихся у них гражданских прав и ощутимым усилением феодальной эксплуатации. Таким образом, к концу рассматриваемого периода практически все французское крестьянство стало феодально зависимым. Несмотря на это, и в социально-экономическом, и в социально-правовом отношении оно не представляло собой чего-то единого. Общественное положение и уровень эксплуатации конкретного крестьянина определялись целым рядом факторов: размерами, состоянием и юридическим статусом той земли, на которой этот крестьянин сидел, его происхождением, формой (или формами) зависимости, связывавшей его с господином, договорными обязательствами, если таковые имели место, локальными обычаями и пр. Встречающиеся в источниках этого времени термины «серв», «виллан», «колон», «свободный» и другие отражают лишь наиболее общие, притом не очень четкие, различия социального характера. В условиях феодальной раздробленности унификация правового статуса крестьянства всей страны и даже отдельного герцогства или графства была невозможна. Не существовало и такой политической силы, которая была бы способна надолго и на деле закрепить статус даже сравнительно небольших групп крестьянского населения, обнаруживавших тенденцию к расслоению и социальной трансформации. Поэтому несмотря на известное сходство в положении наиболее угнетенной и бесправной части (составлявшей, кстати, меньшинство) французского крестьянства этой эпохи — сервов — и восточноевропейского крестьянства XVI— XVIII вв., называть сервов крепостными некорректно. Различными были не только исторические условия, породившие серваж и крепостничество, но и сами эти социальные категории по существу. Серв XI и следующих столетий обычно все-таки не был так принижен, как крепостной, был более свободен в хозяйственных занятиях, в передвижении, в семейных отношениях. И все же можно говорить о явном усилении феодальной зависимости и уровня эксплуатации французского крестьянства в IX—XI вв. Наиболее драматично этот процесс протекал на севере страны, где на рубеже X—XI вв. происходят два крупных крестьянских восстания (в 997 г. в Нормандии, в 1024 г. в Бретани), направленных как раз против установления сеньориальных порядков в их классической, предусматривающей сочетание различных видов зависимости, форме. Таким образом, наблюдалось сближение различных групп трудящегося населения, из которых одни улучшали свой статус, другие — большинство — ухудшали, а в результате сложился пусть разнородный, но все-таки обладающий определенным единством класс феодально зависимого крестьянства. § 3. Италия до конца XI в. Политическая раздробленность Италии. В средние века Италия не являлась единым государством. Северная Италия в VI—VIII вв. находилась под властью лангобардов, отсюда ее название Ломбардия. С VIII в. она вошла в состав Каролингской империи. Распад Каролингской империи и выделение Северной и Средней Италии в особое королевство с 855 г. не изменили положения: дело ограничивалось помпезным венчанием королем одного из графов в тогдашней столице королевства — Павии — железной лангобардской короной при сохранении фактической власти отдельных феодалов. В течение всего средневековья за корону Италии вели борьбу многие, главным образом чужеземные, претенденты. Рим был столицей Папской области, именовавшейся Патримонием (вотчиной) св. Петра и занимавшей значительную часть Средней Италии. Во главе этого государства стояли римские папы, обладавшие светской и духовной властью и венчавшие государей императорской короной. В вассальной зависимости от римских пап был Равеннский экзархат и некоторые другие земли Италии. От Папской области ныне сохранилось государство Ватикан, находящееся на территории Рима. „Южная Италия также не обладала тогда политическим единством. Начиная с VI в. Апулия, Калабрия, Неаполь, Сицилия и Сардиния были провинциями Византии. В IX в. сарацины (арабы) временно захватили часть Апулии, а в Сицилии образовали эмират со столицей в Палермо. Феодальные усобицы и борьба за власть между византийскими и арабскими завоевателями способствовали новым вторжениям в Южную Италию. С середины XI в. норманны из Нормандского герцогства во Франции захватили ряд областей Калабрии, а также Сицилию и к концу XI в. всю Южную Италию, основав единое Сицилийское королевство (1130). Складывание феодальных отношений. В VI—VIII вв. при лангобардах в Северной и Средней Италии начался процесс становления феодальных отношений. Германское племя лангобардов, вторгшееся в Италию, захватило земли, убивая или изгоняя римское население. Как правило, пришельцы селились отдельно от местных жителей, сохраняя свои традиционные родовые общины, именовавшиеся «фара». С покоренных италийских крестьян, главным образом колонов, они взимали подать натурой в размере трети урожая. В становлении феодальных отношений большую роль сыграла римская частная собственность, под влиянием которой шло расслоение в среде лангобардских свободных крестьян, разложение фары. Уже в конце VII в. земельные участки лангобардов превращаются в аллод, что открыло путь росту крупного землевладения. Обладателями крупных массивов земли становятся газинды (королевские дружинники), графы и сам король. На другом полюсе лангобардского общества происходило обеднение свободных сельских жителей, которые вынуждены были искать покровительства у богатых землевладельцев, переходить в их подчинение. Римские рабы и колоны постепенно сливаются с обедневшими полусвободными лангобардами, постепенно превращаясь в феодально зависимых крестьян. Этот процесс становления феодальных отношений происходил замедленно из-за изначально более архаичного, чем, например, у франков, общественного строя лангобардов и более низкого уровня синтеза протофеодальных элементов лангобардского общества — с одной стороны, и римского — с другой. С конца VIII в. процесс феодализации ускорился в связи с франкским завоеванием, которое способствовало разорению мелких земледельцев и превращению их в зависимых держателей — либелляриев. Они получали в держание землю по договору (либелла), согласно которому крестьянин отдавал феодалу четвертую, а иногда и третью часть урожая и подчас нес относительно небольшую барщинную повинность. Кроме того, встречались и такие формы держания, как прекарий, а также эмфитевсис — вечнонаследственная аренда на условиях натурального или денежного оброка (см. гл. 3). Преобладающей в IX—XI вв. была либел-лярная форма крестьянского держания, хотя в этот период значительная часть либелляриев и прекаристов попала в личную зависимость от феодалов. В Италии существовал также слой лично свободных держателей, выполнявших некоторые повинности в пользу феодалов, у которых они были в поземельной зависимости. Медленнее шло развитие феодальных отношений в Южной Италии и Сицилии, где византийская администрация старалась сохранить более архаичные, отчасти восходившие к рабовладельческому строю порядки. Развитие городов. Города в Италии играли большую роль на протяжении всего средневековья, в значительной степени определив характер и формы социально-экономического и политического развития страны. Инфраструктура античных городов — дворцы, храмы, городские стены и башни, мосты, дороги — послужили материальной базой средневековых центров ремесла и торговли. Некоторые античные города исчезли навсегда, но часть из них сохранилась и затем снова возродилась. Были и города, возникшие только в период средневековья. В IX—XI вв. в Италии, раньше, чем во многих других странах Европы, шел процесс образования городов на новой, феодальной основе (см. гл. 7). В городах с ранних пор развивались товарно-денежные отношения. Так, например, в Лукке уже с IX в. чеканили монету и вырабатывали тонкие сукна, в Павии в IX—X в. также чеканили монету и занимались выделкой кож. В городах Ломбардии, расположенных на торговых путях в долине реки По, процветали ремесло и торговля: в Милане производили оружие и ткани, в Пьяченце регулярно происходили ярмарки, через Павию шли товары с альпийских перевалов. Расширялась торговля в портовых городах; Венеция уже в VIII—IX вв. вела торговые операции с Египтом, Сирией, балканскими землями; в X в. Генуя и Пиза направляют товары в города Западного Средиземноморья. Посредническую торговлю вели и южноитальянские порты — Амальфи и Бари, купцы которых вывозили зерно, оливковое масло, оружие в Византию, а оттуда привозили на своих кораблях различные восточные товары. Постепенно расширялась и внутренняя торговля, способствовавшая углублению специализации разных областей Италии в производстве товаров. Политическое развитие итальянских государств. Наличие в Италии большого числа городов — политических центров и множества феодальных владений — герцогств, графств, маркизатов и епископств, — ведущих постоянные войны между собой, облегчало вторжения чужеземных завоевателей. Так, в 962 г. германский король Оттон I захватил Рим, венчался там императорской короной и провозгласил создание новой Римской империи, включавшей в себя германские и итальянские земли. Это искусственное политическое образование, не имевшее ни общей экономической базы, ни этнического единства, послужило причиной многочисленных завоевательных походов немецких феодалов на итальянские земли (см. § 4). С другой стороны, экономическое и политическое усиление городов привело к появлению в Италии силы, способной противостоять феодальной вольнице и чужеземным нашествиям. Начиная с IX в. города вступают в борьбу с сеньорами — светскими князьями или епископами, отбирая у них политические права. С конца XI в. образуются самоуправляющиеся городские коммуны. Позже многие из них становятся самостоятельными городами-республиками. Они управлялись выборными советами, ведавшими вопросами внешних сношений, войны и мира, налогообложения, торговли, ремесла. Переход экономических и политических рычагов в руки города-государства приводит к его усилению, и поэтому, даже при временном объединении своих сил, города оказывают решительный отпор чужеземным захватчикам. Крупнейшими городами-государствами в этот период становятся Милан, Флоренция, Венеция, Генуя, Сиена, Лукка, Верона. Несмотря на сложные условия социально-экономического и политического развития Италии, в IX—XI вв. начался процесс формирования итальянской народности. § 4. Германия в X—XI вв. Особенности процесса феодализации в Германии. К началу X в. феодализация в Германии сделала заметные успехи. Основными общественными классами стали крупные земельные собственники- феодалы и зависимое от них в разной степени крестьянство. Все большее значение приобретала феодальная вотчина. Вместе с тем процесс феодализации в Германии протекал более замедленными темпами, чем во Франции, так как разложение родоплеменного строя проходило здесь при весьма слабом воздействии на него позднеримских социально-экономических порядков. Продолжал сохраняться значительный слой свободных общинников, не втянутых в феодальные отношения. В сельской общине выделились средние и крупные аллодисты, обладавшие значительными земельными участками, которые частично обрабатывались с помощью несвободных людей. Но эти аллодисты не стали в полной мере феодальными собственниками; эксплуатация труда зависимых крестьян еще не была основой их хозяйства. Незавершенность феодализации в Германии нашла свое выражение и в ее политической организации: крупные магнаты, особенно церковные, не располагали еще аппаратом внеэкономического принуждения. Должность графа и вся система местного управления еще не феодализировались; во многих областях сохранялась старая, в основе своей племенная судебная и военная организация. Не сложилась еще окончательно и феодальная иерархия. Относительно медленное формирование раннефеодального государства в Германии проявилось и в сохранении к началу X в. на ее территории племенных герцогств: Саксонии и Тюрингии (в Северной Германии, между Рейном и Эльбой и ее притоком Заале), Франконии (по среднему течению Рейна и по Майну), Швабии (по верхнему течению Дуная и Рейна и его притока Неккара) и Баварии (по среднему течению Дуная). Герцоги, превращаясь постепенно в крупных феодальных земельных собственников, использовали для укрепления власти и свое положение племенных вождей. Это вело к сохранению племенной разобщенности, тормозившей историческое развитие Германии. Возникновение единого немецкого раннефеодального государства. В 911 г., после того как в Германии пресеклась династия Каролингов, королем был избран один из герцогов — Конрад I франконский, при котором вспыхнул открытый конфликт между королевской властью и племенными герцогами, закончившийся поражением короля. После смерти Конрада I между племенными герцогами развернулась борьба за власть; в результате в 919 г. были избраны сразу два короля — Генрих I Саксонский и Арнульф Баварский. Однако несмотря на сепаратизм герцогов, в Германии в это время существовали уже объективные предпосылки для усиления королевской власти. В этом были заинтересованы многочисленные средние и крупные аллодисты, нуждавшиеся в помощи сильной королевской власти: с одной стороны — для захвата общинных земель и подчинения свободных общинников, с другой — для защиты от притеснений более крупных феодалов. В поддержке со стороны королевской власти нуждались также монастыри и епископства, заинтересованные в расширении церковного землевладения. Кроме того, политическое объединение Германии в то время было необходимо перед лицом внешней опасности; с конца IX в. Германия стала ареной набегов норманнов, а с начала X в. — венгров, обосновавшихся в Паннонии. Их конные отряды неожиданно вторгались в Германию, опустошая все на своем пути, и так же внезапно исчезали. Попытки организовать действенный отпор венграм силами пешего ополчения отдельных герцогств оказались неэффективными. Объективные предпосылки для усиления королевской власти в Германии были использованы королями Саксонской династии (919—1024), при первых представителях которой — Генрихе I и Оттоне I — фактически сложилось Германское раннефеодальное государство. Генрих I (919—936) искусной” политикой добился признания своей власти всеми племенными герцогами, в том числе и Арнульфом Баварским. Используя феодальные распри во Франции, ослабившие ее власть в Лотарингии, и опираясь на поддержку части местных феодалов, он присоединил Лотарингию к Германскому королевству. Успешно велась борьба против набегов венгров. Большое значение имело строительство замков и создание тяжеловооруженной рыцарской конницы, способной эффективно бороться с подвижными венгерскими отрядами. Первая крупная победа над венграми была одержана в 933 г. на саксоно-тюрингской границе. Церковная политика Оттонов. Несмотря на успехи в борьбе с внешними врагами, положение королевской власти в стране по-прежнему оставалось неустойчивым. Централизаторской политике королевской власти оказывали упорное противодействие племенные герцоги. Они признали за Генрихом I королевский титул только после того, как он отказался от всякого вмешательства в их внутренние дела. Но когда сын и преемник Генриха I Оттон I (936—973) сделал попытку ограничить самостоятельность герцогов, началось восстание. Чтобы обуздать сепаратистские устремления и укрепить авторитет центральной власти, ей были необходимы органы управления, способные проводить на местах политику королевской власти, быть ее надежной опорой. Эту задачу Оттон I пытался решить при помощи союза с церковью, которую он стремился поставить на службу государству. Материальной базой этого союза явились обильные земельные пожалования короля церковным учреждениям. Подавляющее большинство подобных раздач падает на правление Оттона I и его сына Оттона II. Земельные пожалования церкви сопровождались предоставлением ей широких политических прав над всеми жителями этих земель. Церковь превращалась в крупнейшего феодала-иммуниста. На территории церковного иммунитетного округа запрещался всякий суд, кроме церковного. Церковные учреждения получили право высшей (уголовной) юрисдикции над зависимым населением. Оттоновские иммунитетные привилегии, предоставляя церковным учреждениям широкие государственные полномочия, превращали их фактически в важнейшие исполнительные органы государства. Епископствам и аббатствам, непосредственно подчиненным королю, жаловался так называемый королевский банн над территорией, далеко выходящей за пределы их земельной собственности. Под королевским банном понималась совокупность государственных функций и полномочий (судебных, военных, административных и др.), принадлежащих королю и его должностным лицам. Щедро одаряя церковь земельными владениями и политическими правами, Оттон I вместе с тем стремился прочными узами привязать ее к престолу, превратить в послушное орудие своей власти. Все епископские и аббатские должности находились в фактическом распоряжении короля. Духовенство лишь выдвигало кандидатов на эти должности, но утверждал их и вводил в должность и во владение землей король, производя так называемую инвеституру. Когда должность архиепископа, епископа или аббата оставалась вакантной, все доходы с их земли шли королю, который поэтому не спешил замещать ее. Высшие церковные сановники привлекались королем для несения административной, дипломатической, военной, государственной службы. Вассалы епископов и имперских аббатов составляли большую часть оттоновского войска; нередко во главе его подразделений стоял сам церковный иерарх. Эта церковная организация, поставленная на службу королевской власти и являвшаяся ее главной опорой, получила в литературе название имперской церкви (Reichskirche). Усилению политического влияния Оттона I способствовала его решающая победа над венграми в 955 г. на реке Лехе близ Аугсбурга, положившая конец их набегам на германские земли. Итальянская политика германских королей и создание так называемой Священной Римской империи. Церковная политика Оттона I нашла свое логическое завершение в стремлении королевской власти установить контроль над папством, стоявшим во главе римско-католической церкви. Подчинение папства было тесно связано с планами завоевания Италии и возрождения некоего подобия империи Карла Великого. В этом стремлении Оттона I поддерживало большинство немецких феодалов, видевших в итальянской политике королевской власти удобное средство для своего обогащения за счет грабежа богатых итальянских земель. Политически раздробленная Италия, не способная объединиться для отпора завоевателям, переживавшее период упадка папство, борьба различных феодальных клик — все это облегчало Оттону выполнение его планов. В 951 г. он совершил первый поход в Италию, в результате которого была захвачена Ломбардия, а Оттон I принял титул короля лангобардов. Спустя 10 лет, воспользовавшись очередным обострением борьбы между папой и итальянскими феодалами, Оттон I совершает новый поход в Италию, который принес ему осуществление его честолюбивых замыслов. В 962 г. папа короновал Оттона I в Риме императорской короной. Перед этим Оттон I по специальному договору признал притязания папы на светские владения в Италии, но верховным сеньором этих владений провозглашался император. Вводилась обязательная присяга папы императору, что и являлось выражением подчинения папства империи. Так в 962 г. возникла средневековая «Римская» империя во главе с германским королем (с конца XII в. она стала именоваться Священной Римской империей), претендовавшая на преемственность от империи Карла Великого и даже от Западной Римской империи. Она включала помимо Германии Северную и часть Средней Италии, некоторые славянские земли, а также часть Южной и Юго-Восточной Франции. В первой половине XI в. к империи было присоединено Бургундское королевство (Арелат). Создание германскими королями новой империи было реализацией тех же универсалистских тенденций, которые ранее привели к возникновению Каролингской монархии. Как и империя Карла Великого, она была аморфным и в какой-то мере искусственным образованием, но в отличие от нее новая империя, постоянно видоизменяясь, просуществовала много столетий. На первых порах, в X — начале XI в., Римская империя способствовала укреплению центральной власти в Германии, временному сплочению ее разных территорий. Однако позднее, с конца XI в., особенно же в XII—XIII вв., она все более становилась препятствием на пути складывания централизованных государств и во Франции, и в славянских землях, и в Италии. Тормозила она в эти столетия и централизацию самой Германии. Императорский титул и связанные с ним универсалистские претензии вели к растрате сил германского государства в итальянских завоевательных походах, мало что дававших германскому народу. Начиная с Оттона I императоры большую часть своего царствования проводили в Италии, улаживая отношения с папами, участвуя в бесконечных распрях итальянских феодалов и тщетно пытаясь подчинить своей власти эту богатую страну. Почти постоянное отсутствие короля в Германии, естественно, было на руку крупным немецким феодалам, способствовало росту их самостоятельности, усилению центробежных сил в стране. Начало наступления немецких феодалов на земли полабских славян. С середины X в. началась активная экспансия немецких феодалов на восток Европы, в земли полабских славян. Эта политика также была обусловлена стремлением немецких князей к расширению земельных владений и увеличению количества зависимых людей. Католическая церковь поддерживала эту политику, рассчитывая обратить в свою веру население славянских областей. Первой жертвой немецкой экспансии стали соседи саксов — полабские славяне. Генрих I обложил данью всю сербо-лужицкую группу славян, а также некоторые другие славянские племена (лютичей, ободритов). Но в остальном эти племена сохраняли самостоятельность: подчинялись своим князьям и жили по своим обычаям; немецкие феодалы не вмешивались в их внутреннюю жизнь. Новый этап наступления против славян начинается в правление Оттона I, когда немецким феодалам после длительной борьбы удалось подчинить славянские племена, жившие между Эльбой (Лабой) и Одером (Одрой), и включить их в состав Германской империи. Для укрепления господства над покоренными славянами проводилась их насильственная христианизация. Завоевания славянских земель, осуществлявшиеся с большой жестокостью, в X в. не всегда были связаны с попытками хозяйственного освоения немецкими феодалами захваченных территорий; часто они просто приводили к установлению тяжелой формы даннических отношений. Славяне неоднократно восставали, уничтожали немецкие гарнизоны и немецких колонистов, отрекались от христианства. В конце X в. в результате восстаний полабских славян немецкие феодалы утратили занятые ими славянские земли за исключением Сербо-Лужицкой области. Дальнейшее укрепление феодального строя в Германии. В течение X столетия в Германии ускоряется процесс феодализации общества, втягивания в феодальную зависимость подавляющего большинства ранее свободных общинников. Особо важная роль в этом процессе принадлежала ранне-феодальному государству, вся внутренняя политика которого энергично содействовала торжеству нового строя. Уже политика Генриха I — строительство замков и создание тяжеловооруженной рыцарской конницы — стимулировала ход феодализации. Королевские замки являлись не только опорными пунктами для отражения венгерских набегов, но и центрами феодальной эксплуатации окрестного населения. Переход от пешего народного ополчения к рыцарской коннице способствовал расслоению свободных общинников; верхушка их поднималась в ряды рыцарства и таким путем входила в состав господствующего класса, в то время как масса разоряющихся свободных общинников, будучи не в состоянии нести конную службу, сближалась в своем социальном положении с зависимым крестьянством. Еще большее значение для ускорения процесса феодализации имела оттоновская церковная политика. Развитие иммунитета на церковных землях способствовало установлению феодальной зависимости (в том числе и личной) ранее свободных общинников. В экономике Германии в тот период происходили глубокие внутренние социально-экономические сдвиги, обусловленные развитием производительных сил общества: распространением трехполья, увеличением площади пахотных земель, особенно путем внутренней колонизации — освоения пустошей и расчистки лесов, — расширением виноградарства в южных областях страны, развитием деревенского ремесла. В VIII—IX вв. на территории Восточно-Франкского королевства появились уже довольно многочисленные предгородские поселения, в которых осуществлялись более или менее постоянные торговые связи. Они возникали на берегах удобных морских бухт, у речных переправ, около замков (бургов) и епископских резиденций. Кроме того, в районах бывшей римско-германской границы — вдоль Рейна и Дуная — сохранялись еще старые римские города: Трир, Кёльн, Майнц, Аугсбург и др. Сильно сократившиеся в размерах и заметно аграризированные, они все же сохраняли традиции античного ремесла и римской материальной и духовной культуры. Развивалось ремесло и внутри вотчин. С X в. в деревне намечается тенденция к отделению ремесла от сельского хозяйства. Растут города уже средневекового типа, как центры в первую очередь ремесла и торговли. Одни из них возникали заново другие — из германских предгородских поселений, третьи — в рамках старых римских городов или рядом с ними, но уже как города нового типа (см. гл. 7). Дальнейшее укрепление феодализма в Германии вело к заметному сокращению слоя свободных крестьян-собственников и свободных общин. Только в немногих окраинных местностях (Фрис-ландия, Дитмаршен, Тироль, в меньшей степени — Саксония) сохранялось еще более или менее значительное число свободных общинников. Все большее экономическое и социальное значение в обществе приобретало крупное феодальное землевладение в виде вотчин-сеньорий. Феодальная эксплуатация зависимого крестьянства осуществлялась в таких вотчинах в X—XI вв. чаще всего в форме барщины, к которой присоединялись различные оброчные платежи. Широкое распространение барщины способствовало утверждению особенно тяжелой зависимости крестьян — личной. Важных успехов в X в. достиг процесс внутренней консолидации класса феодалов: распространялись вассальные отношения, складывалась иерархическая структура господствующего класса. Средоточием экономической и политической жизни страны все более становится феодальная вотчина. Отсюда исходила административная и судебная власть над окрестным населением, дающая возможность вотчиннику осуществлять внеэкономическое принуждение. Немецкое королевство как раннефеодальное государство в IX—X вв. сыграло заметную роль в политическом объединении германских племен, в его рамках были заложены основы немецкой народности, первые упоминания о которой (diutiskin liute) появляются в конце XI в. Но по мере развития феодализации все более суживалась та социальная база, на которой стало возможно возникновение и временное усиление единого немецкого раннефеодального государства. Сломив политический сепаратизм племенных герцогов, королевская власть не могла успешно противостоять росту политических притязаний крупных феодальных землевладельцев. Церковная политика Оттона I и его преемников была действенным средством сплочения церковных феодалов вокруг королевской власти, но лишь до той поры, пока церковные учреждения нуждались в содействии центральной власти для укрепления церковной вотчины за счет общинных и аллодиальных земель и втягивания в зависимость их прежних собственников. По мере успешного завершения складывания церковных вотчин, в которых развивался уже собственный устойчивый аппарат внеэкономического принуждения, крупные церковные феодалы, оказавшиеся властителями обширных и компактных территорий, подобно светским магнатам, уже в первой половине XI в. все более становятся в оппозицию к центральной власти. Политический кризис второй половины XI в. Начало борьбы за инвеституру. Первые короли новой Франконской (Салической) династии (1024—1125) — Конрад II и Генрих III — пытались сохранить позиции центральной власти, приспособив ее к новым социальным условиям. Так, Конрад II в противовес чрезвычайно усилившимся светским и духовным магнатам стремился опереться на многочисленный слой мелких феодалов, вмешиваясь в отношения между сеньорами и вассалами. Он запретил сеньорам произвольно конфисковывать лены вассалов. Генрих III, уже не имея достаточной опоры в имперских монастырях, старался сблизиться с монашеством новых, «частных» монастырей, находившихся в подчинении у отдельных феодалов, выступая в роли их покровителя. Однако эти меры не могли предотвратить политический кризис как в германских областях, так и в империи в целом. Кризис быстро нарастал в первые годы царствования Генриха IV (1056—1106), который до 1065 г. был несовершеннолетним. Именно в это время окончательно сложился союз между папством и поддерживавшей его сильной группировкой итальянских феодалов и рядом итальянских городов, с одной стороны, и могущественными немецкими светскими феодалами — с другой. Политический кризис вылился в 70-х годах XI в. в открытую и ожесточенную борьбу императора с папой из-за вопроса об инвеституре. Инвеститурой вообще, как указывалось выше, назывался акт ввода во владение землей — передача сеньором феода своему вассалу. В применении к архиепископам, епископам и аббатам инвеститура включала не только их ввод в управление землями и зависимыми людьми, но и утверждение в духовном сане. Право инвеституры означало, в сущности, право назначать и утверждать в должности выбранный духовенством епископат и аббатов. Императоры, начиная с Оттона I, видели в инвеституре высшего духовенства одну из важнейших опор своей власти. Папы, мирившиеся ранее с таким порядком, во второй половине XI в. стали оспаривать это право императора. В этой борьбе, охватившей все части империи, решался целый комплекс социальнополитических вопросов, имевших важное значение для различных классов и социальных групп феодального общества: о верховенстве в церковных делах императора или папы, о судьбах раннефеодальной монархии в Германии, об основах дальнейшего политического развития немецкого феодального общества, о взаимоотношении Германии и итальянских областей империи, о дальнейшем развитии городов Северной и Средней Италии. В борьбу были вовлечены как верхи, так и низы феодального общества. Саксонское восстание 1073 — 1075 гг. Готовясь к схватке с папством и своими противниками — крупными феодалами Германии, Генрих IV стремился превратить Саксонию в королевский домен, чтобы усилить материальную базу королевской власти. Здесь строились королевские бурги и за счет сохранившегося фонда общинных земель и земель, принадлежавших аллодистам крестьянского типа, насаждались новые королевские вотчины. Создавались также в большом числе ленные держания королевских рыцарей-министериалов — низшей прослойки класса феодалов. Все эти меры способствовали втягиванию в зависимость еще сохранившегося в Саксонии слоя свободных крестьян-аллодистов. Вместе с тем Генрих IV настойчиво стремился вернуть расхищенные крупными феодалами, ранее принадлежавшие королю, земли в Саксонии. Королевская политика вызвала в 1070 г. мятеж верхушки саксонской феодальной знати. В нем приняли участие некоторые свободные и зависимые крестьяне, выступавшие не столько в поддержку феодальных верхов Саксонии, сколько за сохранение остатков свободной общины, против превращения их в зависимых людей. Мятеж этот был в 1071 г. подавлен. В 1073 г. начались массовые выступления крестьян, разрушавших королевские крепости и хозяйственно-административные центры королевских вотчин. Стремясь использовать в своих интересах успехи крестьян, к восстанию примкнула враждебная королю группа саксонской знати во главе с Оттоном Нортгеймским. Однако размах антифеодального движения крестьян, перекинувшегося в Тюрингию, вызвал страх у местных феодалов. В переговорах с королем (в 1074 г.) вожаки их пошли на уступки за счет крестьян, которые не прекращали сопротивляться. В решающей битве на реке Унштрут возле Хомбурга феодальная саксонская конница бежала с поля боя, оставив на гибель пешее крестьянское ополчение. Генрих IV беспощадно расправился с восставшими крестьянами. Со знатью он заключил мир, назначив Оттона Нортгеймского своим наместником в Саксонии. Поражение восстания 1073— 1075 гг. усилило крестьянскую зависимость и сократило число свободных крестьян в герцогстве. Крушение церковной политики германских императоров. В борьбе за инвеституру папство нашло опору в клюнийском движении, ставившем своей целью усилить церковь, поднять ее моральный авторитет (см. гл. 20). Оно стремилось сплотить церковную организацию, чтобы, с одной стороны, противостоять стремлениям светских феодалов к захватам церковных земель и установлению своей опеки над церковью, а с другой стороны, сделать церковь достаточно сильной, чтобы подавлять сопротивление зависимых крестьян. Опиравшееся на монашество клюнийское движение широко распространилось среди немецкого духовенства, что укрепляло центробежные силы внутри страны. Ревностным сторонником клюнийских требований был монах Гильдебранд родом из Северной Италии, фактически руководивший в течение многих лет делами папского престола. В 1059 г. на Латеранском поместном соборе (в Риме) был установлен новый порядок выбора пап. По решению собора папу должны были избирать без всякого вмешательства извне кардиналы — высшие чины церкви, возводимые в свой сан папой. Это решение было направлено против стремления императора вмешиваться в выборы пап. Латеранский собор высказался также против светской инвеституры епископов и аббатов. В 1073 г. Гильдебранд был избран папой под именем Григория VII и начал осуществлять на практике свою программу укрепления церкви, сместив нескольких немецких епископов, назначенных, по его мнению неправильно. Подавив саксонское восстание, Генрих IV решительно выступил против стремления Григория VII подчинить себе немецкое духовенство и ослабить его связь с королевской властью. В 1076 г. на собрании высшего немецкого духовенства в Вормсе он объявил о низложении Григория VII. В ответ на это папа отлучил Генриха от церкви и лишил его королевского сана, а подданных короля освободил от присяги своему государю. На эти действия Григория VII тотчас же откликнулись в Германии крупные немецкие феодалы, не только светские, но и многие духовные, найдя в них удобный повод для сепаратистских выступлений. Южнонемецкая феодальная знать начала против короля настоящую войну, вновь восстали саксонские феодалы. Генрих IV вынужден был капитулировать перед Григорием VII. В январе 1077 г. с небольшой свитой он отправился на свидание с папой в Италию. После трудного перехода через Альпы Генрих IV стал добиваться встречи с Григорием VII, находившимся в замке Каносса (в Северной Италии). По сообщениям хронистов, правда, враждебных Генриху, он, сняв все знаки королевского достоинства, босой и голодный стоял три дня с утра до вечера перед замком. Наконец он был допущен к папе и на коленях вымолил у него прощение. Однако покорность Генриха была только политическим маневром. Несколько укрепив после снятия с него папой отлучения свое положение в Германии, он снова выступил против Григория VII. Шедшая еще долгое время после этого с переменным успехом борьба империи и папства завершилась подписанием так называемого Вормского конкордата (1122) —соглашения, заключенного сыном и преемником Генриха IV Генрихом V и папой Каликстом II и регулировавшего порядок выборов и утверждения епископов. Вормский конкордат устанавливал разную систему выборов епископов в различных областях империи. В Германии епископы должны были впредь избираться духовенством в присутствии императора, которому принадлежало решающее слово при наличии нескольких кандидатур. Император совершал светскую инвеституру — передачу скипетра, символизировавшего власть над землями епископства. После светской инвеституры следовала духовная, осуществлявшаяся папой или его легатом, — передача кольца и посоха, символизировавших духовную власть епископа. В Италии же и Бургундии выборы епископов должны были происходить без участия императора или его представителей. Только через шесть месяцев после выборов и утверждения нового епископа папой император производил инвеституру скипетром, которая таким образом превращалась в чисто формальный акт. Вормский конкордат разрушил систему имперской церкви в Италии и Бургундии. В Германии же устанавливался компромиссный порядок, являвшийся нарушением коренных принципов оттоновской церковной политики. В XII в. центральная государственная власть в Германии ослабевает, начинается длительный период феодальной раздробленности. § 5. Северная Европа в IX—XI вв. «Эпоха викингов» в Северной Европе. IX — середина XI в. вошли в историю Северной Европы под названием «эпохи викингов». Это был период широкой экспансии, в которой разрозненные военные набеги, со временем сменившиеся более организованными походами, возглавленными скандинавскими конунгами (королями), переплетались с развитием международной торговли, с колонизацией и открытием новых земель. В самой Скандинавии этот период ознаменовался усилением распада родоплеменных отношений и зарождением предпосылок для возникновения первых государственных образований. Вместе с тем в «эпоху викингов» произошли глубокие сдвиги в материальной и духовной культуре скандинавских народов. Развертывается внутренняя колонизация — частичное освоение и заселение лесных зон Скандинавского полуострова. Возникают новые типы быстроходных и маневренных кораблей, на которых викинги плавали по Северному и Балтийскому морям, поднимаясь по европейским рекам — по Сене до Парижа и по днепровскому водному пути до Константинополя; суда викингов бороздили Средиземное море и Атлантику, вплоть до Исландии и островов у побережья Северной Америки. На основе развернувшейся международной торговли поднялись важные ее центры в Северной Европе — Хайтабю в Дании (в области теперешнего Шлезвига), Бирка на озере Меларен (в Южной Швеции), Скирингосаль в Южной Норвегии. Успехи в строительном и фортификационном деле выразились, в частности, в сооружении системы уникальных по конструкции военных кольцевых укреплений в Ютландии и на примыкающих к ней островах. Экспансия викингов в IX — первой половине X в. Этимология термина «викинг» до конца не выяснена; возможно, слово происходит от «вик» — бухта, порт, где базировались участники морских походов, но предлагались и другие объяснения. На Западе они были известны под именем норманнов («северных людей»), а на Руси — варягов. Первые упоминания нападений викингов восходят к самому концу VIII в. В 793 г. отряд скандинавов напал на монастырь на Северо-Восточном побережье Англии, разграбил и сжег его. Вскоре подобные разбойничьи нападения сделались подлинным бедствием для населения приморских районов Англии, Ирландии, Франкского королевства, Германии, Южного побережья Балтийского моря. Повсюду эти внезапные появления вооруженных и безжалостных язычников несли смерть, разграбление и порабощение захваченных врасплох местных жителей, которые долгое время не были способны оказывать им сопротивление. Духовенство было склонно объяснять это бедствие в духе времени божьей карой за грехи, и даже была составлена молитва: «Боже, избави нас от неистовства норманнов!» Со временем правители стран, подвергавшихся нападениям норманнов, сумели организовать защиту от них и начались более регулярные военные действия. Отпор, который он встретил со стороны франков, побудил датского конунга Годфреда приступить к постройке оборонительного вала, защищавшего Ютландию с юга. Это цепь укреплений, известная под названием Даневйрке («Датский вал»), возведение ее началось в начале IX в., но продолжалось и в следующем столетии. Датским завоевателям удалось разграбить и подчинить своей власти обширные территории в разных частях Европы. Они переселялись на острова Северной Атлантики — Фарерские, Шетландские, Оркнейские и Гебридские. После 870 г. выходцы из Норвегии открыли и начали заселять Исландию. Первым поселенцем здесь был Ингольф Арнарсон, обосновавшийся на юго-западном берегу острова вблизи горячих источников-гейзеров, в Рейкьявике («Залив дымов»). В IX — начале X в. норвежцы и датчане завоевали значительную часть Ирландии, основав здесь свои королевства. В IX в. шведы, уже обосновавшиеся на Южном побережье Балтийского моря, проложили путь «из варяг в греки», выводивший их к Византии и Арабскому халифату. Экспансия на территории Руси имела не только военный, но и торговый характер. Купец шел рука об руку с воином. Присутствие скандинавов на Руси, в том числе в качестве наемников и дружинников киевских и новгородских князей, прослеживается по многим источникам. На протяжении IX века датские викинги грабили Северную Германию, Францию, Англию, включая такие города, как Гамбург, Дорестад (в устье Рейна), Руан, Париж, Шартр, Лондон, Кентербери, Йорк. К концу IX в. значительная часть Северной и Восточной Англии была ими завоевана и на этих территориях стали селиться скандинавские воины, которые делили между собой земли. Королю Уэссекса Альфреду (871—899) удалось лишь остановить эти нашествия. Восточная часть острова получила впоследствии название Дэнло («Область датского права»), здесь переселенцы вводили свои социальные и юридические порядки, сохранявшиеся на протяжении нескольких столетий (см. § 6). Одновременно викинги появились и в западной части Средиземноморья, разграбляя города Италии и Южной Франции, Испании и Португалии. На рубеже IX и X вв. часть датского войска, которое воевало в Северной Франции, обосновалась на полуострове Котантён. Его предводитель Роллон получил в 911 г. эту часть Франции в лен от французского короля на условии защиты страны от норманнов. Формально вассальное владение Франции, новое герцогство Нормандия фактически было независимым и от слабых западно-франкских королей, и от датских конунгов. Роллон и его сподвижники оставались еще полуязычниками, совершавшими человеческие жертвоприношения, что не мешало им щедро наделять церковь богатствами и землями. Но на протяжении следующих поколений нормандцы утратили большую часть признаков скандинавского происхождения, включая родной язык и старые обычаи. Норманны интенсивно смешивались с местным населением — потомками кельтов, римлян, франков. В Нормандии сложилось «образцовое» французское феодальное герцогство с сильной центральной властью. Когда впоследствии (в 1066 г.) нормандцы подчинили себе Англию и Южную Италию с Сицилией, где основали в начале XII в. Сицилийское королевство, они и здесь выступали в роли носителей феодальной централизации. Заселение Исландии. Открытие Америки. Примерно к 930 г. норвежцами была заселена вся береговая кромка Исландии (внутренняя часть острова остается пустынной и до настоящего времени) . Расселившись по обособленным хуторам, колонисты занимались скотоводством и морским промыслом и в гораздо меньшей степени — земледелием. В 930 г. было учреждено общее для всех жителей Исландии вече — альтинг — и были приняты по норвежскому образцу первые законы. Единственная должность, введенная этими законами, была должность законоговорителя — хранителя права, остававшегося еще устным. Альтинг был как судебным и законодательным собранием исландцев, так и центром культурной жизни, местом регулярного общения рассеявшихся по обособленным хуторам бондов — местных жителей, крестьян. Разумеется, альтинг не был «древнейшим парламентом Европы» (как его иногда именуют), ибо в общественном устройстве Исландии ясно видны существенные элементы «военной демократии». Признаки государства здесь еще отсутствовали. В 80-е годы X в. исландцами и норвежцами была открыта Гренландия, которую они начали заселять, а вскоре ими были открыты острова у побережья Северной Америки, названные ими Хёллюланд («Страна плоских камней»), Маркланд («Лесная страна»), Вйнланд («Страна дикого винограда»). Во главе этих экспедиций, описанных впоследствии в «Саге о Гренландцах» и «Саге об Эйрике Рыжем», стоял Лейв Счастливый (Удачливый), сын Эйрика Рыжего, гренландского первопоселенца. На островах скандинавы повстречали местных жителей — скрелйнгов. Нелегко отделить достоверные сведения от вымысла в этих сагах, но, опираясь на археологические находки, ученые склонны полагать, что скандинавы действительно открыли Ньюфаундленд, где обнаружены следы построек того типа, который характерен для скандинавских «длинных домов» «эпохи викингов», и остатки кузницы. Лейв опередил Колумба на полтысячелетия, но все же именно Колумбу принадлежит первенство в подлинном открытии Америки для Европы, и домыслы об имевшихся у Колумба сведениях о плаваниях викингов на Запад и о картах, которые они якобы составили, ни на чем не основаны (никаких карт скандинавы в X—XI вв. чертить не умели). Походы викингов во второй половине X и первой половине XI в. Крупнейшее достижение скандинавских захватчиков в конце X и начале XI в. — подчинение ими Англии. Английское королевство, ослабленное внутренними усобицами, стало их добычей. Сперва датские и норвежские вожди поступали на службу к королям Англии, получая от них жалованье, награды, затем они превратили эти платежи в огромную контрибуцию, взимаемую с населения, изнемогавшего от этих непомерных поборов. В 1016 г. датский вождь Кнут занял английский престол, а после смерти брата сделался королем Дании. В 1028 г. он добился власти и над Норвегией. Так возникла держава Кнута Великого (1016—1035), недолговечная, как и все раннесредневековые политические объединения. После смерти его сына Хардакнута в 1042 г. датчане утратили английскую и норвежскую короны. Последним викингом на престоле считают норвежского конунга Харальда Хардрада («Сурового правителя», 1046—1066), который в молодости ходил походами в Восточную и Южную Европу, служил в варяжской гвардии в Константинополе и воевал в Италии и Сицилии. Его женой была дочь великого князя Киевского Ярослава. В 1066 г. Харальд снарядил большой флот и отплыл к берегам Восточной Англии с намерением завоевать английский престол. Скандинавское население острова перешло на его сторону, но только что провозглашенный знатью английский король Гарольд победил норвежского конунга в битве при Стэмфордбридже, неподалеку от Йорка. Харальд Хардрад погиб 25 сентября 1066 г. Англия навсегда избавилась от угрозы со стороны викингов, для того чтобы менее чем через три недели, 14 октября того же года, стать в результате битвы при Гастингсе добычей нормандского герцога Вильгельма Завоевателя. Правда, в 1069 г. датский конунг Свейн Эстридссон попытался было напасть на Англию, но после получения выкупа датчане в следующем году покинули Восточное побережье Англии. Намерения датского конунга Кнута II совершить новый завоевательный поход на Англию не осуществились. На этом экспансия викингов завершилась. К концу XI в. под властью скандинавов оставались Северная Шотландия, Гебридские и Оркнейские острова, остров Мэн, Дублин и Лейнстер в Ирландии. Общий характер походов викингов. В походах викингов можно видеть последнюю волну Великого переселения народов. Подобно тому как германские и другие племена и союзы племен в V— VI вв. не ограничивались нападениями на богатую Римскую империю, но переселялись в отвоеванные у нее страны, создав там новые государства, так и скандинавы в IX—XI вв., переживавшие распад родоплеменного строя и испытывавшие потребность в землях и добыче, вторгались в страны Европы и во многом изменили ее социальную, политическую и демографическую структуру. Однако эта вторая и заключительная волна Великого переселения отличалась от первой. В V и VI вв. варвары способствовали разрушению уже изжившей себя рабовладельческой системы, тогда как северные варвары (а также нападавшие на Западную Европу венгры и арабы) в IX—XI вв. пришли в столкновение с новым, еще только формировавшимся и укреплявшимся социальным строем, разрушить который они были не в состоянии, и в конечном итоге включились в процесс феодализации. В одних частях Европы, например в Англии, скандинавские вторжения несколько замедлили эти процессы, создав новые слои свободного крестьянства, противившегося феодальному подчинению; в других регионах (в Северной Франции и Южной Италии), наоборот, они придали этим процессам большую законченность. В обоих случаях викинги и их потомки, феодализировавшиеся вожди и рыцари, а вслед за ними и военнокрестьянские колонисты восприняли ту социальную структуру, которая уже складывалась в захваченных ими областях, видоизменяя ее. Этот новый социальный опыт они переносили и к себе на родину. Процессы феодализации в Скандинавских странах начались под воздействием импульсов, шедших из более «продвинутых» к феодализму стран Запада, но привели к ощутимым результатам уже после завершения «эпохи викингов». Своеобразие генезиса феодализма в Скандинавских странах. В Дании, Швеции и Норвегии, развивавшихся вне сферы античного мира и сравнительно поздно испытавших влияние развитых феодальных обществ, долго сохранялись пережитки родовых отношений и патриархального рабства. Раннефеодальный период длился в Скандинавии до XII—XIII вв. Сложившийся в этих условиях феодализм отличался значительным своеобразием: в Скандинавских странах не получили большого распространения личная зависимость крестьян и барщина, а Норвегия их вообще не знала; права феодалов на лены были более ограничены, а вассальные отношения (феодальная иерархия) — менее развиты, чем в странах Западной Европы. Что касается Исландии, колонизованной преимущественно норвежцами, то в ней феодализм вообще не развивался и она оставалась страной свободных самоуправляющихся хуторян до 60-х годов XIII в., когда Исландия подпала под власть норвежского короля. Замедленное развитие Скандинавских стран в немалой степени объясняется естественногеографическими условиями: относительно суровым климатом, преобладанием моренного, горного ландшафта с малым количеством удобных для хлебопашества земель. В горных районах Норвегии и Швеции земледелие было возможно лишь на ограниченных пространствах и велось весьма примитивно. Большую роль играло скотоводство; в лесных областях и на севере — в тундре — были распространены охота на пушного зверя и оленеводство, на побережье занимались рыболовством. Скандинавы издавна были искусными кораблестроителями и мореходами. Только в южной части Скандинавского полуострова — в области Сконе, а также на равнинном Ютландском полуострове (с прилегающими островами) существовали благоприятные условия для земледелия. Здесь раньше, чем в других областях Скандинавии, стали распространяться двух- и трехполье, обработка земли плугом с железным лемехом. Общественно-политический строй скандинавов в раннее средневековье. Основную массу населения Скандинавии составляли свободные — бонды. Это были земледельцы, скотоводы, охотники и рыбаки, имевшие собственное хозяйство и жившие в обособленных хуторах (в Норвегии и в некоторых районах Швеции, а также в Исландии) либо небольшими деревушками (в Дании и в большей части Швеции). В датских общинах практиковались переделы земли. Большая семья являлась собственницей пахотной земли, которую нельзя было отчуждать; такое владение называлось одалем. Даже после того как начались разделы больших семей, выделявшиеся из их состава индивидуальные семьи не получали права свободного распоряжения участками: сородичи сохраняли в течение длительного времени право преимущественного приобретения и выкупа одаля. Леса, луга и прочие угодья оставались в общей собственности жителей всего округа и считались «общими владениями» (альменнингами). Складывание классового общества в условиях Скандинавии шло медленно. Большую роль играли органы местного самоуправления — тинги, областные и окружные собрания бондов. На них вершился суд, решались споры, заключались различные сделки. Право функционировало в Скандинавских странах первоначально как областное, и у каждой области существовали собственные обычаи. В более позднее время, когда появилась письменность (помимо древнего рунического письма), областные правовые уложения были записаны. Постепенно усиливалось общественное влияние знати. Источником ее могущества были прежде всего стада скота, торговля и особенно богатства, захваченные в морских походах и набегах викингов в IX — первой половине XI в. Там, где родовая знать имела земельные владения, она эксплуатировала рабов из пленных, отчасти из числа обедневших свободных, которых наделяли земельными участками. На Ютландском полуострове, в Сконе и на равнинных пространствах Швеции, где земледелие играло важную роль, возникали поместья с барской запашкой. По мере роста могущества знати, с одной стороны, и подчинения ей части свободных — с другой, углублялся процесс классообразования и возникали предпосылки для складывания государства. Походы викингов ускорили этот процесс. Первые скандинавские короли (конунги), выделившиеся из родовой знати, в течение длительного времени в значительной степени оставались предводителями племен и племенных союзов. Тем не менее постепенно закладывались основы политического объединения. В Дании этот процесс начался еще в VIII в., а во второй половине X в. Харальд Синезубый (ок. 950 г. — ок. 986 г.) значительно упрочил королевскую власть. Конунгу Харальду Прек-расноволосому в конце IX в. удалось подчинить себе многие племенные округа Норвегии, и в начале XI в. объединение Норвегии было в основном завершено. Но королевская власть в Норвегии не стала достаточно прочной. Король Олав Харальдссон (1016— 1028) был изгнан из страны и погиб в борьбе против восставших крестьян и знати (в 1030 г.). Затем Норвегия была временно включена в состав обширной, но непрочной державы датского короля Кнута. В Швеции долгое время существовало два королевства: к северу область свеев с центром в Упсале и южнее расположенная область племен ётов. Объединение их под властью королей Упсалы произошло к началу XI в. при короле Олафе Скётконунге (ок. 995 г. — 1020 г.). Однако еще и в XII в. власть шведского короля оставалась ограниченной. Добиваясь укрепления своего положения, королевская власть стремилась опереться на христианскую церковь. Но христианизация наталкивалась на упорное противодействие крестьян и родовой знати, связывавших сохранение язычества с защитой своей независимости. Поэтому борьба против усиления королевской власти принимала подчас форму борьбы за сохранение язычества. Христианская церковь укрепилась в Скандинавии в конце X — начале XI в., однако язычество не было окончательно сломлено еще и в XII в. Тем не менее с успехами феодализации влияние церкви росло. Около 1103 г. было учреждено общескандинавское архиепископство в Лунде. Церковь получала щедрые пожалования от королей, приобрела особую юрисдикцию и стала проводником влияния церковного права в Скандинавии. Духовенство добилось в своих интересах отмены некоторых ограничений в распоряжении землей. § 6. Англия до середины XI в. Англосаксонские королевства в Британии и особенности процесса феодализации. На территории Британии, завоеванной англосаксами (эта территория и стала впоследствии собственно Англией), в период со второй половины V до начала VII в. образовалось несколько варварских англосаксонских королевств: Кент — на крайнем юго-востоке, основанный ютами; Уэссекс и Суссекс — в южной и юго-восточной части острова, основанные саксами; Восточная Англия — на востоке; Нортумбрия — на севере и Мерсия — в центре страны, основанные главным образом англами. Некоторая часть кельтского населения Британии, избежавшая истребления, слилась с завоевателями — германцами. Так кельтский элемент вошел в этнический состав английского народа. Процесс феодализации англосаксонских королевств был относительно замедленным и прошел через два этапа: V—VIII века, когда он только начинался, и IX—XI века, когда феодальный способ производства на этой территории уже стал господствующим. Медленность его складывания в Англии определялась рядом причин. Во-первых, относительно более слабой романизацией Британии в I — начале V в. н. э. по сравнению, например, с Галлией этого времени. Римское влияние в аграрных отношениях сказалось преимущественно на юго-востоке острова; в других ее областях оно проявилось главным образом в создании отдельных укрепленных пунктов, строительстве дорог и мостов. После ухода римских легионеров в начале V в. до массовых германских вторжений в конце века эти элементы романизации были в значительной мере ликвидированы местным кельтским населением, в среде которого господствовал еще племенной строй. В ходе англосаксонского завоевания следы романизации исчезли почти полностью. Поэтому феодализм в Англии развивался с очень слабыми элементами германороманского синтеза, в основном путем внутренней эволюции разлагающегося родоплеменного строя англосаксов. Во-вторых, переселившиеся в Британию племена англов, саксов, ютов и фризов находились на более низком уровне социально-экономического развития, чем франки, не говоря уже о вестготах и бургундах, и дольше, чем они, сохраняли и на новом месте значительные пережитки родоплеменного строя. Этому способствовало и то, что они расселялись среди покрывавших всю Англию лесов, вдоль речных долин, в изолированных друг от друга и от кельтов поселениях. Из англосаксонских правд VI—VII вв. видно, что преобладающим занятием завоевателей, особенно в центре и на юге страны, было земледелие, но заметную роль играло и скотоводство, а также рыболовство, охота и лесные промыслы, в некоторых же районах — добыча соли, железа и свинца. Земледелие было пашенным. В нем использовался чаще всего тяжелый плуг с упряжкой из 4 или 8 волов, реже легкий, одноволовый. В центральных и южных районах Англии уже было распространено двухполье. Возделывались озимая пшеница, рожь, ячмень, овес, бобы и горох. С момента расселения, задолго до возникновения у англосаксов феодального землевладения, они жили общинами. Вопрос о характере этих общин для VI—VII вв. является спорным. В источниках нет прямых упоминаний о системе открытых полей и чересполосице, характерных для соседской общины — марки. Они появляются здесь только в IX—X вв. До этого в Англии существовали, видимо, два типа общины — большесемейная (земледельческая) и более крупная общинная организация, объединявшая несколько поселений в единый округ, в центре которого сходилось собрание глав больших семей, вершились судебные дела, осуществлялось самоуправление. Отдельные деревенские общины, состоящие из индивидуальных семей, стали возникать только к концу VII — началу VIII в. Основную массу населения вплоть до IX в. составляли свободные крестьяне-общинники — кэрлы, владевшие довольно крупными участками земли — гайдами (участок, который при тяжелых глинистых почвах Англии можно было вспахать 8-воловым плугом), что тоже предполагало наличие больших патриархальных семей. Последнее обстоятельство задерживало возникновение в Англии свободно отчуждаемой земельной собственности типа франкского аллода. Распоряжение наделом ограничивалось правами всех членов большой семьи. Позднее такое большесемейное владение, основанное на обычном общинном праве, стало называться фольклендом (народная земля). Такую землю нельзя было завещать, продавать, передавать по женской линии. Кэрлы VI—VII вв. обладали полноправием, имели право участвовать в народных собраниях, самоуправлении, иметь оружие и составляли основу военного ополчения англосаксонских королевств. Социальное расслоение. Зависимое население. Однако уже ранние англосаксонские правды свидетельствуют о наличии в обществе социального расслоения. Кроме основной массы кэрлов в них упоминаются родовая знать — эрлы, позднее королевские дружинники — «гезиты», жизнь которых была защищена более высоким вергельдом, а также рабы и полусвободные люди — лэты и уили (так назывались завоеванные англосаксами кельты — уэльсцы). Эти низшие категории населения сидели уже на чужой земле, платили своим господам натуральный оброк, а иногда и работали на них. Они составляли главную рабочую силу на землях как эрлов, так отчасти и кэрлов. Начало процесса феодализации. С конца VII в. в англосаксонских государствах, где раньше, где позже, начинается процесс феодализации. Происходит рост имущественного неравенства среди кэрлов, заставляющий тех, кто обеднел, брать землю у более богатых людей, искать их покровительства. Однако главным средством феодализации в Англии этих столетий было зарождение феодальной собственности в результате массовых королевских пожалований дружинникам и церковным учреждениям земли или чаще права собирать с определенных участков королевских владений поборы, т. е. держать ее в качестве «кормления». Такие пожалования оформлялись грамотами, а земля, доходы от которой передавались кому-либо, называлась «бокленд» (от англосаксонского bос — грамота, и land — земля). С появлением бокленда в Англии возникает крупное феодальное землевладение, так как обычно право получения доходов с пожалованной земли вскоре превращалось в право свободно отчуждаемой собственности на нее, а люди, жившие на этой земле, постепенно становились зависимыми от владельцев бокленда, хотя и сохраняли еще долго личную свободу. Крупные землевладельцы, в зависимость от которых втягивались обедневшие и разорившиеся кэрлы, назывались глафордами (более поздняя форма — «лорд», что соответствовало понятию «сеньор», «господин»). Однако и в условиях развития бокленда и глафордата основная масса кэрлов по крайней мере до XI в. оставалась мало втянутой в процесс феодализации, а община, постепенно приобретавшая облик соседской, деревенской общины, сохраняла свою свободу. Поэтому и главную рабочую силу на землях, пожалованных в бокленд, составляли еще рабы и полусвободные из местного населения, но не англосаксонские кэрлы. Характерно, что в англосаксонской Англии были неизвестны прекарные сделки, служившие во Франкском государстве одним из основных каналов втягивания свободных крестьян в поземельную зависимость. Главную же роль в этом процессе до IX—X вв. играла, как отмечалось, королевская власть. Всемерно содействовала процессу феодализации и церковь. Христианизация англосаксов началась в 597 г. в Кенте и затянулась до конца VII в. в силу неоднократных рецидивов язычества, особенно в Мерсии и Нортумбрии. Христианская церковь укрепляла своим авторитетом королевскую власть и группировавшуюся вокруг нее землевладельческую знать. Короли в свою очередь щедро одаривали епископов и монастыри боклендами, подчиняли их власти крестьянское население. Поэтому распространение христианства долго вызывало протест свободного англосаксонского крестьянства. Эволюция государства у англосаксов. В момент их образования в ходе завоевания Англии англосаксонские королевства отличались большой архаичностью и долгое время сохраняли пережитки политического строя военной демократии. Король выступал в них в VI и VII вв. скорее как племенной вождь, чем как носитель государственности. Большую роль играли органы местного, уже в основном территориального управления — народные собрания округов, состоявших из нескольких поселений. Позднее эти округа стали объединяться в сотни, в которых собирались сотенные собрания всех свободных жителей этих территорий. Еще более крупные территориальные единицы с начала IX в. составляли графства — скиры или шайры в каждом королевстве, которые тоже имели свои народные собрания — моты или гемоты. Возможно, что в более ранний период в рамках каждого королевства собирались и общенародные собрания свободных общинников-воинов, но прямые данные об этом отсутствуют. Как уже отмечалось, войско длительное время состояло в основном из ополчения кэрлов. Однако с развитием феодальных отношений, в частности глафордата, в народных собраниях на уровне общинных сходов, сотен и графств решающая роль переходила к крупным землевладельцам, глафордам и их приказчикам, простые же кэрлы постепенно теряли свое влияние. Одновременно усиливалось значение в этих собраниях и представителей королевской власти, в графствах — шерифов (шайррив), заменивших прежних руководителей собраний из числа родовой знати — элдерменов. Уменьшалась роль кэрлов и в военной организации королевств. По мере укрепления королевской власти растет значение в войске гезитов, отчасти вытеснявших, отчасти поглощавших старую родовую знать — эрлов. При этом разница в вергельде между кэрлом и знатным человеком — гезитом — во зрастает в несколько раз. Постепенное превращение племенных королевств в раннефеодальные государства сопровождалось постоянной борьбой между ними за титул верховного короля — бретвальды. В конце VI — начале VII в. ведущее положение занимал Кент, с середины VII в. — Нортумбрия, в VIII в. — Мерсия, с начала IX в. — Уэс-секс. Король Уэссекса Экберт в 829 г. объединил под своей властью в едином уже раннефеодальном государстве все англосаксонские королевства. Это стало возможным в силу того, что к этому времени процесс феодализации значительно продвинулся и феода-лизирующаяся верхушка общества испытывала потребность в усилении центральной власти, чтобы легче преодолевать сопротивление втягивавшихся в зависимость крестьян. С другой стороны, с конца VIII, особенно же с начала IX в. начались опустошительные набеги на Англию норманнов, преимущественно датчан на Восточную Англию и норвежцев на ее северо-западные области (см. § 5). Для борьбы с опасным врагом приходилось объединять усилия всех королевств, и Уэссекс, который менее других подвергался нападениям извне, стал естественным центром сопротивления завоевателям. В объединенном государстве заметную политическую роль стал играть новый орган — «совет мудрых» (уитенагемот), состоявший из наиболее могущественных крупных землевладельцев королевства. Однако объединение страны не спасло ее от датской угрозы. Датчане постепенно захватили для поселения значительную территорию на северо-востоке страны и теснили англосаксов к югу. Их продвижение было приостановлено в правление короля Альфреда Великого (871—899 или 900 г.). Альфред начал укреплять военные силы англосаксов, опираясь, с одной стороны, на пешее крестьянское ополчение (фирд), с другой — на созданное им конное тяжеловооруженное войско мелкопоместных землевладельцев. Альфред построил также большой флот и сильные пограничные укрепления. Это позволило ему противостоять натиску датчан. Он вынудил их заключить договор о разделе Англии на две части: юго-западную в центре с Уэссексом и северо-восточную «область датского права» (Дэнло), оставшуюся в руках датчан. Альфред собрал и издал все старые англосаксонские законы в виде единого свода, дополнив их новыми королевскими постановлениями. Эта «Правда короля Альфреда» отражала уже развитие в стране феодальных порядков и закрепила их к выгоде складывающегося господствующего класса. Во второй половине X в. король Эдгар (959—975) ликвидировал самостоятельность области Дэнло и вновь объединил всю территорию Англии в единое государство. Датские набеги и необходимость борьбы с ними, с одной стороны, несколько замедлили феодализацию англосаксонского общества, особенно на северо-востоке страны. Датчане в IX—X вв. отставали от англосаксов в своем развитии, у них в большей степени сохранялись общинный строй и свободное крестьянство, которые еще энергично противостояли феодализации. С другой стороны, однако, длительные войны с датчанами, требовавшие частых сборов ополчения и постоянных поборов на ведение военных действий или откупов от нападения противника («датские деньги»), способствовали разорению свободного крестьянства. В этих условиях оно все больше теряло свою землю в пользу крупных землевладельцев, которых продолжало поддерживать своими пожалованиями раннефеодальное государство. Все большая часть кэрлов в IX—XI вв. превращается в зависимых крестьян, эксплуатируемых лордами. Важную роль в этом процессе теперь начинают играть иммунитетные пожалования королей крупным феодалам — так называемая сока. Крестьяне, оказывавшиеся на территории соки, — сокмены — находились в судебной зависимости от иммуниста и хотя сохраняли личную свободу, но постепенно обязывались платить ему различные поборы и нести в его пользу повинности. В X и начале XI в. в Англии, особенно на юге страны, появляются уже крупные вотчины (в Англии они назывались манорами), обрабатываемые барщинным трудом феодально зависимых крестьян. Из инструкции управляющему вотчиной (Gerefa) и латинского трактата «Об обязанностях разных лиц» (в вотчине. — Ред.), относящихся к этому времени, мы знаем, что в этих феодальных вотчинах работали три основные группы крестьян: гениты — потомки свободных кэрлов, чья зависимость, возникшая в результате пожалования земли, на которой они жили, в бокленд, была относительно легкой; гебуры — основная рабочая сила в ма-норе, выполнявшая тяжелую барщину, — получали землю и инвентарь от господина и находились в тяжелой зависимости от него; котсетли — держатели мелких наделов, по своему правовому положению близкие к гебурам. К этому времени завершается и процесс формирования нового господствующего слоя военнослужилой знати, так называемых тэнов, пришедших на смену прежним королевским дружинникам — гезитам. Тэны, как правило, уже были мелкими и средними феодальными землевладельцами, предшественниками будущих рыцарей. К середине XI в. Англия была в значительной мере феодализирована. Однако процесс феодализации не был еще завершен: наряду с феодальными вотчинами сохранялось еще много свободных общин и даже свободных крестьян-собственников, игравших заметную роль в органах самоуправления и в войске. Возобновление и конец датских нашествий. В конце X в. датские короли, объединившие к этому времени под своей властью не только Данию, но и южную часть Скандинавского полуострова, возобновили набеги на Англию и в 1016 г. установили там свою власть. Король Кнут (1016—1035) был одновременно королем Англии, Дании и Норвегии. Стремясь найти опору в лице крупных англосаксонских землевладельцев, он подтверждал многие из присвоенных ими привилегий и прав. Датское владычество в Англии оказалось непрочным. Используя внутренние раздоры в Датском государстве, англосаксы продолжали борьбу с чужеземным гнетом. Вскоре после смерти Кнута большая Датская держава распалась и на английский престол вступил представитель старой англосаксонской династии Эдуард по прозвищу Исповедник (1042—1066). § 7. Испания в VIII — середине XI в. Мусульманское завоевание Испании. К концу VII в. арабы завершили покорение византийских владений в Северной Африке, и в 709 г. их первый отряд высадился на территории Вестготского королевства. Кроме арабов в завоевании участвовали коренные жители Северной Африки — берберы, незадолго до того принявшие ислам. В 711 г. началось их массовое вторжение в Испанию. Вестготское войско значительно превосходило врага численно, однако потерпело сокрушительное поражение в первой же крупной битве; к 714 г. сдались все крупные крепости королевства. Арабы и берберы (в христианском мире их обычно называли маврами) захватили вестготские владения и к северу от Пиренеев, однако их продвижение в глубь Франкского королевства было остановлено Карлом Мартеллом. Слабость Вестготского королевства была обусловлена острыми внутренними социальными и политическими противоречиями. Крестьянство было отягощено повинностями и государственными налогами; знать вела ожесточенную борьбу за престол, поскольку принцип наследования королевской власти здесь так и не утвердился; огромное влияние католической церкви вызывало неудовольствие у части светской знати, а также у проживавших в стране ариан и иудеев. Поэтому основная масса населения довольно безразлично отнеслась к вторжению арабов, а некоторые представители господствующей верхушки (например, архиепископ Севильи) даже помогали им. Серьезное сопротивление мавры встретили лишь на гористом севере полуострова, где несколько позже сформировались испано-христианские государства. Мусульманская Испания. До 755 г. мусульманская Испания (или ал-Андалус) входила в состав Дамасского халифата. Когда власть там захватили Аббасиды, представитель свергнутой династии Омейядов Абд ар-Рахман сумел утвердиться в ал-Андалусе и провозгласил себя эмиром. Его столицей стал город Кордова. В 929 г. эмир Абд ар-Рахман III окончательно утвердил независимость арабской Испании от других исламских государств, присвоив себе титул халифа. X век был вершиной политического могущества ал-Андалуса, однако вызревавшие в это время тенденции феодальной раздробленности вызвали в 1008—1031 гг. серию междоусобиц и дворцовых переворотов, что привело к распаду халифата на несколько десятков независимых княжеств-тайф, крупнейшими из которых были Кордовская, Толедская, Севильская, Валенсийская, Сарагосская тайфы. В экономическом отношении мусульманская Испания представляла собой процветающий регион раннесредневековой Европы. На юге полуострова были созданы ирригационные системы, позволившие значительно поднять урожайность традиционных культур (зерновых, винограда и др.) и начать культивирование новых (сахарный тростник, рис, хлопок, некоторые овощи и фрукты). В центральных районах страны получило широкое распространение перегонное овцеводство. Значительная часть завоевателей осела в городах, которые быстро превратились в торгово-ремесленные центры. Ал-Андалус славился своими тканями, керамикой, изделиями из металла и кожи. Несмотря на сложные отношения с остальным исламским миром, арабская Испания активно торговала на Средиземном море, ее монета обращалась на огромной территории от Индии до Ирландии. Экономическое благополучие отличало ал- Андалус вплоть до его окончательного покорения христианами в XV в., делало его города привлекательной целью для военных походов. Социальный строй ал-Андалуса свидетельствует о специфичности местного варианта феодализма. В сельском хозяйстве господствовало мелкое крестьянское хозяйство при фактически полном отсутствии домена. Не получили развития прикрепление крестьян к земле и связанные с ним тяжелые формы личной зависимости. Крестьяне, как правило, арендовали на тяжелых условиях (до 2/з доходов с земли) участки у крупных землевладельцев (воинов, чиновников, придворных и т.п.), проживавших обычно в городах, а также платили значительные налоги в казну. В отличие от других западноевропейских стран раннего средневековья платежи взимались главным образом деньгами. Политическое развитие ал-Андалуса даже в период халифата с его централизованной и развитой администрацией отличалось относительной нестабильностью. Правители отдельных территорий, особенно окраинных, нередко добивались реальной автономии от Кордовы. Постоянно вспыхивали мятежи, вызванные противоречиями между различными племенными группировками арабов, между арабами и берберами. Непросто складывались и отношения завоевателей с местным населением. Значительная часть его приняла ислам, другая, сохранив свою религию, усвоила язык и культуру мавров (таких называли мосарабы, т. е. арабизированные). Тем не менее эти категории населения не были полноправными, часто поднимали восстания, особенно в периоды усиления мусульманского религиозного фанатизма. Главным очагом таких восстаний был город Толедо. Высокоразвитая городская цивилизация мусульманской Испании стала базой для невиданного в раннесредневековой Западной Европе развития культуры. В светских и религиозных школах Кордовы, Севильи, Толедо изучались право, философия, история, причем здесь учились и выходцы из христианской Европы. Библиотека кордовских халифов насчитывала более 400 тыс. свитков, в том числе переводы античных и византийских авторов. Деятельность андалусских ученых и переводчиков сыграла большую роль в становлении европейской средневековой науки; сюжеты и художественные приемы испаноарабской литературы активно заимствовались писателями и поэтами других стран; арабская лексика обогатила все европейские языки, в особенности испанский и португальский. Возникновение испано-христианских государств и начало Реконкисты. В ходе завоевательного похода 709—714 гг. арабам не удалось закрепиться на небольшой территории между Кантабрий-скими юрами, Пиренеями и Бискайским заливом. Эти земли, заселенные кантабрами, астурами, басками1, не смогли в свое время захватить ни римляне, ни готы, здесь почти не получили распространения процессы феодализации. Бежавшие в Астурию немногочисленные остатки вестготского войска получили поддержку местного населения. В 718 г. близ местечка Ковадонга был разбит арабский отряд, посланный для ликвидации этого последнего очага сопротивления. Командовал победителями Пелайо, родственник последнего готского короля; он был провозглашен первым королем Астурии. К концу 50-х годов VIII в., воспользовавшись междоусобицами в ал-Андалусе, астурийские короли су1 Автохтонное, докельтское население Пиренейского полуострова мели захватить земли, в несколько раз превосходившие по площади первоначальную территорию государства. Часть этих земель (Галисия) была присоединена, часть опустошена. На границах образовалась своеобразная заградительная полоса от арабских набегов, которая служила одновременно земельным фондом, пригодным для колонизации и хозяйственного освоения (они зафиксированы в источниках уже в самом начале IX в.). Процесс возвращения и колонизации испано-христианскими государствами занятых мусульманами территорий получил названия Реконкиста (по-испански reconquista — обратное завоевание). Стабильность этого процесса и его конечная победа в XV в. были обусловлены тем, что все группы населения христианских территорий по тем или иным причинам были заинтересованы в Реконкисте. Феодалы в ходе завоеваний получили новые земли, должности в администрации покоренных областей, укрепляли свою самостоятельность по отношению к центральной власти. Церковь не только получала обширные земельные пожалования, но и учреждала в бывших мусульманских владениях новые приходы, монастыри, епископства, использовала лозунги борьбы христианства против ислама для усиления своего идейного и политического влияния в обществе. Победы над ал-Андалусом обогащали королевскую казну, упрочивали позиции и престиж короны как внутри страны, так и на международной арене. Крестьянство стремилось найти на новых территориях облегчение от сеньориальных и государственных повинностей, приобрести землю, еще не поглощенную феодальными вотчинами. Города, которые основывались в ходе Реконкисты или заселялись христианами после отвоевания, пользовались значительными льготами. Общим для всех участников войн с маврами было стремление к захвату богатой добычи. Реконкиста длилась почти восемь веков и имела свои особенности на различных этапах истории Испании. Так, до середины VIII в. для астурийской Реконкисты было характерно переселение людей с юга на север, освоение внутренних районов королевства выходцами из разоренных войной территорий, а также эмигран-тами-мосарабами. До середины IX в. заселение безлюдных пограничных земель велось на свой страх и риск отдельными крестьянами и вотчинниками. Позже, когда граница Реконкисты подошла к заселенным землям, замкам и городам, руководство ею взяла на себя королевская власть. В конце VIII в. наряду с королевством Астурия на Пиренейском полуострове сложился еще один центр Реконкисты — владения франков. Хотя поход Карла Великого на Сарагосу в 778 г. не был удачным, вскоре после него франкам удалось захватить территорию нынешней Каталонии. Там была создана Испанская марка с центром в Барселоне. Горные районы между Астурией, Каталонией и арабскими владениями переходили из рук в руки, пока в течение IX—X вв. здесь не образовались два небольших государства — королевство Наварра и графство Арагон. Таким образом, весь север полуострова был отвоеван у арабов. В X — начале XI в. на политической карте Испании происходят серьезные изменения. После распада империи Каролингов на территории Испанской марки образуется фактически самостоятельное графство — Барселонское. Астурийские короли, отвоевав у мавров несколько крупных городов к северу от реки Дуэро, перенесли свою столицу из Овьедо в Леон. Во второй половине X в., в период наивысшего расцвета халифата, Реконкиста приостановилась. Мусульмане под командованием талантливого полководца аль-Мансура неоднократно опустошали как Астуро-Леонское королевство, так и Барселонское графство. Королевская власть в Леоне в это время ослабела, большое влияние в стране приобрели графы Кастилии, сумевшие объединить прежде раздробленные земли на востоке страны. В 1035 г. Арагон и Кастилия стали королевствами. В 1037 г. кастильский король Фернандо I разбил леонского короля и объединил под своей властью запад христианской Испании. Таким образом, к концу 30-х годов XI в. на Пиренейском полуострове сложились: королевство Кастилия1, Наварра и Арагон, графство Барселонское с вассальными территориями и около тридцати мусульманских княжеств. Социально-экономический и политический строй Астуро-Леонского королевства. Север Пиренейского полуострова, за исключением побережья Каталонии, был отсталой окраиной как римской, так и готской Испании. Арабское завоевание, постоянные набеги с юга также препятствовали экономическому развитию региона. До XI в. Астуро-Леонское королевство было малолюдной аграрной страной. Жители небольших, удаленных друг от друга деревень занимались возделыванием злаковых (пшеница, ячмень) и технических (лен, конопля) культур. Под влиянием Реконкисты необычайно широкое распространение получило скотоводство. Оно требовало меньшего количества рабочих рук, чем земледелие; в случае военной опасности стада были гораздо менее уязвимы, чем посевы; пограничные территории с их благоприятным ландшафтом и редким населением могли успешно использоваться под пастбища; широкое применение конницы в войнах также стимулировало развитие этой отрасли хозяйства. Поскольку названные факторы действовали на протяжении всей Реконкисты, скотоводство долго оставалось важнейшим элементом экономики средневековой Испании. Кроме того, в Астуро-Леонском королевстве получили развитие промыслы (рыболовство, добыча соли), домашнее и вотчинное ремесло. Торговля была слабой. Социальный строй страны характеризовался складыванием классов феодального общества. Источниками формирования зависимого крестьянства были: дифференциация в среде свободных кантабро-баскских общинников; переселение на север (вместе с вотчинниками) части зависимого населения в процессе арабского завоевания; захват свободных земель внутри страны вестготской 1 В литературе принято называть государства на западе христианской Испании Астуро-Леонским (VIII—XI вв.) и ЛеоноКастильским (XI —XIII вв.) королевствами. и местной знатью и подчинение живущих на них общинников; включение в феодальные вотчины завоеванных территорий и их населения; испомещение на земле пленных мавров. К середине X в. в королевстве складывается система феодальных повинностей. Поземельно зависимые крестьяне (хуньорес де эредад, соларьегос и др.) выплачивали поземельный налог, отрабатывали полевые барщины. Лично зависимые (хуньорес де кабеса, кольясос и др.), кроме того, платили подушную подать, поборы за право наследовать имущество, вступать в брак вне вотчины. Потребности Реконкисты обусловили весомую долю служб и платежей военно-административного характера (военный налог, налоги и отработки по ремонту дорог, укреплений, мостов) в системе повинностей. Существенное значение имели поборы за пользование покосами и пастбищами. Тем не менее, несмотря на разнообразие и тяжесть феодальных повинностей, в Астуро-Леонском королевстве не сложились предпосылки для развития особенно тяжелых, жестких форм крестьянской зависимости. Необходимость колонизации новых земель заставляла вотчинников и королевскую власть предоставлять переселенцам льготные условия поселения, частыми были случаи бегства крестьян на свободные территории близ южной границы. В такой обстановке даже в глубинных районах страны феодалы были вынуждены смягчать эксплуатацию; серваж исчез уже к XI в. Кроме того, свободные крестьяне составляли важный источник пополнения войска, что побуждало государство заботиться о сохранении данной категории населения. С X в. кастильские графы даже предоставляют свободным крестьянам, способным содержать боевого коня и снаряжение, некоторые привилегии, сближавшие таких крестьян (их называли кабальеросвильянос) с низшими слоями господствующего класса. Свободное крестьянство пополнялось и за счет привлечения на пустующие земли переселенцев-мосарабов из ал-Андалуса. В состав господствующего класса Астуро-Леонского королевства входила высшая светская знать, средние и мелкие служилые феодалы (инфансоны), крупное духовенство. Феодальная вотчина здесь отличалась относительно неразвитым доменом; значительную роль в доходах феодалов помимо поземельных платежей играли поступления от военной добычи, отправления судебных и административных должностей. Наибольшая концентрация крупного вотчинного землевладения наблюдалась в Галисии, наибольшее распространение мелкого крестьянского и вотчинного землевладения — в Кастилии. Астуро-Леонское королевство было раннефеодальным государством. В VIII в. король в значительной степени являлся еще военным вождем, опиравшимся на вооруженную силу свободных общинников, лишь к X в. утвердился принцип наследования верховной власти, сложилась достаточно примитивная система центральной и местной администрации (королевский совет, дворцовые графы, судьи и графы на местах). Большую роль в военной организации наряду с феодальными дружинами продолжало играть крестьянское ополчение. Особенностью внутрифеодальных отношений было сравнительно слабое распространение иммунитетов, замедленное превращение бенефициев (в Испании они назывались престимониями) в феоды и постоянное укрепление королевского домена за счет включения в него отвоеванных у мавров земель. Это способствовало относительной стабильности центральной власти. Кроме того, очевидная внешняя опасность заставляла господствующий класс ограничивать сепаратистские устремления. Вследствие этого феодальная раздробленность не приводила в Испании к утрате государственного единства. Каталония. В IX в. на территории Испанской Марки возникает несколько графств, управляемых наместниками франкских государей — графами. Наиболее сильным из них было графство Барселонское, где в последней четверти столетия укореняется династия, основанная графом Вифридом Волосатым. После распада франкской державы Испанская Марка оказалась в составе Французского королевства. Самостоятельность ее постепенно росла, и когда в 987 г. во Франции была низложена династия Каролинггов, графы Испанской Марки отказались признать Гуго Капета королем. С этого времени их подчинение французской короне стало номинальным, хотя и сохранялось юридически до 1259 г. В XI в. в Испанской Марке происходит политическая консолидация вокруг Барселонского графства, постепенно подчинившего себе другие графства области. В дальнейшем за ней закрепляется название «Каталония», которое, как и топоним «Кастилия», по-видимому, означает «страна замков». Каталония также участвовала в Реконкисте, хотя и в меньшей мере, чем государства Западной Испании. Борьба шла с переменным успехом. В середине X в. каталонские графства признавали вассальную зависимость от Кордовского халифата и поддерживали с ним интенсивные торговые связи. В 985 г. мавры неожиданно напали на Барселону и разорили ее, но уже через два-три десятилетия инициатива перешла в руки христиан. К началу XII в. граница была отодвинута на юг, в сторону реки Эбро, а некоторые мусульманские правители, включая эмира Сарагоссы, платили графам Барселоны дань. Колонизация новых земель способствовала постоянному пополнению слоя крестьян-аллодистов, особенно в Южной, так называемой Новой Каталонии, где крестьяне были одновременно обязательно воинами. В Старой Каталонии также сохранялось крестьянское аллодиальное землевладение, сложившееся в ходе франкских завоеваний начала IX в. Однако здесь оно рано стало объектом притязаний со стороны светских и церковных сеньоров, с X в. опиравшихся на хорошо укрепленные замки, столь важные в приграничных условиях. Феодальная вотчина этого района была архаичной (вплоть до начала XI в. в ней использовался труд рабов) и влияние Реконкисты испытала на себе сравнительно слабо. В Старой Каталонии феодализация проходила быстрее, чем где бы то ни было в христианской Испании, а феодальная зависимость приняла наиболее тяжелые для крестьян формы. Свобода перехода крестьян из одной вотчины в другую или переселение их на новые земли существенно ограничивались, платежи взимались в большем размере, чем на западе Пиренейского полуострова, и сопровождались достаточно обременительными службами, в том числе унизительного характера. В середине XI в. крестьянские повинности были зафиксированы в первом кодексе феодального права Каталонии (одном из древнейших в Европе) — «Барселонских обычаях». Центральное место в этом своде занимают статьи, регулирующие взаимоотношения в среде феодалов. Они свидетельствуют, что социально-политическое развитие в Каталонии совершалось примерно в том же направлении и такими же темпами, что и в Южной Франции. Наварра и Арагон. Общественный строй Наварры и Арагона в раннее средневековье был более архаичен, чем в Астуро-Леонском королевстве и Каталонии. Этот район был очень слабо освоен римлянами, влияние вестготов и франков также было поверхностным. В рассматриваемый период здесь преобладало баскоязычное население, романизировавшееся очень медленно. Землевладение феодального типа развивалось главным образом в долинах больших рек, в горах же сохранялись свободные крестьянские общины. Запоздалым было и становление господствующего класса, обретение им характерной для феодализма иерархической структуры. Об утверждении в этих государствах феодального строя можно говорить не ранее, чем с середины XI в. На рубеже X—XI вв. при короле Санчо Великом Наварра со столицей в Памплоне была сильным государством, подчинившем себе Арагон и Кастилию. После смерти Санчо (1035 г.) его держава распалась; Наварра, оттесненная от арабской границы своими более активными соседями, постепенно отошла от участия в Реконкисте. В дальнейшем ее судьба оказалась все теснее связанной с судьбой Франции. Арагон, напротив, ведет в XI в. последовательно наступательную политику, понемногу расширяя свои владения за счет мусульманских эмиратов долины Эбро. Общность целей во внешней политике с графством Барселонским предопределила слияние их в XII в. в единое государство. Развитое средневековье Глава 7. Возникновение и рост средневековых городов Средневековые города оказали значительное воздействие на экономику феодального общества, сыграли очень важную роль в его социально-политической и духовной жизни. XI столетие — время, когда в большинстве стран Западной Европы в основном сложились города, как и все главные структуры феодализма, — является хронологическим рубежом между ранним средневековьем (V—XI вв.) и периодом наиболее полного развития феодального строя (XI—XV вв.) Развитие городской жизни в раннее средневековье. Первые столетия средних веков в Западной Европе характеризовались почти полным господством натурального хозяйства, когда основные жизненные средства добываются в самой хозяйственной ячейке, силами ее членов и из ее ресурсов. Крестьяне, составляющие подавляющую массу населения, производили сельскохозяйственные продукты и ремесленные изделия, орудия труда и одежду для собственных нужд и для уплаты повинностей феодалу. Принадлежность орудий труда самому работнику, соединение сельского труда с ремеслом, — характерные черты натурального хозяйства. Лишь немногие специалисты-ремесленники проживали тогда в немногочисленных городских поселениях, а также в поместьях крупных феодалов (обычно в качестве дворовых людей). Небольшое число сельских ремесленников (кузнецы, гончары, кожевники) и промысловиков (солевары, углежоги, охотники) наряду с ремеслом и промыслами занимались и сельским хозяйством. Обмен продуктами был незначителен, он базировался прежде всего на географическом разделении труда: различиях в природных условиях и уровне развития отдельных местностей и регионов. Торговали преимущественно добываемыми в немногих пунктах, но важными в хозяйстве товарами: железом, оловом, медью, солью и т. п., а также предметами роскоши, не производившимися тогда в Западной Европе и привозимыми с Востока: шелковыми тканями, дорогими ювелирными изделиями и оружием, пряностями и т. д. Главную роль в этой торговле играли странствующие, чаще всего иноземные купцы (греки, сирийцы, арабы, евреи и др.). Производство продуктов, специально рассчитанное на продажу, т. е. товарное производство, в большей части Западной Европы почти не было развито. Старые римские города приходили в упадок, происходила аграризация экономики, а на варварских территориях города только возникали, торговля была примитивной. Конечно, и начало средневековья отнюдь не было «безгородским» периодом. Сохранялись еще позднерабовладельческий полис в Византии и западноримские города, в разной мере запустевшие и разрушенные (Милан, Флоренция, Болонья, Неаполь, Амальфи, Париж, Лион, Арль, Кельн, Майнц, Страсбург, Трир, Аугсбург, Вена, Лондон, Йорк, Честер, Глостер и многие другие). Но они по большей части играли роль либо административных центров, либо укрепленных пунктов (крепостей-бургов), либо церковных резиденций (епископов и т.д.). Их небольшое население мало чем отличалось от деревенского, многие городские площади и пустыри использовались под пашни и пастбища. Торговля и ремесла были рассчитаны на самих горожан и не оказывали заметного влияния на окружающие деревни. Больше всего городов сохранилось в наиболее романизированных областях Европы: могучий Константинополь в Византии, торговые эмпории в Италии, Южной Галлии, в вестготской, а затем арабской Испании. Хотя и там позднеантичные города в V—VII вв. пришли в упадок, некоторые из них были относительно многолюдны, в них продолжали действовать специализированные ремесла, постоянные рынки, сохранялись муниципальная организация и цехи. Отдельные города, прежде всего в Италии и Византии, являлись крупными центрами посреднической торговли с Востоком. На большей же части Европы, где не было античных традиций, существовали отдельные городские очаги и немногие ранние города, поселения городского типа были редки, малолюдны, не имели заметного экономического значения. Таким образом, в масштабах Европы городской строй как общая и завершенная система в раннее средневековье еще не сложился. Западная Европа отставала тогда в своем развитии от Византии и Востока, где процветали многочисленные города с высокоразвитым ремеслом, оживленной торговлей, богатыми постройками. Однако и существовавшие тогда пред- и раннегород-ские поселения, в том числе на варварских территориях, сыграли значительную роль в феодализационных процессах, выступая центрами политико-административной, стратегической и церковной организации, постепенно сосредоточивая в своих стенах и развивая товарное хозяйство, становясь пунктами перераспределения ренты и главными очагами культуры. Рост производительных сил. Отделение ремесла от сельского хозяйства. При том, что город становился средоточием отделившихся от сельского хозяйства функций средневекового общества, в том числе политико-идеологических, основой городской жизни была экономическая функция — центральная роль в складывающемся и развивающемся простом товарном хозяйстве: в мелком товарном производстве и обмене. Его развитие базировалось на общественном разделении труда: ведь постепенно выделяющиеся отдельные отрасли труда могут существовать лишь путем обмена продуктами своей деятельности. К X—XI вв. в хозяйственной жизни Западной Европы произошли важные изменения (см. гл. 6, 19). Рост производительных сил, связанный с утверждением феодального способа производства, в период раннего средневековья быстрее всего шел в ремесле. Он выражался там в постепенном изменении и развитии техники и главным образом навыков ремесла и промыслов, в их расширении, дифференциации, усовершенствовании. Ремесленная деятельность требовала все большей специализации, уже не совместимой с трудом крестьянина. Одновременно совершенствовалась сфера обмена: распространялись ярмарки, складывались регулярные рынки, расширялись чеканка и сфера обращения монет, развивались средства и пути сообщения. Наступил момент, когда неизбежным стало отделение ремесла от сельского хозяйства: превращение ремесла в самостоятельную отрасль производства, концентрация ремесла и торговли в особых центрах. Другой предпосылкой отделения ремесла и торговли от сельского хозяйства явился прогресс в развитии последнего. Расширились посевы зерна и технических культур: развивались и совершенствовались огородничество, садоводство, виноградарство и тесно связанные с сельским хозяйством виноделие, маслоделие, мельничное дело. Увеличилась численность и улучшилась породность скота. Использование лошадей внесло важные улучшения в гужевой транспорт и военное дело, в крупное строительство и обработку почвы. Увеличение продуктивности сельского хозяйства давало возможность обменивать часть его продуктов, в том числе пригодных как ремесленное сырье, на готовые ремесленные изделия, что избавляло крестьянина от необходимости производить их самому. Наряду с названными хозяйственными предпосылками на рубеже 1 и II тысячелетий появились важнейшие социальные и политические предпосылки складывания специализированного ремесла и средневековых городов в целом. Завершился процесс феодализации. Государство и церковь видели в городах свои опорные пункты и источники денежных поступлений и по-своему содействовали их развитию. Выделился господствующий класс, потребность которого в роскоши, оружии, особых условиях жизни способствовала увеличению слоя профессиональных ремесленников. А рост государственных налогов и сеньориальных рент до известного времени стимулировал рыночные связи крестьян, которым все чаще приходилось выносить на рынок не только излишки, но и часть необходимых для их жизни продуктов. С другой стороны, крестьяне, подвергавшиеся все большему гнету, стали убегать в города, это была форма их сопротивления феодальному гнету. Таким образом, к X—XI вв. в Европе появились необходимые условия для отделения, обособления ремесла от сельского хозяйства. Именно «с разделением производства на две крупные основные отрасли, земледелие и ремесло», писал Ф. Энгельс, возникло производство непосредственно для обмена, т. е. товарное производство, а также произошел важнейший сдвиг в области товарного обмена, товарных отношений вообще'. Но в деревне возможности для развития товарного ремесла были весьма ограниченными, так как рынок сбыта ремесленных изделий там узок, а власть феодала лишала ремесленника необходимой ему самостоятельности. Поэтому ремесленники бежали из деревни и селились там, где находили наиболее благоприятные условия для самостоятельного труда, сбыта своей продукции, получения сырья. Переселение ремесленников в рыночные центры и города было частью общего движения туда сельских жителей. В результате отделения ремесла от сельского хозяйства и развития обмена, в результате бегства крестьян, в том числе и знавших какое-либо ремесло, в X—XIII вв. (а в Италии с IX в.) повсюду в Западной Европе бурно росли города нового, феодального типа. Они являлись центрами ремесла и торговли, отличались по составу и основным занятиям населения, его социальной структуре и политической организации. Формирование феодальных городов, таким образом, не только отражало общественное разделение труда и социальную эволюцию периода раннего средневековья, но и было их результатом. Поэтому, являясь органичной составной частью феодализационных процессов, складывание города несколько отставало от складывания государства и основных классов феодального общества. Немарксистские теории происхождения средневековых городов. Вопрос о причинах и обстоятельствах возникновения средневековых городов представляет большой интерес. Пытаясь ответить на него, ученые в XIX и XX вв. выдвигали различные теории. Для значительной их части характерен формально-юридический подход к проблеме. Наибольшее внимание уделялось происхождению и развитию специфических городских учреждений, городского права, а не социальноэкономическим основам процесса. При таком подходе невозможно объяснить коренные причины происхождения городов. Немарксистских историков занимал главным образом также вопрос о том, из какой формы поселения произошел средневековый город и как учреждения этой предшествующей формы трансформировались в учреждения города. «Романистическая» теория (Савиньи, Тьерри, Гизо, Ренуар), которая строилась главным образом на материале романизированных областей Европы, считала средневековые города и их учреждения прямым продолжением поздних античных городов. Историки, опиравшиеся в основном на материал Северной, Западной, Центральной Европы (в первую очередь немецкие и английские), видели истоки средневековых городов в явлениях нового, феодального общества, но прежде всего правовых и институционных. Согласно «вотчинной» теории (Эйхгорн, Нич), город и его институты развивались из 1 См.-Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 163. феодальной вотчины, ее управления и права. «Марковая» теория (Маурер, Гирке, Белов) выводила городские учреждения и право из строя свободной сельской общины-марки. «Бурговая» теория (Кейтген, Мэтланд) усматривала зерно города в крепости-бурге и бурговом праве. «Рыночная» теория (Зом, Шредер, Шульте) выводила городское право из рыночного права, действовавшего в местах, где велась торговля. Все эти теории отличались односторонностью, выдвигая каждая какой-либо единственный путь или фактор возникновения города и рассматривая его преимущественно с формальных позиций. К тому же они так и не объяснили, почему большинство вотчинных центров, общин, замков и даже рыночных местечек так и не превратились в города. Немецкий историк Ритшель в конце XIX в. попытался объединить «бурговую» и «рыночную» теории, видя в ранних городах поселения купцов вокруг укрепленного пункта — бурга. Бельгийский историк А. Пиренн в отличие от большинства своих предшественников отводил определяющую роль в возникновении городов экономическому фактору — межконтинентальной и межрегиональной транзитной торговле и ее носителю — купечеству. Согласно этой «торговой» теории, города в Западной Европе возникали первоначально вокруг купеческих факторий. Пиренн также игнорирует роль отделения ремесла от сельского хозяйства в возникновении городов и не объясняет истоки, закономерности и специфику города именно как феодальной структуры. Тезис Пиренна о чисто торговом происхождении города ныне критикуется многими медиевистами. В современной зарубежной историографии сделано многое для изучения археологических данных, топографии и планов средневековых городов (Гансгоф, Планиц, Э. Эннен, Веркотерен, Эбель и др.). Эти материалы многое разъясняют в предыстории и начальной истории городов, почти не освещенной письменными памятниками. Серьезно разрабатывается вопрос о роли в складывании средневековых городов политико-административных, военных, культовых факторов. Все эти факторы и материалы требуют, конечно, прежде всего опоры на социально-экономические стороны возникновения и характера города как феодальной структуры. Наиболее серьезные современные зарубежные историки, воспринимающие материалистические идеи в отношении средневековых городов, разделяют и развивают концепции феодального города прежде всего как центра ремесла и торговли, а процесс его возникновения трактуют как результат общественного разделения труда, развития товарных отношений, социальной эволюции общества. Возникновение феодальных городов. Конкретно-исторические пути возникновения городов весьма разнообразны. Уходившие из деревень крестьяне и ремесленники селились в различных местах в зависимости от наличия благоприятных условий для занятия «городскими делами», т. е. делами, связанными с рынком. Иногда, особенно в Италии и Южной Франции, это были административные, военные и церковные центры, нередко располагавшиеся на территории старых римских городов, которые возрождались к новой жизни — уже в качестве городов феодального типа. Укрепления этих пунктов обеспечивали жителям необходимую безопасность. Концентрация населения в подобных центрах, в том числе феодалов с их слугами и свитой, духовных лиц, представителей королевской и местной администрации, создавала благоприятные условия для сбыта ремесленниками своих изделий. Но чаще, особенно в Северо-Западной и Центральной Европе, ремесленники и торговцы селились вблизи больших вотчин, усадеб, замков и монастырей, обитатели которых приобретали их товары. Селились они у пересечения важных дорог, у речных переправ и мостов, на берегах удобных для стоянки кораблей бухт, заливов и т. п., где издавна действовали традиционные торжища. Такие «рыночные местечки» при значительном росте их населения, наличии благоприятных условий для ремесленного производства и рыночной деятельности также превращались в города. Рост городов в отдельных областях Западной Европы происходил разными темпами. Раньше всего — в IX в. — феодальные города, прежде всего как центры ремесла и торговли, сформировались в Италии (Венеция, Генуя, Пиза, Флоренция, Бари, Неаполь, Амальфи); в X в. — на юге Франции (Марсель, Арль, Нарбонн, Монпелье, Тулуза и др.). В этих и других областях, уже знавших развитое классовое общество, быстрее, чем в других, специализировались ремесла, обострилась классовая борьба в деревне (приведшая к массовым побегам зависимых крестьян), произошло формирование феодального государства с его опорой на города. Раннему возникновению и росту итальянских и южнофранцузских городов способствовали также торговые связи этих областей с более развитыми в то время Византией и странами Востока. Конечно, известную роль сыграло и сохранение там остатков многочисленных древних городов и крепостей, где легче было найти приют, защиту, традиционные рынки, рудименты ремесленных организаций и римского муниципального права. В X—XI вв. стали возникать феодальные города в Северной Франции, в Нидерландах, в Англии и Германии — по Рейну и верхнему Дунаю. Фландрские города Брюгге, Ипр, Гент, Лилль, Дуэ, Аррас и другие славились тонкими сукнами, которыми снабжали многие страны Европы. В этих областях было уже не так много римских поселений, большинство городов возникало заново. Позднее, в XII-XIII вв., выросли феодальные города на северных окраинах и во внутренних областях Зарейнской Германии, в Скандинавских странах, в Ирландии, Венгрии, дунайских княжествах, т. е. там, где развитие феодальных отношений происходило медленнее. Здесь все города вырастали, как правило, из рыночных местечек, а также областных (бывших племенных) центров. Распределение городов на территории Европы было неравномерным. Особенно много их было в Северной и Средней Италии, во Фландрии и Брабанте, по Рейну. Но и в других странах и регионах количество городов, включая мелкие, было таково, что обычно житель деревни мог добраться до какоголибо из них в течение одного дня. При всем различии места, времени, конкретных условий возникновения того или иного города оно всегда являлось результатом общего для всей Европы общественного разделения труда. В социальноэкономической сфере оно выражалось в отделении ремесла от земледелия, развитии товарного производства и обмена между разными сферами хозяйства и разными территориями и поселениями; в собственно социальной и политической сферах — в развитии классов и государства с их институтами и атрибутами. Этот процесс имел длительный характер и не был завершен в рамках феодальной формации. Однако в X—XI вв. он стал особенно интенсивным и привел к важному качественному сдвигу в развитии общества. Простое товарное хозяйство при феодализме. Товарные отношения — производство на продажу и обмен, — концентрируясь в городах, стали играть огромную роль в развитии производительных сил не только в самом городе, но и в деревне. Натуральное в своей основе хозяйство крестьян и господ постепенно втягивалось в товарно-денежные отношения, появлялись условия для развития внутреннего рынка на основе дальнейшего разделения труда, специализации отдельных районов и отраслей хозяйства (разные виды земледелия, ремесел и промыслов, скотоводство). Само товарное производство средних веков не следует отождествлять с капиталистическим или видеть в нем прямые истоки последнего, как это делали некоторые немарксистские историки (А. Пиренн, А. Допш и др.). В отличие от капиталистического простое товарное производство было основано на личном труде мелких, обособленных непосредственных производителей — ремесленников, промысловиков и крестьян, которые не эксплуатировали в широких масштабах чужой труд. Все более втягиваясь в товарный обмен, простое товарное производство, однако, сохраняло мелкий характер, не знало расширенного воспроизводства. Оно обслуживало сравнительно узкий рынок и вовлекало в рыночные отношения лишь небольшую часть общественного продукта. При таком характере производства и рынка все товарное хозяйство при феодализме в целом также являлось простым. Простое товарное хозяйство возникло и существовало, как известно, еще в античную эпоху. Затем оно приспосабливалось к условиям разных общественных формаций и подчинялось им. В той форме, в которой товарное хозяйство было присуще феодальному обществу, оно выросло на его почве и зависело от господствующих в нем условий, развивалось вместе с ним, подчинялось закономерностям его эволюции. Лишь на определенном этапе феодальной системы, развития предпринимательства, накопления капитала, отделения мелких самостоятельных производителей от средств производства и превращения рабочей силы в товар в массовом масштабе простое товарное хозяйство стало перерастать в капиталистическое. До этого времени оно оставалось неотъемлемым элементом экономики и социального строя феодального общества, так же как средневековый город — главным центром товарного хозяйства этого общества. Население и внешний вид средневековых городов. Основное население городов составляли люди, занятые в сфере производства и обращения товаров: различные торговцы и ремесленники (сами же сбывавшие свой товар), огородники, промысловики. Значительные группы людей были заняты продажей услуг, в том числе обслуживанием рынка: матросы, возчики и носильщики, трактирщики и содержатели постоялых дворов, слуги, цирюльники. Наиболее представительной частью горожан были профессиональные торговцы из местных жителей и их верхушка — купцы. В отличие от немногочисленных странствующих купцов раннего средневековья они занимались и внешней, и внутренней торговлей и составляли особый общественный слой, заметный по численности и влиянию. Выделение купеческой деятельности, формирование особого Слоя занятых ею лиц было новым и важным шагом в общественном разделении труда. В крупных городах, особенно политико-административных центрах, обычно жили феодалы со своим окружением (прислуга, военные отряды), представители королевской и сеньориальной администрации — служилая бюрократия, а также нотариусы, врачи, преподаватели школ и университетов и другие представители нарождающейся интеллигенции. Во многих городах заметную часть населения составляло черное и белое духовенство. Горожане, предки которых обычно были выходцами из деревни, еще долго сохраняли свои поля, пастбища, огороды как вне, так и внутри города, держали скот. Отчасти это объяснялось недостаточной товарностью тогдашнего сельского хозяйства. Сюда же, в города, часто свозились поступления из сельских усадеб сеньоров: города служили местом концентрации рентных поступлений, их перераспределения и сбыта. Размеры средневековых западноевропейских городов были весьма невелики. Обычно их население исчислялось 1 или 3— 5 тыс. жителей. Даже в XIV—XV вв. большими считались города с 20— 30 тыс. жителей. Только немногие из них имели население, превышающее 80—100 тыс. человек (Константинополь, Париж, Милан, Венеция, Флоренция, Кордова, Севилья). Города отличались от окружающих деревень своим внешним видом и плотностью населения. Обычно они были окружены рвами и высокими каменными, реже деревянными, стенами, с башнями и массивными воротами, которые служили защитой от нападений феодалов и нашествий неприятеля. Ворота на ночь закрывались, мосты поднимались, на стенах дежурили дозорные. Сами же горожане несли сторожевую службу и составляли ополчение. Средневековый город (Кельн в конце XII в) 1 — римские стены, 2 — стены X в, 3 — стены начала XII в, 4 — стены конца XII в, 5 — торгово-ремесленные поселения, 6 — резиденция архиепископа, 7 — собор, 8 — церкви, 9 — старый рынок, 10 — новый рынок. Одним из наиболее распространенных типов городов средневековья были так называемые «многоядерные» города, возникающие в результате слияния нескольких «ядер» первоначального поселения, позднейшего укрепления, торгово-ремесленного посада с рынком и т. п. Так, например, возник средневековый Кельн. В его основе лежат римский укрепленный лагерь, резиденция местного архиепископа (конец IX в), торгово-ремесленное посечение с рынком (X в) В XI — XII столетиях территория города и его население резко возросли. Городские стены со временем становились тесными, не вмещали всех построек. Вокруг стен, окружавших первоначальный городской центр (бург, сите, град), постепенно возникали предместья — посады, слободы, населенные главным образом ремесленниками, мелкими торговцами и огородниками. Позднее предместья в свою очередь обносились кольцом стен и укреплений. Центральным местом в городе была рыночная площадь, рядом с которой обычно располагались городской собор, а там, где было самоуправление горожан, — еще и ратуша (здание городского совета). Люди одинаковых или смежных специальностей нередко селились по соседству. Поскольку стены мешали городу расти вширь, улицы делались крайне узкими (по закону — «не шире длины копья»). Дома, часто деревянные, тесно примыкали друг к другу. Выдающиеся вперед верхние этажи и крутые крыши домов, расположенных напротив друг друга, чуть не соприкасались. В узкие и кривые улицы почти не проникали лучи солнца. Уличного освещения не существовало, как, впрочем, и канализации. Мусор, остатки пищи и нечистоты обычно выбрасывались прямо на улицу. Здесь же нередко бродил мелкий скот (козы, овцы, свиньи), рылись куры и гуси. Вследствие тесноты и антисанитарного состояния в городах вспыхивали особенно опустошительные эпидемии, часто случались пожары. Борьба городов с феодальными сеньорами и складывание городского самоуправления. Средневековый город возникал на земле феодала и поэтому должен был ему подчиняться. Большинство горожан первоначально составляли крестьяне, издавна жившие на этом месте, бежавшие от своих прежних господ либо отпущенные ими на оброк. При этом они нередко оказывались в личной зависимости от сеньора города. В руках последнего сосредоточивалась вся городская власть, город становился как бы его коллективным вассалом или держателем. Феодал был заинтересован в возникновении городов на своей земле, так как городкие промыслы и торговля давали ему немалый доход. Бывшие крестьяне приносили с собой в города обычаи и навыки общинного устройства, которые оказали заметное влияние на организацию городского управления. Со временем она, однако, все более принимала формы, соответствующие особенностям и потребностям городской жизни. Стремление феодалов извлечь из города как можно больше доходов неизбежно привело к коммунальному движению (так принято называть борьбу между городами и сеньорами, происходившую повсюду в Западной Европе в X—XIII вв.). Сначала горожане боролись за освобождение от наиболее тяжелых форм феодального гнета, за сокращение поборов сеньора, за торговые привилегии. Затем встали и политические задачи: обретение городского самоуправления и прав. От исхода этой борьбы зависели степень независимости города по отношению к сеньору, его экономическое процветание и политический строй. Борьба городов велась отнюдь не против феодальной системы в целом, а против конкретных сеньоров, за то, чтобы обеспечить существование и развитие городов в рамках этого строя. Иногда городам удавалось за деньги получить от феодала отдельные вольности и привилегии, зафиксированные в городских хартиях; в других случаях эти привилегии, особенно право самоуправления, достигались в результате длительной, иногда вооруженной, борьбы. В нее обычно вмешивались короли, императоры, крупные феодалы. Коммунальная борьба сливалась с другими конфликтами — в данной области, стране, международными — и была важной составной частью политической жизни средневековой Европы. Коммунальные движения проходили в различных странах по-разному, в зависимости от условий исторического развития, и приводили к различным результатам. В Южной Франции горожане добились, в основном без кровопролития, независимости уже в IX—XII вв. Графы Тулузы, Марселя, Монпелье и других городов Южной Франции, как и Фландрии, являлись не только городскими сеньорами, но государями целых областей. Они были заинтересованы в процветании местных городов, раздавали им муниципальные вольности, не препятствовали относительной самостоятельности. Однако они не желали, чтобы коммуны становились слишком мощными, получали полную независимость. Так произошло, например, с Марселем, который в течение столетия был независимой аристократической республикой. Но в конце XIII в. после 8-месячной осады граф Прованса Карл Анжуйский взял город, поставил во главе его своего наместника, стал присваивать городские доходы, дозируя средства для поддержки выгодных ему городских ремесел и торговли. Многие города Северной и Средней Италии — Венеция, Генуя, Сиена, Флоренция, Лукка, Равенна, Болонья и другие — в те же IX—XII века стали городами-государствами. Одной из ярких и типичных страниц коммунальной борьбы в Италии была история Милана — центра ремесла и торговли, важного перевалочного пункта на путях в Германию. В XI в. власть графа там сменилась властью архиепископа, который управлял при помощи представителей аристократических и клерикальных кругов. В течение всего XI века горожане вели борьбу с сеньором. Она сплотила все городские слои: популяров («люди из народа»), купцов и мелких феодалов, входивших в нобилитет. В 40-х годах горожане подняли вооруженное восстание (толчком к нему послужило избиение аристократом одного популяра). С 50-х годов движение горожан превратилось в настоящую гражданскую войну против епископа. Она переплелась с мощным еретическим движением, охватившим тогда Италию, — с выступлениями вальденсов и особенно катаров. Повстанцы-горожане нападали на священников, разрушали их дома. В события были втянуты государи. Наконец, в конце XI в. город получил статус коммуны. Во главе его встал совет консулов из привилегированных граждан — представителей купеческо-феодальных кругов. Аристократический строй Миланской коммуны, конечно, не удовлетворил массу горожан, их борьба продолжалась и в последующее время. В Германии аналогичное коммунам положение заняли в XII — XIII вв. наиболее значительные из так называемых имперских городов. Формально они подчинялись императору, но на деле были независимыми городскими республиками (Любек, Нюрнберг, франкфурт-на-Майне и др.). Они управлялись городскими советами, имели право самостоятельно объявлять войну, заключать мир и союзы, чеканить монету и т. д. Многие города Северной Франции (Амьен, Сен-Кантен, Нуайон, Бовэ, Суассон, Лан и др.) и Фландрии (Гент, Брюгге, Ипр, Лилль, Дуэ, Сент-Омер, Аррас и др.) в результате упорной, часто вооруженной борьбы со своими сеньорами стали самоуправляющими городами-коммунами. Они выбирали из своей среды совет, его главу — мэра и других должностных лиц, имели собственный суд и военное ополчение, свои финансы, сами устанавливали налоги. Города-коммуны освобождались от выполнения жителями барщины, несения оброка и других сеньориальных повинностей. Взамен этого они ежегодно уплачивали сеньору определенную, сравнительно невысокую денежную ренту, а в случае войны выставляли в помощь ему небольшой военный отряд. Города-коммуны нередко сами выступали как коллективный сеньор по отношению к крестьянам, жившим на окружавшей город территории. Но так получалось не всегда. Более 200 лет длилась борьба за независимость северофранцузского города Лана. Его сеньор (с 1106 г.) епископ Годри, любитель войны и охоты, установил в городе особенно тяжкий сеньориальный режим, вплоть до убийства горожан. Жители Лана сумели купить у епископа хартию, предоставляющую им определенные права (фиксированный налог, уничтожение права «мертвой руки»), заплатив и королю за ее утверждение. Но епископ вскоре нашел хартию для себя невыгодной и, дав взятку королю, добился ее отмены. Горожане восстали, разграбили дворы аристократов и епископский дворец, а самого Годри, спрятавшегося в пустой бочке, убили. Король вооруженной рукой восстановил в Лане старый порядок, но в 1129 г. горожане подняли новое восстание. Долгие годы шла затем борьба за коммунальную хартию с переменным успехом: то в пользу города, то в пользу короля. Лишь в 1331 г. король с помощью многих местных феодалов одержал окончательную победу. Управлять городом стали его судьи и чиновники. Вообще немало городов, даже весьма значительных и богатых, не могли добиться полного самоуправления. Это было почти общим правилом для городов на королевской земле в странах с относительно сильной центральной властью. Они пользовались, правда, рядом привилегий и вольностей, в том числе и правом избирать органы самоуправления. Однако эти учреждения обычно действовали под контролем чиновника короля или иного сеньора. Так было во многих городах Франции (Париж, Орлеан, Бурж, Лоррис, Нант, Шартр и др.) и Англии (Лондон, Линкольн, Оксфорд, Кембридж, Глостер и др.). Ограниченные муниципальные свободы городов были характерны для Скандинавских стран, многих городов Германии, Венгрии, и их вовсе не было в Византии. Немало городов, особенно мелких, не обладавших необходимыми силами и денежными средствами для борьбы со своими сеньорами, оставалось целиком под властью сеньориальной администрации. Это, в частности, характерно для городов, принадлежавших духовным сеньорам, которые особенно тяжко угнетали своих горожан. Права и вольности, получаемые средневековыми горожанами, во многом были сходны с иммунитетными привилегиями, носили феодальный характер. Сами города составляли замкнутые корпорации и превыше всего ставили местные городские интересы. Одним из важнейших результатов борьбы городов с их сеньорами в Западной Европе было то, что подавляющее большинство горожан добилось освобождения от личной зависимости. В средневековой Европе победило правило, согласно которому бежавший в город зависимый крестьянин, прожив там определенный срок (по обычной тогда формуле — «год и день»), также становился свободным. «Городской воздух делает свободным», — гласит средневековая пословица. Складывание и рост городского сословия. В процессе развития городов, ремесленных и купеческих корпораций, борьбы горожан с сеньорами и внутренних социальных конфликтов в городской среде в феодальной Европе складывалось особое средневековое сословие горожан. В экономическом отношении новое сословие было более всего связано с торгово-ремесленной деятельностью, с собственностью, в отличие от других видов собственности при феодализме, «основанной только на труде и обмене»1. В политико-правовом отношении все члены этого сословия пользовались рядом специфических привилегий и вольностей (личная свобода, подсудность городскому суду, участие в городском ополчении, в формировании муниципалитета и др.), составляющих статус полноправного горожанина. Обычно городское сословие отождествляется с понятием «бюргерство». Словом «бюргер» в ряде стран Европы первоначально обозначали всех городских жителей (от германского burg — город, откуда произошло средневековое латинское burgensis и французский термин bourgeoisie, первоначально также обозначавший горожан). По своему имущественному и социальному положению городское сословие не было единым. Внутри него существовали патрициат, слой состоятельных торговцев, ремесленников и домовладельцев, рядовые труженики, наконец, городское плебейство. По мере углубления этого расслоения термин «бюргер» постепенно менял свое значение. Уже в XII—XIII вв. он стал применяться только для обозначения полноправных горожан, в число которых 1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 50. не могли попасть представители низов, отстраненные от городского самоуправления. В XIV—XV вв. этим термином обычно обозначались богатые и зажиточные слои горожан, из которых позднее вырастали первые элементы буржуазии. Население городов занимало особое место в социально-политической жизни феодального общества. Нередко оно выступало единой силой в борьбе с феодалами (иногда в союзе с королем). Позднее городское сословие стало играть заметную роль в сослов-но-представительных собраниях. Таким образом, не составляя единого класса или социально-монолитного слоя, жители средневековых городов конституировались как особое сословие (или, как это было во Франции, сословная группа). Их разобщенность усиливалась господством корпоративного строя внутри городов. Преобладание в каждом городе локальных интересов, которые порой усиливались торговым соперничеством между городами, также препятствовало совместным действиям горожан как сословия в масштабах страны. Ремесло и ремесленники в городах. Цехи. Производственную основу средневекового города составляли ремесла и «ручные» промыслы. Ремесленник, подобно крестьянину, был мелким производителем, который владел орудиями производства, самостоятельно вел свое хозяйство, основанное преимущественно на личном труде. «Приличное его положению существование, — а не меновая стоимость как таковая, не обогащение как таковое...»1 являлось целью труда ремесленника. Но в отличие от крестьянина специалист-ремесленник, во-первых, с самого начала был товаропроизводителем, вел товарное хозяйство. Во-вторых, он не столь нуждался в земле как средстве непосредственного производства. Поэтому городское ремесло развивалось, совершенствовалось несравненно быстрее, нежели сельское хозяйство и ремесло деревенское, домашнее. Примечательно также, что в городском ремесле внеэкономическое принуждение в виде личной зависимости работника не было необходимостью и быстро исчезло. Здесь имели место, однако, другие виды внеэкономического принуждения, связанные с цеховой организацией ремесла и корпоративно-сословным, феодальным в своей основе характером городского строя (принуждение и регламентация со стороны цехов и города и т.д.). Это принуждение исходило уже от самих горожан. Характерной особенностью ремесла и других видов деятельности во многих средневековых городах Западной Европы была корпоративная организация: объединение лиц определенных профессий в пределах каждого города в особые союзы — цехи, гильдии, братства. Ремесленные цехи появились почти одновременно с самими городами: в Италии — уже в X в., во Франции, Англии, Германии — с XI — начала XII в., хотя окончательное оформление цехов (получение специальных грамот от королей и других сеньоров, составление и запись цеховых уставов) происходило, как правило, позднее. 1 Архив Маркса и Энгельса. Т. II (VII), С. 111. Цехи возникали потому, что городские ремесленники как самостоятельные, раздробленные, мелкие товаропроизводители нуждались в определенном объединении для защиты своего производства и доходов от феодалов, от конкуренции «чужаков» — неорганизованных ремесленников или постоянно прибывавших в города выходцев из деревни, от ремесленников других городов, да и от соседей — мастеров. Такая конкуренция была опасна в условиях весьма узкого тогдашнего рынка, незначительного спроса. Поэтому главной функцией цехов стало утверждение монополии на данный вид ремесла. В Германии она называлась Zynftzwang — цеховое принуждение. В большинстве городов принадлежность к цеху являлась обязательным условием для занятия ремеслом. Другой главной функцией цехов являлось установление контроля над производством и продажей ремесленных изделий. Появление цехов было обусловлено достигнутыми в то время уровнем производительных сил и всей феодально-сословной структурой общества. Исходным образцом для организации городского ремесла отчасти послужили строй сельской общины-марки и усадебные мас-терские-магистерии. Каждый из цеховых мастеров был непосредственным работником и одновременно собственником средств производства. Он трудился в своей мастерской, со своими инструментами и сырьем и, по выражению К. Маркса, «срастался со своими средствами производства настолько же тесно, как улитка с раковиной»1. Как правило, ремесло передавалось по наследству: ведь многие поколения ремесленников работали при помощи тех же инструментов и приемов, что и их прадеды. Выделявшиеся новые специальности оформлялись в отдельные цехи. Во многих городах постепенно возникли десятки, а в наиболее крупных — даже сотни цехов. Цеховому ремесленнику обычно помогала в работе его семья, один или два подмастерья и несколько учеников. Но членом цеха являлся только мастер, владелец мастерской. И одной из важных функций цеха было регулирование отношений мастеров с подмастерьями и учениками. Мастер, подмастерье и ученик стояли на разных ступенях цеховой иерархии. Предварительное прохождение двух низших ступеней было обязательным для всякого, кто желал стать членом цеха. Первоначально каждый ученик со временем мог стать подмастерьем, а подмастерье — мастером. Члены цеха были заинтересованы, чтобы их изделия получали беспрепятственный сбыт. Поэтому цех через специально избранных должностных лиц строго регламентировал производство: следил, чтобы каждый мастер выпускал продукцию определенного вида и качества. Цех предписывал, например, какой ширины и цвета должна быть изготовляемая ткань, сколько нитей должно быть в основе, каким следует пользоваться инструментарием и сырьем и т. д. Регламентация производства служила и другим целям: чтобы производство членов цеха сохраняло мелкий характер, что1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 371. бы никто из них не вытеснял другого мастера с рынка, выпуская больше продукции или удешевляя ее. С этой целью цеховые уставы нормировали число подмастерьев и учеников, которых мог держать у себя мастер, запрещали работу в ночное время и по праздникам, ограничивали число станков и сырья в каждой мастерской, регулировали цены на ремесленные изделия и т. д. Цеховая организация ремесла в городах была одним из проявлений их феодальной природы: «...феодальной структуре землевладения соответствовала в городах корпоративная собственность, феодальная организация ремесла»1. Такая организация до известного времени создавала наиболее благоприятные условия для развития производительных сил, товарного городского производства. В рамках цехового строя было возможно дальнейшее углубление общественного разделения труда в форме выделения новых ремесленных цехов, расширения ассортимента и повышения качества производимых товаров, совершенствования навыков ремесленного труда. В рамках цехового строя повышалось самосознание и самоуважение городских мастеров. Поэтому примерно до конца XIV в. цехи в Западной Европе играли прогрессивную роль. Они охраняли ремесленников от чрезмерной эксплуатации со стороны феодалов, в условиях узости тогдашнего рынка обеспечивали существование городских мелких производителей, смягчая конкуренцию между ними и ограждая их от конкуренции различных чужаков. Цеховая организация не ограничивалась осуществлением основных, социально-экономических функций, но охватывала все стороны жизни ремесленника. Цехи объединяли горожан для борьбы с феодальными сеньорами, а затем с господством патрициата. Цех участвовал в охране города и выступал как отдельное боевое подразделение. Каждый цех имел своего святого патрона, подчас также свою церковь или часовню, являясь своеобразной церковной общностью. Цех был также организацией взаимопомощи, обеспечивая поддержку нуждавшимся мастерам и их семьям в случае болезни или смерти кормильца. Очевидно, что цехи и другие городские корпорации, их привилегии, весь режим их регламентации были характерными для средневековья общественными организациями. Они соответствовали производительным силам того времени, по характеру были родственны другим феодальным общностям. Цеховая система в Европе, однако, не была универсальной. В ряде стран она не получила распространения и не везде достигла завершенной формы. Наряду с ней во многих городах Северной Европы, на юге Франции, в некоторых других странах и областях существовало так называемое свободное ремесло. Но и там имели место регламентация производства, защита монополии городских ремесленников, только осуществлялись эти функции органами городского управления. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 23. Своеобразной корпоративной собственностью являлась монополия цеха на определенную специальность. 1 Борьба цехов с патрициатом. Борьба городов с сеньорами в подавляющем большинстве случаев привела к переходу в той или иной степени городского управления в руки горожан. Но в их среде к тому времени существовало уже заметное социальное расслоение. Поэтому, хотя борьба с сеньорами велась силами всех горожан, полностью использовала ее результаты лишь верхушка городского населения: домовладельцы, в том числе феодального типа, ростовщики и, конечно же, купцы-оптовики, занятые транзитной торговлей. Этот верхний, привилегированный слой представлял собой узкую, замкнутую группу — наследственную городскую аристократию (патрициат), которая с трудом допускала в свою среду новых членов. Городской совет, мэр (бургомистр), судебная коллегия (шеффены, эшевены, скабины) города выбирались только из числа патрициев и их ставленников. Городская администрация, суд и финансы, в том числе налогообложение, строительство — все находилось в руках городской верхушки, использовалось в ее интересах и за счет интересов широкого торгово-ремесленного населения города, не говоря уже о бедняках. Но по мере того как развивалось ремесло и крепло значение цехов, ремесленники, мелкие торговцы вступали в борьбу с патрициатом за власть в городе. Обычно к ним присоединялись также наемные работники, бедный люд. В XIII—XV вв. эта борьба, так называемые цеховые революции, развернулась почти во всех странах средневековой Европы и часто принимала очень острый, даже вооруженный характер. В одних городах, где ремесленное производство получило большое развитие, победили цехи (Кельн, Базель, Флоренция и др.). В других, где ведущую роль играли широкомасштабная торговля и купечество, победителем из борьбы вышла городская верхушка (Гамбург, Любек, Росток и другие города Ганзейского союза). Но и там, где побеждали цехи, управление городом не становилось подлинно демократическим, так как верхушка наиболее влиятельных цехов объединялась после своей победы с частью патрициата и устанавливала новое олигархическое управление, действовавшее в интересах наиболее богатых горожан (Аугсбург и др.). Начало разложения цехового строя. В XIV—XV вв. роль цехов во многом изменилась. Их консерватизм, стремление увековечить мелкое производство, традиционные приемы и орудия труда, помешать техническим усовершенствованиям из-за боязни конкуренции превратили цехи в тормоз прогресса и дальнейшего роста производства. По мере роста производительных сил, расширения внутреннего и внешнего рынка конкуренция между ремесленниками внутри цеха неизбежно возрастала. Отдельные ремесленники вопреки цеховым уставам расширяли свое производство, между мастерами развивалось имущественное и социальное неравенство. Владельцы крупных мастерских начали давать работу более бедным мастерам, снабжали их сырьем или полуфабрикатами и получали готовые изделия. Из среды прежде единой массы мелких ремесленников и торговцев постепенно выделилась зажиточная цеховая верхушка, эксплуатировавшая мелких мастеров. Расслоение внутри цехового ремесла выражалось также в разделении цехов на более сильные, богатые («старшие» или «большие») и более бедные («младшие», «малые») цехи. Так происходило в первую очередь в наиболее крупных городах: Флоренции, Перудже, Лондоне, Бристоле, Париже, Базеле и др. Старшие цехи начинали господствовать над младшими и эксплуатировать их, так что члены младших цехов подчас утрачивали свою экономическую и правовую самостоятельность и фактически превращались в наемных рабочих. Положение учеников и подмастерьев, их борьба с мастерами. В положение угнетаемых со временем попали также ученики и подмастерья. Первоначально это было связано с тем, что обучение средневековому ремеслу, которое происходило путем прямой передачи навыков, оставалось длительным. В разных ремеслах этот срок колебался от 2 до 7 лет, а в отдельных цехах достигал Ю—12 лет. В этих условиях мастер мог долго и с выгодой пользоваться бесплатным трудом своего уже достаточно квалифицированного ученика. Цеховые мастера все сильнее эксплуатировали и подмастерьев. А продолжительность их рабочего дня была обычно очень велика — 14—16, а иногда и 18 часов. Судил подмастерьев цеховой суд, т. е. опять-таки мастера. Цехи контролировали быт подмастерьев и учеников, их времяпрепровождение, траты, знакомства. В XIV—XV вв., когда в передовых странах начался упадок и разложение цехового ремесла, эксплуатация учеников и подмастерьев приобрела постоянный характер. В начальный период существования цеховой системы ученик, пройдя стаж ученичества и став подмастерьем, а затем проработав некоторое время у мастера и накопив небольшую сумму денег, мог стать мастером. Теперь же доступ ученикам и подмастерьям к этому статусу фактически закрывается. Началось так называемое замыкание цехов. Чтобы получить звание мастера, кроме свидетельств об обучении и отличной характеристики требовалось уплатить крупный вступительный взнос в кассу цеха, выполнить образцовую работу («шедевр»), устроить богатое угощение для членов цеха и т. д. Лишь близкие родственники мастера могли беспрепятственно вступить в цех. Большинство же подмастерьев превращались в «вечных», т. е., по сути дела, в наемных рабочих. Для защиты своих интересов они создавали особые организации — братства, компаньонажи, которые являлись союзами взаимопомощи и борьбы с мастерами. Подмастерья выдвигали экономические требования: добивались повышения заработной платы, уменьшения рабочего дня; они прибегали к таким острым формам классовой борьбы, как забастовка и бойкот наиболее ненавистных мастеров. Ученики и подмастерья составляли самую организованную, квалифицированную и передовую часть довольно широкого в городах XIV—XV вв. слоя наемных работников. В его состав входили также внецеховые поденщики и работники, ряды которых постоянно пополнялись приходившими в города крестьянами, потерявшими землю, а также обедневшими ремесленниками, все еще сохранявшими свои мастерские. Не являясь рабочим классом в современном смысле слова, этот слой составил уже элемент пред-пролетариата, сформировавшегося позднее, в период широкого и повсеместного развития мануфактуры. По мере обострения социальных противоречий внутри средневекового города эксплуатируемые слои городского населения начали открыто выступать против стоявшей у власти городской верхушки, в которую теперь во многих городах входила наряду с патрициатом и цеховая верхушка. В эту борьбу включалось и городское плебейство — самый низший и бесправный слой городского населения, лишенные определенных занятий и постоянного местожительства деклассированные элементы, находившиеся вне феодально-сословной структуры. В XIV—XV вв. низшие слои городского населения поднимают восстания против городской олигархии и цеховой верхушки в ряде городов Западной Европы: во Флоренции, Перудже, Сиене, Кёльне и др. В этих восстаниях, отражавших наиболее острые социальные противоречия внутри средневекового города, значительную роль играли наемные работники. Таким образом, в социальной борьбе, развернувшейся в средневековых городах Западной Европы, можно различить три основных этапа. Сначала вся масса горожан боролась против феодальных сеньоров за освобождение городов от их власти. Затем цехи повели борьбу с городским патрициатом. Позднее же развернулась борьба городских низов против богатых городских мастеров и купцов, городской олигархии. Развитие торговли и кредитного дела в Западной Европе. Рост городов в Западной Европе способствовал в XI—XV вв. значительному развитию внутренней и внешней торговли. Города, в том числе и небольшие, прежде всего формировали местный рынок, где осуществлялся обмен с сельской округой. Но в период развитого феодализма более крупную роль если не по объему, то по стоимости продаваемой продукции, по престижу в обществе продолжала играть дальняя, транзитная торговля. В XI—XV вв. такая межрегиональная торговля в Европе сосредоточивалась в основном вокруг двух торговых «перекрестков». Одним из них являлось Средиземноморье, служившее связующим звеном в торговле западноевропейских стран — Испании, Южной и Центральной Франции, Италии — между собой, а также с Византией, Черноморьем и странами Востока. С XII—XIII вв., особенно в связи с крестовыми походами, первенство в этой торговле от византийцев и арабов перешло к купцам Генуи и Венеции, Марселя и Барселоны. Главными объектами торговли здесь были вывозимые с Востока предметы роскоши, пряности, квасцы, вино, отчасти зерно. С Запада на Восток шли сукна и другие виды тканей, золото, серебро, оружие. Помимо прочих товаров в этой торговле фигурировало много рабов. Другой район европейской торговли охватывал Балтийское и Северное моря. В ней принимали участие северо-западные области Руси (особенно Нарва, Новгород, Псков и Полоцк), Польши и Восточная Балтика — Рига, Ревель, Таллинн, Данциг, (Гданьск), Северная Германия. Скандинавские страны, Фландрия, Брабант и Северные Нидерланды, Северная Франция и Англия. В этом районе торговали преимущественно товарами более широкого потребления: рыбой, солью, мехами, шерстью и сукном, льном, пенькой, воском, смолой и лесом (особенно корабельным), а с XV в. — хлебом. Экономическое развитие Западной Европы в XIII—XIV вв. Районы значительного развития: 1 — виноградарства, 2 — зернового хозяйства, 3 — скотоводства; 4 — центры промыслово-ю рыболовства, 5 — области значительного производства шерсти и тканей. Крупнейшие центры 6 — оружейного дела, 7 — металлообработки, 8 — судостроения, 9 — крупнейшие ярмарки. Места добычи 10 — серебра; 11 — ртути, 12 — поваренной соли, 13 — свинца, 14 — меди; /5 — олова, 16 — важнейшие торговые пути Ст — Стокгольм, Р — Рига, Кп — Копенгаген, Лб — Любек, Рс — Росток, Гд — Гданьск, Бр — Бремен, Фр — Франкфурт-на-Одере, Лп — Лейпцш, Вр Вроцлав, Гмб — Гамбург, Ант — Антверпен Брг — Брюгге, Дев — Девентер Кл — Кельн. Фрф — Франкфурт-на-Майне, Нр — Нюрен-берг, Пр — Прага, Аг — Аугсбург, Бц — Больцано, Вн — Вена, БД — Буда, Жн — Женева, Лн — Лион, Мр — Марсель, Мл — Милан, Внц — Венеция, Дбр — Дубровник Фл — Флоренция, Нп — Неаполь, Мее — Мессина, Брс — Барселона, Нрб — Нарбона Кдс — Кадис, Свл — Севилья, Лбе — Лиссабон, М-К — Медина дель Кампо, Тлд — Толедо, Снт — Сантандер, Грн — Гранада, Тул — Тулуза, Брд — Бордо, Л — Ланьи, П — Провен, Т — Труа, Б — Бар, Прж — Париж, Рн — Р>ан, Прс — Портсмут, Брл — Бристоль, Лнд — Лондон. Связи между обоими районами международной торговли осуществлялись по торговому пути, который шел через альпийские перевалы, а затем по Рейну, где было много крупных городов, втянутых в транзитный обмен, а также вдоль Атлантического побережья Европы. Большую роль в торговле, в том числе международной, играли ярмарки, широко распространившиеся во Франции, Италии, Германии, Англии уже в XI—XII вв. Здесь велась оптовая торговля товарами повышенного спроса: тканями, кожей, мехом, сукнами, металлами и изделиями из них, зерном, вином и маслом. На ярмарках во французском графстве Шампань, длившихся почти круглый год, в XII—XIII вв. встречались купцы из многих стран Европы. Венецианцы и генуэзцы доставляли туда дорогие восточные товары. Фламандские и флорентийские купцы привозили сукна, купцы из Германии —льняные ткани, чешские купцы — сукна, кожи и изделия из металла. Из Англии доставляли шерсть, олово, свинец и железо. В XIV—XV вв. главным центром европейской ярмарочной торговли стал Брюгге (Фландрия). Масштабы тогдашней торговли не следует преувеличивать: она тормозилась господством в деревне натурального хозяйства, а также беззакониями феодалов и феодальной раздробленностью. Пошлины и всякого рода поборы взимались с купцов при переезде из владений одного сеньора в земли другого, при переправе через мосты и даже речные броды, при проезде по реке, протекавшей во владениях того или иного сеньора. Знатнейшие рыцари и даже короли не останавливались перед разбойными нападениями на купеческие караваны. Тем не менее постепенный рост товарно-денежных отношений создавал возможность накопления денежных капиталов в руках отдельных горожан, прежде всего купцов и ростовщиков. Накоплению денежных средств также содействовали операции по обмену денег, необходимые в средние века вследствие бесконечного разнообразия монетных систем и монетных единиц, поскольку деньги чеканили не только государи, но и все сколько-нибудь видные сеньоры и епископы, а также крупные города. Для обмена одних денег на другие и установления ценности той или иной монеты выделилась особая профессия менял. Менялы занимались не только разменными операциями, но и переводом денежных сумм, из чего возникли кредитные операции. С этим было обычно связано и ростовщичество. Разменные операции и операции по кредиту вели к созданию специальных банковских контор. Первые такие конторы возникли в городах Северной Италии — в Ломбардии. Поэтому слово «ломбардец» в средние века стало синонимом банкира и ростовщика и сохранилось позднее в наименовании ломбардов. Крупнейшим ростовщиком была католическая церковь. Самые большие кредитные и ростовщические операции осуществляла римская курия, в которую стекались громадные денежные средства из всех европейских стран. Городские торговцы. Купеческие объединения. Торговля наряду с ремеслом составляла экономическую основу средневековых городов. Для значительной части их населения торговля являлась основным занятием. В среде профессиональных торговцев преобладали мелкие лавочники и разносчики, близкие к ремесленной среде. Элиту составляли собственно купцы, т. е. богатые торговцы, преимущественно занятые в дальнем транзите и оптовых сделках, разъезжавшие по разным городам и странам (отсюда другое их название — «торговые гости»), имевшие там конторы и агентов. Нередко именно они становились одновременно банкирами и крупными ростовщиками. Наиболее богатыми и влиятельными были купцы из столичных и портовых городов: Константинополя, Лондона, Марселя, Венеции, Генуи, Любека. Во многих странах в течение длительного времени купеческую верхушку составляли иноземцы. Уже в конце раннего средневековья появились и затем широко распространились объединения купцов одного города — гильдии. Подобно ремесленным цехам, они обычно объединяли купцов по профессиональным интересам, например путешествующих в одно место или с одинаковыми товарами, так что в больших городах было по нескольку гильдий. Торговые гильдии обеспечивали своим членам монопольные или привилегированные условия в торговле и правовую защиту, оказывали взаимопомощь, были религиозными и военными организациями. Купеческая среда каждого города, как и ремесленная, была объединена родственными и корпоративными связями, к ней подключались и купцы из других городов. Обычными стали так называемые «торговые дома» — семейные купеческие компании. В средние века расцвела и такая форма торгового сотрудничества, как различные паевые товарищества (складничество, компаньонаж, комменда). Уже в XIII в. (Барселона) возник институт торговых консулов: для защиты интересов и личности купцов города посылали своих консулов в другие города и страны. К концу XV в. появилась биржа, где заключались коммерческие контракты. Купцы разных городов иногда также ассоциировались. Самым значительным таким объединением стала знаменитая Ганза — торгово-политический союз купцов многих германских и западнославянских городов, который имел несколько филиалов и держал в руках североевропейскую торговлю до начала XVI в. Купцы играли большую роль в общественной жизни и жизни города. Именно они управляли в муниципалитетах, представляли города на общегосударственных форумах. Они оказывали влияние и на государственную политику, участвовали в феодальных захватах и колонизации новых земель. Зачатки капиталистической эксплуатации в ремесленном производстве. Успехи развития внутренней и внешней торговли к концу XIV—XV вв. привели к росту торгового капитала, который накапливался в руках купеческой верхушки. Торговый, или купеческий (как и ростовщический), капитал старше капиталистического способа производства и представляет собой древнейшую свободную форму капитала. Он действовал в сфере обращения, обслуживая обмен товаров и в рабовладельческом, и в феодальном, и в капиталистических обществах. Но на определенном уровне развития товарного производства при феодализме, в условиях разложения средневекового ремесла торговый капитал начал постепенно проникать в сферу производства. Обычно это выражалось в том, что купец закупал оптом сырье и перепродавал его ремесленникам, а затем скупал у них готовые изделия для дальнейшей продажи. Малообеспеченный ремесленник попадал в зависимое от купца положение. От отрывался от рынка сырья и сбыта и был вынужден продолжать работу на торговца-скупщика, но уже не как самостоятельный товаропроизводитель, а в качестве фактически наемного рабочего (хотя нередко и продолжал работать в своей мастерской). Проникновение в производство торго-во-ростовщического капитала послужило одним из источников капиталистической мануфактуры, которая зарождалась в недрах разлагающегося средневекового ремесла. Другим источником зарождения раннекапиталистического производства в городах было отмеченное выше превращение учеников и подмастерьев в постоянных наемных рабочих, не имеющих перспективы выбиться в мастера. Однако значение элементов капиталистических отношений в городах XIV—XV вв. не следует преувеличивать. Их возникновение происходило лишь спорадически, в немногих наиболее крупных центрах (преимущественно в Италии) и в наиболее развитых отраслях производства, в основном в сукноделии (реже в горно-металлургическом деле и некоторых других производствах). Развитие этих новых явлений раньше и быстрее происходило в тех странах и в тех отраслях ремесла, где имелся по тем временам широкий внешний рынок сбыта, побуждавший к расширению производства, вложению в него значительных капиталов. Но все это еще не означало сложения капиталистического уклада. Характерно, что даже в крупных городах Западной Европы значительная часть капиталов, накопленных в торговле и ростовщичестве, вкладывалась не в расширение промышленного производства, а в приобретение земли и титулов: владельцы этих капиталов стремились войти в состав господствующего класса феодалов. Развитие товарно-денежных отношений и перемены в социально-экономической жизни феодального общества. Города как основные центры товарного производства и обмена оказывали все возраставшее и многостороннее влияние на феодальную деревню. Крестьяне все чаще стали обращаться к городскому рынку для приобретения предметов повседневного потребления: одежды, обуви, металлических изделий, утвари и недорогих украшений, а также для сбыта изделий своего хозяйства. Вовлечение в торговый оборот продукции пашенного земледелия (хлеба) происходило несравненно медленнее, чем изделий городских ремесленников, и медленнее, чем продукции технических и специализированных отраслей сельского хозяйства (лен-сырец, красители, вино, сыр, сырые шерсть и кожа и т. п.), а также изделий сельских ремесел и промыслов (особенно пряжи, льняных домотканных материй, грубых сукон и др.). Эти виды производства постепенно превращались в товарные отрасли деревенского хозяйства. Возникало и развивалось все больше местных рынков, что расширяло сферу воздействия городских торжищ и стимулировало образование базы внутреннего рынка, связывающего различные области каждой страны более или менее прочными экономическими отношениями, что было основой централизации. Расширявшееся участие крестьянского хозяйства в рыночных связях усилило рост в деревне имущественного неравенства и социального расслоения. Из крестьян выделяется, с одной стороны, зажиточная верхушка, а с другой — многочисленные деревенские бедняки, иногда вовсе безземельные, живущие каким-либо ремеслом или работой по найму, в качестве батраков у феодала или богатых крестьян. Часть этой бедноты, подвергавшейся эксплуатации со стороны не только феодалов, но и своих более зажиточных односельчан, постоянно уходила в города в надежде обрести более сносные условия существования. Там они вливались в среду городского плебейства. Иногда в города переселялись и зажиточные крестьяне, стремившиеся накопленные средства использовать в торгово-промышленной сфере. В товарно-денежные отношения втягивалось не только крестьянское, но и господское хозяйство, что вело к значительным изменениям отношений между ними, а также в структуре сеньориального землевладения. Наиболее характерным для большинства стран Западной Европы был путь, при котором развивался процесс коммутации ренты: замена отработочной и большей части продуктовой рент денежными платежами. При этом феодалы фактически перелагали на крестьян все заботы не только по производству, но и по сбыту сельскохозяйственных продуктов, обычно на ближнем, местном рынке. Такой путь развития постепенно приводил в XIII—XV вв. к ликвидации домена и раздаче всей земли феодала в держание или аренду полуфеодального типа. С ликвидацией домена и коммутацией ренты было связано и освобождение основной массы крестьян от личной зависимости, которое завершилось в большинстве стран Западной Европы в XV в. Коммутация ренты и личное освобождение в принципе были выгодны для крестьянства, обретающего большую хозяйственную и лично-правовую самостоятельность. Однако нередко в этих условиях экономическая эксплуатация крестьян возрастала или принимала обременительные формы — из-за повышения их платежей в пользу феодалов и увеличения различных государственных повинностей. В некоторых областях, где складывался широкий внешний рынок для сельскохозяйственных продуктов, связь с которым была под силу только сеньорам, развитие шло другим путем: здесь феодалы, напротив, расширяли домениальное хозяйство, что вело к увеличению барщины крестьян и к попыткам укрепить их личную зависимость (Юго-Восточная Англия, Центральная и Восточная Германия, ряд областей Северной Европы и др.). В условиях борьбы между разными формами развития феодального социальноэкономического базиса, при возросшем общественном весе крестьянства и бюргерства усиливалось сопротивление крестьян феодальному гнету, обострилась классовая борьба во всех сферах общества. В XIV—XV вв. в ряде стран произошли крупнейшие в истории западноевропейского средневековья крестьянские восстания, поддержанные горожанами и отразившиеся на развитии этих стран. К началу XV в. в странах Западной Европы классическая вотчинная система претерпела упадок и центр сельскохозяйственного производства и его связей с рынком переместился из хозяйства феодала в мелкое крестьянское хозяйство, которое становилось все более товарным. Кризис вотчинной организации четко обозначил, что пик расцвета феодальной системы (рубеж XIII—XIV вв.) в целом в Западной Европе был пройден. Но это отнюдь не означало общего кризиса феодализма, его конца. Феодальная система, напротив, в основном удачно приспособилась к изменившимся условиям, когда относительно высокий уровень товарно-денежных отношений, развитие простого товарного уклада стали подрывать натурально-хозяйственную экономику. Такая перестройка аграрной экономики, организации жизни деревни была сопряжена с рядом трудностей, особенно для феодалов: нехваткой рабочих рук (в том числе держателей), запустением части пашенных земель, падением доходности многих владений. Если эти явления и можно расценивать как «аграрный кризис» (В. Абель), то только имея в виду аграрный строй классического феодализма — старую вотчинную систему. Но никак нельзя видеть в этих явлениях общую «хозяйственную депрессию» (М. Постан) и тем более вообще «кризис феодализма» (Р. Хилтон и др.). Нельзя согласиться и с тем, что причиной кризиса были лишь «естественные» факторы (хотя они и сыграли важную роль): убыль населения в результате эпидемии чумы, прокатившейся по Европе в середине XIV в., оскудение почв, ухудшение климата. Во-первых, явления упадка в аграрном хозяйстве не были повсеместными: их не было в Нидерландах, в странах Пиренейского полуострова; в ряде других областей Европы они были выражены слабо. Во-вторых, эти явления во многих странах сосуществовали с заметными успехами крестьянского хозяйства, не говоря о городском производстве и торговле, особенно в XV в. Изменения, происходившие в деревне Западной Европы XIV— XV вв., представляли собой дальнейшую ступень эволюции феодального строя в условиях и под воздействием возросшей роли товарного хозяйства. Действительный кризис феодализма как социальной системы в целом даже в наиболее передовых странах Европы наступил много позднее — в XVI или даже XVII в. Таким образом, города, горожане не только держали ведущие позиции в области средневековой торговли и ремесел, мореплавания, создания многообразных связей и общностей нового типа. Они оказывали повсеместно большое, хотя очень различное в разных странах, влияние на аграрный строй, на положение крестьян и феодалов, на развитие феодального государства (см. главы по истории отдельных стран). Велика была роль городов, городского сословия также в развитии средневековой культуры, прогрессу которой в X—XV вв. они значительно способствовали. Глава 8. Крестовые походы Предпосылки крестовых походов и их характер. Крестовые походы представляли собой захватнические войны западноевропейских феодалов в странах Восточного Средиземноморья, продолжавшиеся почти два столетия — с 1096 по 1270 г. Их организатором являлась католическая церковь, которая придала им характер религиозных войн — борьбы христианства (символизируемого знаком креста) против мусульманства. Крестовые походы были порождены в первую очередь ростом агрессивности западноевропейских феодалов, их стремлением к захвату богатых земель на Востоке, к увеличению собственных доходов и богатств. Это стремление стало особенно сильно проявляться с конца XI в. в связи с увеличением материальных потребностей класса феодалов, которое обусловливалось общим экономическим подъемом, появлением городов, установлением регулярных торговых сношений. Удовлетворить возросшие потребности при сравнительно низком уровне производства феодалам было легче всего силой оружия. В крестовых походах была заинтересована также католическая церковь, добивавшаяся расширения сферы своего влияния посредством подчинения восточных земель. Положение, сложившееся к концу XI в. на Востоке, благоприятствовало осуществлению захватнических планов западноевропейских феодалов и церкви. В середине XI в. турки-сельджуки заняли Багдад, а затем, разгромив византийские войска, стали хозяевами почти всей Малой Азии (см. гл. 5). Они также захватили принадлежавший фатимидскому Египту Иерусалим, считавшийся у христиан священным городом. Это дало повод папству развернуть на Западе широкую проповедь в пользу войны с мусульманским Востоком. Были выдвинуты лозунги «помощи восточным единоверцам» и «освобождения гроба господня» (т. е. гробницы Иисуса Христа, находившейся, согласно Библии, в Иерусалиме). В ход были пущены россказни о гонениях, которым «неверные» подвергают христиан в Палестине, об оскорблениях, которые они наносят христианским святыням, и особенно о преследованиях западных паломников в Иерусалиме. Призывы папства нашли сочувственный отклик в феодальном мире. Этому способствовало и положение в Византии. Печенеги, вторгшиеся с севера на Балканы, нанесли византийскому императору Алексею I Комнину тяжелое поражение и подступили к стенам Константинополя. Одновременно турки-сельджуки снарядили против него флот и вступили в переговоры с печенегами. Алексей I вынужден был обратиться к некоторым государям Западной Европы с просьбой о помощи. С этой же целью он направил послов и к папе Урбану II (1088—1099). Просьбы Алексея Комнина дали западноевропейским феодалам и церкви удобный предлог для осуществления их захватнических замыслов. Папство, преследуя свои политические цели, открыто выступило с призывом к вооруженному нападению на мусульманский Восток. Общий характер, непосредственные военно-стратегические задачи и состав участников крестовых походов на разных этапах были различны. Первые крестовые походы являлись широким военноколонизационным движением европейцев на Ближний Восток. В нем участвовали наряду с крупными и мелкими феодалами массы крестьянства. Цели феодалов и крестьян в крестовых походах также были различны. Мелкое рыцарство, испытывавшее в конце XI в. острый недостаток в земле и стесненность в денежных средствах, стремилось к захватам поместий и грабежам в восточных странах. Крупные феодалы, ограниченные в возможностях существенно повысить доходы за счет податного населения, рассчитывали добиться увеличения своих владений и вместе с тем усиления своего политического влияния путем создания на Востоке новых, подвластных им государств. Напротив, крестьяне, доведенные до отчаяния непомерным феодальным гнетом, отправляясь «за море», надеялись обрести в дальних странах свободу от зависимости и материальный достаток, избавиться от мучительных голодовок и произвола сеньоров. В крестовых походах активно участвовало купечество североитальянских городских республик: Венеции, Генуи, Пизы, — имевшее намерение расширить и упрочить свои позиции в левантийской (восточносредиземномор-ской) торговле. Благодаря участию крестьянства ранние походы на Восток (до середины XII в.) были массовыми и в большой степени стихийными предприятиями. Значительную роль в них играла беднота, одурманенная церковной пропагандой. С середины XII в. крестьянство мало-помалу отходит от движения. Крестовые походы превращаются преимущественно в феодальные предприятия. С конца XII в. на первый план в них выдвинулось стремление к территориальной и торговой экспансии феодальных государств Западной Европы, их борьба с мусульманскими государствами Передней Азии и с Византией за преобладание в Восточном Средиземноморье. Религиозные мотивы постепенно утратили реальное значение, хотя формально и продолжали оставаться знаменем крестовых походов. Вдохновителем и активным участником крестовых походов неизменно являлась католическая церковь во главе с папами. Она помогала светским феодалам объединить усилия и дала крестовым походам идеологическое обоснование, провозгласив их благочестивым делом. Папство хотело, с одной стороны, удалить из Европы рыцарскую вольницу, представляющую постоянную угрозу для церковного землевладения, а с другой — использовать военную силу рыцарства для установления своего господства над всем христианским миром и для создания на Востоке новых владений, подконтрольных «апостольскому престолу». Начало крестоносного движения. В ноябре 1095 г. папа Урбан II созвал церковный собор во французском городе Клермоне. По окончании собора он выступил с речью перед огромными толпами простого народа, рыцарей и духовенства, призывая взяться за оружие, чтобы вырвать из рук «неверных» «гроб господень». Всем участникам похода было обещано полное прощение грехов, а тем, кто погибнет, — рай. Папа указал и на земные выгоды, ожидающие крестоносцев на Востоке. «Те, кто здесь горестны и бедны, там будут радостны и богаты», — заявил он. Призыв Урбана II нашел живой отклик среди собравшихся. Его речь прерывалась криками: «Бог так хочет!» Многие тут же давали обет идти в поход, в знак чего нашивали на одежду кресты. Идея похода на Восток была поддержана феодалами: война сулила им новые земли и богатую добычу. Церковь предоставила крестоносцам важные льготы. Они освобождались от уплаты долгов, а их имущество и семьи переходили под охрану церкви. Значительная часть рыцарства не была безразличной и к религиозным целям предприятия. В то время религия владела умами и освобождение «христианских святынь» в Палестине символизировало в представлении феодалов подвиг, в котором их религиозные побуждения сливались с захватническими устремлениями. Речь Урбана II, упомянувшего о сказочном плодородии земель восточных стран, взбудоражила и крестьян, надеявшихся на лучшую жизнь и свободу. После Клермонского собора проповедь войны с «неверными» развернули епископы, священники и монахи. Наибольшую популярность среди простого народа приобрел монах Петр Амьенский (Пустынник), призывавший к участию в походе простой народ в Северной и Средней Франции, а также в прирейнской Германии. Под влиянием его проповедей ранней весной 1096 г. десятки тысяч бедняков поднялись на «святое паломничество». Ими предводительствовали Петр Пустынник, разорившийся рыцарь Вальтер Голяк из Северной Франции и священник Готшалк из Рейнской области. Нестройными толпами, вооруженные лишь дубинками, косами, топорами, без запасов продовольствия участники похода шли вдоль Рейна и Дуная и далее на юг к Константинополю. Темные, изголодавшиеся крестьянские массы, к которым присоединилось немало различных авантюристов из обедневшего рыцарства, проходя через владения венгров, болгар, греков, отнимали у жителей продукты, грабили, убивали, насильничали; в прирейнских городах рыцари-грабители устраивали еврейские погромы. Местное население давало энергичный отпор неожиданным пришельцам. Крестоносцы несли большие потери. Сильно поредевшее крестьянское войско летом 1096 г. прибыло в Константинополь, Здесь оно повело себя столь же разнузданно. Алексей Комнин поспешил переправить крестьян на другой берег Босфора, в Малую Азию. Не ожидая подхода основных сил рыцарей-крестоносцев, бедняки устремились вперед. В октябре 1096 г. сельджукское войско заманило крестьянские отряды в засаду и почти полностью перебило их. Так наивные иллюзии крестьян, мечтавших совершить религиозный подвиг и добиться освобождения, разбились при первом столкновении с действительностью. Первый крестовый поход феодалов. Летом того же года двинулись на Восток армии западноевропейских феодалов. Рыцари хорошо вооружились и запаслись припасами и деньгами, распродав или заложив часть своих владений, которые охотно скупали епископы и аббаты, расширявшие таким образом церковные поместья. Раньше других отправились в поход феодалы из Лотарингии. Во главе их стоял герцог Годфрид Бульонский. Норманнских рыцарей Южной Италии возглавил князь Боэмунд Тарентский, который давно враждовал с Византией и мечтал основать независимое княжество на Востоке. Большая армия сформировалась в Южной Франции. Ею предводительствовал граф Раймунд Тулуз-ский, также рассчитывавший на создание своего княжества. Рыцарей Северной и Средней Франции возглавляли герцог Роберт Нормандский, граф Этьен из Блуа и граф Роберт II Фландрский. Феодальные войска не представляли единого целого. Отдельные отряды почти не были связаны между собой. Каждый сеньор отправлялся в поход со своей дружиной. За рыцарскими ополчениями следовали огромные толпы крестьян. Отряды шли разными путями; одни — по рейнско-дунайской дороге, другие — берегом Адриатики, третьи — через Италию, откуда морем переправлялись на Балканский полуостров. Путь крестоносцев через византийские владения сопровождался повальным грабежом местного населения. В конце 1096 — начале 1097 г. крестоносные отряды начали прибывать в Константинополь. Пришельцы держали себя вызывающе: грабили окрестных жителей, глумились над византийскими обычаями. Император Алексей I, опасаясь нашествия крестоносцев, которых утонченная верхушка византийского общества не без основания считала «варварами», старался воспрепятствовать объединению их ополчений в Константинополе. В то же время он стремился использовать силы крестоносцев к выгоде Византии. Лестью, подкупом и угрозами Алексей I добился от большинства сеньоров и рыцарей вассальной присяги: они обязались вернуть империи ее земли, которые будут отвоеваны у турок. После этого Алексей I переправил рыцарские отряды в Малую Азию. В XI в. в Малой Азии сложилось несколько сельджукских государств, враждовавших друг с другом. Отсутствие политической сплоченности среди мусульман облегчило продвижение крестоносцев. В начале 1098 г. предводитель одного из рыцарских отрядов Балдуин Фландрский завладел богатым городом Эдессой (в Северной Месопотамии) и основал первое государство крестоносцев — графство Эдесское. Тем временем главное войско крестоносцев вступило в Сирию и осадило Антиохию — один из самых крупных и хорошо укрепленных городов Восточного Средиземноморья. Крестоносцам удалось взять Антиохию только в результате измены начальника одной из крепостных башен. После долгих распрей из-за того, кому владеть разграбленный городом, феодалы согласились передать власть в нем Боэмунду Тарентскому. Так было основано второе государство крестоносцев — княжество Антиохийское. Из Сирии войско двинулось в Палестину. Летом 1099 г. крестоносцы штурмом взяли Иерусалим, учинив в городе дикую резню и разгром. Почти десять тысяч мусульман были убиты только в одной главной мечети, где они искали убежища. Молитвы и религиозные церемонии рыцари перемежали с убийствами и грабежами. Была захвачена огромная добыча. «После великого кровопролития, — рассказывает хронист — участник похода, — крестоносцы разбрелись по домам горожан, захватывая все, что в них находили. Всякий, кто входил в дом первый... присваивал и самый дом или дворец, и все, что в нем находилось, и владел всем этим как собственным». Государства крестоносцев на Востоке. Вскоре после взятия Иерусалима крестоносцы овладели значительной частью восточного побережья Средиземного моря. При помощи флота венецианцев, генуэзцев и пизанцев, которые присоединились к крестоносному движению в надежде извлечь из него выгоду, они захватили многие портовые города. К началу XII в. на Востоке образовалось четыре государства крестоносцев: на территории Южной Сирии и в Палестине — королевство Иерусалимское во главе с Годфридом Бульонским, к северу от него — графство Триполи, княжество Антиохийское и графство Эдесское. Поделив между собой новые владения, крестоносцы установили в них феодальные порядки, во многом схожие с теми, которые существовали на их родине. Местные крестьяне превратились в лично зависимых, обязанных отдавать господам в виде оброка от трети до половины урожая зерновых и определенную часть фруктов, олив, винограда. Они подвергались жестокой эксплуатации и были совершенно бесправны. Поэтому вся история государств крестоносцев заполнена непрерывной борьбой местного крестьянства против пришлых господ. В основе политического строя крестоносных государств лежала феодальная иерархия. Первым среди сеньоров считался король Иерусалимский. В вассальной зависимости от него находились три остальных государя, но фактически они были самостоятельны. Вся территория разделялась на рыцарские феоды разной величины, владельцы которых были связаны отношениями вассалитета. Вассалы должны были нести военную службу сюзерену. При этом в отличие от западноевропейских обычаев король имел право требовать ее в течение всего года, так как государства крестоносцев постоянно находились в состоянии войны с соседями. Бароны и другие вассалы обязаны были участвовать в заседаниях феодального совета — ассизах или куриях. Королевская курия — «высокая палата», состоявшая из крупных феодалов, одновременно являлась и феодальным судом, и военно-политическим советом. Она ограничивала королевскую власть; без ее согласия король не мог принять ни одного сколько-нибудь важного решения. Все эти положения были зафиксированы в «Иерусалимских ассизах» — судебнике, представлявшем собой запись феодальных обычаев Иерусалимского королевства. В этих ассизах, детально перечислявших права сеньоров и обязанности вассалов, порядки феодального общества, по словам Ф. Энгельса, получили классическое выражение1. Развитию политической централизации в Иерусалимском королевстве мешало отсутствие прочных экономических связей. Торговля играла большую роль в его хозяйственной жизни, но ее вели в основном Венеция, Генуя, Пиза, ориентировавшиеся на развитие внешнего рынка, но не стремившиеся создавать экономические связи внутри государств крестоносцев. Итальянские купцы получили в портовых городах Сирии и Палестины важные привилегии. Они были независимы от местных властей и управлялись консулами, назначавшимися из Италии. Церковь приобрела в государствах крестоносцев огромные земельные владения. Католические иерархи составили влиятельную часть феодалов на Востоке. Они собирали большие средства в виде десятины и не платили налогов. Государства крестоносцев были очень непрочными. Это были небольшие разрозненные владения, занимавшие узкую прибрежную полосу в Сирии и Палестине. Их восточная граница, растянувшаяся почти на 1200 км, была весьма уязвима. При этом крестоносцы жили главным образом в прибрежных городах и укрепленных замках, которые им пришлось построить, чтобы обеспечить себе безопасность. С юга Иерусалимскому королевству угрожал Египет. С Востока, со стороны Сирийской пустыни, государства крестоносцев то и дело подвергались нападениям сельд-жукских эмиров. К тому же сами завоеватели непрерывно враждовали друг с другом. Организации обороны мешало и непостоянство состава крестоносцев, и то, что их численность была сравнительно небольшой. Под началом иерусалимских королей, например, никогда не было более 600 конных рыцарей. Эта привилегированная верхушка жила среди озлобленного, враждебно настроенного населения, составляя своего рода военный лагерь. 1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 356. Государства крестоносцев на Ближнем Востоке. Редкой штриховкой показана территория крестоносных государств в период их наибольшей экспансии (XI — XII вв.); частой штриховкой — в первой половине XIII в.; указаны годы установления и падения власти крестоносцев С целью упрочения положения крестоносных владений вскоре после Первого крестового похода были созданы особые организации — духовно-рыцарские ордены: тамплиеров (или храмовников) и иоаннитов (или госпитальеров). В конце XII в. возник еще Тевтонский орден, объединявший немецких рыцарей. Ордены были полувоенными-полумонашескими объединениями. Под монашеским плащом «орденских братьев» (у тамплиеров — белого цвета с красным крестом, у госпитальеров — красного с белым крестом, у тевтонских рыцарей — белого с черным крестом) скрывались рыцарские латы. Задачей орденов являлась оборона и расширение владений крестоносцев, а также подавление выступлений местного населения. Ордены имели строго централизованное устройство. Они возглавлялись великими магистрами и подчинялись непосредственно папе, не завися от местных властей; они пользовались множеством привилегий и со временем стали богатейшими землевладельцами не только на Востоке, но и в Западной Европе. В XII в. ордены являлись наиболее мощной и сплоченной силой Иерусалимского королевства. Однако их независимое положение, распри с другими феодалами и между собой в конечном итоге привели к еще большему ослаблению государств крестоносцев. После утраты владений на Востоке ордены перенесли свою деятельность в Европу. Иоанниты и в особенности тамплиеры использовали накопленные богатства для ростовщичества и банковских операций. Тевтонский орден направил свою агрессию на берега Балтийского моря, где вместе с Орденом меченосцев основал свое государство. Второй крестовый поход. В XII в. началось сплочение мусульманских княжеств, в результате чего крестоносцы стали терять свои владения. В 1144г. правитель Мосула завладел Эдессой. В ответ на это был предпринят Второй крестовый поход (1147— 1149). Его главным вдохновителем выступил один из самых реакционных деятелей католицизма того времени аббат Бернар Клервоский. Поход, возглавляемый французским королем Людовиком VII и германским королем Конрадом III, потерпел полнейшую неудачу. Немецкие крестоносцы были наголову разбиты сельджуками в Малой Азии; французские крестоносцы безуспешно пытались взять Дамаск, но, ничего не добившись, бесславно вернулись в Европу. В середине XII в. между западноевропейскими государствами, стремившимися к утверждению своего господства на Средиземном море, а также между ними и Византией стали нарастать серьезные противоречия. Это обрекало на провал крестоносные предприятия. Третий крестовый поход. Во второй половине XII в. произошло объединение Египта, части Сирии и Месопотамии. Во главе нового государства (с центром в Египте) стал султан Салах-ад-Дин (Саладин). В 1187 г. он завладел Иерусалимом. Это послужило поводом к Третьему крестовому походу (1189— 1192), в котором участвовали феодалы Германии, Франции и Англии. Во главе крестоносцев стоял германский император Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август и английский Ричард I Львиное Сердце. Фридрих I, имевший агрессивные намерения в отношении Византии, заручился поддержкой ее главнейшего противника на Востоке — иконийского султана, враждовавшего с Салах-ад-Дином, в ответ на что Византийская империя вступила в союз с последним. Поход начался рядом неудач. Немецкие крестоносцы даже не достигли Палестины; они повернули назад после того, как Фридрих I утонул, переправляясь через небольшую горную речку в Киликии (Малая Азия). Французские и английские крестоносцы на протяжении всего похода враждовали между собой. Ричард I, стремившийся обеспечить влияние Англии на Средиземном море, по пути в Палестину попытался захватить Сицилию. Это вызвало противодействие Филиппа II и недовольство нового германского императора Генриха VI, претендовавшего на сицилийскую корону. Английскому королю пришлось довольствоваться захватом острова Кипр. По прибытии в Палестину крестоносцы осадили Акру, которой овладели только в 1191 г. В самый разгар военных действий Филипп II уехал в Европу, где заключил союз с Генрихом VI против Ричарда I. Английский король, безуспешно пытавшийся вернуть Иерусалим, в конце концов добился у Салах-адДина лишь некоторых уступок: за крестоносцами сохранялась прибрежная полоса от Тира до Яффы. Паломникам и купцам разрешалось в течение трех лет посещать Иерусалим, оставшийся под властью Египта. Столицей Иерусалимского королевства стала Акра. Четвертый крестовый поход (1202—1204) особенно ярко обнаружил истинные цели крестоносцев и выявил резкое обострение противоречий между западноевропейскими странами и Византией. Он был начат по призыву папы Иннокентия III (1198—1216). Первоначально намечалось направиться в Египет, однако закончился поход захватом Константинополя и разгромом Византийской империи. Решающую роль в изменении направления похода сыграла Венеция, к которой, не имея собственного флота, обратились крестоносцы. Купеческая олигархия, стоявшая во главе Венецианской республики, решила воспользоваться этим для утверждения собственных позиций в Византии. Венецианский дож Энрико Дан-доло (1192—1205) потребовал за услуги огромную сумму — 85 тыс. марок серебром. Крестоносцы согласились на эти условия. Однако вскоре оказалось, что они не в состоянии внести всю сумму. Тогда Дандоло, желая помешать походу на Египет, с которыми венецианцы вели регулярную торговлю, предложил крестоносцам в качестве компенсации за недоплаченные деньги помочь Венеции завоевать далматинский город Задар — крупный торговый центр на Восточном побережье Адриатического моря, конкурировавший с венецианскими купцами. В 1202 г. город был захвачен. Затем Дандоло по сговору с предводителем крестоносцев — итальянским маркизом Бонифацием Монферратским — направил войска и флот к Константинополю. Предлогом послужило обращение за помощью к папе и германскому королю царевича Алексея, сына свергнутого еще в 1195 г. византийского императора Исаака II Ангела. Бонифация Монферратского втайне поддерживали Филипп II Август и некоторые магнаты Франции и Германской империи, рассчитывавшие извлечь выгоды от воины в Византии. Папа Иннокентий III, получив обещание от царевича Алексея, что в случае успеха предприятия греческая церковь будет подчинена «апостольскому престолу», фактически оказал содействие вождям крестоносцев в осуществлении их планов, хотя официально и запретил им причинять ущерб христианским землям. Таким образом, все наиболее влиятельные политические силы тогдашней Европы толкали крестоносцев к захвату Византии. Осадив Константинополь летом 1203 г., крестоносцы добились восстановления на престоле императора Исаака II. Однако, когда он не смог уплатить им целиком сумму, обещанную за помощь, крестоносцы в апреле 1204 г. штурмом взяли город и подвергли его жестокому разгрому. Огню предавались целые кварталы, был беспощадно разграблен храм святой Софии. За падением Константинополя последовал захват половины Византийской империи (см. гл. 17, § 2). Последние крестовые походы. В XIII в. было предпринято еще несколько крестовых походов, однако они фактически ничего не изменили в положении дел на Востоке. Во время Пятого крестового похода (1217—1221) немецким, английским, голландским и венгерским крестоносцам удалось после продолжительной осады взять важную крепость, являвшуюся ключом к Египту, — Дамиет-ту. Внутренние раздоры и неумелое командование привели затем к военным неудачам, заставившим рыцарей покинуть страну. Шестой крестовый поход (1228—1229) возглавил император Фридрих II, в войске которого находились немецкие, французские, английские и итальянские рыцари. Направившись в Сирию, Фридрих II воспользовался войной Египта с Дамаском и заключил с султаном договор, по которому получил Иерусалим и некоторые другие города в Палестине. За это он обязался поддерживать султана против его врагов на Востоке. Однако в 1244 г. мусульмане снова захватили Иерусалим. Вскоре после этого папа Иннокентий IV организовал Седьмой крестовый поход (1248—1254), направленный против Египта. Его участниками были главным образом французские рыцари под предводительством короля Людовика IX, стремившегося обеспечить Франции более твердые позиции в Северной Африке, с которой были связаны торговыми отношениями города Южной Франции. Поход закончился полной неудачей. Таков же был результат Восьмого крестового похода (1270) под предводительством того же Людовика IX. Флот крестоносцев двинулся на этот раз в Тунис. Вскоре после высадки на берег среди крестоносцев вспыхнула эпидемия, от которой погиб и сам король. После этой неудачи призывы папства к новым крестовым походам не имели успеха. Одно за другим владения крестоносцев на Востоке переходили к мусульманам: в 1268 г. Египет захватил Антиохию, в 1289 г. — Триполи, в 1291 г. пала последняя опора крестоносцев на Востоке — Акра. Иерусалимское королевство перестало существовать. В XIV—XV вв. европейскими странами предпринимались крестовые походы против османов, не принесшие успеха. Причины упадка и последствия крестоносного движения. Главной причиной упадка крестоносного движения к концу XIII в. были социально-экономические и политические перемены в Западной Европе. В связи с общим подъемом производительных сил губительные последствия стихийных бедствий несколько уменьшились. Крепостные не видели больше необходимости искать спасения от феодального гнета за морем. Часть крестьянства уходила в растущие города. Да и неудачи, постигшие крестьян в их попытках обрести на Востоке землю и свободу, сильно подорвали прежние иллюзии. Теперь крестьяне все чаще становятся на путь активной борьбы за свободу и землю у себя на родине. В то же время претерпело изменения и положение рыцарства. С укреплением королевской власти реже происходили феодальные усобицы. Мелкие рыцари стали предпочитать рискованным походам на Востоке службу в королевском войске. К тому же отыскались более близкие объекты для рыцарских захватов и грабежей в самой Европе. Немецкое рыцарство устремилось на завоевание славянских земель по рекам Лабе и Одре, а также в Восточной Прибалтике. Французские рыцари в начале XIII в. занялись захватом и ограблением богатого Лангедока, периодически отправлялись в соседнюю Испанию для борьбы с маврами. Английские феодалы были заняты внутриполитической борьбой и захватническими войнами в Уэльсе и Ирландии. Наконец, стимулы к участию в крестовых походах исчезли и у купечества: венецианцы, генуэзцы, провансальцы, каталонцы, предпочитали заключать торговые соглашения с государями Леванта. Таким образом, в XIII—XIV вв. у всех общественных классов и слоев Запада, принимавших ранее активное участие в крестовых походах, интерес к ним понизился. В связи с этим, а также объединением мусульманских княжеств под властью Египта, усилившим трудности борьбы на Востоке, крестоносное движение угасло. Крестовые походы не только не достигли своей прямой цели, но принесли гибель сотням тысяч их участников и сопровождались тратой колоссальных средств европейских государств. Еще более пагубные результаты имели крестовые походы для стран Востока: они принесли им страшные бедствия, истребление множества людей, разгром и разорение. Тем не менее крестовые походы оказали известное влияние на дальнейшее общественнополитическое развитие Западной Европы, поскольку они ускорили те процессы в жизни феодального общества, которые начались еще до них. В частности, уход на Восток самых беспокойных элементов рыцарства, а также наиболее воинственных сеньоров, претендовавших на политическую самостоятельность у себя на родине, содействовал усилению централизации в тех странах Европы, где эта тенденция наметилась. Известное воздействие оказали крестовые походы и на позиции католической церкви в Европе. Сначала она извлекла из этого движения значительные выгоды, так как папство благодаря походам на Восток в XII в. подняло свой авторитет. Однако к концу XIII в. становившееся все более очевидным корыстолюбие римских пап способствовало начавшемуся в этот период упадку престижа католической церкви. Пребывание на Востоке, знакомство с высокой культурой и бытом заморских стран во многом изменили образ жизни западноевропейских феодалов и приври к росту их потребностей, а следовательно, и к стремлению иметь больше денег. Это стимулировало начавшийся во многих странах Европы процесс перехода к денежной форме ренты. Массой уход крестьян в первые крестовые походы вызвал недостаток рабочих рук, и сеньорам на первых порах приходилось смягчать участь оставшихся крестьян, переводя их на денежный оброк. К тому же, отправляясь в крестовые походы, феодалы нуждались в деньгах и поэтому нередко соглашались на освобождение крестьян от личной зависимости за выкуп. Таким образом, крестовые поводы отчасти оказали влияние и на положение крестьянства. Одним из наиболее важных последствии крестовых походов было ослабление позиций Визатии и арабов в торговле Восточного Средиземноморья и усиление в ней роли европейских купцов (особенно Венеции и Генуи). Наконец, на европейских странах сказалось также влияние более высокой в то время восточной техники и культуры. Глава 9. Франция в XI—XV вв. § 1. Франция в XI—XIII вв. Особенности процесса оформления основных классов феодального общества. Ф. Энгельс называл Францию «средоточием феодализма в средние века», подчеркивая тем самым законченность и выраженность в ней форм феодальных отношений1. Это определение, однако, приложимо лишь к северной и центральной частям страны, где ситез римских и варварских начал получил наиболее полное воплощение. Там же сложились и наиболее благоприятные условия для развития земледелия, в первую очередь зернового хозяйства. Территорию в бассейне рек Сены и Луары, в районах Парижа и Орлеана отличали благоприятные естественногеогра-фические условия — наличие плодородных земель, рек и сухопутных дорог, относительно высокая плотность населения. В XI в. здесь завершилось длившееся несколько столетий складывание основных классов феодального общества. К концу XI в. класс феодалов численно вырос и распался на несколько слоев. От крупных сеньоров, нередко восходящих к потомкам каролингской знати, отделились многочисленные боковые ветви, образовавшие значительную группу средних феодалов. Количественно преобладал слой мелких феодалов, выходцев из слуг и вассалов короля и светских магнатов. Другим важным источником пополнения низших слоев господствующего класса были выходцы из сельской общины, ставшие воинами-профессионалами. Уже в XI в. господствующий класс полностью отделился от других слоев, некогда питавших его истоки, и превратился в замкнутую привилегированную группу, принадлежность к которой определялась рождением. Феодалы монополизировали к этому времени всю собственность на землю, что отразила господствующая в обществе правовая норма «нет земли без сеньора». Аллоды общинников составляли исключение даже на юге, где их было больше, чем на севере. Под власть сеньоров попали общинные угодья, использование которых для зависимых крестьян теперь было связано с уплатой определенных повинностей. Оформились баналитетные права сеньоров: монополия на печь, виноградный пресс и мельницу, которые раньше были коллективной собственностью общины. 1 См.- Маркс К, Энгельс Ф. Соч 2-е изд. Т. 21. С. 259 Важным показателем завершенности процесса оформления феодального класса являлась сложившаяся в его среде последовательная иерархия — от низших слоев «однощитных» рыцарей, не имевших вассалов, через 3—4 промежуточные ступени более состоятельных феодалов — к властителям значительных территорий: герцогам Нормандии, Бретани, Бургундии, Аквитании, графам Шампани. Иерархию французского феодального класса отличала правовая норма: «Вассал моего вассала не мой вассал». Она охраняла привилегии магнатов от посягательств центральной власти, обеспечивала вместе с тем внутреннюю сплоченность господствующего класса. Реализовав монополию на землю, класс феодалов во Франции приобрел значительную политическую власть. Благодаря широко развитой практике субинфеодации, т. е. передачи сеньорами части своей земли вассалам, политические прерогативы распределились в среде господствующего класса преимущественно в зависимости от размеров и статуса их земельных владений. Главной политической прерогативой являлось право судопроизводства, судебные штрафы от которого служили важным дополнительным источником сеньориальных доходов. Крупные феодалы могли обладать правом высшей юстиции. В целом процесс оформления господствующего класса во Франции прошел быстрее, чем во многих других странах Западной Европы, и отличался большей законченностью. Формирование феодально зависимого крестьянства происходило медленнее, но также завершилось в XI в. (см. гл. 4, § 2). Основной категорией крестьян в XI в. являлись сервы, находившиеся в поземельной и в личной зависимости. Для многих групп крестьянства, однако, отсутствовало обязательное прикрепление к земле. Дальнейшие перемены в положении основных классов феодальной Франции были связаны с экономической и социально-политической эволюцией общества. Изменения в аграрном строе в XI—XIII в. Внутренняя колонизация и положение крестьянства. Социально-экономическое развитие Франции в это время отличали заметные сдвиги и прогресс в развитии производительных сил, следствием которых явилось повышение продуктивности сельского хозяйства (см. гл. 18). Усовершенствованные за счет железных деталей орудия труда, многократная (до 4 раз) вспашка земли, использование лошадей на сельскохозяйственных работах существенно улучшили обработку почвы и ускорили темпы производства. Этому же способствовало и распространение на севере страны трехполья. В южных областях в силу особенностей климата и почв долго сохранялись двух-полье и легкий плуг. Там наряду с зерновыми культурами большие площади занимали виноградники, технические культуры и плодовые деревья. Происходили массовые расчистки под пашню залежных земель и лесов, достигшие апогея во второй половине XII века. В результате реже стал голод из-за неурожая, засухи или наводнений. Заинтересованные в расширении пригодных для земледелия площадей феодалы нередко выступали организаторами расчисток. Однако подъем нови был делом главным образом самих крестьянских общин, которые и придавали ему подлинно массовый характер. Внутренняя колонизация, в ходе которой осваивались новые территории, возникали новые поселения, во Франции окончилась раньше, чем в других странах Западной Европы. Крестьяне-пришельцы (госпиты) имели более льготные по сравнению с сервами условия пользования землей. Они не несли барщины, уплачивая натуральный оброк и небольшую сумму денег, были лично свободны, оставаясь только в поземельной и судебной зависимости от феодалов. Расширение посевных площадей и значительной рост урожайности позволили крестьянину производить в собственном хозяйстве не только необходимый, но и прибавочный продукт. Производительность труда росла преимущественно в крестьянском хозяйстве, так как на своем участке крестьянин трудился гораздо усерднее, чем на барщине. Поэтому сеньорам стало выгоднее реализовать феодальную ренту не в форме принудительных барщинных отработок, а в виде части урожая, собранного крестьянами в их хозяйстве. В XII—XIII вв. началась постепенная ликвидация барской запашки и раздача крестьянам в наследственное держание земель, входивших до того в домен. Это привело к замене барщинных повинностей продуктовой рентой. Процесс сокращения и даже ликвидации барской запашки получил наиболее выраженные формы именно во Франции и особенно в хозяйствах светских феодалов. В церковных землях эти перемены происходили медленнее и в меньших масштабах. Города в XI—XIII вв. Прогресс производительных сил и связанное с ним отделение ремесла от сельского хозяйства способствовали развитию городов как экономических центров ремесла и торговли. Во Франции начиная уже с X в. расцветают старые городские поселения, основанные еще римлянами и пришедшие в упадок в V—IX вв. (Бордо, Тулуза, Лион, Марсель, Ним, Пуатье, Париж, Руан и др.). Появляются и новые городские поселения. К XIII в. в стране было множество крупных, средних и мелких городов, общее число которых в ходе последующего развития вплоть до XX в. увеличилось незначительно. Особенностью развития Южной Франции в XI—XII вв. был именно ранний расцвет ее городов. Этому способствовали их торговые связи со Средиземноморским регионом, а также участие в крестовых походах. Активная внешняя торговля благоприятно отразилась и на состоянии ремесла, особенно суконного. Ним и Монпелье, например, славились производством тонкого сукна, идущего на экспорт. Широкие возможности сбыта товаров, ослаблявшие необходимость детальной регламентации ремесла, определили такую специфическую особенность социально-экономического развития южных городов, как почти полное отсутствие цехов до конца XIV в. В условиях так называемого «свободного ремесла» контроль не столько за объемом производства, сколько за качеством товаров осуществляли органы городского управления. Южные города рано приобрели и политическую самостоятельность, чему способствовали не только их экономический подъем, но и традиции позднеантичного муниципального устройства. В процессе освобождения из-под власти сеньора южные города использовали в основном не средства вооруженной борьбы, а финансовые сделки, выкуп. Это обстоятельство наряду с вовлечением части южного дворянства в торговлю смягчили противоречия между горожанами и дворянством и сделали возможным их политический союз на юге Франции. В течение XII века почти во всех южных городах был установлен консулат (правление консулов — выборных лиц от проживающего в городах дворянства и духовенства, а также от ремесленной верхушки). Управление принадлежало Большим советам, которые состояли из полноправных горожан, т. е. жителей, имевших собственность в городе и плативших налоги. Процесс этот шел без участия далекой от южных городов королевской власти. Обретя большую степень самостоятельности и ориентированные по преимуществу на внешнюю торговлю, южные города не сыграли значительной роли в деле государственной централизации Франции. Напротив, их подъем питал сепаратистские тенденции в развитии южных провинций. Иначе сложилась историческая судьба городов Севера. Экономический подъем наиболее значительных из них — Арраса, Бовэ, Санлиса, Амьена, Нуайона, Лана и Реймса — наметился лишь к XII в. и был связан с развитием в Северо-Восточной Франции главным образом производства суконных и льняных тканей. Основным средством достижения политических и экономических прав городов на Севере явились восстания, часто неоднократные, приобретавшие особенно ожесточенные формы в тех случаях, когда борьба шла против духовных сеньоров. В ходе восстаний в этих городах против горожан выступала организованная сила церкви, которая использовала, в частности, такое распространенное и испытанное средство, как интердикт (запрет богослужения). Обычно горожане заключали тайный союз, члены которого были связаны присягой. Борьба сопровождалась изгнанием сеньора и его рыцарей из города или их убийством. В случае успеха феодалы были вынуждены предоставлять городу большую или меньшую самостоятельность, часто расценивая эту уступку как временную меру. Серию кровопролитных восстаний в городах Северной Франции, развернувшихся с конца XI и в начале XII в. и получивших название коммунального движения, открыл город Камбре. После ряда попыток (967, 1024, 1077) он получил коммунальную хартию на самоуправление. Его примеру в XII в. последовали Сен-Кантен, Бовэ, Нуайон, Лан, Амьен, Суассон, Корби, Реймс и др. В ходе движения города добивались неодинаковых результатов. Некоторые из них получили права коммуны (см. гл. 7). Другие города, как правило, игравшие менее значительную экономическую роль, добивались только некоторых привилегий экономического или политического характера: права личной свободы жителей, привилегий в области торговли или управления (города Лорисс, Бомон). Города, таким образом, вступали с сеньорами в договорные отношения, условия которых были зафиксированы в хартиях городских вольностей. Данные сеньорами, они утверждались королем. Освобождение обычно шло в несколько этапов, и бывало так, что борьба с сеньорами осложнялась внутренними противоречиями в городе — между ремесленниками и патрициатом или противоречиями в ремесленной среде. Борьбу облегчала, как правило, принадлежность города нескольким сеньорам, как это случилось в Бовэ, где власть над городом делили епископ, капитул и кастелян, представлявший интересы короля. Коммунальное движение положило начало политическому союзу городов с королевской властью. Города при этом искали помощи у короля в борьбе против сеньоров и часто находили ее, так как монархия желала ослабления власти крупных феодалов. В этом союзе города всегда находились на положении подчиненного и неполноправного партнера, который платил налоги, покупал хартии привилегий и их подтверждение новым королем, предоставлял государству займы, которые оставались безвозвратными ссудами. Король же получал от городов военную, денежную и политическую помощь в борьбе с внешним врагом и во внутренней политике, направленной на ослабление политического могущества крупных феодалов. На территории своего домена французские короли избегали давать городам права коммуны, уступая им лишь часть привилегий под контролем назначенного центральной властью чиновника, как это случилось с Парижем, Орлеаном и Буржем. Таким образом, результативность борьбы городов за самостоятельность определялась не только их экономической или политической значимостью, но и принадлежностью города королю или просто сеньору. Поддержка королем городов носила не всегда последовательный характер, так как он руководствовался финансовыми или политическими расчетами. Центральная власть могла отказать городу в помощи или даже ликвидировать коммуну. Завоевание городами политической самостоятельности способствовало быстрому росту их экономического могущества. Основу его составляло развитие ремесла, которое привело к возникновению новых специальностей и цехов. В городах Северо-Восточной Франции существовало 25 специальностей только в сукноделии. В Амьене число ремесленных специальностей, организованных в цехи, равнялось 80, в Аббевиле — 64, в Сен-Кантене — 53. Во второй половине XIII в. по решению прево (должностное лицо короля) Парижа Этьена Буало записываются уставы 100 цехов («Книга ремесел Парижа»), в частности 22 цехов только в области производства металлических изделий. К началу XIV в. число зарегистрированных цехов в Париже достигло 350. В Северной Франции развивалась хозяйственная специализация областей, послужившая здесь в отличие от Юга базой для формирования внутренних экономических связей. Торговля железной рудой, солью, скотом и сукном из Нормандии, полотном, сукном, высококачественным вином из Шампани и Бургундии, разнообразными ремесленными изделиями из Парижа с ориентацией на внутренний рынок делала эти области экономически зависимыми друг от друга и таким образом связывала их. Проявлением торго-во-экономических межгородских связей явилась организация в начале XIII в. в Париже «Ганзы речных купцов», объединившей руанских и парижских купцов, торговавших по Сене. К ней присоединились купцы Бургундии с Верхней Соны и Йонны. Затем появилось товарищество купцов, торгующих по Луаре. Деятельность торговых объединений стимулировала рост производства в городах по Сене, Уазе, Марне, Сомме, Верхней Соне и Средней Луаре. Эта особенность экономического развития северофранцузских городов позволила им сыграть решающую роль в централизации страны. К XIII в. относится расцвет знаменитых шампанских ярмарок, которые проходили в городах, расположенных на Марне и Сене с их притоками (см. гл. 7). Присоединение Шампани в 1284 г. к королевскому домену закрепило ее экономические связи с Парижем. В XIII в. определилось место Парижа как крупнейшего экономического центра Северной Франции и политической столицы государства. Его население было весьма многочисленным: 70 тыс. жителей; в Руане проживало около 50 тыс. человек, но большинство других городов было среднего размера — 5—6 тыс. жителей. На фоне экономического подъема в городах начинается процесс имущественной дифференциации, который не в состоянии были предотвратить цеховые ограничения. Из среды горожан выделяется зажиточная купеческая и ремесленная верхушка, владевшая движимой и недвижимой собственностью и захватившая в свои руки городское управление. Ей противостояла основная масса ремесленников и торговцев, ущемленных в политических правах и лишенная доступа к городскому управлению. Последнее обстоятельство лишало их возможности контролировать городские финансы и препятствовать налоговым злоупотреблениям. В Париже «Ганза речных купцов» захватила в свои руки городское управление, ее торговый дом стал административным центром столицы — его ратушей (hotel de ville). На печатях Ганзы был изображен корабль с горделивой надписью — «плывет и не тонет». Статуты Этьена Буало на этом этапе еще санкционировали свободное вступление в цех при условии уплаты небольшого взноса. Не во всех цехах требовали изготовления шедевра, в ряде случаев допускалось свободное ремесло, не всегда лимитировалось количество учеников, прямо не ограничивались объемы производства. Однако сама запись статутов была вызвана волнениями основной массы ремесленников, требовавших от зажиточных мастеров соблюдения цеховых постановлений. Состав плательщиков городских налогов (тальи) обнаруживает близость многих мастеров к беднякам и неравенство между цехами, в частности выделение богатых цехов — сукновалов, ювелиров и некоторых других. В XIII в. по городам прокатилась волна выступлений ремесленников против патрициата, осложненных внутрицеховыми и межцеховыми противоречиями. Так, например, в Бовэ «малый народ» убивал богатых горожан, пытаясь добиться права участия в выборах органов городского управления для всех цехов. Эти волнения служили поводом для вмешательства королевской власти в дела городского управления и проведения с конца XIII в. политики постепенной ликвидации коммунальных вольностей. Влияние товарно-денежных отношений на французскую деревню. В XII и особенно XIII в. жизнь французской деревни развивалась под значительным воздействием экономически сильных городов. Это вызвало сравнительно быструю замену продуктовой ренты денежной. В условиях наметившейся ранее тенденции к сокращению домена основным поставщиком сельскохозяйственных товаров на рынок стал французский крестьянин. Преимущественная связь деревни с городским рынком через крестьянское хозяйство составила одну из важнейших особенностей французской экономики, которая определилась в этот период. Следствием отмеченных изменений явился начавшийся в XII в. выкуп крестьян на волю. Бывший серв выкупал четыре основные повинности, характеризующие личную зависимость во Франции: побор с наследства (право «мертвой руки»), брачный побор, произвольную талью и погловный побор. Земля при этом оставалась собственностью феодала, за пользование которой крестьянин платил денежную ренту — ценз, отчего крестьянин стал называться цензитарием, а его земельный участок — цензивой. Сохранялась судебная зависимость его от феодала, однако в качестве лично свободных людей (вилланов) крестьяне могли обращаться в королевский суд, апеллируя на решения сеньориального суда. Выкуп мог быть индивидуальным или коллективным, его сумма определялась договором, оформленным в виде хартии. Иногда она была настолько обременительна, что крестьяне предпочитали не менять своего положения, и тогда «освобождение» могло быть принудительным. Распространение продуктовой и денежной форм ренты, участие крестьян в торговле повышали самостоятельность крестьянского хозяйства и диктовали необходимость предоставления личной свободы, хоти и не были единственной причиной этого процесса. Большую роль в его развитии сыграла классовая борьба крестьян, которую в этот период отличает их стремление улучшить не только свое экономическое положение, но и социальный статус. В XII—XIII вв. в деревнях Франции идет борьба крестьян за расширение экономических, административных и юридических прав сельской общины. Этот процесс шел параллельно коммунальному движению в городах и мог иметь своим результатом образование сельской коммуны, для которой были характерны статус личной свободы жителей, право выборного управления, самостоятельного сбора ренты в пользу сеньора, выбора прокуратора — доверенного лица в ее внешних контактах, право низшей юстиции по конфликтам, возникающим между ее членами. Права сельской общины закреплялись письменной хартией. Все это укрепляло крестьянскую общность, обеспечивая ее противостояние классу феодалов, который в условиях развития товарно-денежных отношений пытался увеличить размеры денежной ренты. Рост рентных платежей значительно затруднял крестьянам реализацию продукции на рынке. Большая сумма выкупных платежей побуждала крестьян обращаться к ростовщикам и оборачивалась долговой кабалой для них. Особенно тяжелыми были условия выкупа свободы у церковных феодалов. Заметным бременем на крестьянах лежала и церковная десятина («большая» — с урожая зерна и «малая» — со скота, шерсти и продуктов животноводства). Наконец, именно с XIII в. определились посягательства государства на доходы крестьянского хозяйства. Все это создавало напряженную обстановку в деревне, которая часто разряжалась открытыми выступлениями крестьян. В 1251 г. во Фландрии и Северной Франции началось самое крупное в XIII в. восстание «пастушков», как называли себя крестьяне. Особенностью его явился ярко выраженный антицерковный характер. Громя монастыри и церкви, крестьяне двигались к Парижу и далее на юг к Туру и Орлеану. Восстание свидетельствовало о глубоком недовольстве в среде крестьянства и обострении классовой борьбы. Политическая раздробленность в XI—XII вв. Факторы процесса централизации. Во Франции, как и повсюду в Европе процессу централизации предшествовал довольно длительный период ослабления королевской власти и политической раздробленности. До XII в. положение французского короля было крайне затруднительным по нескольким причинам. Среди них следует назвать ограниченные материальные возможности правящей династии и компактную структуру земельных владений крупных феодалов, создающую наиболее благоприятные условия для их политической автономии. Домен Капетингов представлял собой сравнительно небольшую полосу земли по Сене и Луаре, тянущуюся от Компьеня до Орлеана и окруженную со всех сторон феодальными княжествами — герцогствами Нормандия, Бургундия, Бретань и графство Шампань, — во много раз превосходящими по своим размерам его территорию еще в XII в. Специфика вассальной системы во Франции позволяла королю рассчитывать лишь на помощь непосредственных вассалов. Отсутствовал в обществе дополнительный социальный резерв в виде свободного крестьянства, который могла бы использовать монархия, подобно тому как это было в Англии, Швеции или Кастилии. Королевская власть имела выборный характер. Своеобразие экономического и политического развития юга и севера страны, усиленное наличием двух народностей, усугубляло политическую раздробленность. Тем не менее процесс государственной централизации наиболее последовательно осуществлялся во Франции, в первую очередь в ее северной части. Одним из решающих факторов этого явилось возникновение и развитие городов и товарноденежных отношений, которое нарушило хозяйственную замкнутость отдельных территорий. Это сделало возможным достижение экономического единства — необходимого условия политического объединения. Развитие городов вызвало также становление в обществе новой социальной силы — сословия горожан, заинтересованных в усилении королевской власти, с которой они связывали надежду на ликвидацию феодальной анархии и создание благоприятных условий для торговли (устранение таможенных границ, единство мер и весов, защита от иностранных купцов). Возник политический союз городов и королевской власти. Он приобрел исключительное значение в ходе процесса централизации во Франции из-за узкой социальной базы королевской власти и политической силы крупных феодалов. Союз городов с королевской властью как осознанная монархией линия ее внутренней политики оформился в результате освободительного движения городов, хотя не сразу и с отмеченными выше особенностями. Тем не менее Людовик IX (1226—1270) в своем поучении сыну завещал хранить союз с городами, сила которых, по его словам, должна была служить гарантией безопасности монархии. Другим фактором, содействовавшим процессу централизации, были изменения в расстановке сил внутри господствующего класса. Рост хозяйственной самостоятельности крестьян, улучшение их социального статуса, возрастающий отпор крестьянства затрудняли реализацию по отношению к нему внеэкономического принуждения. Феодалы вынуждены были сплотиться вокруг королевской власти. К этому их толкала также надежда на извлечение дополнительных доходов от службы в королевской армии и растущем государственном аппарате, от государственной эксплуатации крестьянства. В сильной королевской власти особенно нуждались мелкие и средние феодалы, не располагавшие ни достаточными материальными средствами, ни средствами внеэкономического принуждения. Противниками централизаторской политики оставались крупные феодалы, более всего дорожившие своей политической самостоятельностью, властью над населением и доходами с него. Королевская власть как представительница порядка в обществе поддерживала то одну, то другую группу феодалов, используя для собственного усиления противоречия внутри господствующего класса. Рост королевского домена. Процесс государственной централизации прошел не без труда и отступлений через несколько этапов. До конца XII в. французские короли решали проблему усиления собственной власти в пределах домена. На первых порах результатами развития городов, подобно королю в его домене, воспользовались крупные феодалы — герцоги и графы. Поэтому централизация разделилась на два этапа — централизация по провинциям и общегосударственное объединение. Этапы не всегда были четко разграничены по времени, что существенно осложняло утверждение центральной администрации над местными органами управления. Начало XII в. явилось переломным моментом в укреплении королевской власти. Людовик VI (1108—1137) и его канцлер аббат Сугерий положили конец сопротивлению феодалов — сеньоров Монтлери, Пюизе и Томаса де Марль в королевском домене. Их замки были разрушены или заняты королевскими гарнизонами. Людовик VII (1137—1180) начал увеличивать королевский домен, присоединив города Бурж и Сане. Благодаря браку с Элеонорой Аквитанской он распространил свое влияние и на юг страны. Затем, однако, последовал его развод и новое замужество наследницы богатой Аквитании с Генрихом Плантагенетом, графом Анжуйским, вассалом французского короля, который в 1154 г. стал английским королем. Это событие существенно осложнило в будущем взаимоотношения Франции и Англии. Значительное увеличение домена произошло в правление Филиппа II Августа (1180—1223). Ему принадлежит заслуга борьбы с самым крупным соперником французской монархии — английским королем. При Генрихе II Плантагенете резко увеличились континентальные владения Англии, куда входили Анжу, Мэн, Турень, Нормандия, Пуату, а после женитьбы на бывшей королеве Франции Элеоноре — Аквитания (см. гл. 10). Его владения превышали домен французского короля. Филипп II, искусный политик и дипломат, используя нарушения английским королем вассальных обязательств, начал борьбу с ним. Наибольших успехов Филипп II добился в борьбе с английским королем Иоанном II Безземельным. Объявив его владения во Франции конфискованными, он завоевал в 1202—1204 гг. Нормандию, которая считалась самой ценной жемчужиной английской короны. Война приобрела значение европейского конфликта, так как Иоанн привлек на свою сторону императора Оттона IV, графа Фландрского и некоторых других феодалов. Но в 1214 г. французы разгромили англичан в битвах при Ларош-о-Муане близ Анжера и при Бувине (во Фландрии). Большую помощь королю оказали города домена и крестьянство. Не случайно от этого времени сохранилось большое число коммунальных хартий, дарованных Филиппом II. Альбигойские войны. Следующее значительное увеличение домена произошло за счет южных областей страны, которые до начала XIII в. жили почти обособленно от северной части страны. Задачу присоединения юга к домену облегчила сложившаяся там внутренняя обстановка. Экономическое процветание южнофранцузских городов, их политическая самостоятельность способствовали обострению социальных противоречий в этом регионе. Они проявились в идеологической борьбе, вызванной развитием еретических учений вальденсов и катаров в 40-е годы XII в. Центр активного распространения ереси на юге Франции — город Альби — дал ей название «альбигойской ереси», вскоре превратившейся в массовое народное движение с антифеодальной и антицерковной направленностью. Приверженцы дуалистической идеи о добре и зле, альбигойцы считали земной мир и католическую церковь созданием дьявола, отрицали основные догматы церкви, требовали ликвидации церковной иерархии, церковного землевладения и десятины. Участники движения ратовали за возвращение евангелической простоты и равенства раннехристианских общин, были преисполнены жажды глубокого очищения. Некоторые из альбигойцев выступали с проповедью бедности и отказа от богатств. «Никто не должен ничем владеть», — учил основатель ереси вальденсов (см. гл. 20) Петр Вальдо из Лиона. Основную массу альбигойцев составляли горожане и крестьянство. Однако к движению примкнули рыцари и знать. Даже граф Тулузский — Раймонд склонялся к альбигойству. Причастность привилегированных слоев к ереси диктовалась желанием использовать земельные богатства церкви, а также политическими расчетами. Они сводились к стремлению сохранить политическую автономию юга, тогда как католическая церковь на этом этапе находилась в тесном политическом союзе с Капетингами. Была угроза распространения ереси в Северной Франции. Но, главное, движение давало удобный повод для вмешательства. В 1209 г. папе Иннокентию III удалось организовать крестовый поход против альбигойцев с участием северофранцузских феодалов. Их военным предводителем являлся барон Симон де Монфор. В 1213 г. в битве при Мюрэ крестоносцы одержали решительную победу. После ожесточенного сопротивления были взяты города Безье и Каркассон. Однако Раймонду Тулузскому удалось удержать Тулузу, Ним, Бокер и Ажан. После гибели Симона де Монфора в борьбу вмешался французский король Людовик VIII. В итоге двух успешных походов в 1224 и 1226 гг. он присоединил к домену графство Тулузское и часть земель по Средиземноморскому побережью (1229). Последний оплот альбигойцев — крепость Монтсегюр была взята только после 10-месячной осады; оставшиеся в ней 200 еретиков были уничтожены (1244). Однако Аквитания осталась в руках Плантагенетов. Война нанесла жестокий удар по экономическому могуществу южных городов, от которого они постепенно оправились, хотя и потеряв прежнюю независимость от королевской власти. Государственное управление в XIII в. В середине и второй половине XIII в. расширение королевского домена было подкреплено созданием общегосударственного аппарата управления. Его основу составили центральные органы, выросшие из королевской феодальной курии: Королевский совет — верховный орган управления; Парижский парламент (верховный суд) и финансовое ведомство—Палата счетов. Основной линией развития государственного аппарата была постепенная замена службы по вассальным обязательствам службой, оплачиваемой государством, которую несли специально обученные чиновники — легисты, знатоки законов и часто выходцы из неблагородных сословий. Королевский совет как постоянный орган при короле состоял из приближенных к нему крупных феодалов, принцев крови, а также легистов. Во главе отдельных административных округов, на которые был разделен домен, стояли бывшие управляющие королевскими поместьями — прево. Округа соединялись в более крупные единицы — бальяжи (на севере) и сенешальства (на юге). Возглавлявшие их бальи и сенешали как чиновники короля соединяли в своих руках административную, судебную и военную власть. Король назначал их из числа крупных феодалов, стремясь обрести в них политических союзников. Королевская власть постепенно утрачивала свою патримониальную основу и превращалась во власть, представляющую «общее» благо и имеющую публично-правовой характер. Существенное значение при этом сыграла тенденция к замене выборной власти короля наследственной. Представители правящей династии Капетингов пытались реализовать наследственный принцип, коронуя наследника при живом отце. Государство не считается теперь личной собственностью короля, которая могла быть разделена между наследниками или подарена частным лицам. Утверждается принцип неотчуждаемости домена. Король перестает рассматриваться как частное лицо, когда он должен был, подобно любому другому феодалу, приносить клятву сеньору, во владениях которого им приобреталась земля. Пытаясь избежать унизительной процедуры принесения оммажа, короли перекладывают ее на своих чиновников, а затем вообще отказываются от нее. Король становится источником права, издавая законы и указы. Укореняются понятия о священной природе королевской власти и государственной измене. Наиболее крупные и важные реформы внутреннего управления были проведены в царствование Людовика IX (1226—1270). На территории королевского домена были запрещены судебные поединки (решения тяжб с помощью поединка спорящих сторон, широко применявшиеся в сеньориальном суде). Появилась возможность перенести дело в королевский суд. На решение любого суда — сеньориального или городского — могла быть подана апелляция в королевский суд. Парижский парламент становился верховной судебной инстанцией королевства. Наиболее важные дела, в первую очередь уголовные, были только в ведении королевского суда. Общественному порядку и ослаблению феодальных усобиц в государстве содействовал запрет Людовика IX вести частные войны на территории домена, а также установление правила, действующего на земле всего королевства и получившего название «40 дней короля». В течение этого срока сеньоры, оказавшиеся перед угрозой военного конфликта, могли апеллировать к королю. В королевском домене была введена единая монетная система; королевская монета получила право хождения по всему государству наряду с местными монетами сеньоров. Право чеканки собственной монеты имели тогда около 40 сеньоров. Постепенно королевская монета стала вытеснять из обращения местную монету. Отличаясь высоким содержанием серебра или золота, она широко использовалась как во внешней, так и во внутренней торговле. Это содействовало экономическому единству страны. Людовик IX, снискавший себе имя «Святого», пытался реализовать идеал христианнейшего государя, объявив целями своей внутренней и внешней политики «мир и справедливость». Он выступил организатором двух крестовых походов против «неверных» — в 1248 и 1270 гг. — и добился мира с соседями в Европе. Им были заключены договор с королем Арагона, который содействовал спокойствию на юге Франции, и в 1259 г. — с королем Англии. Английский король Генрих III сохранил Гиень, за которую давал клятву верности французскому королю. Неоднократно Людовик IX выступал в роли арбитра в спорных европейских делах. Но о тщетности его усилий добиться «справедливости» внутри страны красноречиво свидетельствовали многочисленные городские волнения и случившееся в период его царствования восстание «пастушков». Вместе с тем проведенные им реформы имели прогрессивное значение для углубления процесса централизации. Последующее усиление налогового гнета, рост злоупотреблений со стороны центральной и местной властей и тяготы войн побудили современников этих явлений считать время Людовика IX «золотым веком» в истории страны. § 2. Франция в XIV—XV вв. Крестьяне и феодалы в XIV в. Утверждение денежной ренты и экономической самостоятельности крестьянского хозяйства способствовали значительной дифференциации крестьянства. Большая свобода в пользовании цензивой, в частности возможности ее заклада или продажи при условии выплаты в пользу феодала определенного взноса, привели к появлению в деревне значительной прослойки обедневших крестьян. Заклад земли и долговая кабала чаще всего не спасали от разорения, так как выплата долга ложилась дополнительным бременем на хозяйство крестьянина. Будучи не в состоянии справиться с этими трудностями, иногда вынужденный продать часть своего надела, крестьянин, чтобы прокормить семью, уплатить ренту и государственные налоги, должен был наниматься на сезонные работы к сеньору или к своим зажиточным соседям. Так появляется наемный труд в деревне, существующий в рамках мелкотоварного хозяйства. Возникает особая категория сельского населения — наемные работники. Параллельно этому процессу формируется новый вид крестьянского держания — аренда земли, часто в виде издольщины. Она отличалась от цензивы, которая как форма наследственного держания с фиксированной рентой обеспечивала возможности сохранения части прибавочного продукта в хозяйстве крестьянина и делала его положение относительно стабильным. Аренда, условия которой земельный собственник менял в свою пользу в зависимости от рыночного спроса, уменьшала сопротивляемость крестьянского хозяйства процессу имущественного и социального расслоения. Согласно статистическим данным, в Пикардии в конце XIII в. на 100 жителей деревни приходилось 12 неимущих крестьян. В одной из областей 330 крестьян имели в держании небольшие участки земли и были вынуждены дополнительно работать по найму; 36 крестьянских хозяйств имели обычное по размеру держание, но не располагали упряжкой; только 16 хозяйств имели упряжку и плуг; 3 хозяйства считались зажиточными. Существенные изменения происходили и в положении господствующего класса. Стремлению увеличить ренту мешали почти полное исчезновение барщинного хозяйства, личная свобода крестьянина и утверждение фиксированной денежной ренты. Кроме того, усиление королевской власти сделало ее соперником феодалов в деле эксплуатации крестьянства и тем самым ограничивало размеры сеньориальных поборов. Участившиеся со стороны короля требования военной феодальной службы увеличивали расходы феодалов и также содействовали обеднению части господствующего класса. Многие сыновья мелких и средних феодалов не могли приобрести звания рыцарей из-за дороговизны процедуры посвящения. Перед ними оставались две возможности — участие в войне на службе у короля или в войске крупных феодалов. В последнем случае это способствовало сепаратистским тенденциям. XIV век принес значительные изменения в природу вассальных отношений. Благодаря развитию в условиях товарно-денежных отношений так называемой фьефренты (вассальная служба, при которой сеньор не уступал вассалу земли, но делился частью имеющейся в его распоряжении ренты) и особенно системы денежных контрактов отношения в среде феодалов перестают быть связанными непосредственно с землей, ее наследованием и вассальной присягой. Личностные связи, за которыми прежде скрывались связи по земле, уступают место вещным отношениям по преимуществу. Королевская власть использует эти новые формы для того, чтобы нарушить прежнюю норму вассального права и приблизить к себе основную массу господствующего класса, используя его на государственной и военной службе. Социальная жизнь в городе в XIV в. Неспособность цеховых уравнительных постановлений сдержать процесс имущественного и социального расслоения стала очевидной уже в XIII в. Этот процесс становится еще заметнее в XIV в., вызвав существенные изменения в структуре цеха и взаимоотношениях между цехами. Он проявлялся в выделении зажиточных мастеров внутри цеха, их попытках контролировать производство, в зависимости от них основной массы ремесленников и в «замыкании» цеха, которое закрыло подмастерьям доступ к званию мастера. Это усложнило социальные противоречия в городе, побудив подмастерьев организовать свои союзы — «компаньонажи» — и подняться на борьбу против зажиточных мастеров (см. гл. 7). Основная масса ремесленников не была представлена в городских муниципалитетах и не могла контролировать налогообложение. В городе имелось большое число неквалифицированных ремесленников, внецеховой бедноты, пришлых из деревень. Эта прослойка жила случайными заработками, была готова включиться в социальную борьбу на стороне ремесленной массы или стать объектом политических спекуляций городской верхушки. Возникали сложные отношения зависимости между цехами смежных специальностей — красильщиков и суконщиков, мясников, живодеров и дубильщиков кожи и т. д., которые свидетельствовали о попытках торгового капитала организовать крупное производство. В ряде отраслей ремесленного производства складываются условия для формирования раздаточной системы: городские купцы начинают активно вовлекать деревенские промыслы в городское производство (сучение шерсти и др.). Успехи процесса централизации. Усиление королевской власти в начале XIV в. Конец XIII — начало XIV в. в политической истории Франции был ознаменован оформлением сословной монархии или феодальной монархии с сословным представительством. Основанием для становления новой формы государства служил процесс централизации страны и дальнейшего усиления королевской власти. Оно было связано, в частности, со значительным расширением к тому времени территории королевского домена. Успехи французского короля в борьбе с английским на юге страны были подкреплены присоединением к домену короля — Лангедока (бывшее графство Тулузское), части Аквитании в 1308—1309 гг., а также областей по течению рек Дордони и Гаронны и в 1285 г.— Наварры. Англичане сохранили только узкую полосу вдоль Бискайского побережья. Важными приобретениями были графство Шампань, присоединенное к королевскому домену после брака Филиппа IV (1285—1314) с дочерью и наследницей графа, и богатый город Лион в центре страны (1307). В начале XIV в. домен короля занимал уже 3/4 территории королевства. Это укрепило притязания короля на власть в качестве верховного суверена, желавшего превратить все население страны в своих подданных. Для этого Филипп IV, ломая иерархию, устанавливал прямые связи с арьер-вассалами; с помощью суда и налогов включал в сферу своей политики крестьянство, зависимое от светских и церковных феодалов. Расширялась сфера компетенции королевского суда и Парижского парламента как высшей судебной инстанции. Это сокращало юстицию светских и церковных феодалов, а также сферу городского суда. В первой половине XIV в. парламент становится постоянным органом с фиксированным числом членов (100 прокуроров, адвокатов, советников). Его деятельность была направлена на нивелировку местных обычаев и постепенную выработку общегосударственного права. В правление Филиппа IV закладываются основы государственной налоговой системы. Введенный им косвенный налог с продаваемых в стране товаров получил в народе название «дурного» налога. Для пополнения казны Филипп IV не брезговал и прямым грабежом. Меняя содержание драгоценного металла в монете, он снискал себе славу фальшивомонетчика. Филипп IV неоднократно изгонял евреевростовщиков из королевства, конфискуя в пользу казны их имущество и беря с них большие суммы за право вернуться в государство. Он требовал займы у городов и, не возвращая долгов, разорял городские финансы. Это облегчало ему осуществление политики, направленной на постепенную ликвидацию коммунальных вольностей и подчинение городского управления королевскому чиновнику. Члены городского управления в свою очередь перекладывали тяжесть налогов на ремесленников. Эта ситуация вызвала антиналоговые городские восстания. Наиболее крупным из них было восстание 1306 г. в Париже, непосредственным поводом к которому явилась новая порча монеты. Городская беднота обратила свой гнев не только против королевских чиновников финансового ведомства, но и против богатых горожан, подвергнув разгрому их дома. Королю пришлось укрыться в замке рыцарей ордена Тамплиеров и пережить несколько унизительных дней его осады. Затем последовала жесткая расправа с восставшими. Оформление налоговой системы было тесным образом связано с реформами в армии. Смысл их заключался в замене феодального ополчения наемной армией из числа французских рыцарей и чужеземных наемников. Побуждая феодалов выкупать военную службу, король стремился создать военную организацию с жесткой дисциплиной и подчинением королю. Известным стимулом для этих реформ Филиппа IV явилась война во Фландрии. Граф Фландрии находился на положении вассала французского короля, но территория его графства номинально входила в состав французского государства, не будучи французской ни по населению, ни по языку. Исключение составляли лишь некоторые пограничные области. Однако Франция притязала на богатые города Фландрии — Гент, Ипр и Брюгге, которые являлись центрами издавна развитого здесь сукноделия и торговли. Филипп IV воспользовался внутренней борьбой в этих городах, став на сторону патрициан-ско-бюргерской верхушки. Но введение им тяжелых налогов вызвало широкое народное движение. В городах борьба за политическую независимость Фландрии слилась с выступлением ремесленников против патрициата. В 1302 г. в Брюгге они вырезали французский гарнизон и местный патрициат. Это событие, получившее название «Брюггской заутрени», послужило сигналом для восстания городских и сельских масс всей Фландрии. Филипп IV двинул против них свою армию, которая в том же 1302 году в битве при Куртре потерпела поражение. Это был один из редких в истории того времени случаев, когда рыцарская конница оказалась разбитой городским ополчением. Собранные на поле битвы шпоры французских рыцарей были вывешены в знак победы на воротах города, отчего это событие получило название «битвы шпор». Неудачная война во Фландрии побуждала французского короля вновь и вновь требовать военной службы или выкупа ее дворянами, притом не только его непосредственными вассалами. Требования выкупа сочетались с попытками ввести прямой налог на имущество или доходы населения, в том числе и привилегированного. Эта политика вызвала большое неудовольствие светских и церковных феодалов. Однако для общественного мнения она была оправдана военной необходимостью, кроме того, господствующий класс был заинтересован в феодальной экспансии во Фландрии. Консолидация сословий и рост их политической активности. Наряду с усилением королевской власти второй существенной стороной образования сословной монархии явился процесс оформления сословий и рост их политической активности. Наиболее выраженные формы этот процесс приобрел в среде горожан. Сословия дворян, духовенства и горожан пытались защищать свои привилегии перед лицом окрепшей королевской власти, консолидируясь на разных территориальных уровнях, главным образом в рамках провинций. Их привилегии были обычно подтверждены письменными хартиями. В этих условиях монархии пришлось делить прерогативы — судебные, налоговые, военные — не с отдельными крупными вотчинникам, а с сословными группами, которые обладали хотя и ограниченной, но все-таки властью на местах. Королевская власть, претендуя на высший суверенитет, не располагала тем не менее для его реализации достаточными средствами и была вынуждена просить помощи — денежной, военной и политической — у сословий. Результатом этого процесса явилось образование органа сословного представительства — собрания, на котором монарх советовался с сословиями при решении наиболее важных вопросов внутренней и внешней политики. Эти собрания отличались от собраний королевской курии способом конституиро-вания, который предполагал принцип выборности при комплектовании их состава, а также присутствием представителей городского сословия. Теряя коммунальные вольности, городское сословие получило право представительства. Общегосударственный орган сословного представительства — Генеральные штаты — был впервые созван в связи с борьбой Филиппа IV с папой Бонифацием VIII. Борьба с папством и возникновение Генеральных штатов. Усиление королевской власти при Филиппе IV привело к конфликту с папством. Король существенно ограничивал имущественные и судебные права церкви. Непосредственным предлогом конфликта явилась налоговая политика монархии в отношении церковных земель. Противоречия между королем и церковью переросли рамки внутреннего вопроса, так как французская церковь подчинялась римскому папе. Папа Бонифаций VIII в 1296 г. Запретил ской власти взимать поборы с духовенства, а духовенству платить их без разрешения папы. Филипп IV ответил на это запрещением вывоза из Франции золота и серебра, что исключило поступления в панскую казну денег от французского духовенства. Бонифаций VIII решил вынести обсуждение вопроса о внутреннем положении во Франции на церковный собор 1 ноября 1302 г. Свою решительную позицию он подкреплял, как некогда Григорий VII, притязаниями на примат духовной власти над светской.Филипп IV расценил его политику как вмешательство во внутренние дела Франции. Королевскими легистами была организована кампания с обвинениями Бонифация VIII в злоупотреблениях. Выступив с ответными обвинениями, Бонифаций VIII заготовил буллу об отлучении Филиппа IV от церкви. В обстановке широкого недовольства в стране королевской политикой эта мера могла вызвать серьезные осложнения для монархии. Опережая события, Филипп IV созвал в 1302 г. Генеральные штаты, на которых были представлены духовенство, дворянство и горожане (по 2 депутата от каждого города). На ассамблее, где рассматривался вопрос об осуждении папы как еретика, король оказался перед лицом оппозиции части духовенства, дворянства и городов, главным образом южных. Заручившись поддержкой своих сторонников, особенно от городских депутатов, Филипп IV добился известной разрядки внутреннего напряжения в стране. Желая низложить папу, Филип отправил в Италию своих агентов — Гийома Ногаре и Гийома Плезиана. Не жалея денег, те привлекли политических врагов папы в Италии на свою сторону, ворвались в папский дворец и подвергли Бонифация VIII домашнему аресту. Не перенеся этих оскорблений, Бонифаций VIII вскоре умер. В 1305 г. под давлением Филиппа IV на папский престол был избран французский прелат под именем Клемента V. Желая закрепить победу, Филипп IV с помощью легистов организовал судебный процесс против Ордена тамплиеров с обвинением его в ереси. Духовно-рыцарский Орден тамплиеров, основаный в XII в. для поддержки крестоносного движения (см. гл.8) находился под особым покровительством пап. Уже в XIII в. он превратился в могущественного земельного собственника. Перенеся центр своей деятельности в Европу, орден занимался ростовщическими операциями. Французский король, желая ликвидидировать орден, преследовал политические и экономические цели. Он хотел избавиться от противника внутри страны, к тому же действующего в тесном контакте с римским папой, а также конфисковать земли и казну ордена. В борьбе с орденом Филипп IV опять прибег к помощи общественных сил, созвав Генеральные штаты в 1308 г. Орден, не признанный виновным в ереси, был, однако, распущен по решению церковного собора в 1312 г. Под давлением короля Клемент V перенес свой двор в Авиньон на Роне, этой мерой открыв 70-летний период так называемого Авиньонского пленения пап (1309—1378), попавших под контроль французского короля. Структура сословного представительства. Особенностью практики сословного представительства во Франции являлось наличие системы представительных учреждений на разном территориальном уровне: местных, провинциальных и Генеральных штатов. Многие из местных штатов — ассамблеи баронов, рыцарей и консулов в графствах Ажене и Керси, сенешальствах Тулузы, Каркассона и Бокера, провинциальные штаты Лангедока и Нормандии известны уже с середины XIII в. Генеральные штаты как составная часть системы возникли на этапе общегосударственной централизации, позже органов местного значения и некоторых провинциальных штатов. В системе представительства Франции отсутствовало жесткое соподчинение ее звеньев. Большие размеры страны делали не всегда реальным созыв Генеральных штатов. В течение XIV и XV веков часто созывались отдельно штаты в областях Лангедойля и Лангедока, которые, однако, одновременно рассматривали одни и те же вопросы, являясь таким образом сессиями Генеральных штатов. Наряду с ними собирались местные или областные штаты. Три сословия Генеральных штатов заседали отдельно, формируя три палаты — духовенства, дворянства и городских представителей. Первая палата состояла из прелатов, которых лично приглашал король. Кроме того, в нее на провинциальных собраниях духовенства или в монастырях выбирались прелаты или должностные церковные лица. От светских феодалов присутствовали, как правило, крупные феодалы по приглашению короля. В третьей палате (с конца XV в. она стала называться палатой «третьего сословия») заседали представители городов — члены городского управления, богатые и влиятельные горожане. Они часто не избирались городской общиной, а назначались городским советом. Длительное время во Франции, особенно в среде дворянства, был слабо развит принцип выборности. Лишь к концу XV в. он был реализован для всех трех сословий. Каждая палата имела один голос и общее решение двух палат не обязывало третью принять его, если ее представители не были согласны с ним. Генеральные штаты не превратились в регулярно действующий орган. И хотя король прибегал к их созыву под давлением обстоятельств, нуждаясь в помощи, право созыва, назначение места и сроков собрания оставались его прерогативой. Король не был подотчетен Генеральным штатам. Их основной функцией было решение вопроса о субсидиях. Они обсуждали и политические дела, но без формального права утверждать законы. Следовательно, их ограничительная функция по отношению к власти монарха по сравнению с английским парламентом была слабее. Королевская власть во Франции проводила в своих интересах консультации с сословиями на местных или провинциальных собраниях, иногда сознательно противопоставляя их Генеральным штатам, что также уменьшало значение последних. Слабость Генеральных штатов объяснялась расстановкой социальных сил в стране, характеризуемой резкими противоречиями привилегированных сословий в общегосударственном масштабе. Это позволило центральной власти выступить инициатором созыва Генеральных штатов и, используя противоречия, как межсословные, так и внутрисословные, поставить их в сильную зависимость от себя. Тем не менее сословия располагали возможностью контролировать действия короля. Право императивного мандата, которым располагал депутат, обязывало его действовать согласно инструкции, данной избирателями. Сословия имели возможность уклониться от выполнения решений, предложенных королем, высказать свое несогласие с его политикой. Таким образом, на Генеральных штатах был реализован компромисс между королевской властью, привилегированными сословиями и городской верхушкой. В условиях сравнительно узкой социальной базы королевской власти на раннем этапе сословной монархии особое значение в сословно-представительном учреждении имела позиция городских депутатов, как правило, поддерживавших короля в его политике централизации и дававших ему основную часть субсидий. Вопрос о налогах служил основным поводом для глубокой розни сословий. Городские депутаты пытались добиться, чтобы привилегированные сословия платили налоги, а не только давали согласие на их взимание с городского и сельского населения. Классовую сущность Генеральных штатов отчетливо демонстрировала их деятельность, направленная на укрепление централизованного феодального государства, а также их социальный состав, объединявший представителей господствующего класса и патрицианско-бюргер-скую верхушку городов. Крестьянство было лишено права посылать своих депутатов в сословно-представительный орган, что отражало его бесправное положение в обществе. Столетняя война (начальный период). В конце 30-х годов XIV в. началась Столетняя война Франции с Англией (1337—1453), которая явилась заключительным и самым тяжелым этапом давнего конфликта между двумя государствами. Развернувшаяся на территории Франции, с длительной оккупацией страны англичанами, она привела к убыли населения, сокращению производства и торговли. Одним из очагов противоречий, вызвавших военный конфликт, была территория бывшей Аквитании, особенно ее западной части — Гиени — объекта притязаний английского короля. Экономически эта область была тесно связана с Англией, получая оттуда шерсть для сукноделия. Из Гиени в Англию шли вина, соль, сталь и красящие вещества. Знать и рыцарство Гиени, стремясь сохранить политическую независимость, предпочитали номинальную власть Англии реальной власти французского короля. Для французского королевства борьба за южные провинции и ликвидацию английского владычества в них была одновременно войной за объединение французского государства. Вторым, тоже давним очагом противоречий явилась богатая Фландрия, которая стала объектом агрессии уже для обеих воюющих сторон. Столетняя война началась и проходила под знаком династических притязаний английской монархии. В 1328 г. умер последний из сыновей Филиппа IV, не оставив наследника. Эдуард III, которому, в качестве внука Филиппа IV по женской линии представилась удобная возможность объединить обе короны, заявил о своих правах на французский престол. Во Франции, однако, сослались на правовую норму, которая исключала возможность передачи короны по женской линии. Основанием для нее послужила статья «Салической правды», отказывавшая женщине в праве получения земельного наследства. Корона была передана представителю боковой ветви Капетингов — Филиппу VI Валуа (1328—1350). Тогда Эдуард III решил добиться своих прав с помощью оружия. Этот военный конфликт стал крупнейшей войной европейского масштаба, втянувшей через систему союзнических связей такие политические силы и страны, как Империя, Фландрия, Арагон и Португалия — на стороне Англии; Кастилия, Шотландия и папство — на стороне Франции. В этой войне, тесно связанной с внутренним развитием стран-участниц, решался вопрос о территориальном размежевании ряда государств и политических образований — Франции и Англии, Англии и Шотландии, Франции и Фландрии, Кастилии и Арагона. Для Англии он вырос в проблему образования универсального государства, включавшего разные народы; для Франции — в проблему существования ее как самостоятельного государства. Война началась в 1337 г. успешными операциями англичан на севере. Они победили на море в 1340 г. (битва при Слейсе у берегов Фландрии). Поворотное значение для первого этапа войны имела победа англичан на суше в 1346 г. в битве при Кресй в Пикардии, одном из наиболее знаменитых сражений средневековья. Это позволило им взять в 1347 г. Кале — важный стратегический порт, куда экспортировалась шерсть из Англии. Он был взят после 12 месяцев мужественной обороны жителей и подвига 6 его сограждан, которые согласились принять смерть ради спасения города от уничтожения. На юго-западе англичане захватили с моря Гиень и Гасконь, где наместником короля Эдуарда III стал его сын Эдуард, прозванный по цвету лат Черным принцем и снискавший себе славу военными подвигами. Базируясь в Бордо, он вместе со своими рыцарями совершал жестокие грабительские набеги на центральные области Франции. Возвращаясь из очередного набега в 1356 г. его войска были настигнуты близ Пуатье французской армией. Французы, численно превосходившие англичан, казалось, могли рассчитывать на победу. Однако и в этой битве они были разбиты. Причины неудач французов коренились в недостатках военной организации и особенностях тактики. Английская армия была численно небольшой, но хорошо организованной. Отряды наемных рыцарей действовали сплоченно, согласованно, четко выполняя приказы главнокомандующего. Существенную ее часть составляли хорошо обученные английские стрелки из лука, главным образом из числа свободных крестьян. В сражениях английские рыцари спешивались, что помогало их взаимодействию с лучниками. Французская армия, несмотря на осуществляемую практику выкупа военной службы, оставалась преимущественно плохо организованным феодальным ополчением. Король мог эффективно контролировать только свою часть войска. Основной боевой единицей являлись тяжело вооруженные конные рыцари. Лучников было немного. Отсутствие взаимодействия рыцарей и пехоты, обычно неподвижно стоявшей в сражении, делало их одинаково уязвимыми для врага. В ближнем бою англичане легко разъединяли французских рыцарей на отдельные отряды, стаскивали с коней, что делало тех совершенно беспомощными из-за тяжелых лат, и брали в плен, чтобы затем потребовать выкуп. Выкуп стал с первого дня войны средством обогащения для той и другой стороны. Недостатки французской армии сказались с особой силой в битве при Пуатье. Часть феодалов, не выдержав натиска врага, увела свои отряды рыцарей. Были выбраны неудачные для французов позиции, попытка спешивания части рыцарей и их взаимодействия с пехотой тоже оказалась неудачной. Хронисты писали, что в битве погиб весь цвет французского рыцарства. Потери французов насчитывали 5—6 тыс. человек, примерно половину из них составляли рыцари. Многие французы оказались пленниками англичан. Король Иоанн II, бесстрашно сражаясь во имя рыцарской чести, забыл о необходимой для главы государства осторожности и тоже попал в плен. Парижское восстание 1356—1358 гг. Поражение при Пуатье поставило всю страну в крайне тяжелое положение. Казна была пуста, значительная часть территории оккупирована. Нужны были огромные средства на продолжение войны и выкуп короля из плена. Сумма выкупа была определена в 3 млн. золотых экю. К ощущению унижения Франции, которое возникло после Пуатье, прибавилось крайнее раздражение против дворянства, не сумевшего выполнить свой долг перед страной и организовать ее защиту. Протест вызывали условия перемирия, заключенного пленным королем, признавшим все завоевания англичан. Дофин (наследник престола во Франции) Карл, желая получить согласие сословий на сбор налога, созвал в октябре 1356 г. Генеральные штаты. В их составе в связи с ослаблением дворянства из-за военных потерь численно преобладали представители городов. Выражая общественное мнение, дофин и Генеральные штаты отказались утвердить договор с Англией. На волне глубокого недовольства правительством Генеральные штаты попытались взять в свои руки управление страной и тем самым изменить политическую роль представительного органа. Депутаты потребовали отставки членов Королевского совета и ряда должностных лиц. 28 членов комиссии из состава депутатов Генеральных штатов должны были контролировать все решения, касающиеся армии, а также должностных назначений в государственном аппарате. Дофин отказался выполнить требования Генеральных штатов, в Париже начались волнения, которые возглавил глава муниципалитета — купеческий старшина Этьен Марсель. Новое собрание, в марте 1357 г., созванное без согласия дофина и вновь при решающем участии городских депутатов, выработало проект реформ, получивший название Великого мартовского ордонанса. Согласно этому проекту, Генеральные штаты превращались в регулярный орган; ему должно было принадлежать право формирования центральных органов государственного аппарата из состава депутатов. В стране установилось двоевластие, которое длилось более полутора лет. Этот срок оказался достаточным для того, чтобы обнаружилось глубокое отчуждение представительного органа от народных масс, а также не менее глубокие межсословные противоречия внутри Генеральных штатов. Привилегированные сословия не могли согласиться с решением о налогообложении, так как вотированная штатами субсидия в размере 15 % годового дохода затрагивала их интересы. Духовенство и дворянство отказались платить налог и принимать участие в работе штатов. Города, ратуя за местные интересы, отказались поддерживать парижан, что отразило слабую консолидацию городского сословия в масштабах страны. Политика Этьена Марселя и городской верхушки рождала протест и у основной массы парижан, за счет которых те пытались решить налоговые трудности в стране. Сильное недовольство вызвали меры по изменению монеты, к которым, вопреки общественному мнению, прибег Этьен Марсель. Новое собрание Генеральных штатов в феврале 1358 г. обнаружило политическую изоляцию городской верхушки Парижа. Этим хотел воспользоваться дофин. Тогда Этьен Марсель решил пойти на открытое восстание против королевской власти. 22 февраля 1358 г. с вооруженными ремесленниками купеческий старшина ворвался во дворец, где на глазах дофина были убиты два его ближайших советника — маршалы Шампани и Нормандии. На перепуганного дофина Этьена Марсель надел свою сине-красную шапку (цвета Парижа), обещая ему безопасность и покровительство. Дофин был вынужден подтвердить ордонанс, изданный по инициативе штатов. Однако через месяц он бежал из Парижа и стал готовить осаду столицы. Дофин использовал при этом местные собрания штатов. Некоторые из них дали ему субсидии, тем самым еще раз подтвердив, что парижская городская верхушка потеряла авторитет в стране. В условиях, когда дофин открыл военные действия против парижан, городская верхушка пошла на предательство, вступив в союз с Карлом Злым Наваррским. Этот правитель маленького королевства на юге Франции, используя свое родство с Капетингами, вел борьбу с домом Валуа и даже перешел на сторону англичан. Городская верхушка Парижа, заключив с ним союз, тем самым сыграла на руку сепаратистским тенденциям, особенно пагубным в условиях войны. Жакерия и конец Парижского восстания. Тяжелую ситуацию в стране усугубило начавшееся в мае 1358 г. крестьянское восстание. Принятая в то время презрительная кличка крестьян «Жак-простак» дала название этому крупному восстанию в истории Западной Европы периода развитого феодализма. Среди причин Жакерии следует в первую очередь назвать характерное для этого периода стремление феодалов увеличить размеры сеньориальных поборов. Для крестьянства, чьи поселения не были защищены, подобно городам, стенами и укреплениями, были особенно тяжелы последствия военных поражений и оккупации. Их грабили не только англичане, но и французская наемная армия. В условиях войны резко возросли государственные налоги, оплата которых была особенно тяжела из-за обеднения части крестьянства. Наконец, в 1348 г. на Францию обрушилась эпидемия чумы — Черная смерть, которая унесла от 1/3 до 1/2 населения, затронув в первую очередь народные массы. Убыль населения повысила ценность рабочих рук и привела к повышению заработной платы, в том числе сельских работников. Однако правительство приняло так называемое рабочее законодательство, исключавшее возможность роста заработной платы, поддержав таким образом начавшуюся в этих условиях сеньориальную реакцию. Все это определило двуединую направленность восстания как антифеодального и как антиправительственного движения. При объяснении причин восстания следует также учесть возросшее сознание крестьянства, под влиянием изменений его хозяйственной роли и социального статуса. Война усилила социальную роль крестьянских общин, которые брали на себя задачи самообороны от английской оккупации и грабежа наемников. Непосредственным поводом к восстанию явились меры, которые предпринял дофин. Готовясь к блокаде столицы, он потребовал от окрестных крестьян выполнения работ по укреплению замков. 28 мая в области Бовези к северу от Парижа крестьяне в стычке с отрядом дворян убили нескольких рыцарей. Это послужило сигналом к восстанию. Оно быстро охватило значительную территорию Северной Франции — Бовези, Пикардию, Иль-де-Франс, Шампань. Протест перерос в крестьянскую войну, в которой к крестьянам примкнули деревенские ремесленники, мелкие торговцы, сельские священники. Общее число восставших, по свидетельству хронистов, достигало 100 тыс. Современники назвали ее войной недворян против дворян, поскольку участники ставили цель «искоренить дворян всего мира и самим стать господами». Жаки уничтожали налоговые документы и списки феодальных повинностей, разрушали замки, убивали феодалов. Они не выработали письменной программы. Однако известную организованность движению сообщало участие крестьянских общин. В ходе восстания обнаружились попытки к совместным действиям и взаимной поддержке между крестьянами и городским населением страны. В ряде городов городские низы выражали сочувствие восставшим крестьянам, открывали им ворота, предлагая объединиться в борьбе с богатыми горожанами. Этьен Марсель тоже попытался использовать крестьянское движение, чтобы, в частности, снять осаду с Парижа, и даже послал несколько отрядов в помощь жакам. Однако по мере развития событий он поспешил отказаться от союза с ними. Наиболее организованные и широкие формы восстание имело в Бовези. Во главе объединенных отрядов крестьян стал Гильом Каль, знакомый с военным делом. Он назначал капитанов в отдельные отряды, рассылал приказы, пытаясь добиться единства и дисциплины. Приказы заверялись королевской печатью, на знаменах крестьян изображался королевский герб, что отразило монархические иллюзии крестьянства, выступавшего против феодалов и государственных чиновников, но за «доброго короля». 8 июня около селения Мелло крестьяне встретились с войском феодалов под предводительством Карла Злого. Численный перевес был на стороне жаков, однако в течение двух дней обе стороны не рискнули начать сражение. Карл Злой предложил переговоры с целью захвата Гильома Каля. Его союз с Этьеном Марселем послужил известной гарантией доверия крестьян. Не потребовав заложников, Гильом Каль явился на встречу, был вероломно захвачен, подвергнут мучениям и казнен. После этого рыцари бросились на лишенное предводителя, плохо вооруженное крестьянское войско и разгромили его. Восстание в Бовези было подавлено; в ряде районов отдельные крестьянские отряды действовали до сентября 1358 г. Жестокость расправы с крестьянами соответствовала ужасу, который они внушали феодалам. В Жакерии отчетливое желание уничтожения феодалов соединялось с наивными и неопределенными чаяниями о свободной жизни без господ, под главенством «доброго короля». Она обнаружила присущую крестьянским восстаниям слабую организованность, связанную с самой природой крестьянства как класса мелких собственников. Однако это восстание до известной степени ограничило попытки сеньоров увеличить феодальную эксплуатацию и обеспечило возможность дальнейшего развития хозяйства лично свободного крестьянина в условиях товарного производства. Разгром Жакерии ускорил конец Парижского восстания. В конце июня дофин с большой армией подошел к стенам Парижа. Руководимые Этьеном Марселем городские верхи пошли на открытое предательство, согласившись впустить в столицу вражеские английские отряды, которые привел Карл Наваррский. Большинство сподвижников Этьена Марселя покинули его. В конце июня он был убит сторонниками дофина, который вступил в столицу и расправился с главными участниками восстания. Реформы Генеральных штатов были отменены, хотя монархия извлекла определенные уроки из происшедшего и даже попыталась использовать некоторые административные мероприятия штатов в свою пользу. Мир в Бретиньи. Реформы Карла V. В 1360 г. Франция заключила с Англией мир в Бретиньи. Его условия носили компромиссный характер, хотя и были тяжелы для Франции. Английский король отказывался от притязаний на французскую корону, но земли к югу от Луары, т. е. треть страны, оставались под его властью. Мир, по существу, был временной передышкой: продолжение войны представлялось неизбежным, и целям ее были подчинены реформы дофина, затем короля Карла V (1364— 1380). Основная из них касалась армии. Она предполагала усиление королевского контроля над армией и дисциплины в ней. В частности, была упрочена власть главнокомандующего — коннетабля. Была расширена и укреплена система наемничества или оплачиваемой службы по контракту; усилена артиллерия; предприняты меры по обучению пеших воинов стрельбе из лука и арбалета. При Карле V было демократизировано военное руководство, которое комплектовалось с учетом в первую очередь военных способностей человека, а не его места в феодальной иерархии. На должность коннетабля был назначен мелкий бретонский рыцарь Дюгеклен — талантливый и осторожный полководец. Благодаря этим реформам, а также некоторым изменениям в тактике, в частности переходу к тактике мелких сражений, началась полоса военных успехов Франции. В середине 70-х годов XIV в. французская армия оттеснила англичан на юге страны к морю, оставив под их властью только Бордо, Байонну и побережье между ними. Военные реформы были подкреплены мерами в области налогов. Карл V широко практиковал прямой налог в виде подымного сбора (фуаж) наряду с косвенными налогами на продаваемые товары, в том числе на соль (габель). При нем продолжалось усложнение государственного аппарата, в частности налогового ведомства; появляются должности генералов финансов и провинциальных финансовых чиновников — элю, назначаемых королем. Неизбежное увеличение налогов, которые ложились бременем в основном на средние слои городского и сельского населения, вызвало новое обострение классовой и социальной борьбы. Народные восстания во второй половине XIV в. В 70—80-е годы XIV в. по всей стране прокатилась волна народных антиналоговых восстаний, которые захватили в первую очередь города. Вслед за горожанами пришло в движение и крестьянство, в частности на севере страны в районах, где проходила Жакерия. Основные события развернулись в Лангедоке, Оверни, Пуату, Дофине. Движение охватило более значительную, чем при Жакерии, территорию и длилось свыше двух лет (с весны 1382 г. по лето 1384 г.). Восставшие крестьяне, к которым присоединились многие городские ремесленники, именовались «тюшенами» — «скрывающимися в лесу» (tauche — лесок; возможна аналогия с именем тогда же восставших крестьян Савойи — тукинов). Начатое против введения нового тяжелого налога, оно переросло в войну против духовенства, дворянства и купцов — всех, «кто не имел мозолистых и шершавых рук». После разгрома тюшенов в открытом бою близ Нима они разбились на мелкие отряды и перешли к тактике «кустарничной» войны (засады и вылазки), что делало их неуловимыми и позволило долго продержаться и даже захватывать замки и города. Часто их усилия были обращены против грабежей отрядов наемников, сливаясь с борьбой против английской оккупации. В начале 80-х годов основные силы крестьян были разбиты, хотя отдельные отряды тюшенов действовали еще до 1390 г. Классовую и социальную борьбу 70—80-х годов XIV в. отличало соединение антиправительственного и антифеодального протеста с острой внутригородской борьбой, вызванной имущественным и социальным расслоением ремесленной массы. В результате этой борьбы правительству пришлось временно отменить фуаж. Вплоть до начала XV в. оно не рисковало повышать налоги. Феодальная усобица. Восстание кабошьенов. Успехи централизации во Франции не исключали обострения сепаратистских тенденций. В условиях внешней опасности это могло нанести серьезный ущерб стране. Так случилось, когда в правление психически больного Карла VI (1380—1422) началась ожесточенная борьба двух феодальных партий, во главе которых стояли дядья и опекуны короля — герцоги Бургундский и Орлеанский. Союзником последнего являлись его родственники, крупные феодалы юга — графы Арманьяки, отчего усобица называлась «войной бургунд-цев и арманьяков». Пользусь временным ослаблением королевской власти, обе группировки стремились к политической независимости в своих владениях, в том числе и в апанажах, т. е. территориях, которые выделялись членам королевской семьи из состава королевского домена и были неотчуждаемы. Междоусобица, сопровождаемая грабежом казны, налоговыми и административными злоупотреблениями, вызвала широкое движение общественного протеста. С требованием внутренних реформ выступили Парижский университет и депутаты Генеральных штатов, созванных в 1413 г. Однако они оказались бессильными исправить положение, и тогда в апреле 1413 г. в Париже вспыхнуло восстание. В нем с особой силой сказались внутригородские противоречия, что определило сложный социальный состав восстания, раскол в среде участников и изменение направленности движения. Восстание начал цех мясников, зажиточные мастера которого хотели добиться усиления своего политического влияния в городе. Они организовали мелкий ремесленный люд и подмастерьев собственного цеха, а также зависимые от себя цехи живодеров, скорняков и дубильщиков, которые вместе с присоединившимися к ним мелкими ремесленниками и городской беднотой других цехов города составили главную силу восстания. Его предводителем стал живодер Симон Кабош, по имени которого участников восстания стали называть кабошьенами. Были выдвинуты требования прекращения междоусобицы, снижения налогов и упорядочения их взимания. Под давлением зажиточных слоев города, пытающихся использовать восстание в собственных интересах, правительство вынуждено было принять Кабошьенский ордонанс, который предлагал программу умеренных реформ в финансосой и судебной областях. В качестве условия для нормального функционирования государственного аппарата и гарантии от злоупотреблений было выдвинуто требование выборности чиновников и запрета продажи государственных должностей. Несмотря на прогрессивный в целом характер ордонанса, он не мог удовлетворить беднейшие слои города. Положение осложняло вмешательство герцога Бургундского, причастность которого к восстанию объяснялась его политическими расчетами в бо'рьбе за власть. Начался второй этап восстания. Содержание его составила борьба низов против городской верхушки, которая отошла от восстания. Ее союзник — герцог Бургундский — пошел на сговор с англичанами, чем дискредитировал себя. Городская верхушка, избавляя город от англичан и желая подавить восстание, вступила в переговоры с арманьяка-ми, которые вошли в город в сентябре 1413 г. Последовала жестокая расправа с восставшими. Кабошьенский ордонанс был отменен. Возобновление Столетней войны. В 1415 г. английская армия, возглавляемая королем Генрихом V, возобновила военные действия в Пикардии с намерением взять Кале. Франция, ослабленная междоусобицей, растеряла все достижения в военной организации, приобретенные, в частности, благодаря реформам Карла V. В октябре 1415 г. в битве при Азенкуре с английским войском вновь встретилось плохо организованное ополчение французских рыцарей — феодалов, потерпевших бесславное поражение. Англичане захватили Нормандию и Мэн. Положение усугублялось позицией герцога Бургундского. Территория его герцогства сильно увеличилась к тому времени за счет части Пикардии, а также богатых областей Нидерландов (Фландрия, Брабант) и Люксембурга. В качестве фактически независимого государства герцогство представляло существенную угрозу для самостоятельности Франции. Эта угроза была вполне реальна в условиях союза герцога с Англией. В результате военных успехов англичане добились заключения мира на тяжелейших для Франции условиях. По договору в Труа 1420 г. при жизни Карла VI правителем Франции становился английский король Генрих V; затем престол должен был перейти к сыну английского короля и французской принцессы — дочери Карла VI — будущему Генриху VI. Дофин Карл, сын Карла VI, был отстранен от наследования. Франция, таким образом, утрачивала независимость, становясь частью объединенного англо-французского королевства. В 1422 г. Генрих V внезапно умер в полном расцвете сил; спустя несколько месяцев эта же участь постигла и Карла VI. Англия и герцог Бургундский признали королем обоих государств десятимесячного Генриха VI, за которого стал править его дядя герцог Бедфорд. Однако дофин Карл, невзирая на условия мира, провозгласил себя королем Франции Карлом VII (1422—1461) и начал борьбу за трон. Его власть признали некоторые провинции, расположенные в центре страны, на юге (Лангедок), юго-востоке (Дофине) и юго-западе (Пуату). Не уступая по размерам областям, занятым англичанами, эти земли, однако, были менее плодородными и населенными. Они не составляли компактной территории, окруженные и разорванные владениями англичан и герцога Бургундского. Для Франции начался новый этап войны — борьба за независимость, в которой на карту был поставлен вопрос о самостоятельном существовании французского государства. Этот поворот в войне определился уже к концу ее первого этапа, завершившегося подписанием мира в Бретиньи в 1360 г., однако только теперь он обрел выраженные формы. Столетняя война (1337—1415): 1 — владения англичан перед Столетней войной; 2 — территория, отошедшая к Англии по миру в Бретиньи: 3 — владения герцога Бургундского; 4 — земли французской короны; 5 — район восстания Жакерии. 6 — городские восстания 80-х годов XIV в.; 7 — путь английской армии Существенным фактором в дальнейшем развитии событий была политика англичан на завоеванных землях, которые рассматривались ими как средство обогащения. Генрих V начал раздавать их в собственность английским баронам и рыцарям. Порты Нормандии заселялись англичанами. Подобная политика, усиливая английскую экспансию, одновременно рождала ответное сопротивление французского населения, ненависть к завоевателям, вызванную репрессиями англичан и грабежами их наемников. Необходимость защитить свой дом и страну в целом послужила источником народного сопротивления, которое явилось решающей причиной нового этапа войны для Франции. Столетняя война (1415—1453): 1 — территория, оккупированная англичанами в 1415—1429 гг; 2 — владения герцога Бургундского; 3 — земли французской короны, 4 — путь французских войск под предводительством Жанны д'Арк; 5 — районы партизанской борьбы против англичан в 1424—1433 гг.; б — границы Французского королевства Партизанская война. Отдельные проявления народно-освободительной борьбы имели место с начала английской оккупации. В условиях средневековья, когда война шла медленно, с редкими крупными сражениями и преимущественно оборонительной тактикой, население становилось главной жертвой грабежей и осад. Правительство рассчитывало на народное сопротивление, стимулируя и организуя его. Города с укрепленными стенами являлись готовыми центрами такого сопротивления врагу. Население деревень укрепляло церкви, которые называли «крепостями бедных». Масштабы и эффективность народного сопротивления на этом этапе войны были связаны с действием общинных организаций в деревне и цеховых корпораций в городах. По звону колокола население городов и деревень собиралось в отряды, руководителями которых часто приглашались дворяне. Неуловимые для врагов партизанские отряды находили неизменную поддержку жителей, несмотря на казни, которые применяли англичане за содействие и участие в партизанском движении. Развитию движения способствовала рассредоточенность английских крепостей с военными гарнизонами на значительной территории, часто далеко друг от друга и от основных сил армии. В этих условиях англичане не рисковали покидать крепости и передвигаться иначе, как многочисленными и хорошо вооруженными отрядами. Французы стали предпринимать попытки совместных действий народного ополчения с королевской армией. В оккупированных англичанами Париже и Руане были раскрыты заговоры, участники которых вступили в сношения с Карлом VII с целью помочь французской армии при осаде этих городов. Жанна д'Арк — народная героиня. В 1428 г. англичане, желая подкрепить действия на севере страны военными операциями на юге, предприняли осаду Орлеана. Взятие этой первоклассной по тому времени крепости открывало им почти беспрепятственное продвижение на юг. Получив подкрепление из Бордо, на которое они рассчитывали, англичане сделали бы положение французского короля безнадежным. В этот особенно тяжелый для страны момент произошел решительный перелом в развитии событий, связанный с именем Жанны д'Арк. Она вышла из рядов народного сопротивления, став его героиней и символом. Жанна родилась в 1412 г. в местечке Домреми на границе Франции и Лотарингии. Под влиянием военных бедствий, которые не обошли ее родные места, и глубокой любви к родине в ней созрело убеждение, что именно она должна спасти Францию, став во главе армии, которая изгонит англичан. Будучи глубоко впечатлительной и религиозной девушкой, она уверяла, что слышит голоса святых, которые побуждали ее к военному подвигу и обещали ей свою помощь. Узнав об осаде Орлеана, она отправилась в ближайший городок Вокулер и убедила коменданта замка в своей освободительной миссии. Получив оружие и боевого коня, в мужской одежде и сопровождении военного отряда, она отправилась через занятые бургундцами и англичанами области в Шинон, к дофину. Вести о ней быстро распространились по Франции, порождая веру в чудесную роль Девы, как стал называть ее народ. Находясь в бедственном положении, король поставил Жанну во главе армии, окружив опытными военачальниками. Ее природный ум и наблюдательность, восприимчивость в постижении несложной военной тактики того времени помогали ей не только достойно вести себя в необычных условиях, но и принимать верные решения. Ее находчивость подкреплялась исключительным личным мужеством, благодаря которому она была впереди всех в самых опасных местах, увлекая своим примером других. Глубокое осознание Жанной задачи освобождения горячо любимой родины как главной цели своей жизни, отношение к воинам как соотечественникам, имевшим ту же цель, независимо от их социального положения, — все это порождало необыкновенный энтузиазм во французской армии. В конце апреля 1428 г. Жанна прибыла с армией в Орлеан. В течение четырех дней английские укрепления под городом были поодиночке взяты французами, и 8 мая англичане сняли осаду с крепости. Освобождение Орлеана имело исключительное значение не только благодаря стратегической роли городакрепости. Это была первая большая победа французов после многих лет национального унижения и позорных поражений. Она укрепляла веру Карла VII в законность его права на престол, которого он был лишен по миру в Труа. Соединение его борьбы за престол с войной за освобождение и самостоятельность Франции усиливало позиции Карла VII. Под давлением Жанны он осуществил поход в Реймс, где короновались французские монархи. Торжественная коронация Kapлa VII превратила его в единственно законного государя Франции в глазах народа и правительств других стран Европы. Последовавшее затем освобождение Шампани резко улучшило положение короля. Предпринятая, однако, Жанной попытка штурма Парижа кончилась неудачей. Вместе с тем после впечатляющих первых успехов Жанны у Карла VII и его ближайшего окружения возникли серьезные опасения в связи с ее растущей славой и влиянием. Ее крестьянское происхождение порождало у народа веру в собственную значимость, что вызывало страх у господствующего класса. В мае 1430 г. в стычке под Компьеном, осажденным бургунд-цами, она была захвачена в плен. Герцог Бургундский продал свою пленницу англичанам за 10 тыс. золотых. В конце 1430 г. Жанну перевезли в Руан — центр английского владычества — и передали инквизиции. Пытаясь умалить значение военных побед французов, англичане желали доказать, что они являлись происками дьявола. Церковный суд во главе с епископом Кошоном, защищая интересы англичан, обвинил Жанну в колдовстве. Протоколы процесса сохранили свидетельства стойкого поведения Жанны и ее разумные ответы на вопросы церковников, желавших запутать и погубить ее. Трибунал признал ее виновной в ереси, и в мае 1431 г. она была сожжена на центральной площади Руана. Место сожжения и поныне отмечено белым крестом на ее камнях. Карл VII, столь многим обязанный Жанне, не оказал ей помощи. Гибель Жанны в конечном счете разрешила те сложности, которые возникали для короля и его окружения в связи с необычной популярностью народной героини. Лишь спустя четверть века Карл VII приказал пересмотреть судебный процесс. Жанна была признана невиновной в ереси, а позже даже объявлена святой. Подвиг Жанны д'Арк усилил патриотические и национальные чувства французского народа и содействовал перелому в освободительной войне. В нем воплотились лучшие качества французского народа — его трудолюбие, отвага, ясность ума. Для дальнейшего развития событий большое значение имели реформы Карла VII. Налоговая и военные реформы Карла VII. В 1439 г. специальным указом Карл VII установил королевскую монополию на талью — побор, который взимался до тех пор и королем, и сеньорами на общественные нужды. Отныне феодалы могли взимать его только с согласия короля и не должны были препятствовать сбору королевской тальи. Почти одновременно несколькими ордонансами были проведены военные реформы, которые утвердили монопольное право короля вести войну и запретили сеньорам иметь своих воинов и крепости, а также создали постоянную армию. Находящаяся отныне под безусловным контролем короля, она подразделялась на кавалерию и пешее ополчение — инфантерию. В кавалерию набирались дворяне (жандармы). Каждые 50 приходов городского и сельского населения поставляли 1 обученного воина — вольного стрелка (франк-аршера). Служба в обоих родах войск оплачивалась государством. Талья, предназначенная для содержания постоянной армии, тоже превращалась в постоянный налог, взимаемый в условиях войны и мира. В середине XV в. окончательно определилась классовая сущность налоговой системы, когда привилегированные сословия духовенства и дворянства были освобождены от налогов. Эти реформы, а также размах народного сопротивления предопределили победу Франции в Столетней войне. На заключительном ее этапе взаимодействие королевской армии с отрядами народного сопротивления привело к изменению военной тактики французов: отказ от длительной осады и штурма городов, переход к тактике мелких сражений. Военные успехи и укрепление монархии сорвали планы ее политических противников, стремящихся к ослаблению центральной власти. В 1435 г. герцог Бургундский был вынужден заключить союз с Карлом VII. Англичане потеряли Париж, Руан, Нормандию, Бордо. В их руках остался только Кале. Так закончилась война, в ходе которой ценой непосильных жертв французский народ сохранил независимость и государственный суверенитет своей родины. Победа Франции означала ликвидацию притязаний Англии на французскую корону и земли на континенте. Завершение войны в 1453 г. создало благоприятные условия для дальнейшего развития процесса централизации. При этом французская монархия в экстремальной ситуации и частично благодаря ей сумела решить важные для собственного усиления задачи — создать постоянную армию и постоянные налоги. Укрепление королевской власти нашло отражение и в церковной политике. В 1438 г. на ассамблее французского духовенства была принята так называемая Буржская Прагматическая санкция, закрепившая вольности галликанской церкви: право свободного выбора местными капитулами епископов и аббатов, отмену анна-тов (платежей в размере годового дохода от каждой церковной кафедры римскому папе), ограничение апелляций в римскую курию только вопросами вероучения (см. также гл. 19). Состояние сельского хозяйства, ремесла и торговли во второй половине XV в. Франции потребовалось примерно три десятилетия, чтобы преодолеть урон, нанесенный Столетней войной, и достичь уровня развития 30-х годов XIV в. Особенно печальную картину опустошения и разорения являли собой французские деревни с огромной убылью населения, заброшенными землями, отсутствием скота. Разорение страны побудило монархию и господствующий класс принять чрезвычайные меры. В 1451 г. правительственный указ освободил все крестьянство на 8 лет от налога, призывая его вернуться на прежние места поселения. Феодалы, чьи земли без крестьянских рук не приносили никакого дохода, предоставляли их в наследственное свободное держание, со льготным размером фиксированной ренты. Они охотно шли на выкуп личной зависимости, стремясь привлечь и удержать на своих землях крестьян. Подобная политика способствовала исчезновению остатков личной зависимости во Франции и юридической нивелировке крестьянства. Она укрепила цензиву и положение средних слоев крестьянства. С завершением восстановительного периода господствующий класс попытался наверстать упущенное и увеличить ренту, а также вернуть уже забытые баналитеты. Этим попыткам, однако, противостояли окрепшие в годы войны и народного сопротивления крестьянские общины. Они оказались бессильными только перед налоговым нажимом со стороны государства. За 22 года правления Людовика XI (1461 — 1483) королевская талья повысилась более чем в 3 раза. Крестьянская община использовалась государством в качестве низшего звена налогового аппарата, что позволяло зажиточным слоям деревни злоупотреблять распределением налогов. Заправляя делами общины, они, как правило, облегчали для себя налоговый гнет. В соответствии с правилом — «сильный несет слабого» — неимущие элементы освобождались от налогов. Поэтому основным бременем налоги ложились на средние слои французского крестьянства. Их способность выдержать растущий налоговый гнет, который, по свидетельству современников, примерно в 5 раз превышал размеры сеньориальной ренты, свидетельствовала о наличии еще достаточно крепкой прослойки среднего крестьянства и, следовательно, значительных еще возможностях феодального строя. Само усиление государственной эксплуатации оказалось возможным в условиях заметно возросшей продуктивности крестьянского хозяйства в производстве зерна, мяса и вина, экспортируемых в урожайные годы в Англию, Нидерланды, Италию. Вместе с тем во французской деревне шло активное расслоение крестьянства, связанное с распространением аренды земли, что было следствием потери частью крестьянства права наследственного держания. Города Франции тоже испытали тяготы войны. Однако укрепленные стенами, они избежали того безудержного грабежа и разорения, какие выпали на долю деревни. Более быстрому по сравнению с деревней подъему французских городов содействовала монархия, смягчая налоги или освобождая от них горожан. В правление Людовика XI в экономической политике государства наметились черты будущего протекционизма (государственного покровительства отечественной промышленности и торговли). Людовик XI особенно поощрял развитие таких отраслей производства, как шелкоткачество, металлургия и металлическое производство, книгопечатание, производство стекла, шерстяных тканей. Для этого он предоставлял льготы местным промышленникам и купцам, а также выписывал мастеров из-за границы. Забота о росте ремесла и торговли диктовалась потребностями казны, для которой они служили важным источником дохода. Аккумулируя в казне доходы от ремесла и торговли, монархия затем делилась частью их с господствующим классом в виде пенсий или платы за государственную и военную службу. Поощряя ремесло, Людовик XI пытался укреплять и насаждать цеховую систему, рассматривая эту меру прежде всего как финансовую операцию, так как право на занятие ремеслом покупалось у короля. Благодаря этой политике цеховая система распространилась и на южные города, где раньше существовало свободное ремесло. Однако в данный период эта правительственная политика подкреплялась процессом, идущим в самих городах, в том числе и южных. Расслоение мастеров и обострение противоречий в их среде вызывало стремление средних мастеров с помощью цеховых ограничений воспрепятствовать этому процессу. Подобные меры, однако, не могли затормозить появления условий для капиталистической мануфактуры. Расцвет ярмарок — общегосударственных, провинциальных и местных — во второй половине XV в. свидетельствовал об успешном формировании внутреннего рынка страны. Особое значение приобрели ярмарки Лиона, ставшего в этот период крупным европейским центром оптовой торговли, а также местом деятельности итальянских и немецких банкиров. Во внутренней торговле Франции он сыграл важную роль связующего звена между северными и южными районами. Успешно развивалась морская торговля. Одним из наиболее ярких представителей этого торгово-предпринимательского мира был банкир и купец Жак Кёр. Располагая огромным капиталом, он вел торговлю с Левантом, имея для этого собственные корабли. Организованное им производство на железных рудниках носило характер раннекапиталистической мануфактуры. Он предоставлял крупные займы королевскому дому, выполнял дипломатические и государственные поручения. Обвиненный в казнокрадстве, чеканке фальшивой монеты и колдовстве, Жак Кёр был казнен, его имуществр конфисковано. Судебный процесс свидетельствовал о слабых позициях этого слоя, а также о непоследовательной политике королевской власти. Стимулируя предпринимательство, монархия не отказывалась от возможности присвоить в пользу казны с помощью послушного судебного аппарата крупные капиталы. Политическое объединение Франции во второй половине XV в. Несмотря на значительное усиление после Столетней войны королевской власти, которая являлась в то время во Франции выразителем национального единства и государственной независимости, во второй половине XV в. неоднократно активизировались силы реакции и сепаратизма. Наиболее крупное вооруженное выступление против централизации имело место при Людовике XI, когда герцоги Бургундский и Бретонский организовали Лигу общественного блага. Выдвинув демагогический лозунг уничтожения налогов и защиты народных интересов, они сумели привлечь к оппозиции часть мелкого и среднего дворянства, а также верхушку некоторых городов, в том числе Парижа. Особую опасность для Людовика XI представлял герцог Бургундский Карл Смелый (1467—1477) — практически независимый крупный государь Западной Европы, многие из владений которого находились во Франции. Часть духовенства, чиновников и зажиточных торгово-ремесленных слоев Парижа, намереваясь вернуть столице отнятые королем привилегии, поддержали Лигу. Их политическая измена королю заставила Людовика XI согласиться на позорный мир. Однако получив передышку этот очень осторожный и хитрый политик сумел постепенно справиться с врагами, разъединив их усилия и действуя главным образом мирными переговорами и интригами. Со своим главным врагом Карлом Смелым Людовик XI расправился с помощью его политических противников — герцога Лотарингии и швейцарцев, страдавших от агрессии герцога Бургундского. После гибели Карла Смелого в битве с французами при Нанси (1477) Людовик XI воссоединил с Францией Пикардию, Ниверне и герцогство Бургундское (западную часть Бургундии) . Графство Бургундия, Франш-Конте и Нидерланды остались у дочери Карла Смелого Маргариты, которая вышла замуж за Максимилиана Габсбурга, сына германского императора. Эти владения, таким образом, вошли в состав фамильных владений дома Габсбургов. В 1481 г. к Франции был присоединен Прованс с крупным торговым и морским портом Марселем, центром средиземноморской торговли. В 1491 г. в результате брака Карла VIII (1483— 1498) с Анной Бретонской к Франции была присоединена Бретань, в следующем столетии окончательно вошедшая в состав королевского домена. Присоединение Лотарингии, Франш-Конте, Руссильона и Савойи растянулось до середины XIX в. Однако к концу XV в. в основных чертах процесс объединения страны был завершен. Он был подкреплен постепенным слиянием двух народностей. В XIV—XV вв. в Северной Франции на основе парижского диалекта сложился единый язык. Он заложил основы формирования общефранцузского языка, хотя в ряде областей продолжали существовать местные диалекты (провансальский и кельтский языки юга и Бретани). В политическом развитии Франция уверенно шла к новой форме государственности — абсолютной монархии. Показателем новых тенденций служило свертывание в конце XV в. практики сословного представительства. Для Генеральных штатов это обернулось их фактической бездеятельностью. Последние в XV в. Генеральные штаты были созваны в 1484 г., они бесславно попытались в условиях малолетства Карла VIII усилить свое политическое влияние. Для провинциальных и местных штатов спад выразился главным образом в лишении их прежней автономии и подчинении центральной власти. Причиной упадка сословно-представительной системы явились осуществленные монархией реформы — налоговая и военная, которые ослабили ее зависимость от сословий. Кроме того, к концу XV в. произошли заметные сдвиги в положении сословий и их отношении к центральной власти. Создание постоянной армии, в частности, закрепило приверженность дворянства к военной службе, оплачиваемой государством, его безучастность к хозяйственной деятельности. Это не способствовало его сближению с городским сословием. Налоговая исключительность духовенства и дворянства, сложившаяся к середине XV в., также усилила раскол привилегированных, сословий с податным третьим сословием, к которому принадлежали горожане и крестьянство. В XVI век Франция вступила как крупнейшее из централизованных государств Западной Европы, с развитыми сельской экономикой, ремеслом и торговлей, духовной и материальной культурой. Глава 10. Англия в XI—XV вв. § 1. Англия в XI—XII вв. Нормандское завоевание. К середине XI в. в Англии в основном уже господствовали феодальные порядки, но процесс феодализации еще не завершился. Значительная часть крестьян, особенно в области Денло, оставалась свободной, а феодально зависимые держатели земли еще не слились в единую массу зависимых крестьян. Феодальная вотчина и феодальная иерархия еще не приняли законченной формы и не получили повсеместного распространения. В 1066 г. Англия подверглась нормандскому завоеванию. Герцог Нормандии Вильгельм собрал большое войско из нормандских, северофранцузских и даже итальянских рыцарей, жаждавших добычи, захватов новых земель и зависимых крестьян. Поводом для вторжения послужили претензии Вильгельма на английский престол, якобы завещанный ему умершим незадолго до этого английским королем Эдуардом Исповедником. Папа поддержал притязания герцога. В сентябре 1066 г. Вильгельм со своим войском на больших ладьях переплыл Ла-Манш и высадился на юге Англии в бухте Павенси. Войско герцога, главную силу которого составляла уже тяжело вооруженная рыцарская конница, было более многочисленно, чем английское. Во главе последнего выступил избранный «советом мудрых» новый король Англии Гарольд. За три недели до битвы с нормандцами он отбил внезапное нападение норвежского короля Харальда Хардрада на Северную Англию, согласованное с Вильгельмом. Войско Гарольда состояло в основном из пешего наспех собранного крестьянского ополчения и его личной дружины. В октябре 1066 г. в решающей битве при Гастингсе мужественно сопротивлявшиеся англосаксы были разбиты, сам Гарольд погиб. Герцог Нормандский же двинулся к Лондону, захватил его и стал королем Англии под именем Вильгельма I Завоевателя. Завоевание, однако, встретило отпор со стороны как англосаксонской знати, так и сохранившегося в стране значительного слоя свободных крестьян. Особенно силен он был на севере страны. В ответ на массовые конфискации земли у местного населения в пользу пришельцев-завоевателей на севере и северовостоке — в Денло — в 1069 и 1071 гг. произошли крупные народные восстания, возглавленные представителями местной знати. Подавляя их, завоеватели во главе с Вильгельмом опустошили главные области восстания — Йоркскую долину и графство Дарем, которые после этого несколько десятилетий оставались необитаемыми. После подавления этих восстаний большинство земель англосаксонской знати было конфисковано и передано иноземным рыцарям-завоевателям. Мелкие местные феодалы — тэны — частично сохранили свои владения, но стали вассалами нормандских баронов (так стали называть в Англии крупных феодалов). Средние и мелкие феодалы по континентальному образцу стали называться рыцарями. В церковной иерархии и аппарате королевского управления безраздельно господствовали завоеватели — выходцы из Франции. Сам Вильгельм составил из конфискованных земель огромный «домен короны», занимавший седьмую часть всех возделываемых в Англии земель. Значительная часть находившихся на этих землях лесов была превращена в королевские охотничьи заповедники. Под страхом страшных наказаний жителям этих территорий, особенно крестьянам, запрещалось там охотиться, рубить лес, собирать топливо. Владение обширным доменом усиливало позиции короля по отношению к знати. Этому усилению способствовало и то, что раздача земель нормандским феодалам происходила постепенно, по мере их конфискации у местного населения, что обусловило разбросанность, некомпактность владений крупных феодалов, затруднявшие складывание в Англии обширных территориальных княжеств, фактически независимых от короля. Завершение процесса феодализации. «Книга Страшного суда». Нормандское завоевание способствовало окончательному завершению процесса феодализации Англии. К 1066 г. герцогство Нормандское, как и Франция в целом, было уже полностью феода-лизировано. Захватив землю и политическую власть в Англии, завоеватели стремились насадить там привычные им порядки, оформить политически и юридически уже и ранее сложившиеся там феодальные отношения. Сам король в известной мере сознательно проводил такую политику. Одним из важных его мероприятий на этом пути явилось проведение в 1086 г. всеанглийской поземельной переписи, получившей в народе название «Книга Страшного суда» («Domesday book»), поскольку лица, дававшие сведения ее составителям, обязывались под угрозой наказания говорить «ничего не утаивая», как на «Страшном суде». Перепись имела две главные цели: во-первых, дать королю сведения о размерах владений и доходов его вассалов, чтобы требовать с них определенной военной службы; во-вторых, король хотел иметь точные сведения для обложения всего населения денежным налогом. Этим потребностям соответствовали и вопросы расследования: сколько земли в каждом графстве находится в королевском домене, сколько у крупных духовных и светских феодалов, каково количество их вассалов? При этом учитывалось количество гайд (в это время уже фискальных единиц) в каждом маноре, земельных наделов (плугов земли) и плуговых упряжек (рабочего скота) в домене и у крестьян-держателей, численность крестьян разных категорий, живущих в маноре. Отмечалась приблизительная доходность манора в деньгах. В целом «Книга Страшного суда» содержала богатую информацию о хозяйстве и социальной структуре почти всей территории Англии, а также их динамике, поскольку фиксировала данные по трем периодам: 1) правления Эдуарда Исповедника; 2) в годы, последовавшие непосредственно после завоевания, и 3) на 1086 год. Данные «Великой переписи» свидетельствуют о том, что ее проведение укрепило феодальный строй и ускорило превращение свободных крестьян в зависимых. Это видно из того, что в окончательном ее варианте единицей учета в ней служила не деревня, но уже вотчина — манор, а главное — из того, что многие из свободных до 1066 г. крестьян оказались записанными под 1086 г. как вилланы. В Англии XI в. этот термин, как правило, обозначал держателей, находившихся в поземельной зависимости, плативших ренту, в том числе часто выполнявших барщину. Аграрный строй и положение крестьянства в XI—XII вв. Население Англии, по данным «Книги Страшного суда», составляло в это время около 1,5 млн. человек; из них громадное большинство (не менее 95 %) жило в деревне. Главным занятием населения было земледелие. В центральных и южных, в основном земледельческих районах страны преобладали большие деревни и сохранялась сельская община с системой открытых полей, выпасом по жнивью, чересполосицей и принудительным севооборотом. На северо-востоке, а также на западе, на восточных склонах Пеннинских гор и южной части Оксфордшира значительное распространение получило овцеводство. Шерсть уже в это время была важным предметом торговли. Вывозили ее преимущественно во Фландрию, где фламандские ремесленники вырабатывали из нее сукна. В этих овцеводческих областях, как и на северо-западе страны, чаще встречались мелкие поселения или хутора, не знавшие системы открытых полей. После нормандского завоевания английская феодальная вотчина (манор) принимает законченную форму, подчинив себе ранее свободную сельскую общину. Хозяйство маноров, особенно крупных, основывалось на барщинном труде зависимых крестьян, отчасти — дворовых. Там, где господствовала система открытых полей, в ее общий распорядок включалась и господская земля (домен), а также земли еще лично свободных крестьян. Преобладали маноры с доменом, вилланами и свободными держателями, но было и немало маноров, значительно отличавшихся от этого классического типа, в которых не было домена или он был невелик, большее место занимали свободные держатели, чем зависимые. Манор XI— XII вв. оставался в основном натурально-хозяйственной организацией. Средневековое поместье (схема английского манора XI—XII вв) 1 — господская земтя, 2 — земля церкви 3 — крестьянские наделы, 4 — усадьба сеньора, 5 — дом священника, 6 — господская мельница. Участки домена разбросаны среди крестьянских наделов, они обрабатываются трудом крепостных по правилам существующим в сельской общине. Крестьяне обрабатывают также земли местной церкви, выплачивают разнообразные взносы и несут различные повинности, а также подвержены разным баналитетам (в частности, мельничному). Основную часть крестьянства, по данным «Книги Страшного суда», составляли вилланы, имевшие полный надел земли — виргату (30 акров) — или часть надела, а также долю участия в общинных выпасах и лугах; они выполняли барщину, несли натуральные и денежные платежи в пользу лорда. В «Книге Страшного суда» указаны также бордарии — зависимые крестьяне с наделом, значительно меньшим, чем у виллана (обычно от 7 до 15 акров). Помимо вилланов и бордариев в английской деревне XI—XII вв. имелись коттарии (позднее коттеры) — зависимые крестьяне, держатели мелких земельных клочков, обычно в 2— 3 акра приусадебной земли. Они работали на лорда и добывали средства к существованию дополнительными занятиями (коттарии были пастухами, сельскими кузнецами, плотниками и т. п.). Самую низшую категорию зависимых крестьян составляли сервы. По большей части это были дворовые люди, не имевшие, как правило, наделов и своего хозяйства и выполнявшие самые различные тяжелые работы в господской усадьбе и на господских полях. Свободное крестьянство не исчезло в Англии и после нормандского завоевания, хотя численность его значительно сократилась и правовое положение ухудшилось. Наличие в деревне наряду с зависимыми слоя лично свободных крестьян (фригольдеров) составляло одну из характерных особенностей аграрного развития Англии в средние века. Особенно много свободных крестьян сохранилось на северо-востоке страны — в Денло. Хотя свободный крестьянин был обязан уплачивать лорду обычно небольшую денежную ренту, выполнять некоторые относительно легкие повинности и подчиняться его юрисдикции, он считался юридически свободной личностью. На протяжении XII века различные категории крестьянства все больше превращаются в зависимых крестьян — вилланов, главной повинностью которых являлась барщина, обычно в размере трех, а иногда и более дней в неделю. Кроме того, виллан платил оброк отчасти продуктами, отчасти деньгами. Он часто подвергался произвольному обложению со стороны господина, уплачивал особый взнос при выдаче замуж дочерей, отдавал помещику лучшую голову скота при вступлении в наследство; он обязан был также соблюдать мельничный, пивоваренный и другие баналитеты. Росли и многочисленные церковные поборы, самым тяжелым из которых была десятина. Развитие городов. Города начали возникать в Англии как центры ремесла и торговли в X—XI вв., еще до нормандского завоевания. «Книга Страшного суда» насчитывает до сотни городов, в которых проживало около 5 % всего населения. В результате усиления политических связей Англии с Нормандией и другими французскими землями окрепли и расширились ее торговые связи. Значительную торговлю с континентом вел Лондон, а также Саутгемптон, Дувр, Сендвич, Ипсвич, Бостон и другие города. Предметами вывоза наряду с шерстью были свинец, олово, скот. Несколько позже (с конца XII — начала XIII в.) стали вывозить хлеб и кожи. Все эти продукты сельского хозяйства продавали и светские феодалы и монастыри, но иногда и крестьяне. Уже в XI и особенно в XII в. получили значительное распространение ярмарки (Винчестерская, Бостонская, Стэмфорд-ская, в Йорке и др.), которые посещались купцами не только из Фландрии, но и из Италии, Германии и других стран. С ростом городов как экономических центров формировалось сословие горожан. Наиболее значительные города Англии были расположены на королевском домене, и их сеньором являлся сам король. Это осложняло борьбу горожан за политическую автономию, так как бороться с таким могущественным сеньором отдельным, даже крупным, городам было не под силу. Поэтому ни один из английских городов не смог добиться самоуправления типа французской коммуны; английские города вынуждены были довольствоваться лишь отдельными экономическими и финансовыми привилегиями и частичным самоуправлением, которые оформлялись королевскими хартиями. Освобождения от обременительных феодальных платежей они обычно добивались путем уплаты сеньору ежегодной фиксированной денежной суммы (так называемой фирмы) с правом горожан самим производить раскладку и сбор этих средств среди жителей. За деньги же они часто приобретали право самоуправления и суда, ограничивавшее вмешательство королевских или сеньориальных должностных лиц в дела городской общины. Города покупали также право иметь привилегированную корпорацию горожан (так называемую торговую гильдию), в которую обычно входили не только купцы, но и некоторые ремесленники. Однако пользоваться этими привилегиями могли лишь те, кто принимал участие в уплате «фирмы», т. е. наиболее состоятельные горожане. Более мелкие сеньориальные города обычно добивались лишь экономических привилегий и не пользовались самоуправлением. В Лондоне, Линкольне, Йорке, Винчестере и других городах еще в конце XI — начале XII в. появились собственно ремесленные гильдии (цехи), которые вступили в борьбу со стоявшей у власти городской верхушкой. Острые социальные противоречия между ремесленниками и мелкими торговцами, с одной стороны, и богатыми горожанами — с другой, в полную силу проявились в лондонском восстании 1196 г., возникшем из-за несправедливого распределения налогов представителями городской верхушки. Во главе недовольных стоял Уильям Фиц-Осберт, прозванный Длиннобородым. Он открыто обличал лондонских богачей, обвинял их в стремлении «сохранить собственные карманы за счет бедных налогоплательщиков». Движение было жестоко подавлено, Фиц-Осберт и девять его единомышленников были повешены. Особенности ленной системы и политического развития страны. Значение нормандского завоевания. Нормандские бароны — являлись непосредственными вассалами короля. Но Вильгельм требовал вассальной службы не только от баронов, но и от их вассалов. Все рыцари, чьими бы вассалами они ни были, обязаны были, согласно «Солсберийской присяге» 1085 г., по требованию короля нести службу в королевском войске. С введением прямой вассальной зависимости всех феодальных землевладельцев от короля система вассалитета получила в Англии более централизованный характер, чем на континенте, где обычно действовало правило: «Вассал моего вассала — не мой вассал». С момента нормандского завоевания королевская власть в Англии оказалась сильнее, чем в других странах тогдашней Западной Европы. На первых порах это определялось наличием большого королевского домена, отсутствием компактных крупных феодальных владений, особенностями вассальной системы, политической слабостью городов. Враждебность к завоевателям местного населения, ослабевшая лишь ко второй половине XII в., также побуждала нормандскую верхушку сплачиваться вокруг короля. Используя эту ситуацию, Вильгельм I сразу же создал относительно сильный аппарат центрального управления. Во главе графств были поставлены должностные лица короля — шерифы, ведавшие администрацией, судом, сбором налогов и королевских доходов. Были сохранены и даже повышены налоги, взимавшиеся в англосаксонский период, дававшие королю большие финансовые ресурсы. Таким образом, нормандское завоевание заметно усилило королевскую власть, политическое единство страны и создало предпосылки для образования в Англии относительно централизованного государства. Социально-политическое развитие Англии в конце XI—XII в. Усиление центральной власти продолжалось в Англии и после смерти Вильгельма I. В этом в той или иной степени были заинтересованы все слои класса феодалов. Даже крупные бароны в конце XI — начале XII в. нуждались в нем для подавления враждебного англосаксонского населения, и прежде всего разного рода крестьянского протеста (ведь крестьянство составляли именно англосаксы). У короля были и другие, более последовательные союзники, прежде всего мелкие и средние феодальные землевладельцы — рыцари как нормандского, так и англосаксонского происхождения. Этот слой феодалов видел в короле защиту не только от крестьянских движений, но и от посягательств на их земли и доходы со стороны крупных феодалов. Поддерживала королевскую власть и церковь, превратившаяся благодаря щедрым пожалованиям Завоевателя и его преемников в крупнейшего феодального землевладельца страны. Она пользовалась широкими привилегиями, и в частности правом иметь церковные суды, независимые от королевских. Естественными союзниками королевской власти являлись и наиболее значительные, расположенные на домене города, а также составлявшее около 12 % населения свободное крестьянство, для которого король был единственной защитой от крупных феодалов. Такое соотношение социальных сил создавало условия для сохранения и дальнейшего развития успехов централизации, достигнутых после нормандского завоевания. Преемники Вильгельма I, особенно его младший сын Генрих I (1100—1135), продолжали укреплять центральный государственный аппарат: большую роль стал играть постоянный королевский совет (королевская курия), включавший высших должностных лиц — королевских судей, лиц, ведавших королевской канцелярией, казной и сбором налогов (юстициарий, канцлер, казначей). В состав курии входили также наиболее верные королю крупные феодалы. Она совмещала в себе судебные, административные и финансовые функции. Важное значение приобрели разъездные судьи — специальные комиссии судей, разъезжавшие по стране и контролировавшие деятельность администрации, осуществление правосудия, сбор налогов в графствах. Уже при Генрихе I внутри королевской курии выделяется особый орган — казначейство, носившее в Англии название «Палаты шахматной доски»1 и ведавшее сбором королевских доходов и проверкой финансовой отчетности шерифов. Внутри курии выделяется и судебное ведомство. Вместе с тем в поисках противовеса политическому влиянию крупных феодалов и для укрепления власти шерифов на местах Генрих I стал энергично восстанавливать, хотя и под контролем центральной власти, старые англосаксонские органы местного управления, собрания свободных жителей сотен и графств. В сотенных собраниях чинился суд по мелким правонарушениям, распределялись и затем взыскивались налоги, проводились разного рода правительственные расследования. Несмотря на успехи централизации, крупнейшие магнаты и в Англии при любом удобном случае проявляли непокорность королю. Настоящая феодальная усобица разразилась после смерти Генриха I (1135), не оставившего после себя сыновей. Претензии на престол предъявили одновременно его дочь Матильда - жена француза, графа Анжуйского Жоффруа Плантагенета, и племянник, также французский феодал Стефан граф Блуа. Воспользовавшись борьбой за престол, феодалы, поддерживавшие претендентов, разоряли и грабили страну, особенно крестьян и горожан, полностью вышли из повиновения центральной власти. Феодальная анархия прекратилась только в 1153 г., когда при посредничестве церкви Стефан и Матильда заключили соглашение, по которому королем признавался Стефан, но после его смерти престол должен был перейти к сыну Матильды, молодому графу Анжуйскому Генриху Плантагенету. В 1154 г. он вступил на английский престол под именем Генриха II, положив начало новой династии Плантагенетов, правившей страной до конца XIV в. Генрих II (1154— 1189) сосредоточил под своей властью огромные владения: кроме Англии ему принадлежала, как и его предшественникам, Нормандия, а также обширные земли во Франции — Анжу, Мэн, Турень, Пуату. Позднее он присоединил к ним и Аквитанию. Англия стала, таким образом, частью большой державы Плантагенетов (иногда ее называют Анжуйской империей). Обладая большими финансовыми ресурсами и опираясь на под1 Название это было связано с системой подсчета денежных сумм. Столы в палате были разделены продольными линиями на несколько полос, по которым в определенном порядке раскладывались и передвигались столбики монет, что напоминало игру в шахматы. держку рыцарства, горожан и свободного крестьянства, Генрих II подавил смуты феодалов в Англии, распустил их отряды, срыл замки, стал назначать на должности шерифов выходцев из мелких и средних феодалов, подчинив их всецело королевской курии. Важную роль в укреплении централизации государства сыграли реформы Генриха II. Стремясь расширить компетенцию королевского суда за счет сеньориальных судов, он провел судебную реформу. Сущность ее заключалась в том, что каждый свободный человек мог за определенную плату получить разрешение перенести свое дело из любого вотчинного суда в королевский, где оно расследовалось присяжными, тогда как в вотчинных судах судебный процесс осуществлялся по-прежнему с помощью «божьего суда»1. Введение института присяжных привлекло в королевский суд огромный приток судебных дел из сеньориальных курий. Падению влияния последних содействовало и то, что Генрих II изъял из их компетенции все тяжкие уголовные преступления и значительно ограничил их юрисдикцию по земельным искам. Королевская курия была признана высшим апелляционным судом для всех сеньориальных судов. От этой реформы выиграло прежде всего рыцарство, а также зажиточные свободные крестьяне и горожане. Подавляющего большинства населения страны — лично зависимого крестьянства (вилланов) — эта реформа не коснулась. Королевские суды не принимали иски вилланов против их господ; они остались подсудны своему господину. Судебная реформа Генриха II отвечала классовым интересам феодалов. Усилив королевскую власть, оказав поддержку рыцарям и верхушке свободного крестьянства, она углубила пропасть между свободными и лично зависимыми крестьянами, оставила последних вне защиты королевских судов и тем содействовала ухудшению их юридического положения и усилению феодального гнета. Расширение судебных функций королевской курии увеличило доходы короля. Но значительные слои населения страдали от тяжелых штрафов, налагавшихся королевскими судами. В процессе судебной практики королевских судов стало постепенно вырабатываться так называемое общее право (common law) — единое для всей страны королевское право, которое постепенно вытесняло местное право, применявшееся в сеньориальных судах и судах сотен и графств. Генрих II провел также военную реформу. Она заключалась в том, что военная служба феодалов в пользу короля ограничивалась определенным, сравнительно небольшим сроком. Взамен остальной, а иногда и всей службы феодалы должны были уплачивать особую денежную сумму — «щитовые деньги». На эти день1 «Божий суд» — древняя форма судебного процесса, распространенная у германских народов еще до варварских вторжений. Виновность обвиняемого в уголовных делах определялась с помощью «ордалии» — испытания водой, каленым железом, кипятком и т. п. В имущественных, в частности земельных, тяжбах решение зависело от результатов «судебного поединка» между тяжущимися. ги король нанимал рыцарей, что уменьшало его зависимость от ополчения баронов. Кроме того, король предписывал, чтобы каждый свободный человек в соответствии с его имущественным положением имел определенное вооружение и по призыву короля должен был являться для участия в походе. Тем самым как бы восстанавливалось пришедшее в упадок старинное ополчение свободного крестьянства (англосаксонский «фирд»). Все эти реформы усиливали королевскую власть и содействовали централизации феодального государства. Неудачной оказалась попытка Генриха II поставить под контроль государства церковные суды. На этой почве он столкнулся с главой английской церкви, архиепископом Кентерберийским Томасом Бекетом. В ходе борьбы по негласному приказу короля Бекет был убит (1170). В дело вмешался папа, вынудивший Генриха II под угрозой отлучения принести публичное покаяние и отказаться от реформы церковных судов. Завоевание Ирландии. Попытки захвата Шотландии. Укрепив центральную власть в Англии, Генрих II в интересах английских феодалов предпринял завоевание Ирландии, где еще только зарождался феодализм и господствовал клановый строй. Начали походы в Ирландию в 1169—1170 г. английские бароны на свой страх и риск. После их первых успехов в Ирландию в 1171 г. прибыл сам король, быстро одержавший победы над клановыми вождями, которые вынуждены были признать Генриха II своим «верховным правителем». Однако фактически англичанам удалось подчинить себе лишь небольшую часть ирландских земель в приб^ режной юго-восточной части острова и создать здесь укрепленный район, позднее названный «Пэйл» (буквально — огороженная территория). Отсюда английские феодалы, ставшие собственниками захваченных в Пэйле клановых земель, делали набеги и на другие области Ирландии, что мешало нормальному развитию феодализации и складыванию государства на острове. В Пэйле английские завоеватели насаждали феодальные порядки, превращая ранее свободных ирландцев в своих зависимых крестьян. Генрих II предпринимал также попытки подчинить Шотландское государство, северного соседа Англии. В ходе непрерывных пограничных войн он пленил шотландского короля Уильяма Льва и в 1174 г. вынудил его заключить договор (в Фалезе), по которому Уильям принес ему оммаж и вассальную присягу за Шотландию. Однако Шотландия, уже достаточно феодализированная и централизованная страна, вскоре освободилась от вассальной зависимости. В противовес нажиму Англии, она стала все более сближаться с Францией, с которой позднее (в XIII—XIV вв.) оказалась в тесном антианглийском союзе. Возникновение единой английской народности. Нормандцы и другие выходцы из Франции не сразу слились с коренным населением Англии. На протяжении XII века короли нередко обращались в официальных актах к своим подданным как к «французам и англичанам». Но к концу XII в. этнические и языковые различия между местным населением и нормандскими завоевателями фактически стерлись. Французский элемент влился в этнический состав складывавшейся английской народности, сложился единый социокультурный тип населения. Разговорным языком основной массы жителей Англии — крестьян, горожан и подавляющего большинства феодалов, особенно рыцарства, — был английский язык. Лишь феодальная знать, представители королевской администрации, юристы пользовались не только английским языком, но и французским, который употреблялся наряду с латинским как официальный язык в государственных учреждениях. Несмотря на значительное укрепление центральной власти при Генрихе II, в Англии неоднократно вспыхивали восстания недовольной его политикой знати, в том числе сыновей короля. Их поддерживали мятежные феодалы континентальных владений План-тагенетов, в которых Генрих II не располагал столь большой полнотой власти, как в Англии. § 2. Англия в XIII в. Экономическое развитие. В XIII в. в Англии совершенствовалось земледелие, повсеместно утверждалось трехполье. Расчистка леса и осушение болот привели к увеличению площади культивируемой земли и пастбищ в ходе широкой внутренней колонизации, повысилась урожайность зерновых и других культур. С увеличением спроса на английскую шерсть, особенно во Фландрии, а также в Италии, связано дальнейшее развитие овцеводства. Общий хозяйственный подъем, в том числе в крестьянском производстве, вызвал быстрый рост населения в целом по стране в 2,5—3 раза. Это привело в свою очередь к сокращению крестьянских наделов, земельному голоду в деревне, расширению земельного рынка и росту цены на землю. Продолжался процесс отделения города от деревни. К концу XIII в. в Англии насчитывалось уже около 280 городских поселений. Соответственно возрос и удельный вес городского населения. Повышался постоянный спрос на продукты сельского хозяйства, благодаря чему цены на них, особенно на хлеб, стояли относительно высокие. Это стимулировало вовлечение в рыночные связи как помещичьего, так и крестьянского хозяйства. Уже в конце XII — начале XIII в. развиваются довольно прочные внутренние экономические связи. В качестве важнейшего центра общеанглийской торговли выдвигается столица Англии Лондон. Одна из важнейших особенностей экономического развития Англии в средние века — большая роль деревни в развитии внутренних связей. Быстрому развитию их способствовала ранняя специализация сельскохозяйственных районов — одних на производстве хлеба (Южная, Центральная и Восточная Англия), других — на производстве мясо-молочных продуктов и шерсти (Западная, Северо-Западная и Северо-Восточная Англия). Расширение внутренних экономических связей стимулировалось также развитием внешней торговли, поскольку основу последней до конца XIV в. составлял вывоз продуктов сельского хозяйства, шерсти, хлеба, кожи. В XIII в. основной хозяйственной и социальной ячейкой английского общества оставался манор. Манориальная структура отличалась пестротой, сложностью и своеобразием местных вариантов. С конца XII в. манор активно втягивается в рыночные связи. В наиболее крупных, особенно церковных, вотчинах, располагавших большим количеством вилланов, под влиянием этих связей барщинная система не только не ослабевала, но еще более укреплялась. Стремясь выбросить на рынок побольше сельскохозяйственных продуктов, владельцы таких маноров усиленно расширяли домениальное хозяйство за счет общинных угодий и расчистки пустошей, стремились увеличить барщину, чтобы иметь рабочую силу для обработки домена. С этим было связано стремление крупных феодалов воспрепятствовать личному освобождению вилланов и даже сделать зависимыми еще сохранивших личную свободу и полусвободных крестьян. В то же время товарно-денежные отношения уже в XIII в. порождали в английской деревне новые явления, исподволь подрывавшие барщинную систему хозяйства. В более мелких манорах, где было меньше вилланов и где связь с рынком осуществлялась не только через домениальное, но и через крестьянское хозяйство, они приводили к коммутации ренты. К концу XIII в. денежная рента уже преобладала в стране. Это в значительной степени освобождало крестьян от повседневного контроля феодала. Однако английские феодалы в отличие от французских, как правило, еще не отказывались от ведения домениального хозяйства. Те из них, кто стал на путь коммутации вилланских барщин, наряду с трудом вилланов или вместо него начали применять труд наемных работников из числа многочисленных в Англии этого времени малоземельных зависимых и свободных крестьян (коттеров). Однако на всем протяжении XIII столетия домениальное барщинное хозяйство, сосредоточенное в вотчине, все же играло решающую роль в сельскохозяйственном производстве Англии и в снабжении внутреннего и внешнего рынка его продукцией. Так в английской деревне XIII в. наметились две противоположные тенденции развития — консервативная и прогрессивная. Имущественное расслоение крестьянства. Обострение классовой борьбы в деревне. Развитие товарно-денежных отношений в деревне в целом тяжело отразилось на широких массах крестьянства. С развитием рынка росли потребности феодалов. Часть их удовлетворяла свое стремление к увеличению доходов путем увеличения размеров барщины; другие — повышая под разными предлогами денежную ренту. Наступление на крестьян шло также по линии захвата феодалами части земель, находившихся в общинном пользовании. Коммутация ренты ускорила и углубила начавшееся задолго до XIII в. имущественное расслоение крестьянства. Среди вилланов выделилась небольшая зажиточная верхушка, богатевшая на торговле. Отдельные представители этой группы получали возможность выкупиться на волю. Напротив, многие средние, а также мелкие крестьяне беднели, будучи не в состоянии уплачивать в срок повышавшуюся денежную ренту. Среди вилланов росло количество коттеров, вынужденных работать по найму у своих же или чужих лордов. Еще быстрее шло расслоение свободного крестьянства: в его среде резко обозначились зажиточная крестьянская верхушка, которая по своему социальному положению примыкала к низшим слоям класса феодалов и являлась одним из резервов его пополнения, и основная масса мелких фригольдеров, часто настолько бедных, что они не могли пользоваться привилегиями своего свободного статуса. Тяжелый гнет, лежавший на основной массе английского крестьянства, углублялся по мере роста государственных налогов, которыми облагались и свободные крестьяне, и вилланы. На усиление эксплуатации крестьянство отвечало сопротивлением. В XIII в. оно носило в основном локальный характер. Вилланы и свободные крестьяне сообща, нередко с оружием в руках, разрушали изгороди, поставленные лордами на общинных землях. Целые деревни отказывались от уплаты повышенных рент и выполнения ненавистных дополнительных барщин, пытались искать правосудия в королевских судах, а иногда оказывали вооруженное сопротивление не только своему лорду или его управляющему, но и королевским чиновникам, пытавшимся принудить их к покорности. Во всех выступлениях крестьян большую роль играла сохранившаяся почти повсеместно, но утратившая былую свободу община. Протест вилланов против феодального гнета в XIII в., как и в XII в., выражался также в побегах в города и в леса, куда от преследований феодалов часто уходили и свободные крестьяне. Имели место и крестьянские выступления против королевских должностных лиц — судей, сборщиков налогов и др. Особенности социального развития класса феодалов. Под воздействием товарно-денежных отношений различия, существовавшие со времен нормандского завоевания между крупными феодалами — баронами и мелкими — рыцарями, в XIII в. еще более углубились. Они определялись теперь не только размерами их владений и доходов, но и характером их хозяйственной деятельности и их политической позицией. В XIII в. особенно интенсивно втягивались в товарно-денежные отношения рыцари. В их поместьях преобладала денежная рента, кое-где применялся уже наемный труд. Большая часть английского рыцарства все более теряла характер военного сословия и превращалась в сельских хозяев. Общая заинтересованность в развитии внутреннего рынка, в ограничении произвола крупных феодалов и уменьшении королевских поборов, в дальнейшей централизации государства сближала этот слой феодалов с горожанами и с верхушкой свободного крестьянства. Благодаря этому класс феодалов в целом не превратился в Англии в замкнутое сословие, подобно дворянству во Франции и в Германии. Каждый свободный собственник земли, каково бы ни было его происхождение, при наличии определенного годового дохода (в 20, а позднее в 40 фунтов) обязан был принять звание рыцаря и войти в состав дворянства. Другая часть рыцарства, однако, не имела хозяйственных интересов, живя в основном за счет военной службы, грабежа, даров своих сеньоров и короля. Бароны же и прелаты, составлявшие вместе замкнутую группу феодальной аристократии, даже если они втягивались в рыночные связи, держались за барщинные методы эксплуатации, упорно отстаивали свои сословные привилегии. Развитие городов. В XIII в. заметно возросла экономическая и социально-политическая роль английских городов. Большую роль в их экономической и политической жизни начинает играть купечество. Города становятся крупными центрами накопления богатств: их доля в общегосударственных налогах все более повышалась. Это заставило королевскую власть в какой-то мере считаться с их интересами. Если к началу XIII в. хартии имели 80 наиболее крупных городов, то на протяжении XIII века различные привилегии получили еще 113 городов. Горожане постепенно оформляются в сословие, которое обычно выступает как политический союз.-ник королевской власти. Но рост государственного обложения вызывал сильное недовольство горожан. Это, как и их экономические и политические интересы в целом, сближало позиции горожан с позицией рыцарства и верхушки свободного крестьянства. С середины XIII в. в городах заметно обостряются внутренние социальные противоречия. Городская верхушка крупных городов, состоящая из городских землевладельцев, наиболее богатых купцов и ростовщиков, захвативших городское управление и финансы, разными способами притесняет и эксплуатирует основную массу городских ремесленников и мелких торговцев, а также городскую бедноту. Жизнь английских городов во второй половине XIII в. наполнена борьбой между ремесленниками и городской олигархией за право участия в управлении городом. Основные направления политического развития Англии в XIII в. По мере укрепления внутренних экономических связей усиливалась и централизация феодального государства. Хотя в ней попрежнему в той или иной степени был заинтересован класс феодалов в целом, особенно рыцарство, а также городское сословие и верхушка свободного крестьянства, процесс централизации государства происходил в атмосфере обострения классовой борьбы в деревне, социальных конфликтов в городах и противоречий в среде самих феодалов, сопровождался длительной политической борьбой, которая иногда приводила к вооруженным конфликтам. Первый этап политической борьбы XIII в. падает на время правления короля Иоанна, прозванного Безземельным (1199— 1216), — младшего сына Генриха II. Иоанн использовал унаследованный им от отца сильный государственный аппарат для нажима на все слои населения. Произвольными конфискациями земель, арестами и казнями не угодных ему магнатов, постоянными нарушениями феодальных обычаев он возбудил против себя оппозицию баронов. Раздражали их также слишком частые и чрезмерные требования субсидий и «щитовых денег» в связи с неудачными войнами Иоанна во Франции, в которых бароны не были заинтересованы. Их поддерживала церковь, недовольная вмешательством короля в церковные выборы и его бесконечными поборами. В отличие от всех предшествующих столкновений короля с баронами в лагере последних оказались на этот раз и те слои населения, которые раньше всегда поддерживали короля против баронов, — рыцарство и горожане. К поддержке баронов их побудили произвол королевской администрации и бесконечные поборы, особенно с городов. Неудачная внешняя политика Иоанна еще более усилила всеобщее недовольство. В войне 1202—1204 гг. французский король Филипп II Август захватил ряд владений Иоанна во Франции: Нормандию, Анжу, Мэн, Турень, часть Пуату. Поражение Иоанна и его союзников в битвах при Ларош-о-Муане и Буви-не (1214) положило конец его попыткам вернуть эти земли. Еще до этого (в 1207 г.) Иоанн вступил в длительный конфликт с папой Иннокентием III из-за того, что тот без согласия короля назначил архиепископом Кентерберийским Стефана Ленгтона. В 1212 г. папа издал буллу о лишении Иоанна престола и передал права на английскую корону французскому королю Филиппу II. Опасаясь восстаний своих подданных, Иоанн в 1213 г. капитулировал перед папой, признал себя его вассалом и обязался ежегодно выплачивать папе 1000 марок серебром. Этот позорный акт еще больше усилил оппозицию. Весной 1215 г. бароны при поддержке рыцарства и горожан начали войну против короля. Лондонцы открыли им ворота столицы. Король был вынужден подчиниться требованиям восставших баронов и 15 июня 1215 г. подписал так называемую Великую харшю вольностей. Великая хартия вольностей. Большинство статей Великой хартии вольностей (Magna Charta Libertatum) отражало интересы баронов и церковных феодалов. Король обязался соблюдать свободу церковных выборов; обещал не брать со своих непосредственных вассалов больших поборов, чем установлено обычаем. Он обязался не собирать со своих непосредственных держателей феодального вспомоществования и «щитовых денег» без согласия «общего совета королевства». В состав этого совета должны были входить непосредственные держатели короля, т. е. в основном те же бароны. Баронов в отличие от представителей всех других сословий могли судить только люди равного с ними звания — пэры. Король обязался не арестовывать баронов, не лишать их имущества, не объявлять их вне закона без законного приговора пэров. Отменялось утвердившееся после реформы Генриха II право короля вмешиваться в юрисдикцию сеньориальных судов. Наконец, для наблюдения над выполнением хартии избирался комитет в составе 25 баронов, который в случае нарушения хартии королем мог начать против него войну. Значительно меньше хартия дала рыцарству и верхушке свободного крестьянства. Баронам и королю запрещалось требовать с держателей рыцарских феодов больше служб и феодальных платежей, чем полагалось. Всем свободным людям была обещана защита от злоупотреблений королевских чиновников и чрезмерных штрафов; для них Великая хартия сохраняла судебные порядки, введенные Генрихом II. Еще меньше, чем рыцари, получили города. Хартия только подтвердила неприкосновенность уже существующих вольностей Лондона и других городов, но не ограничила права короны собирать с них особенно ненавистный для горожан побор — талью. Было установлено единство мер и весов. Хартия разрешила свободный въезд и пребывание в Англии иностранных купцов. Эта мера, хотя и способствовала развитию внешней торговли, была невыгодна горожанам, так как нарушала их монополию. Основной массе английского народа — вилланам — Великая хартия не дала никаких прав. Хартия лишь еще раз подчеркнула их полное бесправие в феодальном государстве. Некоторые постановления хартии были прямым проявлением феодальной реакции; вместе с тем Великая хартия имела для своего времени и известное прогрессивное значение. Она ограничивала королевский произвол не только в отношении баронов, но также рыцарства и горожан — социальных слоев, которые в ту эпоху являлись носителями прогрессивных тенденций в экономическом развитии страны, и ограждала эти слои от притеснений крупных феодалов. Великая хартия не была осуществлена на практике. Иоанн, заручившись поддержкой папы, объявившего баронов бунтовщиками, отказался ее соблюдать. Началась война, в разгар которой Иоанн умер, и бароны признали королем его малолетнего сына Генриха III (1216—1272). Установление баронской олигархии. В правление этого короля разыгрался новый, еще более крупный политический конфликт, начавшийся в 1258 г. Бесконечными поборами, щедрыми пожалованиями земель и доходов родственникам — французам и провансальцам, — дружбой с папой, которому он позволял обирать Англию, Генрих III вызвал всеобщее недовольство. Как и в 1215 г., бароны, стремившиеся контролировать короля, нашли себе временных союзников в лице рыцарства, а также городов. Когда весной 1258 г. Генрих III потребовал у баронов на военную авантюру в Италии, в которую его втянул папа Иннокентий IV, треть всех доходов страны, произошел взрыв всеобщего недовольства. Бароны, явившись вооруженными к королю, потребовали проведения политических реформ. Король вынужден был уступить. В июне 1258 г. в Оксфорде собрался совет магнатов, названный впоследствии «бешеным», который утвердил «Оксфордские провизии», установившие в стране режим баронской олигархии. Всю власть они передавали совету 15 баронов, без согласия которых король не мог принимать никаких решений. Кроме того, бароны избрали 12 человек от рыцарей и городов, которые собирались трижды в год и вместе с Советом 15-ти обсуждали государственные дела. Бесконтрольное хозяйничание баронов не удовлетворяло рыцарей и города. В рядах оппозиции произошел раскол. В 1259 г. рыцари выдвинули ряд самостоятельных политических требований. При поддержке наиболее дальновидной части баронов во главе с Симоном де Монфором, графом Лестерским, были приняты «Вестминстерские провизии», защищавшие рыцарство и верхушку свободного крестьянства от произвола крупных феодалов. Однако большая часть баронов держалась олигархической программы. Гражданская война 1263—1267 гг. Рассчитывая на противоречия в лагере оппозиции, Генрих III отказался соблюдать «Оксфордские провизии», и в 1263 г. началась гражданская война. Во главе оппозиции стал Симон де Монфор, который опирался не только на баронов, но и на широкие слои рыцарей, свободных крестьян и городское население. Во многих городах в результате ожесточенной внутренней борьбы было свергнуто господство купеческой олигархии. Средние и низшие слои горожан активно поддерживали Монфора. Лондонцы прислали на помощь Монфору 15-тысячное ополчение. В битве при Льюсе (1264) королевская армия была разбита, Генрих III и его старший сын Эдуард попали в плен. Монфор стал фактическим правителем Англии. Не доверяя баронам, он управлял страной опираясь на рыцарство и верные ему города. В январе 1265 г. Монфор впервые созвал собрание, на которое кроме крупнейших прелатов и баронов пригласил по два рыцаря от каждого графства и по два горожанина от наиболее значительных городов. Это было началом английского парламента. Победа над королем привела к усилению гражданской войны. В движение включились массы фригольдеров, а кое-где и вилланы. Крестьяне громили поместья сторонников короля, отнимали у них огороженные ими общинные угодья, отказывались от выполнения повинностей. Страх перед народным движением заставил баронов искать соглашения с королем. Когда принц Эдуард бежал из плена, большая их часть присоединилась к нему. В битве при Ившеме (1265) войска Монфора были разбиты, а сам он убит. Массовые конфискации земель у сторонников Симона де Монфора, проведенные Генрихом III, вызвали их вооруженное сопротивление, активную роль в котором играло свободное крестьянство. Испуганные размахом народных движений борющиеся группировки господствующего класса пошли на взаимные уступки и помогли королю в 1267 г. подавить это движение. Власть Генриха III была окончательно восстановлена. Однако и король, и бароны убедились в невозможности держать в повиновении народные массы без поддержки рыцарства и состоятельных горожан, без регулярного диалога с ними. Поэтому результатом гражданской войны 1263—1267 гг. явилось возникновение сословного представительства — парламента, в котором наряду с баронами заседали депутаты рыцарства и городов. Английский парламент в XIII—XIV вв. Возникновение сословной монархии. Парламент окончательно сложился в правление Эдуарда I (1272—1307). С этого времени английское феодальное государство приобретает форму сословной монархии. Опираясь на парламент, король энергично проводил антикрестьянскую политику. В то же время он, стремясь подорвать опасное для королевской власти политическое влияние светской и духовной аристократии, провел проверку и частично отменил судебные привилегии крупных феодалов, запретил церковным учреждениям приобретать земли без разрешения короля. Эдуард I и его преемники нуждались в парламенте, так как видели в нем противовес крупным феодалам. Сословное собрание давало возможность королю больше опираться на рыцарство и городскую верхушку. Даже субсидии королю, утвержденные парламентом, легче собирались и давали большие суммы, чем прежние произвольные поборы. Таким образом, создание парламента в целом усилило феодальное государство. По своей структуре английский парламент отличался от французских Генеральных штатов. В него приглашались личными королевскими письмами архиепископы, епископы, аббаты крупнейших монастырей и бароны. Кроме того, туда вызывались по два рыцаря от каждого графства и по два горожанина от самых крупных городов. Рыцари и городские представители избирались на местных собраниях в графствах и в городах наиболее зажиточными людьми. Свободное крестьянство и городская беднота не были представлены в парламенте. Вилланам прямо запрещалось участвовать в выборах. Король договаривался с парламентом относительно обложения населения налогами. Эдуард I пытался иногда собирать налоги и повышать пошлины и без согласия парламента. Своими вымогательствами он вызвал недовольство рыцарства и горожан, которых поддержали и бароны. В 1297 г. под угрозой нового конфликта Эдуард I издал «Подтверждение хартии», официально утвердившее право парламента участвовать в установлении налогов. В первой половине XIV в. парламент стал делиться на две палаты: верхнюю — палату лордов, где заседали прелаты и бароны, и нижнюю — палату общин, где заседали рыцари и представители городов; вместе они имели численный перевес над баронами и собирательно стали называться термином «общины». Прочный союз рыцарства и городской верхушки в парламенте обеспечил им большее политическое влияние по сравнению с сословно-представительными собраниями других стран, в частности с Генеральными штатами Франции. В XIV в. помимо права устанавливать налоги парламент приобрел право участвовать в издании статутов (законов), которые обычно принимались королем и палатой лордов по петиции палаты общин. Немалую роль в этих успехах парламента сыграла Столетняя война, финансирование которой требовало частых созывов парламента и политических уступок короля притязаниям парламента в обмен на разрешение очередных налогов. Многие английские и американские историки представляют английский парламент надклассовым органом народного представительства. В действительности же английский парламент, как и всякое средневековое сословно-представительное собрание, стоял в основном на службе класса феодалов и отчасти городской верхушки и ничего общего не имел с «народоправством». В целом парламент не столько ограничивал действия короля, сколько подкреплял их своим авторитетом. В частности, парламент активно поддерживал все антикрестьянские мероприятия феодального государства. Возникновение парламента и оформление сословной монархии отразило успехи политической централизации Англии и, в частности, факт складывания в стране общегосударственных сословных групп — баронов, рыцарства и горожан. В свою очередь, парламент способствовал дальнейшему укреплению феодального государства. Являясь орудием господствующего класса, парламент все же играл в Англии XIII—XIV вв. прогрессивную роль, поскольку он ограничивал политические притязания наиболее реакционного слоя феодалов — баронства — и способствовал проведению политики короля в интересах более передовых слоев общества того времени — рыцарства и верхушки горожан. Он являлся органом, выражавшим общественное мнение разных слоев населения, а также ареной мирного разрешения многих социально-политических конфликтов. Захватнические войны Англии в Уэльсе, Шотландии и Ирландии. В интересах феодалов Эдуард I и его преемники вели активные завоевательные войны. В 1282—1283 гг. Эдуарду I удалось завоевать и присоединить к Англии Уэльс. Земли уэльских феодалов он раздал своим баронам. Его попытки завоевать Шотландию после смерти ее короля Александра III (1286), который не оставил наследников, не увенчались успехом. Вначале при поддержке части крупных шотландских феодалов король добился восстановления вассальной зависимости Шотландии от Англии, а затем в 1295 г. установил там прямое английское правление. Но в 1297 г. вспыхнуло восстание крестьян и горожан под руководством Уильямса Уоллеса, а в 1306 г. началась всеобщая война за независимость, в которой приняло участие также шотландское рыцарство. Борьбу шотландцев возглавил Роберт Брюс. Война фактически окончилась в 1314 г. победой шотландцев при Бэннокберне. Им удалось отстоять политическую самостоятельность своей страны. В 1328 г. Англия вынуждена была официально признать независимость Шотландии. В Ирландии англичане предпринимали дальнейшие попытки, как правило, неудачные, к расширению захваченной в XII в. области, мешая складыванию там единого Ирландского государства. § 3. Англия в XIV—XV вв. Экономические и социальные сдвиги в английской деревне. Во второй четверти XIV в. в английской деревне все большее распространение получает коммутация ренты и продолжается процесс личного освобождения крестьян. Крестьянское хозяйство начинает успешно конкурировать с домениальным хозяйством крупных феодалов, основанным на малопроизводительном подневольном труде вилланов. Под давлением экономической необходимости и усиливающейся классовой борьбы крестьянства многие даже крупные феодалы к середине XIV в. все чаще и чаще отказываются от барщины. В связи с этим значительно возрастает спрос на наемную рабочую силу, необходимую как в домениальном хозяйстве феодалов, так и в хозяйстве зажиточных крестьян. Предложение наемной рабочей силы начинает отставать от спроса отчасти вследствие общей убыли населения, вызванной тяжелой эксплуатацией и хроническим недоеданием крестьянства, отчасти вследствие отлива крестьянской бедноты в города и северные районы страны, где зависимость крестьянства была слабее. Малая производительность барщинного труда там, где он сохранялся, слабая приспособляемость домениального хозяйства к условиям рынка, наконец, нехватка наемной рабочей силы в хозяйстве феодалов, коммутировавших барщину, уже к середине XIV в. создали предпосылки для упадка домениального хозяйства, обозначившегося в конце XIV и в XV в. Противоречия в деревне еще более обострились в связи с эпидемией чумы, в 1348 г. обрушившейся на Англию. Чума, оставшаяся в памяти людей как «черная смерть», унесла не менее трети населения, преимущественно из трудящихся слоев. Спрос на рабочие руки возрос еще больше, резко выросла и заработная плата. На помощь феодалам, а в городах — богатым купцам и мастерам, эксплуатировавшим наемный труд, пришло феодальное государство, которое во второй половине XIV в. издало ряд законов, известных под общим названием «рабочего законодательства». Первый из этих законов — ордонанс 1349 г., изданный Эдуардом III (1327—1377), — предписывал всем людям обоего пола в возрасте от 12 до 60 лет, не имеющим собственной земли и других средств к жизни, наниматься на работу за ту плату, которая существовала до чумы. За отказ от найма и за уход от нанимателя до истечения срока рабочему грозила тюрьма. Наниматели и рабочие, договорившиеся о более высокой оплате, наказывались штрафом. Затем последовал ряд статутов (1351; 1361; 1388), подтверждавших эти постановления и усиливавших наказания за их нарушения. Целью «рабочего законодательства» было обеспечение феодалов и городской верхушки дешевой рабочей силой с помощью внеэкономического принуждения. «Рабочее законодательство» отчетливо выявило антинародную феодальную сущность английского государства, и в частности парламента, по инициативе которого было принято большинство «рабочих законов» XIV в. Мелкие и средние феодалы пытались восполнить нехватку рабочей силы с помощью «рабочего законодательства». Те же, главным образом крупные, феодалы, которые вели еще барщинное хозяйство, искали выхода из создавшегося положения средствами так называемой сеньориальной реакции, восстанавливая барщину даже там, где она уже много лет была коммутирована, возвращая в свои маноры вилланов, ушедших в города и другие места на заработки. Обострение классовой борьбы в деревне и социальных противоречий в городах. Сеньориальная реакция, «рабочее законодательство», рост государственных налогов привели к значительному обострению классовой борьбы крестьянских масс. От «рабочего законодательства» страдала главным образом крестьянская беднота — не только вилланы, но и свободные. Для полнонадельных вилланов, часто уже отвыкших от барщины, сеньориальная реакция представлялась особенно нетерпимой. Вилланы устраивали «заговоры», отказывались выполнять барщину и платить повышенную ренту. Вопреки запрещениям статутов создавались тайные союзы сельскохозяйственных рабочих для борьбы за повышение заработной платы. Сплошь и рядом коттеры и батраки по взаимному сговору отказываются наниматься за установленную статутами заработную плату. От локальных стихийных выступлений английские крестьяне во второй половине XIV в. переходят к более массовым и организованным движениям в масштабе крупных районов. Происходит рост классового самосознания английского крестьянства, отразившийся также в народном творчестве и литературе той эпохи. В середине XIV в. возникают народные баллады о благородном разбойнике Робин Гуде. Робин Гуд и его сподвижники, люди в силу разных обстоятельств бежавшие в леса и поставленные «вне закона», изображаются в этих балладах как защитники бедных и непримиримые враги обидчиков простого народа — светских и духовных лордов и королевских чиновников. С ростом населения, разделением труда и богатства во всех наиболее крупных городах, в частности в Лондоне, в XIV в. наблюдается также заметное обострение и усложнение социальной борьбы. Это время решающих битв между цехами и олигархической верхушкой за допущение цеховых представителей в муниципальное управление. В XIV в. проявляются и новые социальные противоречия — внутри самих цехов: между «старшими», в основном торговыми, и «младшими», преимущественно ремеленными, цехами, между богатыми и бедными мастерами внутри отдельных цехов. Наконец, со второй половины XIV в. заметную роль в жизни наиболее значительных городов начинают играть противоречия между мастерами и подмастерьями. В связи с замыканием цехов, которое происходит в этот период, для подмастерья особую остроту приобретает вопрос о размерах заработной платы, о длине рабочего дня. На этой почве между ними и мастерами-нанимателями происходят частые столкновения, значительно обострившиеся в результате ««рабочего законодательства». Бедствия народных масс усиливались Столетней войной (см. гл. 9). Война требовала больших расходов, которые восполнялись за счет все возраставших налогов и реквизиций, падавших в основном на трудящиеся слои населения и вызывавших их постоянный протест. Движение за реформу церкви. Во второй половине XIV в. в Англии развертывается широкое движение за реформу католической церкви. Различные общественные группы, участвовавшие в нем, были заинтересованы в церковной реформе по разным причинам. Королевская власть в Англии еще с конца XIII в. тяготилась зависимостью от папства, признанной Иоанном Безземельным. Враждебная по отношению к Англии политика пап, которые, находясь с 1309 г. в Авиньоне, поддерживали Францию в Столетней войне, активизировала действия английских королей в этом направлении. Король и парламент стремились освободить английскую церковь из-под влияния пап и наложить руку на ее земельные владения. Придворная знать и крупные феодалы рассчитывали расширить свои владения и увеличить доходы за счет конфискации церковных земель. Короля и феодалов энергично поддерживали рыцарство и горожане, враждебно смотревшие на богатства церкви. Эти слои населения порицали духовенство, особенно монахов, за тунеядство, расточительство. Они стремились не только освободить церковь от влияния Рима, но и упростить обряды, лишить ее богатств и прежде всего земельных владений, рассчитывая со своей стороны также поживиться при конфискации церковных имуществ. Особенно глубокое недовольство католической церковью нарастало в 60—70-е годы XIV в. в среде крестьянства и городской бедноты. Оно выражало их общие антифеодальные настроения. Церковные феодалы были самыми жестокими эксплуататорами крестьянства. Они упорно держались за барщину и личную зависимость крестьян. Церковь донимала крестьян своими десятинами и другими поборами. В этой атмосфере всеобщей антицерковной оппозиции в середине 70-х годов XIV в. выступил профессор Оксфордского университета Джон Виклиф (1320—1384). Виклиф доказывал, что папа не имеет права взимать поборы с Англии и вообще вмешиваться в дела светской власти, а, напротив, церковь и ее глава во всех гражданских делах должны подчиняться светским государям. Из этого он выводил право английского короля на конфискацию церковных имуществ. Английское правительство полностью поддержало Виклифа, взяв его под защиту, когда папа потребовал церковного суда над ним. На защиту Виклифа встали и лондонские горожане. Почувствовав поддержку, Виклиф стал выступать более решительно, требуя коренной реформы церкви и отвергая ряд основных догматов католицизма: учение о «благодати» — особых сверхъестественных «дарах», которыми в отличие от мирян якобы обладает духовенство и которые дают ему силу отпускать грехи и «спасать» души верующих; материальный характер так называемого пресуществления1. Он поставил под сомнение право папы и епископов давать грамоты на отпущение грехов (индульгенции), право на тайную исповедь и замахнулся на необходимость самого института папства. Единственным источником вероучения Виклиф провозгласил Священное писание и, чтобы сделать его доступным мирянам, содействовал переводу Библии с латинского языка на английский. Однако дальше требования церковной реформы Виклиф не шел. Он ни в чем не посягал на существующий социальный строй, напротив, призывал верующих к покорности светской власти, вилланов — к повиновению феодалам. Взгляды Виклифа отражали главным образом интересы и настроения рыцарства и горожан. Придворные круги, сначала поддерживавшие Виклифа, испугались его более поздних выступлений и отвернулись от него. В 1381 г. учение Виклифа было осуждено как еретическое. Однако оно нашло широкий отклик в простом народе, так как еще до Виклифа народные проповедники, так называемые лолларды, или бедные священники, выступали против официальной церкви. Они сами вели полунищенское существование и понимали народные нужды. Поэтому, используя учение Виклифа, они придавали ему социальное звучание, соответствовавшее заветным стремлениям угнетенных народных масс. Лолларды выступали не только против официальной церкви и духовенства, но и против феодалов, королевских чиновников, обличая несправедливость существующего строя. Их излюбленная поговорка «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда дворянином?» выражала стремление народных масс к уравнению сословий и ликвидации дворянских привилегий. Среди народных проповедников особенно выделялся талантом и силой убеждения Джон Болл. Он требовал отменить церковную десятину, отобрать у церкви ее имущества и призывал не только к ликвидации сословного неравенства, но даже к общности имуществ. Он говорил: «...дела в Англии пойдут хорошо только тогда, когда все станет общим, когда не будет больше ни вассалов, ни лордов, когда лорды перестанут быть господами и будут такими же, как мы». Проповедь Джона Болла и других «бедных священников» выражала интересы крестьянства и городской бедноты. Ф. Энгельс называет Джона Брлла представителем крестьянско-плебейской ереси средних веков2. Восстание крестьян под руководством Уота Тайлера. К концу XIV в. положение английского крестьянства значительно ухуд- Согласно христианскому вероучению, «пресуществление» — это превращение хлеба и вина «в тело и кровь» Иисуса Христа, якобы совершающееся во время таинства причащения и составляющее сущность этого таинства. 2 См.: Маркс К., Энегльс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 363. шается. Особое возмущение его вызывали новые налоги, введенные при короле Ричарде II (1377— 1399) в связи с возобновлением Столетней войны. В 1377 г. парламент ввел единовременный поголовный налог, взысканный снова в 1379 г., а затем — в утроенном размере — в 1380 г. Этот налог и злоупотребления при его взимании послужили непосредственным поводом к восстанию. Оно вспыхнуло весной 1381 г. на юго-востоке Англии, в графстве Эссекс. Крестьяне прогнали сборщиков податей и некоторых из них убили. Восстание сразу же приняло ярко выраженный антифеодальный характер. Оно быстро охватило 25 из 40 графств Англии. Крестьянские отряды громили монастыри и феодальные поместья и жгли документы, фиксировавшие крестьянские повинности. Особенную их ненависть вызывали церковные феодалы — епископы и аббаты, а также королевские судьи и другие представители государственного аппарата; их крестьяне считали главными виновниками бедствий народа. Крестьян поддерживала городская беднота соседних городов. Наибольшей организованностью восстание отличалось в соседних с Лондоном графствах — Эссексе и Кенте. Кентские крестьяне освободили из тюрьмы Джона Болла, незадолго до этого арестованного церковными властями, и сделали его одним из своих вождей. Предводителем восстания стал деревенский кровельщик Уот Тайлер, по имени которого обычно и называют это восстание. Он был знаком с военным делом, обнаружил способности хорошего организатора и пользовался авторитетом среди восставших. Двумя большими отрядами крестьяне Эссекса и Кента подступили к Лондону. Их целью было встретиться с Ричардом II и попросить его облегчить их положение. Крестьяне в массе верили в «доброго короля» и приписывали все свои беды его дурным советникам. Вопреки приказу мэра городская беднота не позволила запереть ворота перед восставшими. Лондон оказался во власти крестьян. Король фактически стал их пленником. Они предали казни как «изменников» особенно ненавистных вельмож, в том числе и главу английской церкви архиепископа Кентерберийского Седбери, который был одновременно канцлером Англии. Первое свидание крестьян с королем состоялось в лондонском пригороде Майл-Энде. Они предъявили королю требования, получившие название «Майл-Эндская программа». В ней они добивались отмены вилланского статуса и барщины, установления единообразной невысокой денежной ренты (4 пенса с акра), свободной торговли во всех городах и местечках Англии и амнистии для принявших участие в восстании. Программа отражала интересы более зажиточной и умеренно настроенной части крестьянства. Она не посягала на феодальный строй в целом. Королю пришлось согласиться на эти требования. Часть крестьян поверила королевскому слову, покинула Лондон. Но многие из восставших, особенно бедняки Кента, не удовлетворенные этими уступками, вместе с Уотом Тайлером и Джоном Боллом остались в Лондоне. Они потребовали нового свидания с королем. Король был вынужден вторично явиться на свидание с крестьянами в Смитфилд. Требования, известные как «Смитфилдская программа», шли значительно дальше майл-эндских. Теперь крестьяне потребовали от короля отмены «всех законов», т. е. «рабочего законодательства», изъятия земель у церкви и дележа их между крестьянами, настаивали на возвращении захваченных сеньорами общинных угодий. Они выдвинули требование отмены всех привилегий сеньоров и уравнения сословий, а также всех форм личной зависимости. Эта программа была направлена против феодальной эксплуатации, крестьянской зависимости и сословного строя. Англия в XIII—XIV вв. и восстание Уота Тайлера: 1 — наиболее крупные центры вывоза шерсти и тканей в XIII — XIV вв.; 2 — крупнейшие сражения периода баронской войны; 3 — северная граница восстания 1381 г; 4 — район начала восстания; 5 — район наиболее активных действий восставших; б — города, принявшие участие в восстании; 7 — поход крестьян на Лондон. Путем обмана и вероломства феодалам удалось справиться с восстанием. Во время переговоров лондонский мэр предательски убил Уота Тайлера. Вооруженный отряд рыцарей и богатых горожан прискакал на выручку короля. Крестьян убедили разойтись по домам. Лишенные своего вождя, они вторично дали себя обмануть и ушли из Лондона. Рыцарские отряды направились вслед за крестьянами и разгромили их. Во всех районах восстания королевские судьи произвели жестокую расправу. Мучительной казни подверглись вожди восстания, в том числе и Джон Болл. Король, отказавшись от всех своих обещаний, разослал приказ о беспрекословном выполнении крестьянами всех повинностей в пользу сеньоров, которые они несли до восстания. Восстание 1381 г. потерпело поражение в силу тех же общих причин, что и Жакерия. Стихийность, недостаточная организованность восстания, преобладание у его участников локальных интересов привели к тому, что повстанцы большинства районов страны не приняли участия в походе на Лондон. Наивная вера в «доброго короля», присущая большинству крестьянства, погубила Уота Тайлера и облегчила феодалам разгром восстания. Способствовало его поражению и предательство лондонской городской верхушки. К этим общим причинам добавилось еще и то, что интересы зажиточного и среднего крестьянства, с одной стороны, и бедноты — с другой, не совпадали. Поэтому в Лондоне крестьяне не действовали заодно, не сумели воспользоваться победой, одержанной в первые дни, и оказать организованное сопротивление феодалам, когда те оправились от испуга. Вместе с тем это было одно из крупнейших и наиболее организованных крестьянских восстаний средневековья, в котором повстанцы показали относительно высокий уровень сознательности не только в своих экономических и социальных, но и в политических требованиях. Несмотря на свирепую расправу, крестьянские волнения продолжались в разных частях страны. Непрекращающееся брожение крестьянства выразилось и в росте влияния в его среде еретического учения лоллардов. Под давлением этих обстоятельств господствующий класс и феодальное государство вынуждены были пойти на уступки — несколько облегчить тяжелые налоги, смягчить «рабочее законодательство». Наиболее существенным результатом восстания было то, что оно устрашило феодалов и тем ускорило освобождение вилланов от личной зависимости, которое подготовлялось всем ходом экономического развития Англии в XIV в. В конце XIV в. и в XV в. большинство вилланов выкупилось на волю. Восстание 1381 г. нанесло последний удар по барщинной системе хозяйства. Оно покончило с явлениями сеньориальной реакции и определило победу того более прогрессивного пути в развитии английской деревни, который вел к укреплению мелкотоварного крестьянского хозяйства и к разложению барщинного манора. Экономическое развитие английской деревни в XV в. Перестройка экономики английской деревни после восстания Уота Тайлера не привела к ликвидации феодальных отношений. В Англии сохранялась монополия феодальной земельной собственности, крестьянство в основном не имело собственной земли, платило феодальную ренту и оставалось сословно неполноправным. Но английский феодализм с начала XV в. вступил в новую фазу развития. Домениальное хозяйство было почти полностью ликвидировано, а домениальные земли сдавались в держания или в аренду. Крестьянское землевладение, напротив, укреплялось, росла его товарность, оно становилось главным поставщиком сельскохозяйственных продуктов на рынок. Там, где сохранилось домениальное хозяйство, оно велось наемным трудом батраков. На первых порах крестьянские хозяйства не могли возместить свертывания домениального производства. В связи с этим в стране с конца XIV в. становятся заметными некоторые признаки экономического упадка: общее сокращение обрабатываемой земли, рост пастбищ за счет пашни, снижение товарной продукции деревни, в частности сокращение экспорта шерсти. Вследствие падения численности населения, которое начало снова расти только к концу XV в., а также роста крестьянского землевладения несколько сокращается спрос на продукцию сельского хозяйства. В силу этого цены на сельскохозяйственные продукты упали, а заработная плата наемных рабочих осталась относительно высокой. Однако отмеченные явления конца XIV—XV вв. не могут рассматриваться как признак общего экономического кризиса или общего кризиса феодализма в Англии. Они отражали борьбу между отживающим и новым в развитии самих феодальных производственных отношений. Порожденные кризисом старого барщинного манора, эти явления сосуществовали с усиливающимися, более прогрессивными формами производства — мелкотоварным крестьянским хозяйством, а также помещичьим хозяйством нового типа, послужившими в дальнейшем базой для зарождения капиталистических отношений в деревне. Положение английского крестьянства. Одним из важнейших прогрессивных сдвигов в жизни английской деревни XV в. было личное освобождение основной массы вилланов. Крестьяне делились теперь в юридическом отношении на две основные категории. Потомки прежних вилланов назывались копигольдерами (держателями по копии), так как документом на владение наделом у них была выписка, или «копия», из протоколов манориального суда. Они были лично свободными людьми и за свои наделы платили лорду невысокую фиксированную денежную ренту и несли некоторые повинности. Главным пережитком несвободного происхождения копигольдеров было то, что их права на надел не охранялись королевскими судами и они оставались сословно неполноправными. Более благоприятным было положение свободных держателей — фригольдеров. Они были фактически собственниками земли и уплачивали за нее лишь незначительную, часто номинальную, денежную ренту. Фригольдерское владение пользовалось защитой королевских судов, а его держатель имел право участвовать в выборах в парламент, тогда как копигольдеры этого права были лишены. И среди копигольдеров, и среди фригольдеров в XV в. наблюдалось уже сильное расслоение. Разбогатевшие крестьяне обеих категорий широко эксплуатировали наемный труд, скупали земли обедневших крестьян, арендовали в дополнение к своим наделам помещичью землю. Такие богатые крестьяне из числа свободных получили название йоменов. В то же время продолжала отслаиваться и группа малоземельных крестьян, пополнявших ряды сельскохозяйственных рабочих. «Старое» и «новое» дворянство. Борьба нового со старым в XV в. происходила и внутри класса феодалов. В этот период еще более углубляются различия, существовавшие в его среде. Крупнейшие землевладельцы во главе с титулованной знатью, в XIII и XIV вв. наиболее упорно державшиеся за барщину и крестьянскую зависимость, теперь оказались вынужденными свернуть свое домениальное хозяйство. Фиксированная невысокая рента, которую они получали со своих держателей, не могла обеспечить им привычный расточительный образ жизни. Эта часть феодалов, состоявшая из потомков прежней знати, получила название «старого дворянства». В его состав входила и значительная часть рыцарства — те мелкие и средние феодалы, которым кризис барщинной системы нес разорение и которые жили за счет службы в свитах и при дворах феодальных магнатов, всегда готовые к войне и грабежу. Обреченное на гибель «старое дворянство», однако, было еще достаточно сильным и не хотело сдавать своих позиций. Его представители с конца XIV в., особенно же в XV в., пытались пополнить свои доходы за счет получения доли государственных налогов. Борьба за власть и влияние при дворе с целью расхищения государственной казны определяет политику различных феодальных клик в Англии XV в. Другим источником дохода для старой знати был военный грабеж Франции в Столетней войне и даже прямые грабежи на большой дороге. Вместе с тем в среде английских феодалов росла и укреплялась другая группа, связанная с новыми прогрессивными явлениями в экономике страны, — так называемое «новое дворянство». Оно формируется в XV в. отчасти из мелко- и средневотчинных землевладельцев — рыцарства XIII—XV вв., — которые и в новых условиях занимались активной хозяйственной деятельностью, отчасти из разбогатевших крестьян и горожан, вкладывавших деньги в землю и получавших дворянские звания. «Новое дворянство», собирательно — джентри, умело приспосабливалось к новым условиям. Его представители округляли свои владения, скупая земли «старого дворянства» и разоряющихся крестьян, сдавали их в краткосрочную аренду за более высокую плату. Они занимались осушением болот, расчисткой лесных участков, строили мельницы, сукновальни, пивоварни, стараясь всячески повысить доходность своих владений. «Новое дворянство» было тесно и повседневно связано с рынком. Социальный вес джентри особенно возрастает во второй половине XV в. Развитие английской промышленности и торговли в XV в. Борьба нового со старым характерна и для английской промышленности и торговли. С одной стороны, с середины XIV в. начинается упадок некоторых старых городов, который становится особенно заметным к концу XV в. Признаками этого упадка является отлив населения из городов и запустение многих из них, замедление роста товарного производства и обмена. Характерно, что в XV в. богатые купцы и крупные ремесленные мастера многих городов зачастую вкладывают накопленные ими деньги не в расширение производства и торговли, а в приобретение земли, стремясь получить дворянское звание. Все эти явления были связаны с упадком цехового строя и усилением цеховой монополии, препятствовавшими расширению и совершенствованию производства. Но наряду с этим в XV в. в ремесле и торговле наблюдаются и прогрессивные явления. Сохраняется и даже возрастает значение ряда старых крупных городов (Лондон, Норидж, Йорк, Бристоль), возникают и новые, в частности мелкие города, активно участвовавшие в развитии внутреннего рынка и в формировании новых, прогрессивных форм промышленного производства. В обход цеховых ограничений в Англии еще с середины XIV в. в сельских местностях и мелких городках развивается производство на рынок сначала грубых, а затем и более тонких сукон. С конца XIV в., особенно в XV в., организаторами этого производства становятся купцы и богатые мастера. На них работают крестьянекустари городской округи, которых они снабжают сырьем и у которых скупают готовое сукно. Таким образом, вне старых городов с их цеховыми ограничениями зарождаются первоначальные формы капиталистического производства в виде рассеянной мануфактуры. Внешняя торговля Англии после временного упадка во второй половине XIV в. с начала XV в. несколько оживляется. Главным предметом экспорта становится теперь уже не сырье — шерсть, а промышленная продукция — сукно. Одновременно возрастает доля английских купцов в экспортной торговле, которая раньше в значительной мере находилась в руках иностранцев. В начале XV в. создается первая английская торговая компания «купцов-авантюристов», успешно конкурирующая с Ганзой. Особенности социально-политического развития Англии в XV в. В социально-политическом развитии Англии XV в. также сталкиваются интересы слоев, связанных с развитием более прогрессивных форм производства, с интересами наиболее реакционных общественных групп. Джентри, крестьянская верхушка, горожане были заинтересованы в дальнейшем укреплении центральной власти для обеспечения нормальной хозяйственной деятельности, поддержания мира в стране, защиты их торговых интересов за границей, наконец, для подавления сопротивления эксплуатируемых. Иной была позиция «старого дворянства». Чем больше оно теряло свое экономическое значение, тем больше отстаивало свою политическую самостоятельность, препятствуя дальнейшей централизации государства. Магнаты Англии обладали значительным политическим весом на местах и располагали немалыми средствами и военной силой в виде своих свит — «ливрей», состоявших из наемников, родственников и вассалов. Феодальные клики, нередко с помощью прямого насилия, оказывали давление на выборах в палату общин, заполняя ее своими ставленниками и устраивая побоища во время заседаний. На пр'отяжении всего XV века эта наиболее консервативная часть феодалов вершила судьбы страны, ввергая ее в феодальные смуты и династические войны, которые опустошали Англию и тормозили ее прогрессивное развитие. Так крушение барщинного манора отозвалось в политической жизни Англии временным возрождением феодальной анархии и политическим господством феодальной аристократии. В 1399 г. по инициативе баронов северных графств был низложен Ричард II, последний король из династии Плантагенетов. На престол бароны посадили своего ставленника Генриха IV Ланкастера (1399— 1413). Под давлением феодальной аристократии сын Генриха IV — Генрих V (1413—1422) возобновил Столетнюю войну, затухшую в конце XIV в. После смерти Генриха V корона перешла к его сыну Генриху VI (1422—1461), которому в это время не было и года. Вокруг престола завязалась борьба крупнейших феодалов Англии за влияние и власть. Между тем война во Франции приняла для англичан плохой оборот: к 1453 г. из всех своих завоеваний Англия сохранила только Кале. Хозяйничание феодальных клик, непомерный рост налогов, расхищение казны и позорные неудачи в войне вызывали недовольство «нового дворянства», горожан и особенно крестьян. Восстание Джека Кэда. В 1450 г. на юге Англии вспыхнуло большое народное восстание, центром которого стало графство Кент. Возглавил восстание зажиточный фригольдер, опытный солдат Джек Кэд. Основную массу восставших составили крестьяне, к ним присоединилось много рыцарей и горожан. Во главе двадцатитысячной армии Джек Кэд двинулся на Лондон и вступил в столицу. В манифесте, изданном Кэдом, повстанцы требовали облегчения налогового бремени, прекращения вымогательств королевских чиновников, особенно при сборах податей, а также прекращения незаконного давления баронов на парламентских выборах. Они требовали возвращения королю расхищенных феодалами королевских доменов, устранения дурных королевских советников и включения в состав Королевского совета герцога Йоркского, в котором рыцарская верхушка повстанцев видела своего вождя и защитника. Среди этих, в основном политических, требований было лишь одно социального характера — требование отмены «рабочего законодательства». Оно свидетельствует об участии в восстании крестьянской бедноты, батраков и городских подмастерьев. Восстание сначала развивалось успешно. Джек Кэд предал суду и казни самых ненавистных королевских советников, которых удалось захватить в Лондоне. Но затем городская верхушка, напуганная действиями повстанцев и лондонской бедноты, взялась за оружие и с помощью гарнизона Тауэра вытеснила повстанцев из города. Король обещал повстанцам полную амнистию, если они разойдутся. Кэд поверил этому обещанию и, видя колебания своих сторонников, распустил отряды. После этого началась жестокая расправа с участниками восстания. Кэд был схвачен и казнен. Разрозненные попытки восстания в других графствах были быстро подавлены. Война Алой и Белой розы. Разгром восстания Кэда и возникшие во время этого восстания классовые столкновения заставили богатых горожан и «новые дворянство» оставить надежду на широкое народное движение как на средство борьбы с господством крупных феодалов. Теперь они, возлагая свои упования на смену династии, в противовес Ланкастерам стали поддерживать Йорков — родственников королевского дома, также крупнейших землевладельцев Англии. С другой стороны, окончание в 1453 г. Столетней войны значительно сократило доходы феодальной аристократии от оплаты их военных услуг, пожалованных им во Франции земель, выкупов за пленных, мародерства. Теперь ее внимание больше, чем прежде, сосредоточилось на борьбе за власть и доходы при дворе. Удобным поводом для феодальных междоусобиц явились династические споры Ланкастеров и Йорков. В 1455 г. между сторонниками враждебных династий произошло военное столкновение. Оно положило начало долгой междоусобной войне, получившей в истории название войны Алой и Белой розы (в гербе Ланкастеров была алая роза, а в гербе Йорков — белая). За Ланкастеров стояло большинство крупных феодалов, особенно феодалы Севера, привыкшие к политической самостоятельности и обладавшие большими вооруженными силами. Йорков поддерживали крупные феодалы экономически более развитого юго-востока, их родственники и вассалы, оттесненные от власти Ланкастерами. Вместе с тем их поддерживало большинство джентри и горожан, стремившихся к установлению сильной королевской власти. Впрочем, для многих феодалов эта война была лишь предлогом для разбоя и усиления своей политической самостоятельности. Они легко переходили из одного лагеря в другой после каждой перемены военного счастья. После ряда кровавых столкновений Эдуард Йоркский занял Лондон и был провозглашен королем. Воцарение Эдуарда IV (1461 — 1483) не прекратило войну Алой и Белой розы, которая неоднократно возобновлялась во время его правления. Эдуард IV жестоко расправился с баронами-ланкастерцами. Но он не доверял и баро-нам-йоркистам, приближал к себе людей из среднего слоя рыцарства, раздавал им титулы и владения. Недоверчиво относился Эдуард IV также и к парламенту, выборы в который по-прежнему находились под влиянием феодальной аристократии. Он старался по возможности обходиться без парламента, особенно в финансовых вопросах, предпочитая прибегать к так называемым добровольным дарам и принудительным займам с городов. Он заставил парламент предоставить ему пожизненное право сбора таможенных пошлин. Все это давало королю значительные средства, делало лишним созыв парламента и развязывало ему руки в вопросах управления и законодательства. Эдуард IV проводил политику поощрения отечественной торговли и промышленности. Он запретил вывоз из Англии наиболее ценных сортов шерсти, стимулируя этим развитие сукноделия, принимал меры для обеспечения вывоза английских сукон в Нидерланды и Италию без посредничества ганзейских и венецианских купцов. После смерти Эдуарда IV его брат Ричард, по приказу которого были убиты в Тауэре законные наследники престола — малолетние сыновья Эдуарда, захватил власть и стал править под именем Ричарда III (1483—1485). Против него объединились ланкастерцы и часть йоркистских баронов. Они подняли восстание и выдвинули нового претендента на престол — Генриха Тюдора, представителя младшей ветви Ланкастерского дома. В 1485 г. в битве при Бос-ворте Ричард III потерпел поражение и был убит. Этой битвой закончилась война Алой и Белой розы. Генрих Тюдор под именем Генриха VII был провозглашен королем Англии. Генрих VII—основатель новой династии Тюдоров (1485— 1603) — продолжал последовательную борьбу с самостоятельностью баронов, за укрепление королевской власти. Ему тем легче было проводить эту политику, что война Алой и Белой розы привела к гибели значительной части феодальной аристократии и подняла социальное значение нового дворянства и зарождавшихся буржуазных элементов, заинтересованных в усилении королевской власти. В конце XV в. создаются уже предпосылки для перехода Англии к новой форме государства — абсолютизму. Предпосылки складывания английской нации. В Англии XIII— XV вв. продолжался процесс развития английской народности, послужившей основой формирования будущей английской нации. В этот период определяется в основном языковая и территориальная общность англичан. По мере складывания в Англии единого национального рынка с центром в Лондоне и централизации феодального государства языковые различия, имевшие место в XI — XII вв., постепенно стираются. На основе лондонского среднеанглийского диалекта, обогащенного влиянием французского и латинского языков, складывается общеанглийский язык. В XIV в. он становится общеупотребительным, разговорным и литературным языком во всех слоях общества. С 1362 г. на нем ведутся прения в парламенте и официальные судебные разбирательства. На английский язык по инициативе Виклифа переводится Библия, на нем во второй половине XIV в. пишут свои поэмы крестьянский поэт Уильям Ленгленд и один из создателей литературного английского языка, автор знаменитых «Кентерберийских рассказов», поэт Джеффри Чосер. Глава 11. Германия в XII — XV вв. § 1. Германия в XII — XIII вв. Развитие производительных сил в сельском хозяйстве. На протяжении XII — XIII столетий производительные силы Германии шагнули значительно вперед. Одним из показателей этого являлась широкая внутренняя колонизация. В результате упорного труда десятков и сотен тысяч крестьян изменился сам облик страны. Место дремучих лесов и топких болот заняли деревни и пашни. Успешно шло освоение горных массивов на юге и наступление на море на севере. Благодаря увеличению площади обрабатываемых земель в XIII в. выросла производимая в стране сельскохозяйственная продукция. Наряду с этим шел процесс интенсификации сельского хозяйства. Внедрялись более ценные зерновые культуры (это, в частности, нашло свое выражение в преобладании ржи над ячменем), все дальше на восток и север продвигалось виноградарство и садоводство, повсеместно распространялись технические культуры (лен, конопля, вайда), развивалось овцеводство. Совершенствовались земледельческие орудия и обработка земли, что сказалось на повышении урожайности. Рост городов. Важнейшим результатом подъема производительных сил в Германии, как и в других странах Западной Европы, явилось отделение ремесла от сельского хозяйства и быстрый рост городов с конца X в. Раньше всего города возрождаются на новой основе на территориях бывших римских муниципиев в бассейне рек Рейна (Кельн, Кобленц, Майнц, Вормс, Шпайер, Страсбург, Бонн) и Дуная (Ульм, Регенсбург, Донауверт и др.). В XII в. в стране насчитывалось около 50 городов, а в XIII в. их число возросло до 500. Правда, в подавляющем большинстве это были мелкие города, насчитывавшие подчас несколько сот жителей и сохранившие тесную связь с сельским хозяйством. Но наряду с ними уже в XII — XIII вв. выделялись города, не только являвшиеся ремесленноторговыми центрами ближайшей округи, но и ведущие широкую внешнюю торговлю. К их числу принадлежал, например, Кёльн — самый большой город средневековой Германии. Кёльн был центром развитого металлообрабатывающего и шерстяного производства, изделия которого находили сбыт далеко за пределами Германии. Экономическое значение Кёльна было связано с его выгодным географическим положением — на скрещении важнейшей водной артерии средневековой Европы — Рейна — с сухопутным торговым путем, шедшим из Брюгге через Вестфалию и Брауншвейг на Гамбург и Любек. Город являлся крупным перевалочным пунктом для товаров, поступающих из Северной Италии, Фландрии и с Балтийского побережья. Важным ремесленно-торговыми центрами были также Аугсбург, Нюрнберг, Ульм, Любек и др. К числу наиболее развитых отраслей ремесла в этот период относятся металлообработка, текстильное производство, а также строительное дело. В XII в. в Германии осуществляется переход к сооружению каменных зданий, что сопровождалось крупными техническими нововведениями. В XII — XIII вв. значительных успехов достигло горное дело. Возникают новые центры добычи железной руды (Фрейбург в Шварцвальде), олова (в Рудных горах), меди (Мансфельд), золота (Гольдбург в Силезии), серебра (в Саксонии). Усложняется сам процесс добычи металлов. В немецком городе рано появилась и достигла расцвета цеховая организация ремесла. Древнейшими были цехи майнцских ткачей (1099), вормских торговцев рыбой (1106—1107) и вюрцбургских сапожников (1128). Существовали также женские цехи — ткачих шелковых изделий, прядильщиц, шляпниц. В XI — XIII вв. наиболее развитые города, прежде всего рейнские, вели борьбу против сеньориального гнета, особенно тяжелого в епископских городах. Однако лишь немногим городам удалось освободиться из-под власти территориальных князей и добиться значительной автономии. Это так называемые свободные (вольные) города (Кёльн, Вормс, Шпайер, Регенсбург, Майнц и др.). Автономией, иногда почти полной самостоятельностью пользовались и наиболее значительные так называемые «имперские» города, лежавшие на землях императорского фиска, или те, сеньором которых считался король. Многие ремесленно-торговые центры, как правило, имели довольно большие привилегии. Внутренними делами таких городов ведал выборный городской совет, которому принадлежало исключительное право взимания налогов, организации обороны города, обеспечения его продовольствием. Однако подавляющее большинство городов оставалось под княжеским суверенитетом. Власть в городах принадлежала патрициату, главным образом богатым купцам, ростовщикам, землевладельцам. Цехи, игравшие большую роль в экономической жизни города, были бесправны в политическом отношении. С XIII в. начинается борьба цехов за участие в политической жизни города. В ряде городов (Фрейбург, Гослар, Ульм) они добились участия в городском совете, но в большинстве случаев цеховые движения в XIII в. заканчивались неудачей. Эволюция аграрных отношений. Подъем городского ремесла оказал большое влияние на развитие аграрных отношений. С появлением городов в товарно-денежные связи стало втягиваться крестьянское хозяйство и хозяйство феодалов. Устанавливался более или менее регулярный рыночный обмен между городом и деревней, город становился экономическим центром прилегающей сельской округи. Втягивание деревни в товарно-денежные отношения вело к существенным изменениям в характере аграрного строя, в формах и методах феодальной эксплуатации крестьянства. Во многих районах Германии в XII — XIII столетиях происходит разложение старой вотчинной системы, основанной на использовании барщинного труда зависимых крестьян. Повышение спроса на сельскохозяйственную продукцию, вызванное увеличением городского населения, побуждало феодалов отказываться от малопроизводительной барщины, особенно если имелись возможности повысить другие крестьянские повинности (денежные платежи и т. п.). На смену основанной на барщинном труде вотчине в XIII в. пришла так называемая чистая сеньория, характерным признаком которой является полное или почти полное отсутствие самостоятельного господского хозяйства. Бывшая барская запашка делилась на сравнительно большие участки, которые сдавались в аренду мейерам (первоначально так назывались вотчинные управляющие из числа зажиточных крестьян, а затем крестьяне-арендаторы вообще). Но в отличие от Франции и Англии, где и при ликвидации домениального хозяйства крестьяне, как правило, сохраняли наследственные права на свой надел, в отдельных областях Германии (в Нижней Саксонии и Баварии) часть крестьян из наследственных держателей превратилась в краткосрочных арендаторов. Распространение арендных отношений подобного типа отнюдь не меняло феодальной природы эксплуатации крестьян-мейеров. Значительная часть крестьянства вносила натуральный оброк продуктами, обычно от четверти до половины урожая, дополняемый часто значительными денежными платежами. «Чистая сеньория» в разных вариантах преобладала в Нижней Саксонии, Вестфалии, Баварии, а также на Швабско-Баварском плоскогорье. В остальных районах Юго-Западной и Средней Германии (Франкония, Прирейнская область) сохраняется старая вотчинная организация с доменом и барщиной. Но и в ее рамках также совершается частичный переход к денежной ренте, что влечет за собой появление значительного количества лично свободных крестьян, уплачивающих феодалу денежный оброк — чинш. В отличие от районов распространения «чистой сеньории», крестьяне здесь сохранили свои наследственные держания и даже в известной степени укрепили владельческие права на них. Смена форм феодальной ренты обусловила существенные изменения в положении немецкого крестьянства. Исчезают наиболее тяжелые личные формы его зависимости (Leibeigenschaft), многие крестьяне получают личную свободу. Можно говорить об определенном улучшении правового положения немецкого крестьянства в XII — XIII вв. Но освобождение от личной зависимости часто сопровождалось лишением крестьян наследственных прав на землю. Распространение краткосрочной аренды ухудшало владельческие права крестьян, вело к постоянному возрастанию крестьянских повинностей: при каждом очередном перезаключении арендного договора феодал имел возможность повышать арендную плату. В ряде районов Германии (в частности, на северо-западе) светские и особенно духовные феодалы захватывали общинные земли, даже иногда сгоняли крестьян с их наделов. Бесконечные феодальные распри, не говоря уже о прямом грабеже со стороны феодалов, тяжелым бременем ложились на крестьянское хозяйство, часто приводили к его обнищанию. Перемены в аграрном строе содействовали значительной дифференциации крестьянства. Выделялись зажиточные крестьяне, соединявшие в своих руках по нескольку крестьянских наделов (гуф) или арендовавшие целые поместья, которые они обрабатывали руками своих обедневших односельчан. С другой стороны, множилось число малоземельных крестьян, владевших лишь частью нормального земельного надела. Возникает слой безземельных крестьян. В деревне появляется новый социальный тип — поденщик, вынужденный помимо выполнения обычных сеньориальных обязанностей наниматься к феодалу или зажиточному крестьянину за особую плату. Классовая борьба в немецкой деревне. Крестьяне вели повседневную борьбу против феодальной эксплуатации. В районах распространения краткосрочной аренды они пытались отстаивать свои наследственные права на землю. Повсеместно они выступали против насилий сеньоров, добивались уменьшения феодальных повинностей и поборов, фиксации барщинных работ и оброков. Формы крестьянского сопротивления были различны. Здесь и отказ от выполнения повинностей, и преднамеренно небрежное выполнение их, и причинение ущерба хозяйству феодала, и, наконец, убийство наиболее ненавистных господ и их должностных лиц. Выступали крестьяне и в защиту своих прав на пользование общинными землями, узурпировавшимися феодалами. Особенно широкое распространение приобрело бегство крестьян во вновь возникавшие города и на Восток — за Эльбу. Оно достигло в этот период такого размаха, что феодалы заключали между собой соглашения о выдаче беглых, добивались у городов обязательств не принимать в свои стены бежавших крестьян, требовали принятия против них законодательных мер. Классовая борьба немецкого крестьянства в XII — XIII вв. носила в основном еще локальный характер. Крестьянские выступления обычно не выходили за рамки отдельной деревни или вотчины. Однако в XIII в. происходили и более значительные крестьянские восстания. Такие восстания имели место чаще всего в тех областях, в основном на Севере Германии, где сохранялось много свободного крестьянства: в 1114 г. произошло восстание крестьян Дитмаршена против притеснений графа Рудольфа фон Штеде; в 1132 и затем 1153 г. восставали фризы против графа Голландского. В течение нескольких лет (1223—1234) отстаивал свою свободу от соседних сеньоров — графа Ольденбургского и епископа Бременского — крестьянский «союз штеддингов» (береговых жителей) в устье Везера. В 1285 г. крестьянское восстание под руководством Тиле Колупа (по прозвищу «Деревянный башмак»), поддержанное некоторыми городами, происходило в западных областях Германии. Экономические предпосылки образования системы территориальных княжеств. Подъем производительных сил и связанные с ним перемены в социальной структуре общества оказали большое влияние на политическое развитие страны. Однако социально-экономические сдвиги в Германии в отличие от Франции и Англии в конечном итоге пошли на пользу центробежным силам, использовавшим их для закрепления раздробленности страны. Экономический подъем в Германии в XII — XIII вв. не привел к образованию экономического центра, подобного Парижу или Лондону, к которому тяготели бы все области страны. Крупнейшие немецкие города экономически были более связаны с иностранными городами, чем между собой. Для тесно связанного с транзитной внешней торговлей бюргерства этих городов объединение страны не являлось жизненной необходимостью. Немецкие города были естественными экономическими центрами для прилегающей округи. Причем чем значительнее был город, тем обширнее была и примыкающая к нему округа, включавшая в себя не только сельские поселения, но и более мелкие города. В пределах такой округи устанавливались более или менее постоянные хозяйственные связи. Областная централизация, однако, не сопровождалась установлением прочных связей между различными районами. Тем самым центробежные силы в Германии получали известную поддержку в самом характере экономического развития страны. Областная централизация в условиях углубляющейся хозяйственной раздробленности Германии явилась экономической предпосылкой развития в будущем системы так называемых территориальных княжеств, т. е. компактных территорий, в пределах которых их правители обладали относительно полной политической властью. Зачатки территориальных княжеств возникли в Германии, как мы видели, уже в конце XI — начале XII в., экономический подъем XII — XIII вв. способствовал их дальнейшему укреплению. Развитие городов явилось для князей источником финансовых доходов и политического влияния. Территориальные князья поощряли развитие городов в своих землях, основывали новые торговоремесленные центры. Показательно, что начиная с XIII в. почти все новые города возникают во владениях князей. Одновременно князья пытались подчинить своему влиянию имперские города. Оборотной стороной превращения городов в орудие территориальной политики феодальной знати явилось прогрессирующее ослабление их связи с центральной властью. В средневековой Германии в отличие от Франции и Англии не сложился сколько-нибудь прочный союз королевской власти и городов, являвшийся в средние, века необходимым условием преодоления политической раздробленности страны. В XI — начале XII в. немецкие города в борьбе с сеньорами также пытались опереться на помощь королевской власти. Они видели в короле (императоре) своего естественного союзника и покровителя, оказывали ему поддержку в его столкновениях с феодальной знатью. Так, во время Саксонского восстания 1073—1075 гг., когда против Генриха IV выступила почти вся феодальная верхушка Германии, активную помощь королю оказали горожане Кёльна и Вормса. И в дальнейшем города, особенно имперские, оставались союзниками короля. Да и императоры — Генрих V, Генрих VI, позднее Фридрих Барбаросса — пытались опираться на города. Однако тогда немногочисленные немецкие города были и в экономическом, и в политическом, и в военном отношении слишком слабы, чтобы служить действенной опорой короля, и эти ранние попытки германских королей опереться в своей централизаторской политике на города окончились неудачей. Постоянно нуждаясь в поддержке знати, короли все чаще вынуждены были поступаться интересами городов в ее пользу, чем отталкивали их от себя. Позднее складыванию союза между королем и городами мешали также их разнонаправленные экономические связи и политика их сеньоров-князей. Немецкая экспансия на Востоке. Укрепление позиции немецких территориальных князей в немалой степени было связано с новой экспансией немецких феодалов на Востоке — в земли полабских славян и народов Восточной Прибалтики (так называемый Drang nach Osten). Своеобразие нового этапа наступления, начавшегося в XII в., заключается в том, что руководящую роль в нем стали играть не императоры, а князья, опиравшиеся на союз с католической церковью. Князья стремились создать обширные владения, которые служили бы основой их независимого положения в империи. Главную военную силу походов в славянские земли составляли мелкие феодалы-рыцари. Завоевание раздробленных славянских земель после неудач в Италии и в крестовых походах казалось им предприятием сравнительно выгодным и легким. В этом движении принимали участие и немецкие города, стремившиеся получить значительные торговые выгоды на Востоке. Наступление немецких феодалов против славянского племени ободритов, обитавших в нижнем течении Эльбы (Лабы), возглавил герцог Баварии и Саксонии Генрих Лев из рода Вельфов — крупнейший феодальный властитель Германии XII в., соперничавший своим могуществом с императором. Генрих Лев отличался необычайной даже для той поры жестокостью и коварством. После длительной и ожесточенной борьбы в 1170 г. на захваченных немцами землях ободритов было создано зависимое от Генриха Льва Герцогство Мекленбургское. Около того же времени было основано и маркграфство Бранденбургское (на землях племени лютичей) во главе с Альбрехтом Медведем. В XIII в. здесь возник город Берлин (впервые упоминается в 1237 г.). Генрих Лев захватил также славянское Поморье (между Одером и Вислой). Население захваченных славянских земель частично истреблялось, частично сгонялось в места, плохо пригодные для земледелия, а их земли переходили к завоевателям, приглашавшим для их обработки немецких крестьян-колонистов. В начале XIII в. немецкие феодалы приступили к завоеванию Восточной Прибалтики. С этой целью в 1202 г. при активном участии папы Иннокентия III был организован новый духовно-рыцарский Орден меченосцев, который к середине XIII в. захватил территорию современной Латвии, а затем южную часть современной Эстонии. В 1226 г. Тевтонский орден, переведенный по распоряжению папы из Палестины в Прибалтику, начал завоевание земель литовского племени пруссов, населявших Балтийское побережье между Вислой и Неманом. Пруссы оказали длительное и упорное сопротивление и в ходе завоевания, которое было завершено только к концу XIII в., они были отчасти истреблены, отчасти порабощены завоевателями. В 1237 г. оба ордена слились в один — Тевтонский. Его владения охватывали почти все Юго-Восточное побережье Балтийского моря. Попытки рыцарей продвинуться оттуда на Русь были пресечены разгромом их войска в битве на Чудском озере (1242) новгородским князем Александром Невским. Для укрепления своего господства в заэльбских землях феодалы широко использовали крестьян из Германии — колонистов, которых они привлекали льготными условиями поселения. Обычно феодал находил подрядчика (локатора), который вербовал переселенцев, а затем становился старостой деревни. Переселявшимся крестьянам предоставлялись двойные гуфы на правах наследственного чиншевого держания. Повинности были фиксированы и взимались только с земли: сами крестьяне считались лично свободными, в частности за ними сохранялась свобода передвижения. Германская колонизация способствовала экономическому подъему Заэльбья. Увеличилась площадь культивируемых земель, выросли новые города, усилились торговые связи по побережью Балтийского моря. Но подъем был достигнут ценой жестокого подчинения и насильственной германизации местного населения. Одновременно немецкая колонизация, более мирная по характеру, направилась на юго-восток, в придунайские земли, также заселенные славянами. Здесь, на Среднем Дунае, еще в конце X в. была образована Восточная, или Австрийская, марка, в XIII в. она превратилась в герцогство. Затем австрийские герцоги захватили соседние славянские области — Штирию, Каринтию, Крайну. Немецкая колонизация, в которой принимали участие рыцарство, церковь (особенно монастыри) и торговоремесленные элементы, была направлена также и в Чехию. Крах итальянской политики германских императоров. Одновременно с экспансией на Востоке немецкие короли и феодалы не оставляли замыслов подчинения Италии и папства. Главными вдохновителями и организаторами этой политики явились сами германские императоры. Одним из наиболее активных проводников этой политики был Фридрих I Барбаросса (1152—1190) из династии Гогенштауфенов (1138—1254). Вначале Фридрих I добился некоторых успехов. В 1154 г. он отправился в свой первый итальянский поход, целью которого было коронование в Риме императорской короной. Германские войска вошли в Рим, помогли папе в подавлении оппозиционного движения горожан (см. гл. 12). Благодарный папа короновал Фридриха в Риме императорской короной. Так на почве борьбы с народным движением временно объединились, казалось бы, непримиримые противники — империя и папство. Однако насилия немецких рыцарей вызвали всеобщее восстание в Риме, в результате которого Фридрих вынужден был оставить город. В 1158 г. Фридрих I предпринял новый поход в Италию. В Ронкальской долине (близ Пьяченцы) он собрал представителей североитальянских городов. Используя их разобщенность и взаимную вражду, он провел на этом сейме решение о лишении городов прав самоуправления и о назначении в них вместо выборных консулов наместников — подеста, утверждаемых императором. Фридрих присвоил себе право высшей судебной власти в городах Северной Италии и обложил их налогами. По существу, это означало полное подчинение североитальянских городов императору. Фридрих жестоко расправился с миланцами, которые отказались признать власть германского императора и не приняли назначенного им подеста. В 1162 г. после двухлетней осады Милан был взят и разрушен, рыночная площадь была вспахана, а борозды посыпаны солью в знак того, что на месте города всегда будет пустошь. Жители непокорного города были расселены в деревнях, превращены в зависимых крестьян, обложены тяжелой барщиной в пользу императора. Драконовскими мерами Фридрих I думал запугать североитальянские города и укрепить свое владычество в Италии. Но произошло обратное: потрясенные расправой с миланцами, города поднялись на борьбу с императором. В 1167 г. они создали Ломбардскую лигу, куда вошло 22 города Северной Италии во главе с Миланом, отстроившимся заново. Активную помощь Лиге оказал папа Александр III. Между тем Фридриху отказали в военной помощи многие немецкие князья, в том числе и самый могущественный из них — Генрих Лев. Решающая битва между войсками императора и Ломбардской лигой произошла в 1176 г. около Леньяно (северо-западнее Милана). Немецкие рыцари потерпели поражение, сам Фридрих едва спасся бегством. Это была одна из первых битв, в которой рыцарское войско было побеждено ополчением городских ремесленников и купцов. В следующем году в Венеции Фридрих I капитулировал перед папой и заключил шестилетнее перемирие, условия которого были закреплены в 1183 г. миром в Констанце. Фактически этот мир означал восстановление самоуправления итальянских городов. Священная Римская империя в XII—XIII вв.: 1 — граница Священной Римской империи; 2 — земли церкви; 3 — владения Венеции: 4 — поход Фридриха I Барбароссы (1158) и разгром Милана; 5 — поход Фридриха I Барбароссы и битва при Леньяно: 6 — города, вошедшие в состав Ломбардской лиги. Последнюю попытку утвердиться в Италии предпринял внук Барбароссы император Фридрих II (1220—1250) —одна из колоритнейших фигур, когда-либо занимавших императорский престол. Выросший в Сицилии (он был одновременно королем Сицилийского королевства перешедшего к нему по наследству от отца, императора Генриха VI, женатого на наследнице сицилийского престола), он причудливым образом сочетал в себе черты воинственного рыцаря, искателя приключений и восточного деспота. Фридрих II окружил себя византийскими, арабскими и еврейскими учеными, основал университет в Неаполе; он читал в подлиннике греческих, римских и арабских авторов, занимался научными наблюдениями, писал трактаты, увлекался поэзией. вместе с тем. Фридрих был крупным государственным деятелем своего времени, хорошим дипломатом. В отличеие от большинства современников он сохранял полное равнодушие к религиозным вопросам; однако. проявляя терпимость к иноверцам. он жестоко престедовал народные еретичексие движения. Став императором, он сохранил в качестве своей базы Сицилийское королевство. все силы этого этого относительно централизованного государства он бросил на завоевание Северной и Центральной Италии, но здесь он, как и Фридрих I, натолкнулся на решительное сопротивление городов и папства. Тяжелая изнурительная борьба с итальянскими городами и папой продолжалась с перерывами 30 лет истощила ресурсы Сицилии и Южной Италии и в конечном итоге завершилась крахом династии Гогенштуфенов. Через 15 лет после смерти Фридриха II, в 1265 г., в Сицилии по призыву папы высадился брат французского короля Карл Анжуйский. Внук Фридриха II шестнадцатилетний Конрадин сделал отчаянную попытку изгнать французов, но был в 1268 году разбит и сложил голову на плпхе. Спустя несколько лет умер в заточении последний сын Фридриха. Так бесславно закончила сове существование династия Гогенштауфенов как в Германии, так и в Италии. Финал ее был закономерен, ибо универсалистские цели, преследовавшиеся ими, были утопичными в 13 веке. Укрепление самостоятельности территориальных князей. Объективным следствием великодержавной политики Гогенштауфенов было дальнейшее ослабление центральной власти в Германии и рост самостоятельности территориальных князей. Поглощенные итальянскими делами и связанными с ними честолюбивыми замыслами германские императоры, чтобы развязать себе руки и обеспечить поддержку князей были вынуждены делать им одну уступку за другой. В этом отношении показательна политика Фридриха 11, для которого Германия всегда оставалась чужой страной. Он лишь трижды посетил Германию, прожив там в общей сложности менее 9 лет. О слабости центральной власти в Германии свидетельствует тот факт, что даже самые могущественные императоры так и не смогли добиться признания принципа наследственности королевской власти. Королевский титул нередко передавался от отца к сыну, но для этого требовалось согласие феодальной знати, и уже в XII в. избрание короля крупными светскими и духовными феодалами стало правилом. Характерной чертой развития Германии этого периода является возобладание в ее политической организации территориального принципа над племенным. Окончательное завершение в стране процесса феодализации привело к тому, что на месте старых племенных герцогств появилось около сотни княжеств, из которых свыше 80 были духовные. Территориальные князья заняли место племенных герцогов и в феодальной иерархии, образуя сословие имперских князей — непосредственных ленников короны. Впрочем, имперские князья могли держать лены и от иностранных государей; многие из них уже в XII в. оказались в вассальной зависимости от нескольких государств, что, естественно, ослабляло империю. Зато они ревниво следили за тем, чтобы не устанавливалась прямая связь между их собственными вассалами, массой рыцарства и императором. Тем самым центральная власть изолировалась от тех слоев господствующего класса — мелких и средних феодалов, — которые являлись ее естественными союзниками и объективно были заинтересованы в ее усилении. В конце XII в. центральная власть в Германии фактически теряет и другую свою опору — королевский министериалитет. Королевские министериалы (должностные лица короля) нередко превращались в крупных феодалов, теряя непосредственную связь с короной, вступали в сложную систему вассально-ленных отношений. Примером может служить один из могущественных министериалов империи Вернер фон Боллэнд: он являлся вассалом 43 различных сеньоров, от которых держал в общей сложности более 500 ленов, в том числе 15 графств, и сам, в свою очередь, имел более 100 ленников. В то же время возвышаются министериалы церкви и светских господ, которые также входят в ряды господствующего класса, окончательно завершая тем самым процесс его конституирования. В XIII в. немецкие города заметно усиливаются и экономически, и политически. Однако они теперь все реже склоняются к поддержке императора, видя что его политика все более служит интересам князей. Не имея прочной социальной опоры, крупного и компактного домена, единой охватывающей всю империю финансовой системы, разветвленного исполнительного аппарата, императоры вынуждены были лавировать между князьями и тем самым содействовать их дальнейшему усилению. В этом отношении показательна политика Фридриха I Барбароссы. Чтобы обеспечить себе поддержку Генриха Льва в итальянских походах, он передал ему вдобавок к Саксонскому герцогству Баварию и некоторые другие территории, а также всю полноту власти в захваченных славянских землях. Однако рост могущества Генриха Льва и его бесчинства вызвали недовольство других немецких князей, многие из которых сами стали жертвой его захватов. К ним присоединился и сам Фридрих, которому, несмотря на униженные просьбы, Генрих Лев не помог в битве при Леньяно. В результате объединенных действий императора и князей Генрих Лев был вынужден предстать перед императорским судом, который конфисковал его владения, а самого изгнал из империи. Но разгром самого могущественного князя отнюдь не привел к усилению позиций императора в Германии. Конфискованные у Генриха Льва владения были разделены между другими князьями, что в конечном итоге привело к росту их могущества и укреплению территориальной системы в целом. Важным этапом в процессе дальнейшего развития системы территориальных княжеств в Германии явилось правление Фридриха II. Если Фридрих I раздавал привилегии отдельным князьям, то Фридрих II сделал решающие уступки имперским князьям как особому сословию. Все права, присвоенные ими раньше, получили теперь законодательное закрепление и дальнейшее развитие. Князья приобрели высшую юрисдикцию, право чеканить монету, взимать налоги и пошлины, основывать города и предоставлять им рыночные права. Под угрозой суровых наказаний городам запрещалось создавать союзы и выступать против феодальных сеньоров. Последовавший после краха Гогенштауфенов период междуцарствия (1254—1273) еще более углубил политическую раздробленность страны. Императоры, теперь отказываясь от великодержавной политики своих предшественников, сами все более превращались в территориальных князей. Свои усилия они направляют главным образом на расширение родовых владений. Начало этой политики положил Рудольф I (1273—1291), представитель второстепенного дома Габсбургов, обладавшего сравнительно небольшими владениями в Эльзасе и Швейцарии. Рудольф I отнял у чешского короля Пшемысла II Австрию вместе со Штирией, Каринтией и Крайней, заложив таким образом основы могущества Габсбургов. Такая политика при ее последовательном проведении могла бы в перспективе привести к успеху централизаторских усилий короны, и в отдельные периоды (при Рудольфе I, Карле IV Люксембурге) она достигала известных результатов. Однако уже достаточно сильные князья ревниво следили за тем, чтобы одна и та же династия не задерживалась долго на престоле. Поэтому после смерти Рудольфа князья не избрали на императорский престол его сына — Габсбурги становились для них слишком опасными. С этого времени на германском престоле одна династия сменяет другую. Императоры и короли из домов Нассау, Люксем-бургов, Виттельсбахов и Габсбургов попеременно следуют друг за другом. Это было результатом целенаправленной политики князей, стремившихся не допускать усиления императорской власти. § 2. Германия в XIV —XV вв. К началу XIV в. Священная Римская империя оставалась крупнейшим политическим образованием в Западной Европе, лишенным, однако, внутреннего единства. Ядро империи составляли старонемецкие земли, а также обширные области, которые были германизированы в ходе колонизации за Эльбой и по Дунаю. Кроме того, в империю входили лишь формально связанные с ней, на деле же суверенные государства Северной Италии и Тосканы, королевство Чехия. В 1291 г. на территории империи было положено начало еще одному самостоятельному государству — Швейцарскому союзу. Свободные общины трех альпийских «лесных земель» — Швица, Ури и Унтервальдена — объединились против попыток Габсбургов подчинить их и овладеть перевалом Сен-Готард, через который шел важный торговый путь, связывавший Германию и Италию. В 1315 г. швейцарская пехота, состоявшая из крестьян, наголову разбила рыцарскую конницу Габсбургов у горы Моргартен (южнее Цюрихского озера). К союзу, сумевшему защитить свою независимость, в середине XIV в. примкнули пять «городских» кантонов (округов), в том числе Люцерн, Цюрих, Берн. Понадобились, однако, долгая борьба и новые военные победы швейцарцев, прежде чем в начале XVI в. их конфедерация добилась фактической автономии от империи. Конфедерация включала тогда уже 13 кантонов и несколько союзных земель. Кантоны различались особенностями экономики, социальным составом общин, юридическим статусом, но сходным в них было обилие свободного крестьянства. За пределами Швейцарии, особенно в немецкой деревенской среде, это даже породило легенду о счастливой стране, где царят законы крестьянской вольницы. Постоянных органов центрального управления в союзе не было, верховной властью считался тагзатцунг — периодические собрания представителей кантонов. Союзные земли на нем своего голоса не имели. Каждый из кантонов обладал правом на собственную внутреннюю и внешнюю политику, но давал обязательство не действовать во вред общим интересам конфедерации. Империя не имела в XIV — XV вв. твердо закрепленных границ, они изменялись в результате войн, династических браков, перемен в вассальных связях. Развитие городов в XIV—XV вв. Для Германии XIV — XV века стали временем наивысшего расцвета ее городов, бурного роста ремесел и торговли, особенно посреднической между разными странами. Всему этому способствовало выгодное положение Германии на путях международной торговли. Уже на рубеже XIII и XIV вв. в Германии было около 3500 городов, в которых проживала примерно пятая часть населения страны, составлявшего 13—15 млн. человек. В подавляющем большинстве это были мелкие города разного типа с числом жителей до тысячи человек, тесно связанные со своим аграрным окружением. Их рынки привлекали крестьян из близлежащих деревень, расположенных в радиусе 10—30 км. Такое расстояние позволяло за день побывать на рынке и вернуться домой. Сеть этих городков покрывала всю страну, но в Германии сложились и три зоны преимущественной концентрации городской жизни, где находилась основная масса более крупных городов, с 3—10 тыс. жителей, а также самые значительные немецкие города, с населением свыше 20 тыс. человек, — Кёльн, Страсбург, Любек, Нюрнберг. Первая из этих зон — северогерманская, в нее входили Бремен, Гамбург, Любек, Висмар, Росток, Штральзунд и другие портовые города, расположенные на побережье Северного и Балтийского морей либо на речных путях к ним. Они энергично включились в европейскую транзитную торговлю на разветвленных морских трассах между Лондоном и Новгородом, Брюгге и Бергеном. Вторая зона — южногерманская: Аугсбург, Нюрнберг, Ульм, Регенсбург, но также Базель, Вена и другие города. Многие из них вели оживленную торговлю с землями по Дунаю, но большинство ориентировалось прежде всего на Италию: они были связаны через альпийские горные проходы с Миланом, славившимся ярмарками, и с Венецией и Генуей — двумя главными посредниками в торговле Западной Европы с Левантом. Третью зону образовали многочисленные города вдоль Рейна, от Кёльна до Страсбурга. Через них шел торговый обмен юга и севера не только Германии, но в значительной мере и Европы в целом. Общий уровень развития внутригерманской торговли был достаточно высок, хотя тяготение отдельных регионов друг к другу оставалось по-прежнему слабым. Собственное производство в немецких городах было рассчитано преимущественно на местные рынки. Сложились, однако, и такие его центры, продукция которых ценилась по всей стране и за ее пределами. Это были прежде всего южногерманские города, где изготовляли добротные льняные и хлопчатобумажные ткани, в том числе бумазею. Они пользовались постоянным спросом не только в Италии, но и в Испании. В этих городах занимались шелкоткачеством, используя привозной сырец, достигли высокого мастерства в обработке металлов. Общеевропейской славой пользовались изделия из металла нюрнбергских ремесленников — от художественного литья и ювелирных изделий, оружия, колоколов, светильников до наперстков, ножниц, циркулей, клещей и прочего трудового инструментария. Как и в других западноевропейских странах, главной отраслью производства, поставлявшей товары на экспорт, было сукноделие. Грубые сукна изготовлялись по всей Германии для собственных нужд, обычно из местной шерсти и с использованием местных красителей. Вывозили из Германии тонкое сукно. Им особенно знаменит был Кёльн, пытавшийся соперничать даже с фламандскими сукноделами. Во второй половине XIV в. ремесленники работали в крупных городах Германии более чем в 50 отраслях производства, и эта дифференциация позже еще возросла. В ряде отраслей — в нюрнбергской металлообработке, кёльнском сукноделии — появилась специализация по двум десяткам профессий. В результате складывалась одна из предпосылок для развития немецкого мануфактурного производства. К середине XV в. усилились новые явления в хозяйственной и социальной жизни немецкого города. Хотя цеховой строй продолжал господствовать, явными стали симптомы его начавшегося разложения: «замыкание цеха», появление «вечных подмастерьев», нарастающая имущественная поляризация в среде цеховых ремесленников. Одновременно по преимуществу в немецком текстильном производстве и главным образом в сельских районах, где труд был дешевле и отсутствовала цеховая регламентация, начала укореняться «система раздач». Это была форма рассеянной мануфактуры, при которой купец-предприниматель, организатор расчлененного на операции процесса производства, скупал сырье оптом на дальних рынках, ссужал его работавшим на дому за плату изготовителям пряжи и изделий-полуфабрикатов, доводил изделие до полной готовности в городе у опытных специалистовремесленников и затем сбывал продукцию снова на дальних рынках. Основными районами, где распространялась «система раздач», стали Южная Германия, область Северного Рейна с центром в Кёльне, Саксония, которая в XV в. по сукноделию превратилась в одну из передовых земель страны. Особое место в экономике Германии принадлежало горному делу, в котором немецкие мастера занимали ведущие позиции в Европе XIV—XV вв. Здесь также зарождались элементы раннекапиталистических отношений. Углубление шахт, удлинение штолен требовали крупных затрат на оборудование, в том числе для откачки воды и очистки воздуха. Необходимый капитал стали обеспечивать паевыми взносами состоятельных горожан, богатых монастырей, торговых фирм, получавших соразмерную долю прибыли. Феодальные владельцы недр — князья и император — нередко закладывали горные промыслы торговым фирмам, а те сдавали их на откуп предпринимателям или сами вторгались в организацию производства. Наряду с горняками, работавшими в шахтах самостоятельно, на свой страх и риск, к концу XV в. появились исчисляющиеся тысячами наемные рабочие. Зарождение мануфактурного производства в централизованной форме происходило главным образом в бурно развивавшейся новой отрасли — книгопечатании, где важную роль играла система последовательных операций изготовления книги. К концу XV в. в немецких землях было около 60 книгопечатен, в том числе несколько крупных. Дальнейший рост немецкой экономики и зарождение в ряде отраслей производства новых форм его организации встречали на своем пути серьезные преграды. Главными из них были неравномерность хозяйственного развития отдельных регионов и их слабая взаимосвязь друг с другом, а также во многом обусловленная этой ситуацией политическая раздробленность страны. Ее характерными проявлениями были отсутствие единой системы монет, мер и весов, небезопасность дорог и многочисленность таможенных поборов на торговых путях. На рубеже XIV—XV вв. различные монеты чеканились в Германии в 500 местах, а таможен только на Рейне было свыше 60. В обстановке политической раздробленности страны, засилья феодального произвола, слабости императорской власти города были вынуждены сами защищать свои интересы в Германии и за ее пределами, объединяясь в союзы. Самым крупным из них в истории средневековой Европы стало северогерманское торгово-политическое «товарищество» — Ганза. Начавшись в XII в. как объединение отдельных купцов и их групп, она с конца XIII в. до середины XIV в. превратилась в союз городов и просуществовала более 500 лет, формально — до 1669 г. Ее расцвет приходится на XIV — середину XV в., когда она объединяла около 160 городов. Целью Ганзы были активная посредническая торговля, обеспечение безопасности торговых путей, гарантии привилегий своих граждан за границей, поддержание стабильности политического строя в городах союза, где у власти стояла, как правило, богатая патрицианская верхушка. Ганза осуществляла свои задачи всеми доступными ей средствами — от дипломатических до применения против соперников или непокорных экономической блокады и военных действий. Ее ядро составляли уже упоминавшиеся города северной зоны, самыми влиятельными из них были Любек и Гамбург. Ганза господствовала в торговле между Нидерландами, Англией, Скандинавскими странами и Русью, имела свои торговые конторы, жилые дома, складские помещения в Новгороде, Стокгольме, Лондоне, Брюгге и других городах, но ее купцы бывали и в Бордо, Лиссабоне, Севилье. Флотилии ганзейских кораблей, бравших на борт до 200—300 т груза, везли из Прибалтики, Скандинавии и русских земель преимущественно громоздкие и тяжелые товары — зерно, рыбу, соль, руду, лес, изделия из дерева, но также мед, воск, сало, меха, а в обратном направлении — западноевропейские ремесленные изделия из металла, высококачественное сукно, вина, предметы роскоши, а также пряности, проделавшие путь от самого Леванта. В отличие от торговли южногерманских городов товары собственного производства занимали в ганзейской торговле мало места. Внешнюю и внутреннюю политику Ганзы определяли не бюргерские и тем более не плебейские слои ее городов. Плебс составлял в них свыше половины населения, но был бесправен. Власть крепко держал в руках патрициат, десятая часть городских жителей. Со второй половины XIV в. представители городов Ганзы собирались на регулярные съезды, решения которых были обязательны для всех ее членов. Подобно государству, Ганза не раз вела войны; так, с помощью Швеции и других союзников она энергично воевала с Данией, победила и по миру 1370 г. не только подтвердила привилегии своих купцов, но и получила во владение ряд крепостей на юге Скандинавского полуострова. Каждый ганзейский город был автономен в ведении своих торговых и политических дел, но не должен был наносить ущерб всему союзу. У него не было единого управления, кассы, флота; усилия объединялись лишь для общих, выгодных всем участникам конкретных задач. В результате для той или иной торговой операции либо военных целей могли отправляться флотилии от нескольких кораблей до нескольких их десятков и даже сотен. Всего у Ганзы было около тысячи судов. Ганза играла двойственную роль: она способствовала развитию посреднической торговли на огромной территории, но душила конкуренцию купцов других стран; она отстаивала коммунальные свободы своих членов от притязаний феодальных властителей, но и подавляла внутригородские выступления против засилья патрициата; она объединяла города Севера Германии, но и отъединяла их от интересов других частей страны. К середине XV в. Ганза испытывает растущее давление со стороны конкурентов, получающих поддержку от своих государств, в то время как Ганза ее не имела. Голландские, затем и английские купцы теснят ганзейцев. В торговле с Новгородом ведущее положение переходит от Любека к городам Ливонии. Усиление Польши повышает значение Данцига. Сыграли свою роль и внутренние противоречия в Ганзе. Ее удельный вес в транзитной торговле снижается, но упадок союза относителен, он еще остается большой силой. Ганза была не единственным крупным городским союзом в Германии. Во второй половине XIV в. возникают Швабский и Рейнский союзы городов, объединившиеся в 1381 г. В эту коалицию входило более 50 городов. Активизируется и рыцарство, особенно в Юго-Западной Германии, создающее ряд собственных сословных объединений, в том числе Общество щита святого Йоргена и Общество святого Вильгельма. Стремясь расширить свое влияние, рыцарские союзы вступают в борьбу с городскими. Этим воспользовались князья, которых не устраивало усиление ни рыцарей, ни городов, и в 1388 г. объединение швабских и рейнских городов было разгромлено. Попытка городов подкрепить свою роль военной силой, чтобы добиться возрастания своего политического влияния в империи, провалилась. Немецкая деревня в XIV—XV вв. Рост товарно-денежных отношений в это время сказался на переменах не только в городе, но и в сельском хозяйстве Германии, где и крестьяне, и феодалы все больше втягивались в связи с рынком. Бурное развитие городов отозвалось в деревне рядом неблагоприятных последствий, в том числе характерными для XIV—XV вв. так называемыми «ножницами цен»: высокими ценами на ремесленные изделия и низкими на сельскохозяйственные продукты, особенно на зерно. Эту ситуацию обострили эпидемия чумы конца 40-х годов XIV в., унесшая большие массы деревенского населения, войны, голодовки неурожайных лет. Результатом демографического кризиса стали обезлюдение и исчезновение многих ранее обжитых мест, сокращение пахотных площадей, наступление леса и болот на заброшенные поля. В целом в Германии исчезла почти пятая часть прежних поселений, особенно хуторов и небольших деревень. Процесс «запустении» оказался связан, однако, и с попытками внести изменения в сельское хозяйство, повысив его интенсивность, поскольку ощущалась нехватка рабочих рук. XIV—XV века стали для Германии временем максимального распространения виноградарства, возрастания удельного веса животноводства, в том числе овцеводства и стойлового разведения скота, расширения площадей под садово-ягодными и техническими культурами, из которых особенно большое внимание уделялось посевам льна и конопли. В аграрном строе немецкой деревни XIV—XV вв. намечались две основные тенденции развития, различие которых нарастало к концу XV в. Первая из них характерна для территорий к западу от Эльбы, вторая — к востоку от нее, для ранее колонизированных земель. Восточнее Эльбы было много свободных крестьян, обеспеченных крупными наделами еще со времен переселения и владевших двумя третями пахотной земли; остальное принадлежало главным образом рыцарям. В XIV — середине XV в. крестьянство сохраняло здесь свое более благоприятное положение, однако ситуация начала меняться, когда увеличились потребности в аграрной продукции в местных городах, а затем все больше стал расти спрос на хлеб для вывоза его за границу, преимущественно в Нидерланды. Стремясь повысить доходность своих владений, рыцарство пыталось расширить их, сгоняя крестьян с их наделов и используя на барщине в господских имениях. В XV в. это явление еще не стало массовым, однако новая тенденция обозначилась к началу XVI в. уже достаточно ясно. Западнее Эльбы процесс перестройки вотчины пошел иначе — к частичному или полному отказу от господской запашки. Доходы сеньоров здесь складывались в основном из суммы рент, полученных за счет поземельной, судебной, личной зависимости крестьян. Части крестьянства удалось улучшить свое положение, закрепив на договорной основе объемы и сроки повинностей, но возросло и число крестьян, имевших лишь половину или четверть надела, а то и вовсе утративших его. В Северно-Западной Германии сложился значительный слой свободных зажиточных крестьян-мейеров. Феодалы сдавали им в наследственную аренду целиком или долями земли бывшего домена. Хозяйствуя на больших участках в 20—40 га пашни, мейеры платили крупные чинши и в свою очередь использовали за плату труд малоземельных коттеров, участки которых не превышали 0,1 га, и безземельных крестьян, число которых с развитием денежных отношений продолжало расти. В Юго-Западной Германии, где господствовала «чистая сеньория», преобладали мелкие крестьянские хозяйства и особенно далеко зашли имущественное расслоение и задолженность крестьян, они оказались наименее защищенными от стремления светских и духовных феодалов повысить доходы за их счет. Именно здесь раньше и в большей мере, чем в других областях Германии, началось разностороннее наступление феодалов на права крестьян: захват крестьянских общинных угодий для интенсификации своего животноводства, особенно овцеводства; стремление увеличить барщину для расширения господских посевов пользующихся спросом технических культур; пересмотр к ущербу крестьян-арендаторов условий и сроков арендных договоров; использование личных и судебных повинностей крестьян для возвращения их к состоянию всесторонней наследственной зависимости. Результатом этой феодальной реакции стало обострение противоречий в сельской местности и усиление борьбы крестьян против феодального гнета. Политическое развитие Германии. Характерной чертой политического развития Германии XIV—XV вв. стали дальнейшие успехи князей, стремившихся не допустить усиления император-кой власти, продолжить централизацию в рамках отдельных территорий. Этим целям служило и избрание князьями на королевский престол малозначительного владетеля графства Люксембург Генриха VII (1308—1313). Идя по пути, уже проложенному его предшественниками, — пути династической политики и укрепления своих родовых владений как основы для дальнейшего усиления власти короля, — он женил сына на наследнице короля Чехии, обеспечив своим потомкам обладание этой страной. С другой стороны, он обратился к старым традициям немецких государей и совершил поход в Италию, где впервые после векового перерыва был коронован в Риме императорской короной. Видя в усилении Люксембургов угрозу своим интересам, князья после смерти Генриха VII избрали на престол Людвига Баварского (1314—1347) из рода Виттельсбахов. С его именем связан последний крупный акт многовековой борьбы между империей и папством. Выступив против политических и финансовых притязаний папы Иоанна XXII в Германии, Людвиг получил поддержку широкой антипапской оппозиции, главную силу которой составляли немецкое бюргерство и часть клира. В числе главных идеологов движения были нашедшие убежище в Германии ярые противники светской власти папы Марсилий Падуанский и Вильям Оккам. Папа отлучил Людвига от церкви, тот в свою очередь объявил папу еретиком и совершил в 1327—1330 гг. поход в Италию, где короновался императорской короной. Немецкие князья, вовсе не желавшие чрезмерного усиления Людвига Баварского, воспользовались остротой борьбы и еще при жизни Людвига избрали правителем Германии представителя династии Люксембургов чешского короля Карла. Он правил империей как Карл IV (1346—1378). Именно в этот период политическая раздробленность Германии получила правовое закрепление в изданной императором «Золотой булле» (1356), названной К. Марксом «основным законом немецкого многовластия» . Булла подтверждала сложившийся порядок избрания «римского короля, долженствующего стать императором». Коллегия выборщиков состояла из семи князей-курфюрстов: трех церковных (архиепископы Майнцский, Кёльнский и Трирский) и четырех светских (король Чешский, пфальцграф Рейнский, герцог Саксонский, маркграф Бранденбургский). Избрание должно было проводиться по инициативе архиепископа Майнцского во Франк-фурте-на-Майне большинством голосов. При избрании «королем римским» одобрения папы не требовалось — оно признавалось необходимым только при коронации императорской короной. Этот порядок выборов действовал до 1806 г. Булла санкционировала не только старые, но и новые привилегии князей. Они закрепили свое право на высший суд, разработку горных недр, чеканку монеты, взимание таможенных пошлин. Социальная направленность буллы недвусмысленно сказалась в содержащемся в ней разрешении феодалам вести «законно объявленные» частные войны (кроме выступлений вассалов против своих сеньоров), в то время как союзы между городами были названы «заговорами» и категорически запрещены. В целом булла не столько привела к существенному усилению позиций курфюрстов, сколько зафиксировала их исторически сложившиеся привилегии, включая право избирать императора. Карл IV, однако, обеспечил буллой отстранение от участия в коллегии курфюрстов соперников своей династии — герцогов Баварии и Австрии, закрепил привилегирог ванные позиции Чехии. Более чем тридцатилетнее правление Карла IV, лишь ненадолго усилившее центральную власть, заложило традиции и дальнейшей политики Люксембургской династии, уделявшей преимущественное внимание заботам о своих наследственных землях и шедшей ради этого на очередные уступки князьям и римской курии. Император Сигизмунд (1410—1437), мечтавший о великой державе под главенством Люксембургов, пытался упрочить свою власть, участвуя в восстановлении единства церкви, гонениях на еретиков, строя планы большой коалиции европейских государств против растущей турецкой опасности. После прекращения Люксембургской династии в 1437 г. императорская корона на века перешла к Габсбургам. Фактическая наследственность династии императоров (при сохранявшемся порядке выборов) уже не представляла серьезной опасности для князей, закрепивших свои позиции. Упадок империи усиливался одновременно с кризисом другого универсалистского учреждения средневековья — папства. Особое бессилие центральной власти в Германии было характерно для более чем полувекового правления императора Фридриха III (1440—1493). Это время ознаменовалось множеством княжеских междоусобиц, сопровождавшихся грабежами городов и опустошением целых районов 1 Архив Маркса и Энгельса. Т. VI. С. 82. в сельской местности. Небывалых даже для Германии масштабов достиг разбой на дорогах ощущавших свою безнаказанность рыцарей. Попытки Фридриха III провозглашать запреты на нарушение мира и порядка оказались безрезультатными: у императора не было реальной силы, чтобы заставить выполнять свои предписания. Долгое время и во внешней политике вялого и нерешительного Фридриха III преследовали неудачи. Тевтонский орден, потерпевший поражение от Польши, оказался в вассальной зависимости от ее короля (1466), датский король присоединил к своим владениям входившие в состав империи Шлезвиг и Гольштейн (1460), Франция — числившийся за империей Прованс (1481), а венгерский король Матьяш Корвин отобрал у императора даже его родовые владения — Верхнюю и Нижнюю Австрию и Штирию. Лишь к концу правления Фридриха III положение его династии значительно окрепло. Распад Бургундского государства и династический брак сына Фридриха III — Максимилиана с Марией Бургундской принесли Габсбургам Нидерланды, а осуществленный уже после кончины старого правителя брак его внука Карла с наследницей испанских королей позволил Габсбургам стать в XVI в. самой могущественной династией в Европе. Положение императорской и княжеской власти в Германии наложило отпечаток и на специфику развития в XIV—XV вв. немецких сословнопредставительных органов. Выросшее из первоначального совета императорских вассалов собрание представителей «чинов», входивших в империю, лишь в конце XV в. получило название рейхстага. Эти имперские собрания включали представительство курфюрстов, других духовных и светских князей и господ, делегатов крупнейших имперских и вольных городов. Рыцарство, потерявшее с развитием огнестрельного оружия и наемничества былое военное значение, не имело самостоятельного корпоративного представительства, духовенство не было выделено в особую курию, а города, и без того представленные крайне неполно, обсуждали лишь вопросы, затрагивавшие их непосредственные интересы. Рейхстаг являлся органом с совещательными правами, служившим прежде всего выяснению и максимальному согласованию мнений представленных в нем общественных групп, за которыми стояла та или иная реальная сила. Никакого специального учреждения для воплощения в жизнь решений рейхстага в Германии не было, как не было и необходимых для этих целей общеимперского суда и общеимперской казны. Большее сходство с представительными органами других европейских стран имели ландтаги, сложившиеся в ряде княжеств собрания представителей дворянства, духовенства, княжеских городов. Действовали они, однако, еще нерегулярно. Будучи носителями региональной централизации при имперской раздробленности, князья в XIV—XV вв. заметно расширили и упорядочили органы территориального управления, организацию финансового дела, административное деление княжеств на округа, усовершенствовали территориальное законодательство. Княжеские резиденции постепенно становятся столицами: таковы Мюнхен в Баварии, Штуттгарт в Вюртемберге, Гейдельберг в Пфальце. Оппозиционные движения в городах. Оппозиционные движения XIV—XV вв. особой остротой отличались в городах. Главным содержанием наиболее ярких вспышек внутригородской борьбы этого периода были выступления горожан против засилья патрициата. Цехи победили в Кёльне, Аугсбурге и ряде других городов, но, как правило, потерпели поражение там, где ведущую роль в городской экономике играло не ремесленное производство, а торговля на экспорт, обеспечивавшая силу купечества. Так произошло в ганзейских городах. Оппозиционные настроения немецкого бюргерства по отношению к католической церкви, ее учению и учреждениям нашли выражение не только в поддержке Людвига Баварского в пору его конфликта с папством, но и в распространении учений крупнейших немецких мистиков XIV в. — Эккарта, Таулера и Сузе и их последователей. Основной идеей мистиков было утверждение возможности слияния с богом человеческой души, содержащей «искорку» божественной природы. Опасность этого учения для церкви состояла в том, что мистики переносили главный акцент в трактовке отношения человека к богу с внешних форм католического культа на выработку индивидуальной внутренней религиозности, а тем самым на повышение самостоятельной роли индивида. Под воздействием мистики в Нидерландах, а в XV в. — в городской среде Германии и других стран распространилось движение «нового благочестия». Его участники, «братья общей жизни», критиковали нравственный упадок клира и бесплодность схоластики для практической морали, усматривали проявление подлинного благочестия и высокой нравственности не в уходе в монастырь, а в каждодневной добросовестной мирской деятельности, заботились о помощи больным, развитии системы городских школ, переписке книг, а позже — о книгопечатании. Одним из наиболее ярких проявлений оппозиционности прогрессивных слоев бюргерства, возмущенных основанными на произволе князей порядками в Германии, стал самый популярный в XV — начале XVI в. политический памфлет «Реформация императора Сигизмунда» (1439). В нем содержались требования провести коренные преобразования церковного и светского строя. Речь шла о запрете феодальных войн, подчинении своеволия князей твердому контролю городов, на основе которого Германия должна была пойти по пути централизованного государства. Намечалось создание единого судопроизводства, единой монетной системы, единообразия таможенных сборов. Задачи церкви усматривались в поддержке светской власти, которой она должна была подчиняться. Намечалось сокращение количества монахов и отстранение их от светских дел. Ради улучшения ремесла и торговли анонимный автор требовал упразднить цеховые ограничения и владеющие крупными капиталами торговоростовщические компании, которые обвинялись в насаждении «монополий». К числу наиболее важных требований памфлета, утверждавшего необходимость для проведения реформ активных действий «простых», «малых» людей, относились предложения о возврате захваченных феодалами общинных угодий, упразднении ряда повинностей и отмене наследственной личной зависимости крестьян. Проведение реформ следовало, по мнению автора, доверить только светским лицам. Крестьянские движения в XIV—XV вв. Острые противоречия социально-политической жизни немецкого общества этого времени обусловили многообразие крестьянских выступлений. В 1336— 1339 гг. в Юго-Западной Германии и ряде других районов произошли вспышки движения армледеров (от названия кожаных наручей, разновидности оборонительного снаряжения крестьян). Оно было направлено против городских ростовщиков, но не вылилось в широкую антифеодальную борьбу. Начало XV в. было ознаменовано распространением среди немецких крестьян методов антифеодальной борьбы «на швейцарский лад», т. е. вооруженной борьбы, навеянной надеждами на возможность создания собственного, состоящего из свободных крестьян, государственного объединения. В 1401 —1411 гг. крестьяне непосредственно граничившей с Швейцарским союзом области Аппенцелль вели военные действия против местного аббата, поддержанного феодалами Австрии и Вюртемберга, и добились включения в Швейцарский союз, освободившись от господства Габсбургов. С 1439 по 1445 г. крестьянские отряды вели партизанские действия против вторгшихся в пору Столетней войны из Франции в Юго-Западную Германию разноплеменных конных отрядов наемников — арманьяков (см. гл. 9). Грабежи и бесчинства чужеземных захватчиков вызвали всеобщее возмущение, и группы крестьян по 30—40 человек, устраивая засады, неожиданно нападая на арманьяков на дорогах, лишая их регулярного снабжения, довели 50-тысячное войско до голода, постоянного страха, распада на мародерствующие группы и в конце концов вынудили их убраться из Германии. Именно в эту пору в борьбе с армань-яками крестьянами было впервые поднято знамя с изображением богородицы и крестьянского башмака с длинными шнурами. «Башмак» стал символом самостоятельных действий крестьян. Они начали постоянно обращаться к нему в своей дальнейшей антифеодальной борьбе, в том числе в 1460 г., когда под знаменем «Башмака» восстали крестьяне земли Гегау в Юго-Западной Германии. Глава 12. Италия в XI—XV вв. В XI—XV столетиях Италия в отличие от Англии и Франции, идущих по пути централизации, оставалась страной многочисленных политических образований. Можно выделить три больших региона, которые отличались спецификой экономического, политического и культурного развития: Северная Италия и Тоскана, Папская область, Южная Италия и Сицилия. § 1. Италия в XI—XII вв. Страна городов. На сравнительно небольшой территории Италии, занимающей площадь в 300 тыс. кв. км, в этот период насчитывалось 278 городов, являвшихся епископскими центрами, не считая многих сотен других. Поэтому Италия прежде всего страна городов и городской культуры. Многие города сохранились в ней от римской эпохи, и их значение возростало быстрее, чем в других странах Европы (см. гл. 6). В XI—XII вв. в городах Северной Италии и Тосканы усиливается ремесленная и торговая деятельность. В Милане, Пьяченце, Флоренции, Пизе, Сиене производятся тонкие сукна, в Лукке — шелковые ткани, в Кремоне — льняные. В Пизе, Генуе, Венеции строятся корабли. В Венеции также производится выделка кож, мехов, холста, общеевропейскую славу приобретают ее изделия из стекла. Милан становится также известным центром производства оружия, металлических доспехов и гребней для чесания шерсти (кард), необходимых в сукноделии. Растет ремесло мастеров камня и дерева, как в Италии назывались строители: они возводят городские укрепления в Милане, Павии, Бергамо, Моде-не, Кремоне и других городах, храмы, дворцы и мосты. Ремесленники и купцы итальянских городов были объединены в цеховые корпорации (арти). В Милане в конце XII в. возник союз ремесленных корпораций — Креденца св. Амвросия. Во Флоренции создаются могучие цеховые корпорации — Лана, производившая тонкие сукна из высококачественной чужеземной шерсти; Калимала, занимавшаяся переработкой и улучшением грубых су-кон. Развитие ремесла приводит к оживленному товарному обмену. Так, в Милане четырежды в год происходят ярмарки, на которых вели торговлю оружием, сукнами, восточными товарами купцы итальянских и чужеземных городов. В Венецию везли свои товары купцы из Эмилии, Тосканы, Ломбардии, а немецкие купцы держали там свое постоянное подворье (фондако). Из Венеции на кораблях товары шли в страны всего Восточного Средиземноморья. Большое значение имела происходившая дважды в год ярмарка в Ферраре, куда съезжались купцы из Тосканы, Ломбардии, а нередко также из немецких земель и из Франции. Таким образом, к XII в. товарообмен происходил как внутри отдельных городских округов, так и между различными регионами страны. Ярмарки приобрели значение не только общеитальянских центров денежного товарообмена, но в большой степени и общеевропейских. Выросли и прямые международные торговые связи итальянских городов с Алжиром, Тунисом, Марокко, Египтом. Генуя вела деловые операции с Провансом, Каталонией и обладала опорными пунктами в Северной Африке. Венеция установила экономическое господство в землях Далмации. В ходе крестовых походов (см. гл. 8) портовые центры Италии: Анкона, Пиза, Генуя и Венеция установили прочные торговые связи с Византией и Левантом (Ближним Востоком), где они основали свои фактории. Туда они везли сукно, хлеб, металлические изделия; оттуда — пряности, хлопок, красители. Этот обмен приносил им колоссальные прибыли. Таким образом, развитие ремесла и торговли заметно усилило экономическую мощь итальянских городов. Борьба городов с феодальными сеньорами. Дальнейшему развитию ремесла и торговли препятствовали старые феодальные порядки, при которых решение всех хозяйственных и политических вопросов находилось в руках духовных и светских феодальных сеньоров города. Оттон I предоставил им право суда, административного управления, сбора рыночных и таможенных пошлин, чеканки монеты, внешних сношений. Поэтому пополаны (от popolo — народ) — торгово-ремесленное население городов — вступили на путь открытой борьбы с сеньорами. Их поддержали вальвассоры — мелкие рыцари, заинтресо-ванные в ослаблении сеньоров и в развитии торговли. В 1035 г. пополаны при поддержке вальвассоров изгнали из Милана сеньора-архиепископа, а через несколько лет, после упорной борьбы, Милан стал независимой коммуной. К началу XII в. юридическое признание политической самостоятельности получили Болонья, Мантуя, Пиза, Кремона, Феррара и другие города. Городские коммуны. Политическим и административным центром итальянского общества стала городская коммуна. Власть в ней перешла в руки коллегии консулов (советников), которые избирались от купечества, вальвассоров и капитанов (знати). Ремесленники и мелкие торговцы в коллегию не допускались. Коллегия консулов была исполнительным органом, а законодательная власть находилась в руках избираемой ограниченным числом полноправных горожан Креденцы — совета доверенных лиц. Иногда созывался и парламента — собрание всех имеющих избирательные права горожан. Все доходы коммуны шли теперь не в пользу феодального сеньора, а в распоряжение города, что значительно усилило его хозяйственные возможности. Тем более что власть коммуны распространялась и на контадо, сельскую округу, а нередко и на дистретто, более обширную территорию, на которой находились и другие подчиненные столичному города. Так коммуна перерастает в город-государство республиканского типа. Таковыми были городские республики Флоренция, Сиена, Милан, Равенна, Пиза и другие. Установление власти города над контадо и дистретто подрывало силу и права феодалов, хотя они продолжали всячески сопротивляться, нападали на торговые караваны горожан, срывали решения коммуны. В XII в. пополаны начинают вооруженную борьбу с грандами (феодалами), разрушают и поджигают их замки, насильно переселяют грандов в город. Гранды и в городе возводят замки и башни, иногда идут на соглашение с коммуной, под бдительным наблюдением которой они теперь находятся. Коммуны — республиканские города-государства — подорвали старую систему феодальной иерархии, но не уничтожили феодальные отношения. Они заменили собой феодальных сеньоров. Город оставался феодальным организмом, держал на своей территории вассалов, укреплял корпоративный цеховой строй, вел войны против соседних городов-коммун. Город и деревня. Бурное развитие городов привело к заметному усилению товарно-денежных отношений, что не могло не оказать влияния на эволюцию аграрного строя. Город требовал увеличения сельскохозяйственной продукции, что привело к осушению болот, расчистке пустошей, а главное — к росту аренды либеллярного или эмфитевтического типа (см. гл. 6). Арендаторами становились крестьяне, мелкие рыцари и горожане. Городская верхушка приобретает земли, и нередко не только в аренду, но и в собственность. Уже с XI в. широкое распространение получает денежная рента. Развитие товарноденежных отношений не исключало увеличения продуктовой ренты, так как собранные у крестьян и арендаторов продукты их хозяева, часто горожане, отправляли на рынок. Наряду со значительной прослойкой лично свободных крестьян в Италии сохранялись различные категории крестьян, находившихся в тяжелой личной и поземельной зависимости от феодалов. Сельские коммуны. Рост политического и экономического влияния городов, ослабление власти феодалов привели к оживлению сельских общин, сохранившихся в Италии с лангобардских времен. В XI—XII вв. общины имели в пользовании луга, пастбища, леса, пустоши, реже — пахотные земли. За пользование угодьями они уплачивали феодалу чинш, но могли их дарить, сдавать в аренду и даже продавать. К концу XII в. многие общины выходят победителями из борьбы с сеньорами и добиваются самоуправления. Города в этот период нередко помогали крестьянским общинам в борьбе с феодалами, которые являлись их общим врагом. С их помощью были отняты у феодалов судебная власть над крестьянскими общинами и право на взимание некоторых феодальных поборов. Высвобождаясь из-под власти феодалов, сельские общины не получали, однако, полной независимости или пользовались ею очень недолго. Как правило, их очень скоро подчиняли своему контролю соседние города. Город как бы заменял собою для сельских общин их прежнего феодального сеньора. При этом города признавали автономию сельских общин. Переход сельских общин из-под власти феодалов под власть городов, хотя и не избавлял их от эксплуатации, которой деревня подвергалась теперь со стороны города, в целом сыграл положительную роль, так как город был центром прогрессивного экономичесого развития. Включение сельской округи в состав города-государства способствовало дальнейшему и еще более быстрому развитию товарно-денежных отношений и освобождению крестьян от личной зависимости в большинстве районов Северной и Средней Италии. В XII—XIV вв. сельские общины превращаются в сельские коммуны — самоуправляющиеся общины. Подобно городским коммунам, они избирали должностных лиц (консулов), создавали свой финансовый, судебный аппарат и даже издавали законодательные постановления — статуты, регулирующие всю жизнь коммуны. Папская область. По-иному шло развитие Папской области, занимавшей значительную часть Средней Италии. Светское государство пап представляло собой одно из заурядных феодальных- княжеств. Поскольку его государь был одновременно главой католической церкви, а столица — Рим — ее организационным и идеологическим центром, на историю этого государства оказывала значительное влияние европейская политика папства, определявшаяся в тот период стремлением пап к верховенству над светскими государями Европы. В XI—XII вв., когда в результате успехов папства в борьбе с империей значительно усилилось его влияние в Европе, папам удалось существенно расширить подвластную им территорию в Италии за счет части Тосканы, Сполето, Беневенто; в конце XII в. они подчинили себе один из крупнейших итальянских городов — Перуджу. В экономическом отношении Папская область отставала от Северной Италии и Тосканы. Города здесь развивались медленнее; в деревне сохранялись наиболее тяжелые формы личной зависимости. Немало способствовала отсталости внутренняя политика папства, отказавшегося предоставлять права самоуправления Риму и другим городам Папской области и сохранявшего старые формы феодальной эксплуатации в деревне. Даже столица Папской области — Рим — была крупным гнездом феодалов; кроме папской резиденции здесь насчитывалось около двухсот феодальных замков. Рим в экономическом отношении отставал от таких развитых центров, как Милан или Флоренция. Значительные доходы населению Рима приносило обслуживание папского двора и многочисленных паломников. Реакционный характер политики папства по отношению к го-, родам ярко проявился в 40-х годах XII в., когда в Риме обострилась борьба за установление коммуны. В 1143 г. горожане и мелкие рыцари захватили правительственные здания на Капитолии, провозгласили республику и избрали сенат, состоящий из 56 человек; руководители республики считали себя наследниками традиций Древнего Рима. Восставшие требовали передачи верховной власти в городе коммуне. Особым влиянием во вновь созданной Римской республике стал пользоваться Арнольд Брешианский. Ранее он уже возглавлял оппозиционное движение в своей родной Брешии, направленное против епископа и богатого духовенства. За это его изгнали из, Италии. Несколько лет он провел во Франции, где стал последователем прогрессивного философа XII в. Абеляра, впоследствии осужденного церковью (см. гл. 21). Особую злобу и страх вызывало у церковной верхушки учение Арнольда Брешианского, который требовал отказа церкви от земельных владений и богатств, выступал против светской власти пап, протестовал против господства феодальной знати, мечтал о могуществе Рима и единстве Италии. Под влиянием проповедей Арнольда Брешианского римские горожане разрушали дома кардиналов, феодальные замки; папе пришлось бежать из Рима. В это время в Италию вторгся со своим войском Фридрих I Барбаросса (см. гл. 11). Надеясь на помощь Фридриха в борьбе против папы, сенат Римской республики предложил ему императорскую корону. Однако Фридрих отверг это предложение, вступил в Рим и принял корону от папы Адриана IV. Насилия германских рыцарей-грабителей привели к взрыву врзмущения горожан, оказавших императору вооруженное сопротивление. Папа наложил интердикт на Рим; в связи с этим прекратился поток паломников в город, что лишило горожан доходов. В сенате Римской республики одержали верх умеренные элементы; непримиримый противник папства Арнольд Брешианский был изгнан из города, а затем по приказу Фридриха схвачен и предан мучительной казни (1155). Римская республика была ликвидирована, а власть папы восстановлена. Наиболее существенные причины гибели римской коммуны — слабость ремесленно-торгового населения Рима и отсутствие у него своей организации, а также значительная политическая и экономическая сила такого феодального сеньора, как папа. Южная Италия. В Южной Италии и Сицилии феодальные отношения развивались в условиях чужеземного владычества, что наложило отпечаток на их историю. В XI в. эти области Италии были захвачены норманнами; в 1130 г. Южная Италия и Сицилия при Рожере II объединились в единое государство — Сицилийское королевство (см. гл. 6). Норманнское завоевание ускорило развитие феодальных отношений: короли-завоеватели захватили большую часть земель местной знати и крестьян и раздали их в качестве феодов норманнским феодалам и церкви. Большие земельные владения они оставили за собой как королевский домен. Крестьяне, превратившиеся в зависимых держателей, в значительной части утратили свою свободу. В XII в. в Сицилийском королевстве было много сервов, которые не имели права перехода, а также полусвободных — вилланов, пользовавшихся ограниченным правом перехода. И те и другие обязаны были выполнять барщину и платить натуральные оброки. В целом процесс развития феодальных отношений в Сицилийском королестве происходил медленнее, чем в Северной и Средней Италии. Потому в XII в. на юге сохранилась значительная прослойка свободных крестьян-аллодистов, живших общинами и упорно боровшихся против феодального подчинения. Они неоднократно поднимали восстания против феодалов и защищавшей их интересы королевской власти. Иначе, чем на Севере, сложилась и судьба южноитальянских городов. В XI—XII вв. они также достигли значительного расцвета, который, однако, был связан преимущественно с транзитной торговлей, поскольку собственное ремесленное производство и местная торговля были здесь слабо развиты. Южноитальянским городам не удалось добиться независимости, и они навсегда остались в подчинении сильной центральной власти. Борьба городов Северной и Средней Италии против германских феодалов. Во второй половине XII в. над Италией нависла угроза иностранного порабощения. Германские феодалы во главе с Фридрихом I Барбароссой считали основанием для своих захватов в Италии формальную принадлежность (с X в.) к так называемой Римской империи значительной части итальянских земель. Фридрих I Барбаросса совершил пять походов в Италию. Угроза иноземного порабощения прежде всего нависла над процветающими североитальянскими городами. До итальянских походов Фридриха Барбароссы зависимость городов Ломбардии и Тосканы от империи была номинальной: в некоторых случаях они давали императору денежные субсидии и поставляли вспомогательные отряды, откупаясь таким образом от чужеземного титулованного феодала, верховных прав которого они всерьез не признавали. Теперь же вырастала реальная угроза потери экономической и политической независимости городов, с таким трудом завоеванной в борьбе с местными синьорами. Уже в первом походе в Италию Фридрих показал себя душителем городских вольностей. Еще ярче это обнаружилось на Ронкальском сейме 1158 г., который под его давлением принял решение о полной ликвидации независимости североитальянских городов. Услужливые болонские юристы, приглашенные на сейм, обосновали это решение известной формулой римского права: «Что угодно государю, имеет силу закона». Фридриху не удалось добиться осуществления ронкальских постановлений, несмотря на жестокую расправу с миланцами, которые первые отказались им подчиняться (см. гл. 11). Разрушение Милана и грабеж страны германскими захватчиками вызвали возмущение во всей Италии и подняли дух сопротивления городов, где уже хозяйничали подеста, назначенные императором. В 1167 г. была основана Ломбардская лига, в которую вошли вновь отстроившийся и возродившийся Милан, Мантуя, Феррара, Кремона, Брешия и другие города. К союзу против императора были привлечены Сицилийское королевство и Венеция, опасавшиеся укрепления позиций империи в Северной Италии. Папство, боровшееся в этот период с империей за господство над феодальной Европой, также поддержало лигу ломбардских городов. Таким образом, борьба с германскими феодальными захватчиками приобрела общеитальянское значение; исход ее решал судьбу всей страны. Ломбардская лига воздвигла у переправы через реку По крепость Алессандрию (названную так по имени папы — Александра III) — заслон против новых германских вторжений. Когда Фридрих в пятый раз перешел Альпы, он не смог взять эту крепость. Потерпев полное поражение от Ломбардской лиги в битве при Леньяно- (1176), Фридрих вынужден был капитулировать перед папой. После мирного договора, заключенного в Констанце в 1183 г. между папой и императором (см. главу 11), ронкальские постановления были, по существу, аннулированы и все коммунальные вольности североитальянских городов восстановлены. Поражение империи политически значительно усилило папство. Победа городов-коммун в борьбе с германскими феодалами спасла Италию от иноземного порабощения и содействовала социально-экономическому и культурному процветанию страны в последующие столетия. В ходе борьбы с германскими захватчиками в Италии в конце XII — начале XIII в. возникли враждебные друг другу политические течения гвельфов и гибеллинов. Название «гвельфы» возникло от фамилии враждебного династии Гогенштауфенов рода саксонских герцогов Вельфов; «гибеллины» — от латинизированного наименования одного из замков Гогенштауфенов (по-немецки — Вайблинген). Гвельфы были противниками императоров и союзниками папы как главы антиимператорского лагеря в Италии; они опирались главным образом на торгово-ремесленные слои городов. Гибеллины — сторонники императоров — искали социальную опору среди феодального дворянства. Кровавая вражда этих политических группировок внутри городов и в их внешней политике наложила отпечаток на всю жизнь Италии XIII в. Нередко города примыкали к враждебным политическим лагерям лишь вследствие их экономического соперничества: если Флоренция была гвельфским городом, то ее конкуренты в области торговли и ремесла — Пиза и Лукка — были гибеллинскими городами. Ожесточенная борьба между гвельфами и гибеллинами еще более усложняла политическую обстановку в Италии. § 2. Италия в XIII—XV вв. Процесс личного освобождения крестьянства. Значительная часть крестьянства Северной и Средней Италии вследствие раннего проникновения товарно-денежных отношений в деревне, небольшого удельного веса барщины и широкого распространения продуктовой и денежной ренты в XI—XII вв. пользовалась личной свободой уже к началу XIII в. В XIII в. здесь завершается быстрый процесс личного освобождения крестьянства. Этому во многих случаях содействовала политика городских коммун. Так, в 1256 г. освобождение сервов было торжественно провозглашено в Болонье, правители которой назвали свой декрет «Райским актом». По этому декрету было освобождено около 6 тыс. сервов, принадлежащих 400 феодалам. В 1289 г. во Флоренции было провозглашено освобождение колонов, принадлежащих враждебно настроенным феодалам. Эта «освободительная» политика городов определялась несколькими причинами: они добивались дальнейшего экономического и политического ослабления феодалов и увеличения числа налогоплательщиков в городах-государствах. Наконец, освобождение крестьян было нужно городам для удовлетворения все растущей потребности ремесленного производства в рабочих руках. Эти меры не вели к улучшению материального положения массы крестьянства. К концу XIII в. большинство крестьян в Северной и Средней Италии было уже лично освобождено. Часть их уходила в города, вливаясь в ряды городских подмастерьев и наемных рабочих. Другая, более значительная часть крестьян, лишенных земли, превращалась в арендаторов, державших землю на разных условиях. В Тоскане в XIV—XV вв. преобладала медзадрия (испольщина), при которой арендатор должен был отдавать собственнику земли половину урожая. Медзадрия получила распространение и в других районах Северной и Средней Италии, но там в равной мере была развита краткосрочная издольная аренда (из '/з или '/4 урожая) и по-прежнему были широко распространены старые формы феодального держания — эмфитевсис и либеллярное держание. Медзадрия в XIV—XV вв., а отчасти и другие виды издольной аренды были формой мелкокрестьянской полуфеодальной аренды. Испольщики, снимая участок земли, получали часто от землевладельца также инвентарь, рабочий скот и семена. Крестьянин не мог покинуть арендованный участок до истечения срока аренды. Если же он уходил, то мог быть в принудительном порядке возвращен и подвергался разорительному штрафу. Наряду с этими полуфеодальными чертами для испольщины были характерны некоторые элементы капиталистической аренды: арендатор кроме своего труда вкладывает в хозяйство часть своего капитала, а земельный собственник кроме земли — другую часть капитала, необходимую для обработки участка. В Северо-Западной Италии — в Пьемонте, Монферрате, Савойе — развитие товарно-денежных отношений порождало также усиление старых форм феодальной эксплуатации и повышение размеров феодальной ренты. Крестьяне терпели тройной гнет: светских сеньоров, церкви, взимавшей с них десятину, и городских коммун, которые также являлись феодальными владетелями. Обострение противоречий между сеньорами и церковью, с одной стороны, и крестьянством — с другой, привело здесь в XIV в. к крупным крестьянским восстаниям. Восстание Дольчино. Еще в XIII в. в крестьянской среде на северо-западе Италии нарастало глухое недовольство, которое нашло идеологическое выражение в широком распространении ересей вальденсов и катаров (см. гл. 20) и других сект. В последние десятилетия XIII в. в районе Пармы возникла новая секта — «апостольских братьев» во главе с монахом Сегарелли. «Апостольские братья» отдавали при вступлении в секту свое имущество общине и призывали крестьян и городских бедняков к непослушанию господам. Папа запретил их деятельность, а в 1300 г. Сегарелли был схвачен и сожжен в Парме как еретик. Его ученик и последователь Дольчино, бывший послушник францисканского монастыря, продолжал пропаганду их идей. Он призывал к отказу от имущества и, кроме того, требовал ликвидации католической церкви, осквернившей себя своими богатствами. «Рим — это вертеп разврата, — говорил он, — а папа — антихрист!» Обращаясь к своим сторонникам, он заявлял: «Мы не имеем домов и нам не дозволено брать с собой то, что осталось от подаяния. Поэтому наша жизнь заслуживает предпочтения перед всеми...» Дольчино проповедовал скорое наступление «тысячелетнего царства», которое будет царством социальной справедливости, он считал, что оно восторжествует путем насилия над церковью и богатыми. Учение Дольчино, пронизанное уравнительными идеями, представляло собой одну из разновидностей крестьянско-пле-бейской ереси. Еретическое движение вылилось в вооруженную борьбу восставшего народа. В 1304 г. Дольчино с многотысячным отрядом своих вооруженных приверженцев появился в Пьемонте недалеко от Верчелли в долине реки Сезии и вскоре разгромил выступившее против него ополчение феодалов. В 1305 г. армия повстанцев ушла во главе с Дольчино на труднодоступную гору. Опасаясь, что их примеру последуют многие тысячи крестьян и городских бедняков, папа по просьбе епископов-феодалов объявил крестовый поход против Дольчино и обещал отпущение грехов всем его участникам. Дольчино пришлось уйти еще дальше в горы на границу Савойи, Новары и Верчелли, куда к нему сходились сочувствующие не только из Италии, но и из Швейцарии и немецких земель. Когда армия крестоносцев окружила повстанцев со всех сторон и в лагере начался голод, Дольчино повел свое войско по заснеженным горным тропам к плодородным долинам, где восставшие могли добывать продовольствие, и обосновался на горе Цебелло, превратив ее в неприступную крепость. Войско верчелльского епископа, а затем пришедший ему на помощь по призыву папы герцог Савойский дважды штурмовали гору Цебелло, но оба раза были отбиты. Тогда епископские войска выселили жителей соседних горных деревень, тем самым обрекая восставших на голодную смерть. Это заставило Дольчино выйти из своего убежища. В решающем сражении 23 марта 1307 г. на открытом поле около деревни Ста-велло, несмотря на героическое сопротивление, повстанцы были разбиты. Преданная жена и сподвижница Дольчино Маргарита была сожжена у него на глазах, а сам он умер под пытками, оставшись верным своим идеям. Восстание Дольчино было одним из первых в цепи крупных крестьянских восстаний в Западной Европе XIV в. Борьба крестьян продолжалась и в дальнейшем: второе крупное крестьянское антифеодальное движение, известное как восстание тукинов, произошло в Северной Италии в 1382—1387 гг. В 1459 г. Калабрия (Южная Италия) была охвачена крестьянской войной. Все эти выступления крестьян были жестоко подавлены феодалами. Зарождение раннекапиталистических отношений. На основе общего подъема производительных сил в наиболее крупных и развитых городах-республиках Центральной Италии в XIV в. начали зарождаться раннекапиталистические отношения, что является одной из важных особенностей истории итальянских городов в средние века. Высокая степень мастерства, достигнутая цеховыми ремесленниками итальянских городов, и достаточно глубокое разделение труда были одной из важнейших предпосылок возникновения здесь раннекапиталистического мануфактурного производства. Это проявилось в углублении социального неравенства внутри цехов, в усилении эксплуатации учеников и подмастерьев, которые превращались в постоянных наемных рабочих. Другой предпосылкой развития раннекапиталистических отношений в городах Северной и Средней Италии было личное освобождение крестьян, сопровождавшееся обезземелением многих из них. Лишенные земли крестьяне по большей части уходили в города на заработки и являлись основой складывающегося в XIV в. нового социального слоя — наемных рабочих. Наиболее характерный пример развития раннекапиталистических отношений в итальянских городах дает Флоренция, хотя те же процессы происходили в Болонье, Лукке, Перудже, Сиене и других городах. Новые отношения проявлялись преимущественно в производстве шерстяных тканей, а позднее в шелкоткачестве и судостроении. Уже в 30-х годах XIV в. во Флоренции насчитывалось 200 сравнительно крупных сукнодельческих мастерских. Используя наемную рабочую силу, они производили до 80 тыс. кусков сукна в год, стоимость которых в три раза превышала весь бюджет города. Производством сукон было занято в самом городе и в его окрестностях около 30 тыс. человек. Каждый из них выполнял какую-либо одну производственную операцию. В мастерских существовало уже значительное разделение труда, составлявшее характерную черту мануфактуры. Наемных рабочих — в основном вчерашних крестьян — использовали на простых, не требующих особой сноровки работах. Они промывали шерсть в речной воде и сушили ее на берегах реки, трепали, чесали и кипятили шерсть, работали, шерстобитами, промывали сукна, занимались перевозкой и погрузкой тюков с шерстью и т. п. Общее число наемных рабочих, не имевших никаких средств производства, которых во Флоренции называли «чомпи», достигало там 10 000 человек. Тысячи их насчитывались и в других городах. Беднеющие ремесленники и подмастерья составляли второй отряд трудящихся, постепенно переходящих на положение наемных рабочих. Так во Флоренции и других городах-республиках начал формироваться новый социальный слой — предпролетариат. Труд в основном был ручной, поэтому раннекапиталистическое производство называлось мануфактурой (от латинского «manus» — рука и «facere» — делать). Отдельные предприниматели часто не имели достаточно средств для организации раннекапиталистического мануфактурного производства, поэтому богатые пополаны образовывали компании, объединяя, таким образом, свои средства и силы. Расцвет мануфактуры в итальянских городах привел к значительному увеличению богатств городской верхушки. Богатые пополаны, возглавляющие городские управления, предпринимали широкое строительство дворцов, церквей, каменных особняков. Они проводили жизнь в роскоши, резким контрастом которой была жизнь наемных рабочих, трудившихся по 14—16 часов в день с одним перерывом на обед. Для наблюдения за работой и поведением рабочих была установлена особая должность «чужеземного чиновника», который приглашался из другого города и должен был прежде всего предотвращать возможные заговоры и «незаконные» союзы рабочих. Если наемный рабочий не отрабатывал аванса, выданного ему хозяином, последний мог отправить его на три года и более в тюрьму или даже подвергнуть позорным телесным наказаниям. За свой труд рабочие получали нищенскую плату, которая еще более сокращалась штрафами за малейшую провинность. Зарождение раннекапиталистических отношений в Италии сыграло значительную роль в ее истории и во многом определило особенности развития этой страны в XIV—XV вв. Новые отношения привели к резкому повышению производительности труда и общему развитию экономики Италии и сделали ее к XIV в. самой передовой страной Западной Европы; они были одним из источников культуры возрождения (см. гл. 23). Политический строй городов в XIII—XIV вв. В связи с успехами ремесла и торговли, а позднее и с зарождением раннекапиталистических отношений во многих городах-государствах Северной и Средней Италии в XIII—XIV вв. заметно усиливается политическое влияние торгово-ремесленного населения — пополанов — и падает роль феодальных элементов — грандов. Наиболее ярким примером этого может служить Флоренция. Укрепление позиций пополанов привело здесь уже в 1250 г. к установлению так называемой первой народной конституции, закрепившей их господство в городе. Наряду с подеста, которого коммуна приглашала из другого города, появляется новое должностное лицо — «капитан народа», опирающийся на городское ополчение. С 1282 г. Флоренцией управляло выборное пополанское правительство. Оно называлось «приоратом» (от «приор» — старейшина цеха), а впоследствии — «синьорией» (от «синьор» — господин). В приорат входило 9 человек во главе с «гонфалоньером (знаменосцем) справедливости». Наиболее сильный удар был нанесен грандам в 1293 г., когда во Флоренции были приняты «Установления справедливости». Согласно «Установлениям», гранды полностью отстранялись от участия в политической жизни коммуны и за преступления, совершаемые против пополанов, подвергались смертной казни. Вскоре, однако, грандам было разрешено пользоваться политическими правами при условии вступления в один из цехов. Однако к этому времени сами пополаны уже не представляли единого социального слоя, в их среде происходит расслоение: богатые купцы, владельцы мастерских и банковских контор составляли «жирный народ» (popolo grasso), мелкие торговцы и ремесленники — «тощий народ» (popolo minuto). Еще ниже стояли неорганизованные массы наемных рабочих — чомпи. Ведущую роль в политической жизни Флоренции играла группировка «жирных» пополанов, которые блокировались с представителями старых феодальных родов, — так называемая гвельфская партия. Верховный орган управления Флоренции — «синьория» — состоял в основном из представителей «старших» цехов. «Тощий народ», по существу, был отстранен от участия в управлении городом, не говоря уже о наемных рабочих. Олигархический характер носил политический строй морских республик — Венеции и Генуи, ведших крупную посредническую торговлю. Здесь всем заправляли богатейшие купцы, составляющие наследственный патрициат. Во главе Венеции стоял избираемый пожизненно дож, власть которого была ограничена Большим советом. В состав Большого совета входили представители всех знатнейших патрицианских семейств. С конца XIII — начала XIV в. в управлении Венецией еще более усилились олигархические тенденции. Из Большого совета выделился «Совет приглашенных» (сенат), постепенно присвоивший всю полноту исполнительной власти. В 1310 г. был создан Совет десяти, которому был поручен надзор за правительственными органами, вплоть до самого дожа. Совет десяти насаждал систему тайных доносов, негласных решений и осуждений. В Генуе, где в XIII в. также ведущие позиции принадлежали патрициату, с 1339 г. устанавливается пожизненная должность дожа, который опирался в основном на пополанов. Лишенный значительной части политических прав, патрициат все же оказывал влияние на политическую жизнь республики. Венеция и Генуя постоянно соперничали друг с другом. После Четвертого крестового похода Венеция вытеснила Геную с Балканского полуострова и из Сирии, однако восстановление в 1261 г. Византийской империи вернуло Генуе ее права в Константинополе. Генуэзское купечество захватило опорные пункты в Восточном Средиземноморье и в Причерноморье и создало ряд торговых факторий в Крыму (см. гл. 17). К исходу XIII в. торговое соперничество между Генуей и Венецией вылилось в открытое столкновение: в 1298 г. генуэзский флот в сражении при Курцоле нанес Венеции сокрушительное поражение. Перевес в торговом соперничестве после этой победы оказался на стороне Генуи. Однако в 1380 г. венецианский флот разгромил генуэзцев при Кьодже и в восточной части Средиземноморья упрочилось господство Венеции. В XV в. Венеция, особенно во время долгого правления дожа Франческо Фоскари, вела оборонительную войну против наступающих на востоке турок. В Италии она расширила свои владения, подчинив Брешию, Верону, Падую, Равенну, и стала одним из сильнейших государств Северной Италии. Острую борьбу против городских феодалов вели в XIII— XIV вв. пополаны Милана. В этой борьбе они объединились с союзом мелких и средних дворян (вальвассоров Милана) «моттой» против феодалов и архиепископа, к которым примкнула купеческая патрицианская верхушка. Союз пополанов с дворянством наложил отпечаток на политический строй Милана. Хотя в первой половине XIII в. ремесленная масса Милана, объединенная «Креденцией св. Амвросия», достигла значительных политических успехов, к концу этого столетия власть в городе оказалась в руках' наследственных правителей из феодального семейства Делла Тор-ре, опиравшихся на пополанов и мелкое дворянство. Позднее, в XIV в., когда Милан значительно расширил свои владения, подчинив большую территорию в Центральной Ломбардии, установилось единоличное наследственное правление феодального рода Висконти. Таким образом, в городах Северной и Средней Италии сложились в XIII—XIV вв. три основные формы политического управления: республиканская (по типу Флоренции), патрицианская (Венеция) и синьория, близкая к монархии (Милан). Восстания наемных рабочих. Развитие раннекапиталистических отношений привело в XIV в. к новым по своему характеру народным движениям в городах Северной и Средней Италии — восстаниям предпролетариата. Первое выступление такого рода произошло во Флоренции в 1345 г. под руководством чесальщика шерсти Чуто Брандини. На сходках наемных рабочих он предлагал организовать братство чомпи, установить регулярный сбор средств с его членов и развернуть борьбу за повышение заработной платы. Когда Брандини был схвачен властями, чомпи прекратили работу, покинули мастерские и двинулись к дворцу синьории, требуя его освобождения. Это первая известная в истории стихийная забастовка наемных рабочих была подавлена, а Чуто Брандини повещен. Волнения наемных рабочих и мелких ремесленников происходили в XIV в. и в других крупных центрах сукноделия, например в Перудже и Сиене в 1371 г. В 1378 г. во Флоренции вспыхнуло самое значительное в этот период движение предпролетариата — воссгание чомпи. Флоренция вела в это время тяжелую и продолжительную войну с папской курией, которая требовала огромных средств, что отразилось прежде всего на уровне жизни городских низов. Для отвлечения справедливого гнева народа против управляющих республикой «жирных» пополанов один из их представителей — Сальвестро Медичи решил направить недовольство против городских феодалов, симпатизировавших папской курии, и призвал народ к расправе с ними. Его призыв был подхвачен, однако чомпи обратили свой гнев не только на феодальную знать города, но в первую очередь на своих непосредственных эксплуататоров — «жирных» пополанов. В середине июля 1378 г. собравшись за городскими воротами, чесальщики шерсти, шерстобиты, трепальщики, промывальщики, красильщики и другие наемные рабочие, а также бедные ремесленники сукнодельческих цехов потребовали ликвидации должности «чужеземного чиновника» и повышения заработной платы на 50 %. Кроме того, они сговорились впредь не подчиняться «жирным» пополанам и добиваться участия в управлении государством. Путь к завоеванию политических прав они видели в организации нового цеха наемных рабочих, так как только члены цехов обладали во Флоренции полноправным гражданством. Хотя осуществление этих требований и не означало уничтожения эксплуататоров и овладения властью в государстве, они свидетельствуют об остроте социального конфликта. Когда властями были схвачены вожаки движения, тысячные толпы чомпи 20 июля 1378 г. по звуку колоколов направились ко дворцу синьории и потребовали их освобождения, подкрепляя это требование градом стрел и угрожая сжечь дворец. Руководители чомпи были освобождены. Одержав первую победу, восставшие двинулись по городу, поджигая дома богачей; они сожгли главное гнездо эксплуататоров — дворец цеха Лана. Захватив знамя «гонфалоньера справедливости», чомпи сочли, что им принадлежит верховная власть в республике. На собрании руководителей чомпи и младших цехов было решено потребовать создания нового правительства, в котором три места должны быть закреплены за представителями чомпи. Один из них должен был получить пост главы правительства — «гонфалоньера справедливости». Здесь же были намечены представители цеха чомпи, без согласия которых ни одно решение в республике не могло войти в силу. Вооруженные чомпи штурмом взяли дворец подеста — резиденцию судебной и военной власти в городе. На следующий день, окружив дворец синьории, они добились официального утверждения приорами своих требований. Приоры стали один за другим покидать дворец. Сформировалась новая синьория. Ее главой был провозглашен Микеле ди Ландо, который во время бегства приоров из дворца предложил народу свои услуги и получил от него знамя «гонфалоньера справедливости». Чомпи считали его своим, однако ко времени восстания он давно уже не был часальщиком шерсти и служил фактором — надсмотрщиком в мастерских богатого суконщика. Ландо являлся подставной фигурой, был связан с «жирными» пополанами и сыграл предательскую роль в ходе восстания чомпи. Кроме Ландо в новое правительство вошли еще двое из чомпи, три приора от мелких ремесленников и три «жирных» пополана. Были созданы три новых цеха, в том числе цех чомпи, получивших таким образом политические права. В этот цех входило около 9 тыс. человек. Второй цех объединял красильщиков, ткачей и др. В третий цех входили портные и чулочники. По требованию чомпи, для охраны нового правительства было организовано народное ополчение их 1500 арбалетчиков. Однако победители оказались без средств к существованию, так как сукнодельческие мастерские были закрыты с первых дней восстания, а многие их владельцы бежали. К тому же богатые землевладельцы, среди которых было немало «жирных» пополанов, прекратили доставку хлеба в город. В конце августа 1378 г. чомпи, недовольные политикой синьории, куда входили и «жирные» пополаны, попытались создать в противовес ей свое правительство, которое получило название «Восьми святых божьего народа» и имело советы, нотариусов и бюджет в несколько тысяч флоринов. Чомпи требовали, чтобы «Восемь святых» находились во дворце приоров и «чтобы ни одно дело, касающееся государства, не проводилось без их решения»; они должны были стоять выше приоров. Когда представители чомпи во главе с Доменико Туччо и Маттео Сальви с этим требованием явились во дворец, Микеле ди Ландо, бывший в сговоре с «жирными» пополанами и получивший деньги за свою измену, с криком «Предатели!» набросился на них с кинжалом и нанес им раны; двое из них были схвачены. С помощью Микеле ди Ландо «жирные» пополаны подготовились к разгрому чомпи: они стянули к городу войска и сумели отколоть от наемных рабочих их союзников — цеховых ремесленников, которые, будучи собственниками и добившись осуществления своих требований — участия в правительстве и создания новых цехов, — испугались широкого размаха восстания и революционных методов борьбы предпролетариата. По заранее намеченному плану Микеле ди Ландо собрал на площади Синьории ополчения всех цехов. На чомпи напали мастера богатого цеха хозяев таверн и мясников, хорошо владевшие топорами. Выходы с площади были закрыты. Чомпи упорно сражались, но в конце концов «жирные» одержали победу. В тот же день из состава приората были выведены чомпи; их новый цех был закрыт. Чомпи подверглись жестоким репрессиями. Однако до 1382 г., когда были ликвидированы новые цехи мелких мастеров, созданные во время восстания, «жирные» пополаны не осмеливались полностью взять власть в свои руки, разделяя ее с цеховыми ремесленниками младших цехов. Поражение восстания чомпи, как и восстаний наемных рабочих в других городах Италии, было результатом незрелости и недостаточной организованности предпролетариата. Он в значительной мере еще был неотделим от мелких мастеров-собственников, которые в последний момент изменили восстанию. Немалую роль в поражении чомпи сыграло и предательство Микеле ди Ландо. Однако чомпи проявили относительно высокую для XIV в. сознательность предпролетариата, стремившегося к захвату политической власти. Римская республика. После крушения завоевательных планов Фридриха I Барбароссы в Италии авторитет папства несколько возрос. Вступивший в этот период на папский престол ловкий политик Иннокентий III (1198—1216) пошел дальше Григория VII (см. гл. 6) в развитии идей папской теократии, утверждая, что папская власть является высшей в мире и что император и все короли и князья не более чем вассалы папы и должны получать от него свою власть. Для осуществления теократических планов Иннокентий III и его преемники стремились, с одной стороны, подчинить своему влиянию ряд феодальных государств Европы (см. гл. 20), а с другой — усилить свои политические позиции в Италии, укрепив принадлежащее папам государство — Патримоний св. Петра. Иннокентий III восстановил свою власть в Папской области, отобрав у итальянских и немецких феодалов земли, захваченные при его предшественнике. Преемники Иннокентия III продолжали в XIII — начале XIV в. округлять владения в Романье, Кампании, Умбрии, Анконской марке. В состав Папского государства к началу XIV в. входили такие крупные, прежде независимые города-государства, как Болонья, Феррара, Урбино, Римини, Перуджа. Владения пап, простиравшиеся от Тирренского до Адриатического моря, разрезали Италию на две части. В экономическом отношении Папская область продолжала отставать от Ломбардии и Тосканы. Здесь и в XIII—XV вв. безраздельно господствовал феодальный строй и в деревне, и в городах. С понтификата Бонифация VIII (1294—1303) международный престиж папства начинает резко падать. Теократическая политика пап, которая отчасти имела успех в начале XIII в., теперь была обречена на провал. Крупные централизованные государства, складывавшиеся в это время в Западной Европе, не желали подчиняться папе. Поражение Бонифация VIII в борьбе с французской монархией (см. гл. 9) привело к ослаблению власти папы и в Папской области. Перенесение папской резиденции в 1309 г. в Авиньон означало фактическое подчинение папской курии французской политике и потерю папой контроля над феодалами и городами церковной области. Это способствовало некоторому усилению городской коммуны Рима, в чем отчасти был заинтересован и папа, видевший в ней противовес крупным местным феодалам (баронам). В отсутствие папы коммуна сумела ограничить своеволие баронов. В начале XIV в. они были высланы из города, а их замки срыты. Когда знать восстановила свои права, в 1347 г. борьба между ней и попо-ланами возобновилась. Движение пополанов возглавил Кола ди Риенцо. Уроженец Рима, сын трактирщика и прачки, Кола сумел получить хорошее образование. Он был страстным почитателем античности и мечтал о восстановлении былого величия Рима. Будучи блестящим оратором, Риенцо выступал перед народом с обличением феодалов, грабивших Рим и творивших беззакония. 20 мая 1347 г. Кола ди Риенцо, воспользовавшись отъездом из Рима баронов, с группой вооруженных сторонников при поддержке римских горожан захватил правительственные здания на Капитолии и объявил себя «трибуном свободы, мира и справедливости, освободителем Священной Римской республики». Он торжественно провозгласил носителем власти римской народ, а Рим — республикой, лишив тем самым папу светской власти. Папа в ответ объявил его еретиком и узурпатором. Правление Кола ди Риенцо носило антифеодальный характер: он заставил всех баронов принести присягу Римской республике и передать ей все крепости; жителям Рима было воспрещено присягать феодалам и именовать их сюзеренами. Было сокращено количество налогов, а доходы обращены на улучшение состояния торговли и ремесла, находившихся в полном упадке; установлены единые меры и вес, а также выпущена новая монета с надписью «Родной трибунат. Рим — глава мира». Мечтая о единстве Италии, Кола ди Риенцо призвал все итальянские города сплотиться вокруг Рима как столицы единой Италии. Однако городские республики, соперничавшие между собой и боявшиеся потерять независимость, отказались подчиниться Риму. С другой стороны, и сам Риенцо в проведении своих мероприятий не проявил ни последовательности, ни решительности. Объявив борьбу с феодальными порядками, он сохранил в римских землях наиболее тяжелые формы личной зависимости крестьянства и легко прощал мятежных баронов. Провозгласив на словах принцип народовластия, Кола ди Риенцо все вопросы стал решать единолично. В результате он потерял доверие народа, и власть феодалов в Риме была восстановлена. В конце 1347 г. Кола ди Риенцо вынужден был бежать из Рима. Позднее, в 1354 г., он снова появился там в качестве посланца папы, который пытался использовать его популярность для восстановления своей власти в Риме. Кола ди Риенцо удалось при поддержке народа захватить власть. Однако когда он повысил налог, чтобы обеспечить содержание наемной армии, население Рима подняло против него восстание, во время которого Риенцо был убит. Одной из основных причин поражения Римской республики была экономическая и политическая слабость римских пополанов, оказавшихся неспособными на серьезную борьбу с феодалами. Когда в 1378 г. папский престол снова был перенесен в Рим, власть папы продолжала оставаться слабой не только вне, но и в самой Италии ввиду «великой схизмы» — сорокалетнего периода, когда на папский престол претендовали то двое, то трое пап (см. гл. 20). Только к концу XV — началу XVI в. папам удалось восстановить власть над всей территорией своего государства. К этому времени папство в значительной мере отказалось от теократических притязаний в общеевропейском масштабе. Папское государство становится одним из феодальных итальянских княжеств типа тирании, глава которого был более всего занят укреплением своего государства и обогащением собственного рода. Существование Патримония святого Петра было одним из препятствий на пути к национальному единству Италии. Южная Италия и Сицилия. Сицилийское королевство в XIII— XV вв. продолжало заметно отставать в своем хозяйственном развитии от Северной и Средней Италии. Процесс феодализации полностью завершился здесь только к началу XIV в., когда основная масса крестьянства превратилась в лично зависимых людей. Города Южной Италии и Сицилии (Амальфи, Неаполь, Бари, Палермо), как в более ранний период, были не столько центрами ремесленного производства и местного рынка, сколько пунктами посреднической торговли с Византией и Левантом. Слабое развитие внутреннего рынка консервировало сложившиеся феодальные отношения. Многие крестьяне в Сицилийском королевстве были прикреплены к земле, их могли продать или обменять вместе с землей, они пользовались защитой королевских судов. В знак личной зависимости они платили феодалу подать при вступлении в брак, именовавшуюся здесь «даром» (dona), и при наследовании земельного надела. Основной формой феодальной ренты был оброк, преимущественно в натуральной, но часто и в денежной форме. Несколько дней в году крестьянин должен был выполнять ангарии — барщину. Сверх того крестьяне платили государственные налоги и церковную десятину. В отличие от лично зависимых крестьян других стран Европы сицилийские крестьяне пользовались правом при отсутствии сына объявить своим наследником любого человека, если он обязуется нести все повинности, которые лежали на его предшественнике. Одной из особенностей аграрного строя Сицилийского королевства в XIII—XV вв. было сохранение значительного слоя полусвободных и свободных крестьян. Эти крестьяне издавна объединялись в сельские общины. В упорной борьбе с феодалами они добились права на уход с земли сеньора, пытались сохранить общинное самоуправление и ограничить произвол сеньоров. Другая часть — лично свободные крестьяне селились на пустошах, принадлежащих феодалам, на разнообразных, но обычно льготных условиях, записанных в либеллуме — договоре. Это были временные, или наследственные, держатели — эмфитевты. К концу XII в. сложилось относительно централизованное феодальное государство — Сицилийское королевство. Усиливавшаяся королевская власть опиралась здесь прежде всего на мелких и средних феодалов, рыцарей, которые составляли значительную часть господствующего класса. В большинстве своем они были связаны вассальными узами непосредственно с королем и были кровно заинтересованы в существовании сильной королевской власти, способной охранять их от произвола баронов — крупных феодалов, а главное, оказывать им помощь в установлении личной зависимости крестьян. Другой опорой централизации была церковь, которая в Сицилийском королевстве в большей степени зависела от государства, чем от папства. Города Южной Италии и Сицилии, слабые в экономическом отношении, не сумели и в этот период добиться политической самостоятельности и оказались в полном подчинении у королевской власти. Короли беспрепятственно могли обирать города, что до поры до времени укрепляло финансовую базу государства. Материальные ресурсы центральной власти обеспечивал также обширный домен, созданный в период норманнского завоевания. Поэтому, хотя бароны в Сицилийском королевстве были достаточно могущественны, они не смогли сломить королевскую власть. Централизация, достигнутая в конце XII в., еще более усиливается в XIII в. Норманнская династия, правившая Сицилийским королевством в конце XII в., породнилась с Гогенштауфенами и с 1212 по 1250 г. во главе королевства стоял внук Фридриха Барбароссы — Фридрих II Гогенштауфен, который с 1220 г. был одновременно и императором Священной Римской империи (см. гл. 11). В период малолетства Фридриха II Сицилийское королевство оказалось фактически под властью папы Иннокентия III, нещадно эксплуатировавшего Южную Италию и стремившегося навсегда утвердить здесь свое господство. Однако после смерти Иннокентия III Фридрих II взял власть в свои руки и попытался превратить Сицилийское королевство в свою главную опору в длительной борьбе с папством за овладение Северной и Средней Италией. Опираясь на мелких рыцарей, Фридрих II временно сломил сопротивление баронов. В 1231 г. он издал «Мельфийские конституции», согласно которым было приказано срыть до фундамента феодальные замки, выстроенные за последние 40 лет; это наносило существенный удар по баронской знати. Усиливался королевский суд и роль общегосударственных налогов. Фридрих II начал создавать также наемное войско из сарацин, что обеспечило ему независимость от крупных феодалов. В то же время он решительно пресекал все попытки городов добиться самостоятельности и держал их под постоянным контролем. При Фридрихе П Сицилийское королевство оказалось наиболее крупным и централизованным государством Италии, однако его усиление было недолговечным. Подчинив свою политику бесперспективной борьбе с папством, Фридрих разорял население Сицилийского королевства бесконечными поборами: ввел тяжелый поземельный налог, соляную монополию, усиливал эксплуатацию крестьян королевского домена. К концу своего правления он довел страну до полного истощения. «Сицилийская вечерня». После смерти Фридриха II Сицилийское королевство с согласия папы в 1268 г. было захвачено графом Прованса Карлом Анжуйским, братом французского короля Людовика IX. Карл вел широкую завоевательную политику: подчинил себе многие города Италии, участвовал в крестовом походе в Тунис, пытался организовать поход на Константинополь. Для покрытия военных расходов он ввел новый поголовный налог. С целью привлечь феодальную знать на сторону новой династии Карл Анжуйский вынужден был дать ей большие привилегии, вновь усилившие политическое влияние баронов и способствовавшие ухудшению положения крестьян. В ответ на усиление гнета и грубое поведение чужеземных властителей в марте 1282 г. вспыхнуло народное восстание в Сицилии, известное под названием «Сицилийской вечерни». Это название связано с тем, что, согласно легенде, восстание якобы началось по условному сигналу — колокольному звону церквей к вечерне. Восставшие жители Палермо вырезали весь французский гарнизон города. Восстание распространилось на другие города Сицилии, отказавшиеся повиноваться королям Анжуйской династии. В результате этих событий Сицилийское королевство распалось. Южная Италия под названием Неаполитанского королевства осталась под властью Анжуйской династии, а Сицилия отошла к Арагонскому королевству — одному из государств Пиренейского полуострова (см. гл. 13), что было закреплено договором в 1302 г. В XIV и XV вв. Южная Италия и Сицилия переживают экономический упадок. Местное ремесло и торговля все больше хиреют, падает значение городов. В них хозяйничают купцы и ростовщики из богатых городов Северной и Средней Италии, ссужавшие деньгами неаполитанских королей для ведения длительных и безуспешных войн за Сицилию с Арагонским домом. Представители венецианских, флорентийских и других торгово-банковских компаний чеканили здесь королевскую монету, собирали государственные налоги, получали льготные права на вывоз зерна, добычу руд, широко пользовались южноитальянскими портовыми центрами. Нередко североитальянские горожане из богатых семей становились на юге феодальными владетелями, не оставляя своих торговых дел. За новые ссуды они получали от короля земли и дворянские титулы. Состояние королевских финансов было настолько плачевно, что неаполитанская королева Джованна в 1348 г. вынуждена была продать наследственное владение Анжуйской династии — Авиньон — папе. Не имевшая прочных экономических основ централизация государства в Южной Италии оказалась недолговечной. Экономический упадок Неаполитанского королевства привел к его политическому ослаблению. Анжуйские короли вынуждены были идти на уступки крупным феодалам. В стране начинается феодальная реакция, следствием которой было дальнейшее усиление эксплуатации и бесправия крестьянства. В 1442 г. Южная Италия также попала под власть Арагонской династии, которая вновь объединила Сицилию с Неаполитанским королевством и закрепила в этих областях Италии на много столетий испанское владычество. Италия в XV в. Таким образом, в XV в. в Папской области, Южной Италии и Сицилии продолжали господствовать феодальные отношения, в то время как в ряде городов-государств Северной и Средней Италии до самого конца этого и последующего столетия продолжали развиваться раннекапиталистические отношения: сохраняли свое значение мануфактуры, основанные на эксплуатации наемной рабочей силы и разделении труда. Наряду с сукноделием развивалось шелкоткацкое мануфактурное производство, которое к концу столетия постепенно вытеснило сукноделие. Последние годы XIV в. и особенно первые десятилетия XV в. ознаменовались существенными изменениями в политическом строе городов Северной и Средней Италии. Во многих из них республиканская форма правления заменяется монархической, хотя иногда и в скрытой форме. Такой политический строй получает в Италии название синьории, или тирании. Объективными предпосылками изменения политического строя городов-республик были, с одной стороны, расширение региональных экономических связей, с другой — усложнение политической структуры, когда город, завоевав значительную территорию, уже не мог средствами коммунального управления обеспечить ее нормальное функционирование. Установлению синьории в городах-государствах способствовало также стремление «жирных» пополанов преградить путь народным восстаниям, подобным тем, которые потрясли Италию в XIV в. Утверждение тирании облегчилось и тем, что в результате поражений этих восстаний были ослаблены средние пополанские слои и городские низы, т.е. часть городского населения, которая в XIII—XIV вв. особенно активно боролась за установление демократических порядков. Благоприятную почву для захвата власти в городах-государствах представители отдельных фамилий создавала непрекращавшаяся там политическая борьба, в ходе которой выдвигалась то одна, то другая из наиболее влиятельных и богатых семей, фактически обладавших монополией в городском производстве и торговле. Синьорию поддерживали владельцы сукно-дельческих и шелковых мануфактур, которые были особенно заинтересованы в беспрепятственной эксплуатации наемных рабочих и в расширении внешних рынков для своей продукции. И то и другое им могла обеспечить только сильная власть типа синьории. Позднее ее активно поддерживали также банковско-ростовщические элементы «жирных» пополанов. К середине XV в. синьория прочно устанавливается во Флоренции, Милане, Болонье, Ферраре, Урбино и других городах и областях Италии, хотя в некоторых из них ее зачатки наблюдаются значительно раньше. Синьория Медичи во Флоренции. В 1434 г. после длительной борьбы между несколькими соперничающими семьями Флоренции фактическим правителем этого города-государства стал Козимо Медичи (1434—1468). При нем еще сохранялась видимость республиканских форм правления, но все нити политического и налогового аппарата сосредоточились в его руках. Все важнейшие должности в государственных учреждениях также занимали верные ему люди. Козимо Медичи и его преемники Пьеро и Лоренцо Медичи, будучи ставленниками богатейших купцов и владельцев мануфактур, демагогически выдавали себя за покровителей бедных: разоряя своих соперников-богачей налогами, они за этот счет иногда снижали податное бремя широких слоев населения. Известную популярность Медичи приобрели тем, что вели в городе большое строительство. Наибольшего могущества власть Медичи достигла при внуке Козимо Лоренцо Великолепном (1469—1492), который был главой богатейшего банкирского дома Флоренции, имевшего конторы во всех крупнейших городах Италии и Европы, и, будучи кредитором многих государств, влиял на политику ряда стран. Роскошь дворца Лоренцо, его покровительство искусствам сочетались с умной, но утонченножестокой внутренней и внешней политикой. Старые пополанско-демократические порядки были, по сути дела, уничтожены. Хотя формально Флоренция оставалась республикой, все дела решались в Совете семидесяти, который полностью подчинялся Лоренцо. По его приказанию были безжалостно подавлены восстания в подчиненных Флоренции городах: в Прато в 1470 г., а также в Вольтерре в 1472 г., где народные массы под руководством бедняка Микеле Мео захватили власть. После неудачного покушения на жизнь Лоренцо в 1478 г. власть его еще более укрепилась. Был принят закон, согласно которому покушение на жизнь и благополучие Лоренцо рассматривалось как «оскорбление величества» и каралось жесточайшим образом. За внешним могуществом правления Медичи, роскошью их двора и щедрым меценатством скрывались глубокие внутренние противоречия, подтачивавшие экономику государства. Многие внешнеполитические успехи Флоренции были достигнуты в этот период небывалым напряжением всех сил и средств государства. Савонарола. Политика Медичи, несмотря на их демагогические заигрывания с народом, приводила к массовому недовольству. Выразителем его стал настоятель доминиканского монастыря св. Марка во Флоренции, пламенный проповедник Джироламо Савонарола. Его программа была направлена на политическое и религиозное обновление Италии; он выступал против светской власти церкви, ее продажности, критиковал папство, предвосхищая отчасти будущие требования европейской реформации. Проповеди Савонаролы против богатства и ростовщичества, несмотря на то что сам он был противником восстаний, способствовали решительному выступлению народных масс. В 1494 г., во время вторжения французских войск в Италию, когда они подошли к Флоренции, сын Лоренцо — Пьеро Медичи был изгнан из Флоренции в результате восстания и там восстановилась республика во главе с Савонаролой. Савонарола провел ряд реформ, которые носили двойственный характер: отмена принудительных займов, запрещение ростовщичества, организация ломбарда, введение десятины — прогрессивного налога на недвижимое имущество — выглядели как мероприятия, проводимые в интересах народа; в то же время во главе республики был поставлен Большой совет, состоящий из наиболее зажиточных граждан. Эти компромиссные реформы не могли удовлетворить богачей и не улучшили положение народа. Кроме того, фанатичный аскетизм Савонаролы, который под лозунгом «сожжения суеты» призывал уничтожать картины, музыкальные инструменты, книги, запрещал всякие развлечения, стал вызывать недовольство флорентийцев, привыкших ценить искусство и веселые зрелища. Авторитет Савонаролы в простом народе стал падать. Этим воспользовалась папская курия и ее сторонники во Флоренции. В 1498 г. Савонарола был схвачен, осужден и сожжен как еретик. В XV в. еще больше укрепляется синьориальный режим в другом крупнейшем промышленом центре Северной Италии — Милане, где он установился в конце XIII в. В начале XV в. в Милане властвовали тираны из дома Висконти, а затем, с 1450 г., власть в городе была захвачена представителями дома Сфорца. Возникновение и укрепление синьориальных режимов во Флоренции, Милане и других городахгосударствах Италии способствовало их внутренней консолидации, но не решало проблемы объединения всей страны. Богатая, но распадавшаяся на отдельные, враждующие между собой политические образования, Италия к концу XV в. оказалась гораздо слабее соседних Франции и Испании, где к этому времени сложились относительно сильные централизованные государства. Это с очевидностью обнаружилось, когда в 1494 г. пятидесятитысячное французское войско во главе с королем Карлом VIII вторглось в Италию и, ведя истребительную войну, дошло до границ Неаполитанского королевства. Поход Карла VIII явился лишь началом длительных итальянских войн (см. гл. 30). Глава 13. Страны Пиренейского полуострова в XI—XV вв. §1. Пиренейский полуостров в XI—XIII вв. Реконкиста XI—XIII вв. Период с середины XI до середины XIII в. был временем решающих успехов Реконкисты. Раздробленные мавританские владения явились сравнительно легкой добычей христианских государей. Так, в 1085 г. кастильцы заняли Толедо — крупнейший город Центральной Испании, бывшую столицу вестготов. В начале XII в. арагонцы овладели Уэской и Сарагосой, в 1147 г. при поддержке участников Второго крестового похода был взят Лиссабон. В руки христиан к концу XII в. попала большая часть территории полуострова. Тем не менее продвижение их на юг было неизмеримо более медленным, чем арабское завоевание Испании в VIII в. Это объясняется рядом обстоятельств. Вопервых, среди христианских государств полуострова не было единства. Объединение Леона и Кастилии было непрочным. Несколько раз королевство подвергалось разделу между сыновьями умершего монарха. Окончательное объединение Кастилии и Леона произошло только в 1230 г. В 1137 г. Арагон и Каталония заключили унию, однако сохраняли автономию во внутреннем управлении. В 1139 г. португальский граф Афонсу Энрикеш провозгласил себя королем, хотя Кастилия смирилась с отпадением этой области лишь после разгрома ее войск португальцами в 1385 г. Наварра, которая с XII в. не имела общей границы с маврами и перестала участвовать в Реконкисте, тем не менее была постоянно вовлечена в междоусобные войны на полуострове. В качестве союзников в междоусобицах государства севера полуострова нередко привлекали мусульманских правителей ал-Андалуса, что, конечно, также замедляло Реконкисту. Другим фактором, сдерживавшим продвижение Кастилии и Арагона на юг, было военное вмешательство берберских государств Северной Африки. Андалусские эмиры неохотно прибегали к их помощи, опасались попасть от них в зависимость, однако в критических ситуациях берберы наносили тяжелые удары христианским государям. Так, их победы над кастильцами в 1086 г. при Салаке и в 1195 г. при Аларкосе на несколько десятилетий отсрочили решающие успехи Реконкисты. С другой стороны, христианские королевства вели борьбу преимущественно своими силами, помощь извне (Франция, крестоносцы, Генуя, Пиза) оказывалась лишь эпизодически. Важнейшим обстоятельством, определявшим темпы Реконкисты, была объективная возможность подчинения и колонизации захваченных земель. Далеко не всегда имелись средства для строительства крепостей на южных границах, содержания гарнизонов в городах, где нередкими были восстания мусульманского населения. При дефиците людских ресурсов приобретение земель, которые некем было заселить, не создавало стимулов к новым захватам. Поэтому с XI в. частым явлением становится не завоевание отдельных мавританских государств, а превращение их правителей в данников, ежегодно выплачивавших Кастилии и Арагону огромные суммы, составлявшие основу государственного бюджета этих королевств. В силу названных обстоятельств Реконкиста в XI—XIII вв. осуществлялась не постепенно и плавно, а как бы скачками. Ее главные победы пришлись на первую половину XIII в. В начале века Кастилии удалось урегулировать свои отношения с соседями, в 1212 г. ее король Альфонс VIII во главе союзного войска наголову разбил берберов при Лас Навас де Толоса. После окончательного объединения Леона и Кастилии Реконкиста сделала решительный шаг вперед. В 30—50-е годы XIII в. кастильцы завоевали крупнейшие мавританские тайфы — Хаэн, Кордову, Севилью. Захватив город и область Мурсию на Средиземноморском побережье, Кастилия отрезала Арагону путь для Реконкисты на юг. Экспансия. Арагона пошла в несколько ином направлении: он утверждается в Валенсии, на Балеарских островах, на Сицилии, Сардинии и в Южной Италии. Арагонские короли имели также владения в Южной Франции. Португалия завоевала область Альгарви, завершив-свое участие в Реконкисте. Таким образом, во второй половине XIII в. в руках мавров на Пиренейском полуострове осталась лишь Гранада с прилегающей к ней территорией. Она уже не представляла серьезной опасности для христианских государств. Реконкиста приостановилась до конца XV в. Экономическое развитие полуострова. Города. В рассматриваемый период в странах Пиренейского полуострова, особенно после отвоевания богатых южных территорий в середине XIII в., наблюдался прогресс во всех сферах производства. В сельском хозяйстве возросла роль земледелия. Функционировали созданные маврами ирригационные системы, получили широкое распространение виноградарство, выращивание олив, шелковицы. Преобладающей системой выращивания злаковых оставалась двухполье. С завоеванием обширных плоскогорий Центральной Испании (Новая Кастилия и Арагонская Месета) открылись широкие возможности для перегонного скотоводства. В связи с развитием как в Испании, так и в других странах Западной Европы сукно-делия особенно выгодным занятием становится овцеводство. Государства Пиренейского полуострова в XI—XV вв 1 — границы Реконкисты на указанные даты 2 — районы крестьянских восстании XV в. С XIII в. испанская шерсть вывозится во Фландрию, Италию, Францию, Англию. Овцеводством занимались не только крестьяне. Крупные стада скота имели светские феодалы, церковь, города. Для нормирования пользования пастбищами, перегона стад, защиты своих интересов в XII—XIII вв. образуются союзы собственников скота — месты. В Кастилии в 1273 г. месты были объединены в общегосударственный «Почетный совет Месты». Специализация сельскохозяйственного производства в различных районах полуострова создала условия для роста внутренней торговли. Северные и центральные районы (Астурия, Галисия, Каталония, Арагон, Старая и Новая Кастилия) поставляли скот, кожи, рыбу, соль, сельскохозяйственный инвентарь, южные — зерно, масло, вино и т. п. На внешний рынок кроме шерсти вывозились кожи и вина. Особенно активны были каталонские купцы, а кастильский экспорт осуществлялся главным образом иностранными торговцами. Как и везде в Западной Европе, XI—XIII века в Испании и Португалии были временем становления и развития городов как центров ремесла и торговли. На Пиренейском полуострове этот процесс имел существенные особенности, связанные с Реконкистой. Значительная часть городов здесь была мавританского происхождения. Выше (см. гл. 6) уже отмечалось их экономическое значение еще в раннее средневековье. Включение их в состав христианских государств часто было связано с разрывом традиционных производственных и торговых отношений с мусульманским миром, с эмиграцией ремесленников и торговцев на юг, увеличением доли аграрного (особенно скотоводческого) сектора в городской экономике. Тем не менее такие города как Толедо, Сарагоса, Валенсия, Севилья, и при христианах оставались важными центрами ремесла и торговли, их продукция (металлоизделия, оружие и упряжь, кожи, ткани) были широко известны на европейских рынках. Значительно более скромными были города, появившиеся в ходе Реконкисты. Как правило, они возникали на базе административных центров и особенно крепостей, строившихся в зоне военных действий. Короли и графы, основывавшие их, были заинтересованы в привлечении сюда поселенцев, которые могли бы составить постоянный гарнизон. Для этого еще с IX в. издавались специальные «поселенные грамоты», фиксировавшие различные льготы для переселенцев. Экономика этих поселений оставалась аграрной, но уже в X в. здесь появляются рынки, а на рубеже X—XI вв. — ремесленные мастерские ткачей, бондарей, колесников, кузнецов и т. д. Возникают некоторые элементы самоуправления, специфические правовые обычаи, которые записываются в особые документы — фуэрос. Фуэрос города Леона 1020 г. еще предписывает возвращать сеньорам переселившихся в него зависимых крестьян, но более поздние памятники, как правило, провозглашают свободу горожан независимо от того, как долго они там проживают. В XI—XII вв. население городов быстро увеличивается, растет их ремесленное и торговое значение. Однако земледелие и особенно скотоводство продолжают играть большую роль в их хозяйстве. Важными центрами овцеводства, например, были Сеговия, Куэнка, Теруэль, Порту. Они поставляли сырье для сукноделия. Изготовлялись также льняные и шелковые ткани, металлоизделия, предметы повседневного обихода. Во всех более или менее значительных городах наряду с постоянно действующими или еженедельными рынками проводились ярмарки, доходы от которых шли в королевскую казну. Некоторой спецификой обладали города на северо-западе Леоно-Кастильского королевства. Большую роль в их становлении сыграла дорога, ведущая из Франции к Сантьяго-де-Компостела — одному из известнейших в Европе монастырей, куда ежегодно отправлялись сотни паломников. Это обстоятельство, а также близость столиц — Леона, Овьедо, Бургоса — привлекли сюда французских ремесленников. В XII—XIII вв. здесь шла острая борьба между ремесленниками и городскими сеньорами — аббатом монастыря в городе Саагуне и архиепископом в Сантьяго-де-Компостела. Для приморских городов Каталонии, в первую очередь Барселоны, характерно развитие там дальней торговли и наличие богатого купечества, что сближает их с некоторыми городами Италии и Южной Франции. Колонизация и социальное развитие. На социальное развитие Кастилии, Арагона и Португалии огромное влияние оказали Реконкиста и колонизация. Во всех пиренейских королевствах выработалась сходная процедура заселения новых земель. Их верховным собственником считалась королевская власть, а реальными владельцами — те, кто их населял. В дарственных хартиях, «поселенных грамотах» и фуэрос короли передавали вотчинникам, сельским и городским общинам права на землю и, как правило, жаловали налоговые льготы. Часть земли становилась королевским доменом. Нередкими были случаи, когда короли нарушали пожалованные ими же привилегии и передавали свободные деревни и даже города во владение светским и церковным сеньорам. Поэтому право феодального государя распоряжаться землей было не номинальным, а вполне реальным. В свободной деревне земля делилась на пахотные наделы и угодья, подконтрольные всей общине — консехо1. Общинное устройство было свойственно и зависимым деревням. Консехо отвечал перед вотчинником или короной за выполнение повинностей. В Кастилии и Португалии они были сравнительно невелики: для зависимых крестьян — фиксированный натуральный или денежный ценз (например, 3 хлеба и курица; 1—2 солида в год), иногда — полевые барщины (как правило, несколько дней в году); в свободных деревнях — поземельный налог и различные поборы военно-административного происхождения. В Старой Каталонии и Арагоне, где власть вотчинников над крестьянами с раннего средневековья была прочнее, чем на западе полуострова, положение зависимого населения ухудшилось. Промежуточное положение между свободными и зависимыми крестьянами в Леоне и Кастилии занимали члены так называемых бегетрий (от латинского benefactona, т.е. «благодеяние»). Бегет-рия — крестьянская община, которой сеньор оказывает оговоренное соглашением покровительство, а крестьяне за это выполняли в его пользу некоторые повинности, первоначально весьма необременительные. Различались два типа бегетрий — «от моря до моря», члены которых могли избирать себе сеньора по всей стране (т. е. от Бискайского залива до Атлантики), и «бегетрий рода», где сеньором мог быть лишь член определенного семейства. Крестьяне были вправе менять сеньора, вести с ним судебные тяжбы. Однако в XIII—XIV вв. повинности членов бегетрий существенно возросли, право на смену сеньора было сильно ограничено и на практике членство в бегетрий превратилось в одну из форм феодальной зависимости. Некоторые черты землевладения и социального устройства деревни были унаследованы государствами Пиренейского полуострова от мавров, в особенности в тех областях, где проживало значительное мосарабское население (Толедо, Валенсия, Севилья и т.п.). Здесь сохранялась аренда, по условиям которой лично 1 От латинского concilium — «совет». Так назывались не только сельские и городские общины, но и органы власти в этих общинах. свободный арендатор выплачивал земельному собственнику часть урожая натурой или денежный взнос. Арендные договоры возобновлялись довольно часто, что сопровождалось повышением платы, и могли заключаться также и между крестьянами. Начиная с XIII в. земли мосарабов интенсивно раздариваются королями светским и церковным феодалам, а их население переходит в разряд зависимых держателей. Социальный и сословный строй городов Леоно-Кастильского королевства различался в зависимости от того, был ли данный город свободным или имел сеньора. Большинство крупных и средних городов в стране были свободными и подчинялись непосредственно короне. Полноправными горожанами считались те, кто обладал недвижимой собственностью независимо от характера занятий и длительности проживания. Наиболее зажиточные горожане, как правило, обязаны были приобрести боевого коня и вооружение; за это их освобождали от городских и государственных повинностей и, как и кабальеросвильянос, приравнивали в некоторых отношениях к служилым феодалам. Такие городские кабальерос занимали высшие муниципальные должности, имели привилегии в пользовании городскими землями (в первую очередь пастбищами), представляли городскую общину в органах сословного представительства. Непривилегированное полноправное городское население состояло из ремесленников, мелких торговцев, лиц, которые вели собственное хозяйство в аграрной сфере городской экономики. Ремесло в испанском городе развивалось преимущественно по типу «свободного ремесла», поскольку королевской власти и городской верхушке удалось воспрепятствовать организации цехов — в них видели источник повышения цен на рынке и угрозу для правящих слоев общины. Поэтому корпорации ремесленников и объединения торговцев возникали только с конца XII—XIII вв. лишь в некоторых отраслях ремесла и преимущественно в Каталонии и Арагоне. Кроме полноправных горожан в состав городского населения входили наемные работники, чей труд использовался как в ремесле, так и в земледелии и скотоводстве, бедняки, арендовавшие жилье и небольшие участки земли. В приниженном положении находилось остававшееся мусульманское население. В городах, имевших сеньора, проживала также его челядь, а все жители таких городов, не исключая и кабальерос, были обязаны сеньору некоторыми платежами и службами. Сословные границы господствующего класса Леоно-Кастильского королевства были размытыми и, особенно до середины XIII в., открытыми: верхушка свободного крестьянства и зажиточные горожане довольно легко могли превратиться в кабальерос. К XIII в. постепенно складывается различие между кабальерос и инфансонами — представителями потомственных служилых феодалов. Теперь источники часто именуют тех и других «идалъгос» (от испанского fijo d'algo — «сын значительного человека»). Идальгос, как правило, не были богаты; довольно скудные доходы, получаемые от рент, дополнялись военной добычей и выручкой от продажи скота и шерсти. Высшая знать королевства — рикос-омбрес (букв. «богатые, могущественные люди») — имела обширные земельные владения, значительные денежные доходы (в том числе и в виде выплат из казны), пользовалась большим влиянием на государственные дела. Ядро этого слоя составляли 20—30 феодальных родов (таких, например, как Лара, Гусманн, Аро и др.), которые постоянно боролись друг с другом за влияние в стране, нередко поднимали мятежи против королевской власти. В Леоно-Кастильском королевстве слой рикос-омбрес пополнялся за счет наиболее богатых или выделившихся на королевской службе идальгос; наоборот, отдельные обедневшие знатные роды постепенно растворялись среди массы мелких и средних феодалов. Особую группу внутри господствующего класса составляли члены духовно-рыцарских орденов (Сантьяго, Алькантара, Калатрава и др.), которые сложились во второй половине XII в. по образцу орденов крестоносцев. В ордена вступали как клирики, так и светские феодалы — рикос-омбрес и идальгос, отдавая организации полностью или частично свое имущество. Оставаясь мирянами, рыцари орденов принимали на себя некоторые обеты, главным из которых была непримиримая борьба с мусульманами. Ордена располагали значительными вооруженными силами, активно участвовали как в Реконкисте, так и в междоусобицах, имели огромные земельные владения, замки, неисчислимые стада скота. В XIII—XV вв. отношения с орденами выросли в серьезную проблему для королевской власти. В отличие от Леоно-Кастильского королевства в Каталонии и Арагоне структура господствующего класса была жестче и сложнее. И знать, и средние, и мелкие феодалы подразделялись на ряд сословных групп в зависимости от происхождения и способа получения титула и земельных владений («по естеству», «по королевской грамоте», «по праву завоевания» и т. д.). Возможность попасть в состав кабальерос для горожан или свободных крестьян была крайне ограниченной. Арагонская знать и даже дворянство располагали значительно большей, чем в Кастилии, независимостью от короны и даже имели признанное право вести войны против своего монарха. В Португалии класс феодалов развивался примерно тем же путем, что и в Леоно-Кастильском королевстве. Следует, однако, отметить, что здесь городские кабальерос прочнее, чем в Кастилии, сохраняли связь с собственно городскими занятиями, особенно с торговлей и мореходством. Большое влияние в стране имел духовно-рыцарский Авишский орден, магистр которого в конце XIV в. даже занял королевский трон и основал новую правящую династию. Политическая организация. Реконкиста оказала существенное влияние на политическую организацию пиренейских стран. Внешняя опасность, а позже необходимость консолидации господствующего класса для осуществления совместных завоеваний препятствовали развитию феодальной раздробленности. С XI в. в Леоно-Кастильском королевстве монархия окончательно приобретает наследственный характер. В борьбе с мятежными феодалами короли могли использовать финансовые ресурсы вассальных мусульманских территорий, военные формирования городов, помощь многочисленных кабальеров и идальгос. Однако полномочия королевских должностных лиц на территории государства все же существенно ограничивались привилегиями крупных светских сеньоров, церкви и орденов, с одной стороны, и правами сельских и особенно городских общин — с другой. С середины XIII в. центральная администрация стремится унифицировать систему управления: вместо традиционных фуэрос городам навязываются новые своды права («Королевское фуэро», «Семь Партид мудрого короля дона Альфонса»), которыми закреплялась решающая роль королевской власти в решении местных вопросов. Консехос решительно противодействовали посягательствам на свою автономию, заключали между собой союзы («эрмандады» — братства), поднимали восстания против центральной власти, иногда блокируясь с мятежной феодальной знатью. В результате этого сопротивления введение в действие общегосударственных законов в Леоно-Кастильском королевстве началось лишь в середине XIV в., причем они не столько заменили, сколько дополнили уже существовавшее обычное право. У леонских и кастильских королей уже с XI в. существовал обычай созывать ассамблеи с участием высшей светской и церковной знати для обсуждения вопросов законодательства, судо- ' производства, сбора податей и текущей политики. В 1188 г. в Леоне на такую ассамблею были впервые привлечены горожане. Это положило начало органам сословного представительства в странах Пиренейского полуострова. С середины XIII в. в этих органах (они назывались кортесами) стали регулярно заседать и кастильские горожане. Леоно-кастильские кортесы делились на три палаты: в первой заседали епископы и аббаты, во второй — светские сеньоры, в третьей — представители консехос, в выборах которых принимали участие наряду с зажиточными горожанами и наиболее состоятельные крестьяне (обычно кабальерос-вильянос); участие свободного крестьянства в сословном представительстве было особенностью Леоно-Кастильского королевства. Поскольку духовенство и знать не принимали активного участия в работе кортесов, наиболее влиятельным в них было городское сословие, особенно во второй половине XIII — первой половине XIV в. В это время кортесы пользовались большим авторитетом в вопросах законодательства и особенно в налоговой политике; однако поскольку в кортесах заседали кабальерос, освобожденные от налогов, они не препятствовали усилению финансового обложения торгово-ремесленных слоев населения городов, а также крестьянства. Восточная часть Пиренейского полуострова в политическом отношении представляла собой своеобразную федерацию владений (королевства Арагон и Валенсия, принципат Каталония с вассальными территориями на юге Франции), имевших общего монарха — короля Арагона, но управлявшихся различными учреждениями по разным законам. Так, кортесы Каталонии, Арагона и Валенсии избирались и заседали отдельно. В арагонских кортесах было четыре палаты — рикос-омбрес, кабальерос, духовенства и горожан (с конца XIII в.); крестьянство никакого участия в их работе не принимало. Арагонской землевладельческой знати и патрициату богатых городов Каталонского побережья удалось превратить кортесы в серьезное орудие оппозиции королевской власти. Особенностью сословного представительства было существование в Арагонском королевстве постоянно действовавшего органа — «генеральной депутации», который наблюдал за исполнением решений кортесов между их сессиями; контроль над депутацией реально принадлежал аристократии. Кроме Кастилии и Арагона трехпалатные кортесы сложились в XIII в. также в Португалии и Наварре. § 2. Испания и Португалия в XIV—XV вв. Пиренейский полуостров в XIV—XV вв. В середине XIII в. Реконкиста надолго приостановилась. Мавританские владения — Гранадский эмират — стремились поддерживать мир со своими северными соседями, особенно после 1340 г., когда в битве при Саладо христианские войска нанесли поражение Гранаде и ее североафриканским союзникам. Эта битва положила конец военной помощи берберов ал-Андалусу. Границы между Кастилией и Арагоном постоянно изменялись в ходе междоусобных войн. Арагон на протяжении всего периода осуществлял планомерную экспансию в Средиземноморье: он подчинил Балеарские острова (в конце XIII — первой половине XIV в. там было самостоятельное государство — королевство Майорка), утвердился на Сицилии (1282) и в Неаполитанском королевстве (1442), завоевал остров Сардинию. Кастилид в начале XV в. присоединила Канарские острова, а Португалия с 1415 г. захватом города Сеута в Северной Африке начала свою колониальную экспансию в Атлантике. После брака наследников кастильского и арагонского престолов — инфанты Изабеллы и принца Фердинанда — в 1479 г. произошло объединение этих королевств. Наварра, не игравшая существенной роли на полуострове, в конце XV в. была поделена между Арагоном и Францией. В 1492 г. войска Кастилии и Арагона взяли Гранаду и тем самым завершили Реконкисту. Таким образом, к концу столетия закончилось и отвоевание, и объединение территории Испании в единое государство. Социально-экономическое развитие. С середины XIII в. в экономике Испании и Португалии усиливаются кризисные явления, связанные с решением главных задач Реконкисты. Христианское завоевание вызвало массовый отток мавританского населения в Гранаду и Северную Африку; нередко мусульмане изгонялись из страны по распоряжению королевской власти. Это не могло не подорвать высокоразвитую агрикультуру Андалусии, ремесло крупных городов. Крайне неблагоприятные последствия для полуострова, как и для остальной Европы, имела эпидемия чумы в середине XIV в., которая в некоторых областях (например, в Каталонии) унесла более половины населения. Ухудшились социальные условия для развития крестьянского хозяйства и ремесленного производства. Ослабление колонизационного процесса позволило феодалам северных районов полуострова ужесточить эксплуатацию крестьянства. Особенно ярко это проявлялось в Каталонии и Арагоне. В конце XIII — первой половине XIV в., когда в соседней Франции шел процесс ликвидации серважа, здесь, наоборот, происходит законодательное оформление личной зависимости. Ременсы (такое собирательное название носили каталонские крепостные) должны были выплачивать специфические сервильные повинности, что обозначалось как «дурные обычаи»; они подлежали суду сеньора, который был вправе выносить даже смертные приговоры; сильно ограничена была возможность ухода крестьянина от феодала. Неблагоприятные изменения произошли и в положении крестьян Кастильского королевства. В Астурии, Галисии, Леоне возросли повинности соларьегос, урезывались права бегетрий; в центральных и южных районах полуострова резко увеличиваются нормы натуральных и денежных поземельных платежей. Серьезную опасность для крестьянского хозяйства стало представлять ком- -мерческое овцеводство крупных сеньоров, церкви и орденов. В начале XIV в. в Испании была выведена порода длинношерстных овец-мериносов, чья шерсть пользовалась широким спросом в Италии, Англии и Фландрии. Это способствовало возрастанию удельного веса скотоводства в экономике страны, наступлению феодалов на общинные земли с целью расширения пастбищ. Массовый вывоз сырья за рубеж вел к его удорожанию на внутренних рынках, к ослаблению позиций местного текстильного ремесла. Несколько иные условия сложились в Португалии, где вокруг портовых городов, специализировавшихся на экспорте аграрной продукции, успешно развивалось зерновое хозяйство. При этом усиливалась имущественная дифференциация крестьянства, увеличивалось число малоземельных держателей, живших феодальным наймом, причем плата наемным работникам в Португалии (как и в Испании) ограничивалась законом. Наступление на права крестьян, естественно, встречало их сопротивление. В XV в. происходит ряд восстаний в Галисии и Старой Кастилии. Наибольшего размаха крестьянское движение достигло во второй половине XV в. на Балеарских островах (восстания 1450 и 1463 гг.) и в Каталонии. Уже в 50-е годы XV в. каталонские ременсы требовали права выкупиться из личной зависимости, а с 1462 г. они поднялись на вооруженную борьбу, однако войска кортесов легко рассеяли крестьянские отряды. В 1482 г. крестьяне восстали вновь под руководством Педро де ла Сала. Успеху восстания благоприятствовала острая политическая борьба короля с мятежной знатью. Размах движения заставил господствующий класс пойти на уступки. В 1486 г. были отменены «дурные обычаи» и разрешен выкуп ременсов за довольно высокую плату. Господствующий класс и внутриполитическая борьба. В XIV— XV вв. в Кастилии и Португалии в значительной степени исчезает возможность приобретать дворянство зажиточным крестьянам и горожанам. Еще ранее, на рубеже XIII—XIV вв., размываются группы сельских и городских кабальерос как особые сословные группы; их обедневшая часть переходит в состав мелкого крестьянства и непривилегированных горожан, а верхушка вливается в ряды идальгос и порывает с производственной деятельностью. С этого времени и законодательство, и сословная мораль считают труд (особенно в ремесле и торговле) несовместимым с благородным статусом. При этом идальгос продолжали жить не только в деревне, но и в городе, образуя влиятельную часть его населения, контролирующую муниципальные учреждения. Другой характерной чертой данного периода является усиление замкнутости высшего слоя феодального класса — аристократии (рикос-омбрес, гранды). Этому способствовали введение в Кастилии в конце XIII в. майората, т. е. неделимости вотчин знатных сеньоров при наследовании, а также сознательно создаваемые ограничения в приобретении титула для идальгос. Наконец, в конце XIII—XV в. заметно обостряется борьба внутри господствующего класса. Приостановка Реконкисты привела к уменьшению доходов дворянства; острое недовольство как феодалов, так и городов вызывали централизаторские устремления королей; различные группировки знати соперничали за политическое влияние, за право присваивать коронные земли и доходы. Все это создавало благоприятную почву для острой и затяжной междоусобной борьбы во всех христианских государствах Пиренейского полуострова. XIV—XV века были временем настоящей феодальной анархии, когда королевская власть, лишь балансируя между враждующими «униями», «братствами» и «лигами» грандов с помощью подкупа и террора, могла сохранить контроль над положением. Объединение Кастилии и Арагона позволило несколько стабилизировать ситуацию в Испании. Сложность расстановки политических сил внутри страны, наличие многочисленного воинственного дворянства относятся к тем причинам, которые побуждали испанских и португальских монархов в XV—XVI вв. поощрять внешнюю экспансию, в частности колониальные захваты. Церковь и ереси. Роль католической церкви в средневековой Испании была особенно велика, ведь Реконкиста шла под лозунгами борьбы христианства против ислама. Церковь не только вела проповедь религиозной войны, но и непосредственно в ней участвовала. Многие епископы имели собственные вооруженные формирования, лично участвовали в битвах и походах; большую роль в Реконкисте сыграли духовно-рыцарские ордена. Существенное влияние оказывала церковь и на политику королевской власти: глава (примас) испанской церкви архиепископ Толедский, другие виднейшие прелаты (архиепископы Сантьяго, Картахены, Барселоны) были влиятельными членами королевских Советов, канцлерами королевств Кастилии и Арагона. Церковь в Испании предпринимала большие усилия по обращению в христианство мусульман на отвоеванных территориях. Особенно заметной стала религиозная нетерпимость в XIV— XV вв. Насильно крещенные мавры (мориски) нередко втайне отправляли обряды ислама. Мосарабская христианская церковь, существовавшая в ал-Андалусе, выработала некоторые свои обряды и особенности в толковании Священного писания, не признававшиеся папством и духовенством Кастилии и Арагона. Все это дало повод для усиления в XV в. борьбы с ересями и учреждения в 1481 г. специального церковного трибунала — инквизиции. В 1483 г. испанскую инквизицию возглавил Торквемада, который при поддержке Фердинанда и Изабеллы (прозванных католическими королями) осуществлял массовые преследования мавров, морисков и еретиков. Глава 14. Скандинавские страны в XII—XV вв. Формирование феодального строя. С прекращением походов викингов (см. гл. 6) иссякли прежние источники богатств родо-племенной знати, ослабло ее общественное влияние. Земля стала концентрироваться в руках новых социальных элементов, прежде всего служилой знати. В формирующийся класс феодалов входили и высшее духовенство, и часть старой знати. «Сильные люди» и «могучие бонды», выделявшиеся из среды свободного населения, также сосредоточили в своих руках немалые земельные владения. В течение XII и XIII веков значительная часть скандинавских крестьян из собственников земли превратилась в держателей наделов на землях крупных землевладельцев. Важную роль в развитии феодальных отношений играла королевская власть. Короли были крупнейшими землевладельцами, они захватывали право верховной собственности на общинные пастбища и леса. В силу этого многие крестьяне, имевшие хозяйства на расчищенных от леса землях и пустошах, превратились в держателей короля. Король принуждал население содержать его вместе со свитой во время постоянных разъездов по стране. Со временем эти поборы превратились в регулярный налог, уплачивавшийся обычно продуктами. Право сбора налога король передавал своим служилым людям, поставленным во главе областей и округов. Эти пожалования отчасти напоминают лены (феоды) в других странах Европы. Однако в Скандинавских странах они формально не считались наследственным достоянием их владельцев, хотя фактически нередко были таковыми. Замки, возводившиеся в Дании и Швеции начиная с XIII в., не являлись собственностью феодалов: они занимали их в качестве наместников короля, должны были охранять их, следить за порядком в округе и собирать подати с населения. Своеобразно проходил и процесс складывания класса феодально зависимого крестьянства. Поскольку бонд был обычно не только земледельцем, но и скотоводом, рыбаком, охотником и жил зачастую на обособленном хуторе, где вел самостоятельное хозяйство, там, где земледелие было слабо развито или отсутствовало, он, по сути дела, мало был связан или совсем не был связан с определенным участком пахотной земли. Втянуть такого человека в зависимость было нелегко. Скандинавские крестьяне упорно сопротивлялись нажиму феодалов. Бонды обладали оружием, так как на них лежала обязанность по призыву короля являться в ополчение, они на собственные средства строили и снаряжали военные корабли. Поскольку значение крестьян в военном деле было велико, королевской власти приходилось с ними считаться. Однако по мере роста социального расслоения военная служба становилась тягостной для крестьян. Междоусобицы, войны и служба в ополчении во многом способствовали их разорению. Стремясь избавиться от королевской военной службы и растущих налогов, многие бонды передавали себя и свою собственность под власть и покровительство крупных землевладельцев. Как и повсюду в Европе раннего средневековья, в странах скандинавского Севера шел процесс социального разделения общественных функций, при котором власть, военное дело и управление сосредоточивались в руках общественной верхушки, а материальное содержание общества возлагалось на зависимых, подвластных крестьян — непосредственных производителей. Тем не менее в силу значительной хозяйственной самостоятельности и длительного сохранения общинных порядков крестьянство Скандинавии — за исключением Дании, где земледелие было ведущей отраслью хозяйства, — на протяжении всего средневековья отчасти сохраняло личную правоспособность; феодальная зависимость выражалась здесь преимущественно в уплате ренты продуктами. При сохранении бондами значительных элементов личной свободы гарантией собственнических прав феодалов на землю было лишение держателей юридической обеспеченности держания. Поэтому, хотя обычно держатель пользовался участком длительное время и даже пожизненно, за ним не закреплялось право прочного владения землей, поскольку срок, на который заключалось соглашение о владении им землей, не превышал нескольких лет. Крестьянин не был прикреплен к земле или к личности собственника, но за это он расплачивался правовой необеспеченностью держания. Вместе с тем в тот период в Скандинавских странах еще существовал большой слой крестьян, сохранявших право собственности на землю и лишь обязанных платить налоги государству. Норвегия в конце XII—XIII в. С развитием феодальных отношений обострялась социальная борьба. Она „нередко принимала форму выступлений против короля и поддерживавшей его служилой знати. Крупнейшим событием явились гражданские войны в Норвегии в последней четверти XII — начале XIII в. На первом этапе это была борьба претендентов на престол. Но вскоре в нее все более активно стали вмешиваться, с одной стороны, феодализировавшиеся элементы общества и служилая знать, заинтересованные в укреплении государства, а с другой — обездоленные слои крестьян, страдавших от растущей эксплуатации. В 1177 г. самозванец Сверрир возглавил восстание биркебёйнеров («берестеников» — прозвище вызвано тем, что потерпевшие поражение повстанцы, износив свою обувь, стали обвязывать ноги берестой) — бедняков, надеявшихся с его победой поправить свое положение. Но после захвата престола Сверрир (1184—1202) стал проводить политику в интересах крупных землевладельцев — служилых людей, в число которых вошли и выходцы из биркебей-неров, возвысившиеся в ходе борьбы. Конфликт между духовенством и Сверриром, который добивался установления верховенства королевской власти над церковью, достиг такого ожесточения, что папа отлучил короля от церкви и наложил на страну интердикт. Сверрир в свою очередь изгнал из Норвегии тех прелатов, которые поддерживали папу и вели пропаганду против короля. Восстания крестьян не прекращались, так как в период гражданских войн возросли государственные поборы, ложившиеся на плечи бондов тяжелым бременем, и укрепил свои позиции господствующий класс, сплачивавшийся вокруг престола. Народное движение было подавлено лишь после того, как старая знать и церковники (которых поддерживали папа и датский король) примирились с потомками Сверрира и вместе с новыми феодальными землевладельцами стали поддерживать монархию. Укрепление королевской власти в Норвегии в XIII в. произошло при короле Магнусе Законодателе. В 1274 г. он издал первый общенорвежский свод права, заменивший областные судебники, записанные в конце XII — начале XIII в. Во главе местного управления стояли ленники короля. Крестьяне были отстранены от участия в политической жизни. Церковным и светским землевладельцам тем не менее не удалось полностью лишить норвежских бондов остатков личной свободы. В Норвегии не сложились такие институты, как сеньория, система вассалитета и феодальной иерархии, иммунитет и вотчинный суд. При ограниченности пригодных для пахоты земель и преобладании поселений хуторами барщина не получила развития, домениальное хозяйство имело скромные размеры. Преобладала рента продуктами. Повинности крестьяне несли главным образом в пользу государства. Феодализм в Норвегии был развит слабее, чем в других Скандинавских странах. Развитие феодализма в Швеции. Хотя и в Швеции постепенно возрастал слой держателей, не имеющих собственной земли, число крестьян, сохранявших независимость от крупных землевладельцев, было велико. В ходе борьбы за укрепление королевской власти и начавшегося в XII в. завоевания Финляндии складывалось служилое сословие. Местная знать пыталась сохранить обособленность областей и выборную королевскую власть, но потерпела поражение. В процессе этой борьбы укрепилось положение ярла — правителя королевства и начальника ополчения. Ярл Бйргер возглавил крестовый поход против Финляндии (1249— 1250) и подчинил ее западные области. При поддержке церкви он возвел на престол своего сына и основал новую династию (1250). Укрепление королевской власти и в Швеции сопровождалось введением постоянных налогов и ухудшением положения бондов. Во второй половине XIII в. шведские феодалы — фрёлъсы (т. е. «освобожденные» от публичных повинностей и поборов) окончательно превратились в господствующее сословие. Они несли конную рыцарскую службу и освобождались от уплаты налогов. Иммунитетные привилегии получило и высшее духовенство. Попытка шведских феодалов вторгнуться на Русь и захватить устье Невы закончилась их разгромом (Невская битва 1240 г.). Развитие феодализма в Дании. В течение XII века в Дании также развернулась междоусобная борьба, но король Вальдемар I (1157—1182), устранив соперников, усилил свою власть союзом с церковью. Влияние церкви на государственные дела в Дании было очень велико. Духовенство получило иммунитетные привилегии от короля и во многом способствовало торжеству феодальных отношений. Дания в большей мере, чем другие Скандинавские страны, испытывала влияние развитых феодальных стран Западной Европы. Со второй половины XII в. в Дании создается рыцарское войско из средних и мелких феодальных землевладельцев, освобождаемых за военную службу от уплаты налогов. Служилое привилегированное сословие превращалось в главную опору королевской власти, а бонды — в класс, который должен был своим трудом содержать это сословие. Введение тяжелой поземельной подати, взимаемой с каждого плуга, вызвало в 1250 г. крестьянское восстание против короля Эрика IV, прозванного «Плужный грош». С крайней жестокостью проводились датскими феодалами крестовые походы против славянского Поморья. Балтийские славяне были покорены и насильственно крещены. Войны Дании против эстов сопровождались подчинением районов Нарвы и Ревеля (Таллинна) (в середине XIV в. эти владения были проданы Тевтонскому ордену). Ослабление императорской власти датские короли использовали для захватов в Северной Германии. Вальдемар II (1202—1241) подчинил себе Гольштинию, Гамбург и другие территории. Любек находился под его покровительством. Однако вскоре почти все эти владения были утрачены в результате поражения, нанесенного Вальдемару северогерманскими городами и крестьянами северо-западной области Германии Дитмаршена (1227). Процесс феодализации общества нашел отражение в первых записях датского права, относящихся к началу XIII в., и в поземельной описи Дании, составленной при Вальдемаре II. Города и бюргерство. Замедленность экономического развития и устойчивость натурального хозяйства в Скандинавских странах проявились в относительной слабости городов. Торговые центры, игравшие большую роль в период походов викингов, пришли в упадок в X—XI вв. Солеварение, металлургия, ткачество и другие ремесла оставались преимущественно крестьянскими промыслами. Городские ремесленники были малочисленны. Внутренняя торговля была слабо развита, в сельских местностях деньги представляли редкость, и в течение долгого времени сохранялся натуральный обмен. Средствами обмена служили скот, куски домотканого сукна и другие товары. Во второй половине XII и в XIII в. ремесло и торговля сделали некоторые успехи. Особенно расширилась внешняя торговля: увеличился вывоз рыбы, мехов и кож. Берген в Норвегии, Висбю на острове Готланд, ежегодные ярмарки в Сконе играли значительную роль в торговле Северной Европы. Ряд датских и шведских городов получил королевские хартии, жаловавшие им частичное самоуправление по образцу немецкого (магдебургского) городского права. В это время возвышается Стокгольм. Однако экономически слабое бюргерство не оказывало существенного влияния на политическую жизнь. К тому же с середины XIII в. и в XIV в. в торговле Скандинавии все более заметное место начинают занимать богатые ганзейские купцы, главным образом из Любека и Ростока. Они захватывали в свои руки вывоз рыбы, продуктов животноводства и промыслов. В Швеции, где с XIII в. началась интенсивная разработка горных месторождений железных и медных руд, немцы добились доминирующего положения. Короли Дании, Норвегии и Швеции давали немецким купцам и ростовщикам, у которых брали большие суммы денег, широкие привилегии. Муниципальные советы наиболее крупных шведских городов состояли наполовину из немцев, они заправляли в Бергене и датских портах. Роль немецкого купечества и ремесленников в экономической жизни Скандинавии была двойственной: они способствовали развитию торговли и некоторых отраслей хозяйства, например крупного рыболовства, животноводства, горного дела. Но засилье немцев тормозило рост местного бюргерства, особенно в Норвегии. Политическая борьба в конце XIII и XIV в. Проводимая королевской властью политика централизации не имела прочных успехов. Крупные феодалы выступали против короля и навязывали ему свою волю. Внутренняя борьба переплеталась с конфликтами между Скандинавскими странами, ибо и короли, и их вассалы искали поддержки за рубежом. Чрезвычайно напряженной была борьба в Дании. В 1282 г. королю Эрику Клиппингу пришлось подписать хартию, которой он обязывался ежегодно созывать данехоф — общий совет государства, состоявший из магнатов, — и соблюдать права и вольности феодалов. Попытка Эрика нарушить эту датскую «хартию вольностей» закончилась его убийством, после которого начался длительный конфликт крупных феодалов с королевской властью. В 1320 г. королевская власть в Дании окончательно капитулировала перед знатью, установившей контроль над государственным управлением. Король не имел права без ее согласия объявлять войну и взимать налоги. За феодалами была признана судебная власть над крестьянами. В Швеции в 1284 г. также стал созываться совет из светских феодалов и епископов — риксрода. Это усилило феодальную знать. В 1319 г. мятежные феодалы изгнали из Швеции короля и возвели на престол малолетнего норвежского короля Магнуса Эрикссона. Ко времени его правления относятся первые общешведские своды законов, заменившие записи обычного права. Персональная уния Швеции и Норвегии (1319—1363) существовала лишь до тех пор, пока она была выгодна шведской знати. Попытки Магнуса ограничить финансовые привилегии аристократии и церкви вызвали оппозицию крупных феодалов. Низложив Магнуса, шведские феодалы избрали королем немецкого герцога Альбрехта Мекленбургского, который должен был дать обязательство править с согласия риксрода. Немецкое влияние еще более усилилось. Реальная власть во всех трех Скандинавских государствах в XIV в. находилась в руках крупных феодалов, причем многие из них имели владения не только в своей стране, но и в других Скандинавских странах. Их фискальные привилегии расширялись, быстро увеличивалось число крестьян, попавших в зависимость. В первой половине XIV в. ухудшилось положение крестьян, страдавших и от эксплуатации землевладельцами, и от государственных поборов и повинностей, и от войн и усобиц. В сельском хозяйстве наблюдался застой, кое-где забрасывались пахотные земли. «Черная смерть» в середине XIV в. углубила хозяйственный упадок. Экономические последствия чумы в Скандинавских странах, особенно в Норвегии, были очень тяжелыми. Нехватка рабочих рук вела к резкому сокращению земледелия и к дальнейшему повышению удельного веса скотоводства. Норвегия не смогла выйти из состояния упадка и застоя до конца XV — начала XVI в. Война Дании с Ганзой. В Дании Вальдемару IV Аттердагу (1340—1375) при поддержке церкви и рыцарства удалось укрепить королевскую власть. Утраченные ранее земли, в том числе и богатейшая провинция Сконе, были возвращены. Но захват датским королем острова Готланд с городом Висбю — важнейшим торговым пунктом на Балтийском море — привел Данию к столкновению с северонемецкой Ганзой. В войне с ней (1367—1370) Дания потерпела тяжелое поражение. Штральзундский мир (1370) предоставил ганзейцам торговые привилегии, в частности снижение таможенных пошлин и переход под их контроль четырех крепостей в Сконе, что утвердило их господство на Балтийском море. По договору датский король не мог короноваться без согласия Ганзы. Норвегия также была вынуждена подтвердить привилегии немецких купцов, захвативших в свои руки почти всю ее торговлю. Кальмарская уния. Датские и шведские владения находились под угрозой отторжения их северогерманскими князьями. Несмотря на конфликты, неоднократно вспыхивавшие между Скандинавскими государствами, перед лицом опасности, грозившей со стороны немецких князей и Ганзы, феодалы Дании, Швеции и Норвегии стремились к объединению. Этническая общность, сходство экономического и культурного развития облегчали политический союз этих стран, получивший форму династической унии. Маргарита, дочь датского короля Вальдемара IV Аттердага и жена норвежского короля, возвела на датский престол своего сына Олафа, от имени которого правила Данией и Норвегией, а после его смерти сама стала во главе обоих государств. В 1389 г. при поддержке шведских феодалов она получила власть и над Швецией. В июне 1397 г. на собрании представителей трех королевств в шведском городе Кальмаре внучатый племянник Маргариты Эрик Померанский был провозглашен королем Дании, Швеции и Норвегии. Одновременно был выработан акт о вечной унии трех государств. Во главе их впредь должен был стоять один король. Государства должны были оказывать друг другу помощь в случае войны, но в каждом из них сохранялись свои законы. Уния не была, однако, передана на утверждение государственных советов и носила личный характер. Фактически уния не уравнивала все три государства. Наиболее экономически развитой страной была Дания с населением, примерно равным населению Швеции и Норвегии. Она и извлекла наибольшие выгоды из унии. В наименее выгодном положении оказалась Норвегия, переживавшая глубокий упадок. Противоречия между вошедшими в унию королевствами не были преодолены. Маргарита, в руках которой оставалось правление огромной державой (до ее смерти в 1412 г.), назначала преданных ей датских и немецких феодалов на церковные и крупные государственные должности и раздавала им большие ленные пожалования в Швеции и Норвегии. Слой крупных землевладельцев, освобожденных от уплаты налогов, расширился. Кальмарская уния способствовала, таким образом, усилению крупных феодалов. Но на первых порах она укрепила королевскую власть. Во владении короны были сконцентрированы значительные земли. Королю Эрику удалось ограничить привилегии немецких купцов. После войны были введены зундские пошлины, взимавшиеся с кораблей, проходивших проливы из Балтики в Северное море. Пошлины составили существенный источник государственных доходов. Но война с Ганзой нанесла большой ущерб Дании, Норвегии и особенно Швеции. Ухудшение положения крестьян. Период унии был временем усиления феодальной зависимости крестьян. В XIV в. большая часть крестьян Дании и Норвегии уже сидела на землях феодалов и платила им ренту. Крупнейшим землевладельцем стала церковь. В Дании увеличивалась барщина, росло крупное поместье, связанное с рынком. Подобные тенденции намечались и в Швеции. Расширялись права крупных землевладельцев, особенно церкви. Увеличивались налоги. Бедняков, не имевших имущества, с которого можно было бы собирать подати, принуждали работать в качестве поденщиков у богатых людей в деревне и в городе, а уходивших в город крестьян насильно возвращали в сельскую местность. На усиление гнета крестьяне отвечали восстаниями. Скандинавские страны в XIV—XV вв.: 1 — королевство Дания во второй половине XIV в Территории, объединенные с Данией по Кальмарской унии (1397); 2 — королевство Норвегия (в унии с 1330 г.); 3 — королевство Швеция (в унии с 1397 г.); 4 — герцогство Голштиния (в унии с 1460 г). Восстание Энгельбректа Энгельбректссона (1434—1436). Ущемление самостоятельности Швеции и Норвегии датскими правителями затрагивало интересы различных слоев населения в этих странах. Особенно сильной была оппозиция в Швеции. Купцы Стокгольма и в особенности рудокопы провинции Далекарлия, где находились богатейшие в Европе медные и железные рудники, выражали недовольство. В Далекарлии в 1434 г. и началось восстание: рудокопы и крестьяне потребовали уменьшения налогов и выступили против засилья в Швеции датчан и немцев. Во главе восставших стал владелец рудника, выходец из среды низшего рыцарства Энгельбрект Энгельбректссон. К движению присоединились и некоторые феодалы. В 1435 г. было созвано сословно-представительное собрание, на котором наряду с духовенством и светскими феодалами присутствовали выборные от бюргеров и бондов. Так возникло шведское сословное представительство — риксдаг, окончательно оформившийся во второй половине XV в. Но Энгельбрект, избранный «вождем государства», в 1436 г. был предательски убит. Восстание крестьян было подавлено, но оно значительно подорвало датское и немецкое засилье в Швеции. Под влиянием событий в Швеции начались народные движения в Норвегии, Финляндии и Дании. Восстание в районе Осло вспыхнуло в 1436 г., а в 1441 г. крестьянское движение охватило Северную Ютландию, быстро распространившись на другие области. Крестьяне жгли королевские замки и усадьбы феодалов. Вместе с тем феодалы использовали народное движение в своих интересах. Король Эрик вынужден был бежать из Дании; королевская власть была вновь ослаблена. В Дании собрание сословий стало созываться в 1468 г. Но оно (как и в Швеции в отличие от крупных стран Европы) не контролировало финансовую политику короны и созывалось очень нерегулярно. Скандинавские страны во второй половине XV в. Исход борьбы за и против Кальмарской унии в Швеции и Норвегии был не одинаков. Норвежское бюргерство оставалось слабым и оттесненным от предпринимательской деятельности купцами Любека и Ростока. Слабое норвежское дворянство было неспособно возглавить освободительное движение против унии. Норвегия потеряла в этот период Оркнейские и Шетландские острова, перешедшие под власть королей Шотландии. В Исландии, где феодализация почти вовсе не развивалась, в конце XIV в. установилось господство датчан, сменившее власть норвежского короля. Свертывание мореходства и торговли привело к прекращению связей между Норвегией и Гренландией; скандинавские поселения в Гренландии исчезли. В Швеции борьба за разрыв унии была вместе с тем борьбой различных социальных сил между собой. Часть дворянства и высшего духовенства искала помощи в Дании. Обладание землями в обоих государствах делало многих дворян приверженцами унии. Против унии выступала другая часть дворянства, нашедшая поддержку у бюргерства и крестьян. Опираясь на освободительное движение, крупный шведский феодал Карл Кнутссон захватил престол (он правил с перерывами с 1448 по 1470 г.). В 1471 г. бюргеры и крестьяне под руководством представителя шведской знати Стена Стуре нанесли при Брункеберге поражение войскам датского короля. Эта битва послужила толчком для дальнейшего патриотического подъема. Из городских советов были удалены немцы, был основан первый шведский университет в Упсале. Деятельность регентов из дома Стуре (1471 —1520), расчетливых политиков, использовавших народные движения в интересах дворянства, была направлена на ограничение вывоза из Швеции драгоценных металлов, сосредоточение торговли и ремесла в руках шведских бюргеров. Вывоз железа и меди стал государственной монополией. В руках государства была сосредоточена чеканка монеты. В интересах светских феодалов Стуре ограничивали церковное землевладение. Стуре не ставили целью выход Швеции из унии с Данией, но тенденция к приобретению Швецией полной самостоятельности делалась все более неодолимой. В течение XV века в Дании также выросло влиятельное бюргерство. Копенгаген стал резиденцией короля. В последней четверти столетия там возник университет. Привилегии ганзейцев были уничтожены. Торговля сельскохозяйственными продуктами, перешедшая в руки датских феодалов, связывала Данию в экономическом отношении со Шлезвигом, Гольштинией и Северной Германией, что облегчило и политическое сближение. Королю Кристиану I (1448—1481) удалось добиться своего избрания герцогом Шлезвига и Гольштинии (1460), тем самым он стал имперским князем. Поддержку в борьбе против Ганзы и Швеции датские короли нашли у московского великого князя Ивана III, с которым в 1493 г. они заключили соглашение. Во второй половине XV в. продолжалось втягивание датских крестьян в личную зависимость. Крупные землевладельцы принуждали исполнять все увеличивавшуюся барщину. Глава 15. Венгрия в XI—XV вв. Образование раннефеодального государства. Союз полуоседлых венгерских (мадьярских) племен, изгнанный из южнорусских степей кочевниками-печенегами, в конце IX в., перейдя Карпаты, начал заселять Среднее Подунавье. Благоприятные природные и внешнеполитические условия способствовали их хозяйственному и социальному прогрессу. В X в. венгры освоили территорию Среднего Подунавья, перейдя к оседлости и земледелию. У них начали складываться феодальные отношения, а во второй половине X в. появились зачатки государственности — владения предводителей племенных объединений на территориальной основе. Как свидетельствуют материалы топонимики и археологические находки, в долинах рек до XI—XII вв. сохраняли самостоятельное существование поселения оседлых славянских народов, появившиеся там до прихода венгров. На севере и юге этническая территория венгров граничила с областями, заселенными предками словаков и хорватов. Их территории стали частью многоэтнического королевства Венгрии. Проживание в X в. на востоке Среднего Подунавья восточных романцев (влахов — предков современных румын и молдаван) еще не доказано, хотя такая гипотеза имеет своих сторонников. Достоверно письменные источники содержат данные о влахах с XII — начала XIII в. Процесс складывания и оформления феодальных отношений в Венгрии протекал до середины XIII в. Он был ускорен наряду с ростом имущественной дифференциации и выделением родоплеменной знати в среде самих венгров походами венгерских отрядов на страны Центральной и Западной Европы и на Балканы в первой половине X в. Захваченная добыча (рабы и движимое имущество) обогащала родоплеменную верхушку, составившую несколько позже основу класса феодалов. Его пополняли выходцы из стран Западной Европы, приходившие на службу к венгерским предводителям. В их владениях во второй половине X в. действовали византийские и западные миссионеры. Владетелю одной из областей Иштвану из династии Арпадов, принявшему католичество, удалось объединить все области под своей властью и получить от папы Сильвестра II королевскую корону и полномочия на учреждение архиепископий и епископий. При Иштване I Святом (997—1038; король с 1001 г.) были заложены основы раннефеодального государства, изданы первые законы, началось формирование светского и церковного крупного землевладения, проводилась продолжавшаяся до начала XII в. христианизация. Внутренняя политика королей династии Арпадов (правила до 1301 г.). способствовала упрочению феодальных отношений. Складывание феодальных отношений в XII—XIII вв. Владения крупных землевладельцев (светских и церковных) и короля были населены первоначально свободными общинниками и различными категориями зависимых крестьян. В наиболее тяжелой зависимости от феодалов находились сервы и либертины — потомки рабов, посаженных на землю. Но уже в XI в. они превратились в лично зависимых крестьян. Основной повинностью сервов и либертинов была барщина, однако во владениях церкви уже в ранние времена она была оттеснена на второй план продуктовой рентой. Особую категорию крестьян обширных королевских имений составляли «замковые люди» — бывшие свободные, посаженные на землю и обязанные наряду с военной службой натуральным оброком и отработочными повинностями в пользу короля. От них отличались «удворники» (от славянского слова «двор») — крестьяне, обслуживавшие королевское дворцовое хозяйство. В течение XI века завершилось превращение основной массы свободных общинников в феодально зависимых крестьян. «Свободные» крестьяне, упоминаемые в памятниках XII—XIII вв., являлись в действительности одной из категорий зависимого населения. Но в отличие от других зависимых крестьян они сохраняли право свободного перехода от одного господина к другому. В их повинностях преобладали денежные платежи. Наиболее яркое выражение протест против установления феодальной зависимости нашел . в крестьянских восстаниях 1046 и 1061 гг., участники которых требовали возвращения к язычеству и к дофеодальным порядкам. К концу XIII в. в королевстве Венгрии (на территории, ограниченной Карпатами, рекой Савой и Юлийскими Альпами) сложился единый в правовом отношении класс феодально зависимого крестьянства. При этом произошло улучшение статуса сервов и либертинов и усилилась зависимость «свободных» крестьян. К середине XIII в. произошла качественная унификация крестьянских повинностей, в общей массе которых стала преобладать рента продуктами. Наряду с ней существовала и денежная рента. К концу XIII в. все крестьяне стали обладать правом свободного перехода из одного имения в другое. К середине XIII в. завершается оформление прав и привилегий как отдельных слоев феодалов, так и господствующего класса в целом. В его формировании наряду с венгерскими землевладельцами участвовало также иноземное (немецкое и славяноязычное) рыцарство, селившееся в королевстве и быстро ассимилировавшееся в социальном, языковом и этническом отношениях. Борьба между отдельными группами класса феодалов. В середине XIII в. стало явным усиление экономической и политической мощи крупных светских и церковных феодалов. Еще во второй половине XII в. частное землевладение по размерам уступало королевскому домену. Но с этого времени светские и церковные магнаты значительно расширяют свои владения за счет земельных пожалований из королевского домена. Особый размах пожалования приобрели в правление короля Эндре II (1205—1235), при котором весьма возросло и политическое влияние крупных землевладельцев. В этой обстановке началось движение мелких феодалов — «королевских слуг», поддержанных массой королевских крестьян и одной из соперничавших друг с другом фракций крупных светских феодалов. Эндре II был вынужден издать в 1222 и 1231 гг. «Золотые буллы» (грамоты, скрепленные золотой печатью). Эти акты кодифицировали сложившиеся привилегии различных слоев господствующего класса. Изложенные в этих документах нормы феодального права действовали несколько столетий. Политику королевской власти по отношению к мелким и средним феодалам выражали ее обязательства не жаловать магнатам целые округа замков, платить «королевским слугам» за их участие в заграничных походах, ограждать их от произвола магнатов. Сохранялись и привилегии последних. Классу феодалов было предоставлено «право сопротивления» королю, если он нарушит закрепленные в буллах привилегии. Булла 1231 г. особо оформила привилегии церковных феодалов. Эти пожалования создавали основу для роста сепаратистских устремлений феодалов. Внешняя политика королевства Венгрии. С самого начала существования королевства ему пришлось вести долгую и упорную борьбу с германскими императорами, претендовавшими на превращение королей Венгрии в своих вассалов. Эти попытки окончились крахом (1030, 1046 гг.). В то время короли Венгрии стремились поддерживать дружественные, добрососедские отношения с Киевской Русью. Это продолжалось до конца XI в. Разбив в 1091 г. вторгшихся в королевство половцев, Венгрия внесла свой вклад в защиту народов Европы от восточных кочевников. Начиная с XII в. королевству приходилось считаться с опасностью, исходившей от австрийских маркграфов и герцогои Бабенбергов. Внутриклассовые и династические распри осложняли борьбу королевства и против другого могущественного противника — византийского императора Мануила I Комнина (50—60-е годы XII в.). Королевская власть стремилась компенсировать утрату части домена путем приобретения новых источников дохода, захватывая новые территории. В 1091 г. Ласло I (1077—1095) захватил Белград в приморской Хорватии; в 1092 г. Кальман (1095—1116) короновался там в качестве короля хорват, а в 1105 г. подчинил далматинские города и Южную Хорватию. Взамен уплаты дани в размере трети доходов за этими городами была сохранена автономия. Короли Венгрии предпринимали также попытки, правда, неудачные, подчинить себе Галицко-Волынскую Русь. Тяжелое испытание выпало на долю народов королевства Венгрии в 1241 —1242 гг., когда им пришлось пережить ужасы мон-голо-татарского нашествия. Монголы вторглись в королевство в марте 1241 г. тремя колоннами, главную из которых возглавлял хан Бату. В условиях магнатского засилья и сокращения королевского домена король Бела IV (1235—1270) не располагал достаточными для отпора врагу силами. Собранное им войско было разбито на реке Шайо. Сам Бела IV бежал сначала к австрийскому герцогу, а затем на Далматинское побережье. Ни папа, ни австрийский герцог не оказали Венгрии помощи. Однако дойдя до Адриатики, монгольское войско неожиданно повернуло в русские земли (март 1242 г.). Героическая борьба народов Руси, оттянувшая силы монголо-татар, спасла народы королевства Венгрии от длительного порабощения. Феодальная анархия XIII в. Во второй половине XIII в. происходит дальнейшее ослабление центральной власти. Начинают создаваться крупные территориальные владения нескольких семейств светских магнатов: в Задунайской области — рода графов Неметуйвари (Хенрикфи), в северо-западных землях (на территории совр. Словакии) — рода Чаков, в восточных и северо-восточных — родов Аба и Борша. Каждый из этих магнатских домов, не считаясь с королем, проводил самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, содержал собственное войско, основу которого составляли мелкие феодалы — так называемые фамилиары. Фактической самостоятельностью пользовались в своих имениях и церковные феодалы. Попытки короля Ласло IV (1272—1290) опереться в борьбе против магнатов на поселившихся в королевстве половцев не увенчались успехом. Феодальная анархия достигла пика в правление последнего короля из династии Арпа-. дов — Эндре III (1290—1301) и во время последующего междуцарствия (1301 —1308), когда происходила борьба за венгерский престол между представителями иноземных династий. В междоусобицах особенно сильный урон несло крестьянское хозяйство. Крестьянство и крестьянские движения в XIV—XV вв. В XIV в. в королевстве Венгрии заметен рост производительных сил. Значительна была роль скотоводства, но ведущей отраслью сельского хозяйства к этому времени окончательно стало земледелие. Показателем его прогресса было утверждение двуполья и появления трехполья. Развивались животноводство, рыбоводство, виноградарство. Некоторая часть продуктов сельского хозяйства шла на продажу в города и даже в соседние страны — Чехию, австрийские земли, Польшу. Это оказало влияние и на характер феодальной ренты в XIV—XV вв. В 1351 г, закон закрепил взимание новой натуральной повинности — девятины. Владельцы отдельных имений начали использовать барщину. Одновременно ухудшалось правовое положение крестьян. Если с середины XIII в. до начала XIV в. крестьянство фактически осуществляло право свободного перехода от одного землевладельца к другому, то в первое десятилетие XIV в. был принят закон, по которому переход ставился в зависимость от разрешения прежнего владельца. Многие крупные феодалы в XV в. получали” от королей право высшей юрисдикции в отношении населения их имений — «право меча». Рост феодальной эксплуатации и бесправия крестьян вызвал усиление классовой борьбы, которая проявлялась в форме вооруженных выступлений отдельных общин против феодалов, побегов, отказа от уплаты церковной десятины. С трудом было подавлено феодалами совместное восстание валашских и венгерских крестьян восточных (Трансильвания) и северо-восточных областей королевства (1437—1438). Восставшие требовали уменьшения повинностей и сохранения права свободного выхода из имений, не ограниченного согласием землевладельцев. Развитие городов и горного дела. В XIII в. в королевстве Венгрии появляются центры ремесла и торговли, поселения ремесленников и купцов, оторвавшихся от земледельческого труда и освободившихся от личной зависимости от феодалов. Короли даровали многим таким поселениям городские привилегии. Наиболее крупными городами были Буда, Пешт, Эстергом, Дьер, Шопрон, Секешфехервар, Пожонь (совр. Братислава), Коложвар (совр. Клуж-Напока). Кроме городов в королевстве Венгрии было множество местечек, так называемых сельских городов. Это большие села, среди жителей которых имелись ремесленники, сбывавшие свою продукцию на местном рынке; такие поселения не пользовались городскими привилегиями, а их жители являлись феодально зависимыми частновладельческими или королевскими крестьянами, имевшими самоуправление. Большие сдвиги в развитии городского ремесла произошли в XIV в. В 70-е годы оформляются цехи, объединявшие ремесленников отдельных специальностей. В это время существовало около 25 видов ремесел, охваченных цеховой организацией. Города в Венгрии появились поздно. Их экономический и политический вес, а также доля горожан в общей численности населения были незначительны. Они были средоточием социальных и этнических противоречий. Но в целом города, как и во многих других странах Европы, противостояли феодалам, поддерживая королей в их борьбе против феодальной анархии. Власть в городах находилась в руках отдельных патрицианских семей и часто передавалась по наследству. В состав патрициата входили городские земельные собственники, наиболее богатые торговцы и ростовщики. В это время происходила феодализация городской верхушки: многие представители торгового и ростовщического капитала превращались в феодалов-землевладельцев. Большинство патрициата в городах королевства Венгрии (и значительную часть горожан) составляли немцы. Собственно, на основе их торгово-ремесленных поселений (госпитских сел) и развились города. Так, приход немецких ремесленников и торговцев в аграрную среду венгров способствовал в XII— XIII вв. развитию производительных сил и являлся поэтому прогрессивным явлением. Но в дальнейшем слой ремесленников все более пополнялся венграми, а власть оставалась в руках городской верхушки, немецкой по происхождению. Поэтому противоречия между патрициатом и горожанами принимали характер не только социальной, но и этнической конфронтации. Так, вспыхнувшее в 1439 г. в Буде восстание горожан проходило под лозунгом уничтожения немецкого засилья. В XIV—XV вв. в королевстве Венгрии бурно развивается горное дело. В частности, растет добыча драгоценных металлов и меди. Этому способствовали мероприятия королевской власти, заинтересованной в увеличении доходов от развития горных промыслов. Складывание сословно-представительнои монархии. Формирование основных феодальных сословий создали к началу XIV в. предпосылки для некоторого усиления центральной власти. В ликвидации феодальной анархии были заинтересованы мелкие и средние феодалы, горожане, а также церковь, владения которой страдали от усобиц. Утвердившийся у власти Карл Роберт (из неаполитанской ветви французского Анжуйского дома, 1308—134Z) повел решительную борьбу с политической независимостью магнатских фамилий, в которой его поддержали все социальные слои, заинтересованные в прекращении усобиц. Начался процесс складывания сословно-представительнои монархии. Ввиду экономической слабости города политическая роль горожан была незначительной, и они не были представлены в качестве особого сословия в государственных собраниях, являвшихся с конца XIII в органами представительства только феодалов. Причинами незавершенности складывания сословнопредставительнои монархии непрочности результатов централизации до начала 60-х годов XV в являлись сохранение и возрастание экономической роли, магнатов, сокращение королевского домена, превращение значительной части мелких и средних королевских вассалов в фами-лиаров магнатов, служивших последним за экономическую поддержку и покровительство. После временного укрепления позиции королевской власти при Карле Роберте и Лайоше I (1342-1382) в начале XV в. снова наступила пора политического засилья магнатов. Первая половина правления короля Жигмонда (1387 1437 гг.; как германский император Сигизмунд 1411 — 1437 гг.) была временем наиболее острой междоусобной борьбы магнатских союзов - лиг, — которая осложнялась вмешательством иноземных претендентов на венгерский престол - Карла Неаполитанского и его сына Владислава. Король оказался игрушкой в руках боровшихся феодальных клик и вынужден был делать все новые и новые уступки той группе магнатов, которая в данный момент поддерживала его. Все это происходило в условиях возраставшей угрозы со стороны Османской империи. В 1396 г. османы разбили возглавленное Жигмондом крестоносное рыцарское войско, собранное из стран Западной Европы. Эта неудача, а также поражения под Варной (1444) и на Косовом поле (1448) были закономерны, так как даже перед лицом османской угрозы укрепление центральной власти оказалось объективно невозможным. Внешнеполитические условия сами по себе не могли привести к усилению центральной власти, пока для этого не было достаточных внутренних предпосылок. Усиление центральной власти при правителе Яноше Хуньяди (1446—1452) и его сыне, короле Матьяше Хуньяди (Корвине) (1458—1490), основывалось на установлении временного равновесия сил магнатов, средних и мелких феодалов и стабилизации королевских доходов. С 1453 г. магнаты и дворяне в государственном собрании стали утверждать решения короля о взимании налога. Это был важный шаг в развитии сословнопредставительной монархии. Определенная консолидация сил феодалов в 40—60-е годы обусловила, несмотря на поражения, успехи борьбы Яноша Хуньяди с османской экспансией на Балканах. Решающей стала победа крестоносного ополчения, куда были привлечены массы крестьян и городских низов, под Белградом (22 июля 1456 г.). Она приостановила продвижение османов в Центральную Европу на семьдесят лет. Борьба феодалов королевства Венгрии на Балканах велась во имя их интересов, за сохранение их владений, вассалитета славянских государств. Но диалектическую неоднозначность этой борьбы определяет сочетание экспансионистских целей феодалов королевства Венгрии с несомненно прогрессивными ее результатами для народов Балкан и Среднего Подунавья. Борьба королевства Венгрии сдерживала османскую экспансию на Балканах и в Среднем Подунавье. Второй момент имел существенное значение для судеб народов Центральной Европы. Королю Матьяшу Хуньяди удалось увеличить налоги и на этой основе создать постоянную армию наемников, находившуюся в его (а не магнатов) распоряжении. Он использовал ее, поскольку экспансия османов была приостановлена, для захвата новых источников денежных доходов (которые могли обеспечить самостоятельность центральной власти) — Моравии, Силезии, Верхней и Нижней Австрии, Штирии. Однако уже с 1490 г. феодалы перестали уступать королю ту часть денежной ренты, которую он взимал в виде налогов. Наемники были распущены, указанные приобретения потеряны. Лишившееся постоянного войска и не имеющее помощи извне королевство Венгрия оказалось беззащитным перед лицом османской агрессии. Глава 16. Валахия, Молдавия и Трансильвания до конца XV в. На земли в долинах Карпатских гор и обширные территории к югу от них до среднего течения Дуная, часть которых входила в состав древней Дакии, после падения там в III в. римского владычества не раз устремлялись племена готов, гуннов, гепидов, аваров; они отчасти оседали на этих землях, отчасти продвигались на запад. Вопрос о судьбах местного населения после ухода римлян из Дакии тесно связан с проблемой генезиса восточнороманских средневековых народностей (валахов и молдаван), по которой в исторической науке существуют разные точки зрения. Основываясь на современном состоянии письменных и археологических источников, большинство советских ученых полагают, что у истоков этногенеза восточнороманских народностей стояло местное • романизированное население римской Дакии, большая часть которого переселилась на юг от Дуная, на Балканы. Отсюда в течение длительного периода оно несколькими волнами перемещалось на север от Дуная. В сложном процессе этногенеза валахов, в котором участвовали различные этнические элементы, важная роль принадлежит славянам. Славяне появились в Карпато-Дунайском регионе в VI—VII вв. и прочно осели там, смешавшись с местным населением. Они оказывали значительное влияние на развитие материальной и духовной культуры местного населения, на его социальную организацию. Принято считать, что и этноним «волохи» имеет славянское происхождение. Волохи, или влахи греческих источников, говорили на языке, который восходил к разговорной латыни римской Дакии и затем лег в основу современного румынского языка. К XIV в. относится формирование валашской и молдавской средневековых народностей. Возникновение и развитие феодальных отношений в валашских и молдавских землях. Первые раннегосударственные объединения. Основу процесса феодализации в областях бывшей римской Дакии составляло постепенное разложение первобытнообщинного строя при незначительном воздействии остатков римских рабовладельческих отношений. Этот процесс шел довольно медленно. Еще в X—XIII вв. местное население, вероятно, жило в условиях земледельческой общины. Однако в ней уже существовала имущественная и зарождалась социальная дифференциация. Власть над общиной сосредоточивалась в руках феодализировавшейся родовой знати. Ей принадлежали большие земельные и материальные богатства. Рядовые общинники были вынуждены делать подношения и нести отработочные повинности. Власть вождей-кнезов, опиравшихся на дружину, превращалась в наследственную. Возникали первые политические объединения. В IX в. территория между Дунаем и Южными Карпатами находилась в подчинении у Первого Болгарского царства. В X — XI вв. на земли Восточного Прикарпатья распространилась власть киевских князей. В 1116 г. сюда посылал своих наместников киевский князь Владимир Мономах. В XII в. эти земли входили в состав Галицкого княжества. Складывание феодализма в Карпато-Дунайском регионе происходило под влиянием развивающихся феодальных отношений этих славянских государств. Показательно, что первые местные политические объединения X—XIII вв. возникали в форме славянских «воеводатов» и «кнезатов». Во главе кнезата стоял князь, владевший обширными землями и пользовавшийся военной, судебной и административной властью. Несколько кнезатов составляли воеводство во главе с воеводой или господарем. С конца IX в., а особенно в X в. в Карпато-Дунайских землях стало распространяться христианство, пришедшее сюда с Балкан. Появляются православные монастыри, содействовавшие феодализации общества. Вместе с православием здесь распространилось славянское письмо, использовавшееся до середины XVIII в. в официальном делопроизводстве в Валашском и Молдавском княжествах. Раннегосударственные объединения в Карпато-Дунайских землях до XIII в. были слабо связаны между собой. Налаживанию связей мешали постоянные войны, набеги венгров, печенегов (X—XI вв.), половцев, или куманов (конец XI—XII в.). Наконец, экономика и культура этого края были сильно подорваны монгольским нашествием 1241 г. После двух лет грабежей и насилий основная масса монголотатар отошла на восток. Однако в молдавских землях остались их значительные силы, и около столетия эта область находилась под властью Золотой Орды, испытывая все ужасы ига. Валашские земли также подверглись монголо-татарскому нашествию. Но после отхода татар они оказались в более выгодном положении. Здесь сложились довольно благоприятные условия для объединения мелких кнезатов и воеводств в более крупное княжество. Образование княжеств Валахия (Цара Ромынянска) и Молдавия. В начале XIV в. ряд разрозненных воеводств от Карпат до Дуная объединился в одно государство со столицей в Кымпулунге. В 1324 г. великим воеводой этого государства был Баса-раб I, а само государство стало называться Цара Ромынянска, т. е. Румынская страна. Другое название этого княжества, распространенное в исторической литературе, — Валахия — стало чаще употребляться с XV в. С самого начала основания Валахии ей приходилось противостоять натиску королевства Венгрии, в зависимость от которого валашские земли попали еще в XIII в. Признавая себя формально вассалом венгерской короны, Басараб I смог проводить внешнюю политику, отстаивая интересы Валахии в союзе с Болгарией и Золотой Ордой. Сыну Басараба I Николае-Александру (1352—1364) удалось даже расширить территорию княжества за счет трансильванских земель, принадлежавших Венгрии. В противовес стремлениям венгерской католической церкви распространить свое влияние на валашские земли в 1359 г. в Арджеше была учреждена православная «угро-валашская» митрополия, что имело важное значение для консолидации государства. Молдавские земли до середины XIV в. оставались под властью Золотой Орды, борьбу с которой в этом регионе вели Венгерское королевство и Галицкая Русь. В ходе этой борьбы в Восточном Прикарпатье, в долине реки Молдова, возникло зависимое от Венгерской короны феодальное княжество, управляемое королевским наместником. В 1359 г. в результате восстания местного населения, возглавленного воеводой Богданом, против венгерского короля молдавские земли объединились в единое княжество. Однако полную самостоятельность Молдавии сохранить не удалось. Сын Богдана Лацку (1365— 1373) вынужден был стать вассалом польского короля, принять католичество и основать в новой столице Молдавии — Сирете (первой была Байя) — католическое епископство. Католицизм не пустил глубокие корни на молдавской земле, так как основная масса народа, в том числе и многие бояре, поддерживали православную церковь. В 1401 г. и в Молдавии была учреждена автономная православная митрополия. Укрепление Молдавского княжества произошло в конце XIV в., когда к нему были присоединены земли, ранее находившиеся под контролем Золотой Орды. Экономическое и социальное развитие Валахии и Молдавии. В XII—XIII вв. территории будущих княжеств Валахии и Молдавии были заселены неравномерно. Влахи предпочитали селиться на склонах Карпат и в лесных зонах, тогда как степные районы оставались слабозаселенными. Такому положению способствовали половцы, затем монголо-татары, кочевавшие там, а также то, что сами влахи вели преимущественно пастушеский образ жизни. Наряду с пастбищным животноводством местные жители, в том числе славянское население, занимались земледелием, рыболовством, охотой. В ходе отделения ремесла от сельского хозяйства, развития торговли в XIII—XV вв. стали появляться города: Кымпулунг, Арджеш, Тырговиште — в Валахии; Романов торг (Роман), Сочава (Сучава), Сирет, Малый Галич (Галац), Яськый торг (Яссы), Бухарест и другие — в Молдавии, через которые проходили торговые пути в Северное Причерноморье. Несмотря на опустошения, причиненные монголо-татарскими нашествиями Валахии и особенно Молдавии, в XIV—XV вв. в обоих княжествах наблюдается экономический подъем. Развивается и совершенствуется земледелие, в частности виноградарство и садоводство, скотоводство (коневодство в Молдавии, разведение крупного рогатого скота в Валахии), растут старые и возникают новые города, а вместе с ними и внутренняя торговля, укрепляющая связи внутри обоих княжеств. Однако ремесленное производство в этот период было еще мало связано с рынком, большинство ремесленников работало на заказ. В XIV—XV вв. расширяется внешняя торговля — с Польшей, Германией, странами Востока. Международное значение получил так называемый Молдавский путь из Кракова через Львов и Сучаву к побережью Черного моря, по которому шла транзитная торговля между Востоком и Западом. Города располагались на господарских землях, поэтому доходы от ремесла и торговли давали молдавским и валашским господарям дополнительные ресурсы, что способствовало укреплению центральной власти в обоих княжествах. Ко времени возникновения Молдавского и Валашского княжеств процесс феодализации в них еще не завершился и различался по темпам и по содержанию. В Валахии он шел быстрее. К середине XIV в. феодализирующаяся общинная знать захватила большую часть земель рядовых общинников. В Молдавии формирование частного феодального землевладения происходило за счет пожалований князя, которому изначально принадлежала основная часть земель. В обоих государствах класс феодалов, состоявший из бояр (крупные феодалы), куртеней (мелкие феодалы) и духовенства, освобождался от несения повинностей. Формирование класса феодалов завершилось в XV в., когда общинная знать окончательно потеряла свое значение, слившись частично с классом феодалов, частично — с классом зависимого крестьянства. Продолжалось и складывание феодально зависимого крестьянства, в ряды которого попадали ранее свободные общинники. Низшую категорию составляли холопы, которые вместе с их имуществом считались собственностью хозяина и могли продаваться, обмениваться, наказываться и т. д. Однако большинство крестьян было еще лично свободными. Различались частновладельческие и господарские крестьяне. Первые несли повинности не только в пользу своего феодала, но и в пользу государства. Среди крестьянских повинностей преобладал натуральный оброк. Отработочная рента была нерегулярной и составляла всего 1—6 дней в году (покос, извоз, ремонтные работы). Отсутствие полевой барщины объяснялось слабыми рыночными связями вотчины, а также преимущественным развитием в нем животноводства по сравнению с хлебопашеством. Особенностью положения валашского и молдавского крестьянства можно считать то, что крестьяне участвовали в господарском войске. Это до поры до времени ограничивало их эксплуатацию частными феодалами. В XIV—XV вв. за крестьянами сохранялось право свободного перехода. Организация феодального государства в Валахии и Молдавии. В течение XIV и XV веков в Валахии и Молдавии укреплялась центральная княжеская власть. В обоих государствах были организованы государственный аппарат и органы власти в центре и на местах. Во главе каждого из княжеств стоял господарь, избираемый светскими и духовными феодалами. Отсутствие наследственной власти господарей было причиной жестоких боярских распрей в борьбе за престол. Власть господарей ограничивалась боярским советом. В руках крупнейших феодалов — «великих бояр» — находились все высшие правительственные органы и должности. Им подчинялись «малые бояре», ведавшие местным управлением. До середины XV в. в принятии важнейших внешне-и внутриполитических решений участвовали широкие собрания светских и духовных феодалов (рады). Горожан на такие собрания не приглашали. Позже рады утратили свое значение. Господарь назначал правителей в округа для осуществления судебно-административной власти на местах. Местное судопроизводство велось на основе обычного права. Правители округов являлись высшими сановниками страны, входили в боярский совет, а на войне возглавляли отряды, состоявшие из приведенных ими служилых людей. Представители местного управления не получали жалованья за свою службу, а жили за счет доходов от населения. Православная церковь служила опорой княжеской власти, защищала интересы класса феодалов, являлась крупным земельным собственником. Создание митрополий в Валашском (1359) и Молдавском (1401) княжествах способствовало их консолидации.. Трансильвания в X—XV вв. До X в. Трансильвания — земли за Бихарским лесным массивом — разделяла судьбы всего региона между Дунаем и Тиссой. Для нее в целом характерны те же этнические, социальные и политические процессы. В конце IX в. в Трансильванию вторглись венгерские племена. Первый венгерский король Иштван I (1000—1038), победив трансильванского правителя, включил Трансильванию в состав своего королевства и поделил ее территорию на административнотерриториальные округа (замковые комитаты). Во главе их король поставил своего наместника — вайду (воеводу), который осуществлял в Трансильвании военную, финансовую и судебную власть. Этническая карта Трансильвании отличалась большой пестротой. Помимо влахов, славян, половцев (переселившихся сюда с XIII в.) на ее землях обосновались венгры, в том числе их особая этническая группа — секеи, которые до XV в. жили общинами и пользовались королевскими привилегиями за несение военной службы в королевском войске и на границе. В XII—XIII вв. венгерские короли селили там на правах госпитов также немцев (названных саксонцами) — земледельцев и ремесленников, предоставив им налоговые и торговые привилегии, что ускорило процесс возникновения городов именно на этих землях. Во главе секейской и саксонской областей стоял особый чиновник, назначавшийся королем и подчинявшийся ему. В XV в. саксонские округа получили право выбирать своего главу. Феодально зависимое крестьянство — иобагионы — несли натуральные и денежные повинности в пользу своих феодалов, воеводы и короля. До середины XV в. они пользовались правом свободного перехода, которое позже стало ограничиваться. Дольше всего свободная община сохранялась у секеев и влахов-пастухов, живших в приграничных областях, чему способствовало несение ими королевской военной службы, хотя беднейшая часть общинников все же попадала в зависимость к земельным магнатам. В то же время шло формирование феодальной знати, которая вливалась в господствующий класс Трансильвании. В ходе борьбы с магнатами королевская власть искала поддержку мелких и средних феодалов, предоставляя им различные права в местном управлении. Так в Трансильвании, как и в других областях королевства, с XIV в. формировалось комитатское дворянское самоуправление, главную роль в котором играло дворянское комитатское собрание. Заметное место в хозяйственной и социальной жизни Трансильвании занимали города, среди которых выделялись Клуж (Ко-ложвар), Брашов, Бистрица (Бестерце), Сибиу (Себен) и др Города возникали и в местах добычи полезных ископаемых (соли, драгоценных металлов, медной руды), которыми были богаты горы Трансильвании. Углубление разделения труда способствовало возникновению цеховой организации. Трансильванские города имели тесные торговые контакты с Валахией, Молдавией, Балканскими странами, Причерноморьем, а также с Чехией, Германией и Польшей. Отсутствие емкого внутреннего рынка приводило к тому, что внешние связи, особенно с Дунайскими княжествами, стали превалировать в торговле трансильванских городов Формировался и городской патрициат, подавляющее большинство которого принадлежало к немецкому этническому элементу. Это обстоятельство придавало особый оттенок социальным противоречиям в городах. Крестьянские движения XV в. Наступление феодалов на общинную организацию и общинные земли, складывание феодальной зависимости, ограничение крестьянского перехода, усиление податного гнета, стремление феодалов разными методами отстранить крестьян от выгодной для них рыночной торговли — все эти негативные явления вызывали сопротивление крестьянства, принимавшее подчас форму открытых восстаний. Волна локальных крестьянских движений прокатилась в середине XIV в. в Трансильвании. Они продолжались и позже. В 1408 г. восстали крестьяне Тимишоары, в 1434—1435 гг. — областей Фогараша и Марамуреша. Кульминационным пунктом крестьянской антифеодальной борьбы стало охватившее в апреле 1437 г. всю Трансильва-нию и Северо-Восточную Венгрию восстание, в котором совместно выступили валашские и венгерские крестьяне. К ним присоединилась городская беднота. Центром движения стал холм Бобыльна, где по примеру чешских гуситов повстанцы устроили укрепленный лагерь и организовали войско. Учение таборитов стало идейной основой движения. Восставшие захватывали города и замки. Они одержали не одну победу над дворянским ополчением и на первом этапе добились у феодалов удовлетворения требований возобновить свободный крестьянский переход, сократить повинности, разрешить созывать крестьянские собрания для контроля за выполнением феодалами их обещаний. Однако в феврале 1438 г. восстание было подавлено. Для его разгрома венгерские и секейские феодалы, а также саксонский патрициат заключили между собой соглашение о совместных действиях — так называемую трансильванскую унию трех «народностей» («наций»), которая впоследствии много раз возобновлялась и превратилась в постоянный союз, направленный не только против угнетенных, но затем, в начале XVI в., и против королевской власти. Союз, кроме того, имел целью регулировать взаимоотношения трех «наций». Венгерское, секейское и саксонское феодально зависимое крестьянство не включалось в эти «нации». Большое крестьянское восстание произошло в 1490—1492 гг. в северной части Молдавии. 10тысячная крестьянская армия во главе со своим вождем Мухой двинулась из Молдавии в Галицкую землю, убивая молдавских бояр и польских панов, сжигая их усадьбы. Только объединенные силы польского короля и рыцарей Тевтонского ордена смогли подавить это восстание молдавских крестьян. Внешнеполитическое положение Валахии и Молдавии в условиях экспансии Османской империи. Некоторое усиление центральной власти, достигнутое в XIV—XV вв. в Валахии и Молдавии, позволило этим княжествам упорно сопротивляться многочисленным внешним врагам, в частности такому мощному противнику, как турки-османы. Разгромив в 1389 г. на Косовом поле сербские войска, турки вышли на левый берег Дуная и двинулись на север. Однако войска валашского господаря Мирчи, который заключил с венгерским королем Жигмондом (Сигизмундом) Люксембургом договор, направленный против Османской империи, одержали в 1394 г. серьезную победу над турками в битве при Ровине. И хотя вскоре под давлением превосходящих турецких сил, на короткое время занявших Валахию, Мирче все же пришлось согласиться на уплату дани султану, борьба против турок не прекратилась. В 1444 г. валашские войска участвовали в битве под Варной на стороне трансильванского воеводы Яноша Хуньяди. Позднее, при господаре Владе Цепеше (1456—1462), валашские войска нанесли османам ряд поражений. В еще более сложных условиях развертывалась борьба молдавского княжества против Османской империи. В первой половине XV в. венгерская корона не оставляла своих попыток поставить Молдавию в вассальную зависимость. Со второй половины XV в. начинается венгерско-польское соперничество в этом направлении. В сложных условиях правители Молдавии были вынуждены лавировать, признавая зависимость то от Венгрии, то от Польши. Положение осложнялось еще и тем, что после смерти Александра Доброго (1400—1432), укрепившего княжескую власть, в Молдавии долгое время шла жестокая борьба за престол между различными боярскими группировками, окончившаяся в результате консолидации господарской власти только при Стефане III (1457—1504). Будучи искусным дипломатом, Стефан III, заключая союзы то с одним, то с другим своим противником против остальных, добился значительных успехов. Признав зависимость от польского короля, он в 1467 г. разгромил у Байи армию венгерского короля Матьяша Корвина, вторгшегося в Молдавию, и принудил его отступить. Это дало возможность Молдавии сосредоточить свои силы против османов, которые в 1474 г. вторглись в молдавские земли. 120-тысячная армия Мехмеда II, втрое превосходившая армию Стефана III, в январе 1475 г. потерпела поражение в битве у Вас-луя. И хотя вскоре (летом 1476 г.) османы взяли реванш в битве при Валя Алба, в том же году молдавское войско, состоявшее в основном из крестьян, вновь нанесло ряд поражений армии султана. Силы, однако, были неравными. Многочисленные османские набеги, захват османами в 1484 г. южных крепостей — Килии и Белгорода Днестровского — ослабили Молдавское княжество. Сложные отношения с Венгрией и Польшей делали также неустойчивым военное положение Молдавии, и она была вынуждена перейти от конфронтации к мирным отношениям, продолжая выплачивать туркам ежегодную дань. В противоборстве двух мощных противников — Габсбургской и Османской империй, — которое определяло расстановку сил в Центральной и Юго-Восточной Европе, Молдавия, Валахия так же, как и Венгрия, с которой они боролись, были не в состоянии сохранить независимость и сдержать натиск османов. Глава 17. Византия в конце XI-XV в. § 1. Византия в конце XI—XII в. Феодальная вотчина в конце XI—XII в. Оформление основных институтов феодального общества в Византии завершилось на рубеже XI—XII вв. Сложилась в главных чертах феодальная вотчина, и большая часть свободного ранее крестьянства была превращена в феодально зависимых держателей. Отражая интересы крупных землевладельцев, центральная власть предоставляла феодалам все более широкие привилегии. Феодалы все чаще получали «экскуссию» — полное или частичное освобождение от налогов (феодал отныне собирал их в свою пользу) и изъятие их земель из-под контроля чиновников императорского фиска. Нередко государство выдавало вотчиннику грамоту на право сбора судебных пошлин, т. е. фактически предоставляло ему судебные права, исключая лишь случаи наиболее тяжких преступлений. Складывался иммунитет феодального поместья, сходный с западноевропейским (см. гл. 4). Доходы с государственных и императорских земель составляли лишь часть доходов казначейства. Основным их источником и в XI—XII вв. оставались налоги, взимавшиеся со свободных крестьян и с париков тех вотчинников, которые не имели податной экскурсии. Поэтому центральная власть не была заинтересована в полном лишении париков личной свободы и в предоставлении вотчинникам всей полноты власти над крестьянами. Сдерживая децентрализаторские тенденции феодалов, стремясь привязать их к престолу, императоры стали еще шире, чем в X в., жаловать им доходы от налогов с определенной территории. Широкое развитие, особенно во второй половине XII в., получили пожалования вида прении (см. гл. 5, § 2). Пронин давались на срок жизни при условии несения преимущественно военной службы. Принципиальная новая черта пронии с середины XII в. состояла в том, что в пронию отдавались теперь не государственные земли с париками казны, как это было ранее, а земли со свободными крестьянами. Обладатель пронии получал одновременно право управлять пожалованной территорией. Современники сравнивали пронию с западноевропейским бенефицием. Вскоре прения обнаружила тенденцию к превращению в наследственное владение. Зародившись как средство укрепления государства, прения логикой самого развития феодализма стала средством усиления феодалов, способствующим феодальному раздроблению страны. Крупные вотчинники и прониары имели свои вооруженные отряды. Некоторые магнаты могли выставить до тысячи воинов. У них имелась собственная клиентелла, многочисленная челядь. Усадьба магната была укреплена, при его дворе вводились порядки наподобие порядков царского дворца. Феодальный город в конце XI—XII в. Начавшийся в IX в. подъем ремесла и торговли привел в XI—XII вв. к расцвету провинциальных городов. Феодальная вотчина увеличивала производство продуктов на продажу. Более тесными становились экономические связи в районах, прилежащих к местным рынкам. Не только в городах, но и близ крупных монастырей и светских вотчин периодически устраивались ярмарки. На ярмарку в Фессало-нике съезжались купцы со всего Балканского полуострова и других провинций империи. В отличие от западноевропейских византийские города не принадлежали отдельным феодалам и не испытывали их непосредственного гнета. Они находились под властью государства. Здесь не было основы для его союза с горожанами против непокорных феодалов: доходы казны от налогов с горожан приобретали все большее значение по мере упадка свободного крестьянства. Города не получали никаких привилегий. Торгово-ремесленная верхушка пыталась организоваться для борьбы за свои интересы, за право контролировать хозяйственную жизнь города, но государство решительно пресекало эти попытки. Городами управляли императорские чиновники, опиравшиеся на гарнизоны, которые состояли в это время преимущественно из наемников. Местные феодалы, пользуясь возраставшими привилегиями, укрепляли свои позиции в городе. Они приобретали дома, подворья, склады, лавки, мастерские, причалы, суда и все чаще сами, без посредничества торговцев, продавали продукцию своих вотчин. С конца XI в. императоры, начавшие широко прибегать к военной помощи на море итальянских городских республик (Венеции, Генуи, Пизы), стали предоставлять им многочисленные льготы, прежде всего права беспошлинной торговли во всех или в наиболее крупных городах империи. Местные торговцы оказались в худших условиях, чем иноземные. Феодалы развернули оптовую торговлю, с итальянцами, предлагавшими лучшие цены, чем купцы империи, вынужденные вносить высокие пошлины и налоги в казну. Таким образом, горожанам пришлось вести тяжелую борьбу и с феодалами, и с государством, защищавшим интересы феодалов. Поставленные в крайне невыгодные условия, византийские ремесленники и торговцы не могли выдержать конкуренцию с итальянскими. К концу XII в. признаки надвигавшегося упадка в провинциальных городах проявились еще слабо, в столице же они быстро нарастали. Консервативное управление ремесленными и торговыми корпорациями, мелочная опека государства, система ограничений и запретов, высокие налоги и пошлины — все это препятствовало ремесленному производству и торговле, которые стали хиреть. Итальянские торговцы продавали все больше изделий иноземного ремесла, которые были дешевле византийских, а вскоре превзошли их и по качеству. Внешняя политика империи при Комнинах. При воцарении Алексея I Комнина (1081 —1118) положение империи было крайне тяжелым. Турки-сельджуки отняли у Византии почти всю Малую Азию. Норманны в 1081 г. высадились на Адриатическом побережье, захватили важный стратегический пункт — Диррахий (Драч), разграбили Эпир, Македонию, Фессалию. Войска империи терпели поражения. Лишь в 1085 г., с помощью Венеции, купцам которой император пожаловал большие торговые привилегии» норманны были вытеснены с Балкан. Но тогда же возникла еще более серьезная опасность. Печенеги, совершавшие ранее лишь кратковременные набеги на Балканы и обычно уходившие за Дунай, стали обосновываться в пределах империи. Поход Алексея I против них завершился разгромом его армии. Печенегам помогали половцы, полчища которых также вторглись на Балканы. Сельджуки вступили в переговоры с печенегами о совместном нападении на Константинополь. Отчаявшийся император обратился на Запад с просьбой о помощи. Спешно увеличивалось наемное войско. Алексею I удалось разжечь вражду половцев и печенегов. Весной 1091 г. с помощью половцев печенежская орда была почти полностью уничтожена византийцами во Фракии. Дипломатическое искусство Алексея I в его отношениях с участниками Первого крестового похода позволило сначала вернуть Никею, а затем, после побед западноевропейских рыцарей, в условиях междоусобий v сельджуков, отвоевать весь северо-запад Малой Азии и все Южное побережье Черного моря. Положение империи значительно укрепилось. Глава Антиохийского княжества Боэмунд Тарентский признал Антиохию фьефом Византийской империи. В 1122 г. полчища печенегов снова разорили Фракию и Македонию, но Иоанн II Комнин (1118— 1143) разбил кочевников. Печенежская угроза была ликвидирована навсегда. Вскоре произошло столкновение с Венецией. Иоанн II попытался лишить венецианцев, обосновавшихся в Константинополе и других городах империи, обременительных для Византии привилегий. В ответ флот Венеции опустошил острова и прибрежные районы и вынудил императора подтвердить льготы. Опасными были враги империи и на Востоке. В войнах с турками-сельджуками Иоанну II удалось отвоевать Южное побережье Малоазийского полуострова, но борьба с крестоносцами за Сирию и Палестину лишь ослабила страну. Сильные позиции империя сохранила только в Северной Сирии. С середины XII в. центр тяжести внешней политики Византии был перенесен в Европу. Империя отразила новый натиск сицилийских норманнов на Адриатическое побережье, острова Корфу, Коринф, Фивы и острова Эгейского моря. Попытка Мануила I Комнина (1143—1180) перенести войну с норманнами в Италию кончилась разгромом его войска. Однако Мануилу удалось утвердить свою власть в Сербии, вернуть Далмацию и поставить Королевство Венгрию в вассальную зависимость. Победы эти стоили огромной затраты сил. Образованный в 70-е годы XI в. в Малой Азии турками-сельджуками Иконийский (Румский) султанат оказывал постоянное давление на границы империи. В 1176 г. сельджуки наголову разгромили армию Мануила при Мириокефале. Византия была вынуждена перейти к обороне на всех своих границах. Византия в конце XII в. К концу XII в. внутриполитическое положение империи стало неустойчивым. После смерти Мануила I властью овладела придворная камарилья во главе с регентшей при малолетнем Алексее II Марией Антиохийской. Казна расхищалась. Мария открыто покровительствовала итальянцам, у которых искала опору против собственного народа. Столица кипела от негодования. В 1182 г. восставший народ расправился с обитателями богатых итальянских кварталов, обратив их в руины. Воспользовавшись народным движением, власть захватил представитель боковой ветви Комнинов Андроник I Комнин (1183— 1185). Прийдя к власти вопреки воле крупных феодалов, Андроник в борьбе с ними искал опоры у мелких землевладельцев и купечества. Он отменил так называемое береговое право, обычай, позволявший грабить купеческие суда, когда они терпели бедствие. Пресекая лихоимство чиновничества, император установил точные размеры налогов и упорядочил их сбор, компенсируя доходы чиновников более высоким жалованьем. Продажа должностей была запрещена. Имущество недовольных представителей знати конфисковалось. Современники сообщают об оживлении ремесла и торговли в правление Андроника и о некотором улучшении в положении крестьянства. Но реформы были половинчатыми и не вели к глубоким переменам. Сложившаяся государственная система империи осталась неприкосновенной. Налоги по-прежнему были крайне тяжелыми. Андроник восстановил отмененные ранее привилегии венецианцев. Купечество Константинополя выражало недовольство такой политикой. Столичная знать и провинциальная феодальная аристократия поднимали против Андроника восстание за восстанием. Соперничавшие ранее феодальные группировки объединились против императора. Андроник ответил неслыханным террором, прибегнув к массовым князям. В 1185 г. сицилийские норманны вновь вторглись в империю (их помощи против Андроника просили опальные вельможи), захватили и подвергли разгрому Фессалонику. Против императора был составлен заговор. Его схватили и зверски убили. Власть захватил крупный феодал Исаак II Ангел (1185— 1195). Он отменил нововведения Андроника. Конфискованные им владения знати были возвращены прежним собственникам или их наследникам. Исаак II щедро раздавал в прению остатки земель со свободным крестьянством. Казна растрачивалась на пиры и увеселения. Налоговый гнет возрос еще более. Среди чиновничества процветало взяточничество. Армия слабела. Флот находился в плачевном состоянии. Аппарат государственной власти был поражен глубоким кризисом. Империя в целом переживала кризис. Резко сокращались ее границы. Еще в 1183 г. венгры захватили Далмацию, сербы наступали на Македонию. В 1184 г. отложился Кипр. В 1186 г. на Балканах образовалось Второе Болгарское царство, чью независимость Византия признала в 1187 г. В середине 90-х годов XII в. крупнейшие феодалы Македонии отказались повиноваться императору. В 1190 г. империя признала независимость Сербского государства (оно сложилось в X в., но в начале XI в. сербские княжества были подчинены Византией). Развал империи вызвал новые смуты при дворе. Исаак II был свергнут своим братом Алексеем III (1195—1203). Классовая борьба. Еретические движения. Крестьянские антифеодальные выступления в конце XI—XII в. отличались наибольшим размахом преимущественно в тех районах, где сохранялось свободное крестьянство. В последней четверти XI в. в провинциях империи на Балканах, особенно во Фракии и Македонии, оживилось движение павликиан. Его центром был Филиппополь. В 80-х годах XI в. еретики подняли здесь открытое восстание, изгнали чиновников и отказались повиноваться императору. Высланная против них армия была разбита. Второе восстание они подняли в начале XII в. Алексею I удалось хитростью схватить предводителей павликиан и обезоружить их главные силы. Вожаки еретиков погибли в тюрьмах, остальные подверглись конфискации имущества и были переселены на новые места. Одновременно усилилось влияние богомильства, причем не только на болгарских землях (где это еретическое движение возникло еще в X в.), но и в областях с греческим населением, в том числе в городах. Название ереси, как полагают, восходит к имени священника Богомила (Богумила), возглавившего в X в. первую богомильскую общину в Болгарии. Учение богомилов, близкое к учению павликиан, также отражало социальный протест угнетенного крестьянства и городской бедноты против феодальной эксплуатации, против гнета государства и господствующей церкви. Богомилы не признавали учения официальной церкви, церковной иерархии и церковных обрядов. Они создали свою религиозную систему, построенную, как и павликианство, на дуалистической основе (см. гл. 5, § 1). Богомилы вели аскетический образ жизни, жили законспирированными общинами. Победы своих идеалов они ожидали вне материального мира, царства зла, а в загробном мире. Однако понятными народу и зовущими его на борьбу были социальные идеи богомилов, отвергавших все устои феодального строя. Они призывали не повиноваться властям и не трудиться на господ. Богомилы подверглись жестоким преследованиям. Их глава Василий был в 1111 г. публично сожжен живым в Константинополе. В XII в. вспыхнул ряд восстаний в Малой Азии. Чрезвычайно накалилась обстановка в городах, особенно в Константинополе. Налоговый гнет и мелочная опека государства душили ремесло и торговлю. Константинопольцы восставали в 1181, 1182, 1185 и 1186 гг., но восстания неизменно подавлялись. У повстанцев не было ни отчетливого понимания социальных причин своих бедствий, ни ясности цели, ни союзника в деревне. Столичная знать в критические минуты направляла гнев народа против иноземцев. Обстановка в Константинополе была крайне сложной и тревожной, когда под его стенами появился флот участников Четвертого крестового похода. § 2. Византия в XIII—XV вв. Четвертый крестовый поход и Латинская Романия. Наступивший с конца XII в. кризис усилил процесс децентрализации Византии, облегчил успехи завоевателей. Еще в 1185 г. сицилийский король Вильгельм II отторгнул у Византии Ионические острова. В 1191 г. английский король Ричард I овладел Кипром, уступив его через год бывшему иерусалимскому королю Ги де Лузиньяну. Возникло самостоятельное Кипрское королевство (1192—1489). Однако систематический захват византийских земель начался в ходе Четвертою крестового похода. 13 апреля 1204 г. его участники взяли штурмом Константинополь. Византия пала и на ее месте образовалась Латинская империя (1204—1261). Но крестоносцам не удалось осуществить план подчинения всех земель, некогда принадлежавших Византии: этому помешало сопротивление местного населения малоазийских и балканских провинций, а также Болгарского царства. В северо-западной части Малой Азии возникло самостоятельное греческое государство — Никейская империя, в Южном Причерноморье — Трапезундская империя, на западе Балкан — Эпирское государство. Все они в той или иной мере считали себя наследниками Византии и боролись за ее восстановление. Тем не менее западноевропейскими рыцарями, венецианцами, а позднее и генуэзцами были основаны государства и колонии, протянувшиеся от Ионического до Черного моря. Их совокупность получила название Латинской Романии (так как в Западной Европе Византию нередко называли Романией). В состав Латинской Романии входили: Латинская империя со столицей в Константинополе и государства «франков» на Балканах; владения Венецианской республики, колонии и фактории генуэзцев, территории, принадлежавшие духовно-рыцарскому ордену госпитальеров (иоаннитов): Родос и острова Додеканеса (1306— 1522). Латинская империя. После того как Константинополь перешел в руки латинян, совместная комиссия, состоявшая из венецианцев и франков, избрала императором одного из вождей похода, графа Фландрии и Эно Балдуина I. По форме как бы восстанавливалась византийская государственность, сохранялся пышный церемониал и титулатура византийских монархов. Но по существу Латинская империя строилась на основе разветвленной феодальной иерархии французского образца. Централизация страны была поверхностной. Императору непосредственно принадлежала лишь часть Константинополя (другой частью владели венецианцы) и завоеванные впоследствии Фракия и северо-западная часть Малой Азии. Правители других государств Латинской Романии считались вассалами императора, но их зависимость от него была номинальной. На Балканах были основаны Фессалоникское королевство (1204—1224), Афинская сеньория, затем герцогство (1205—1456), Морейское или Ахейское княжество (1205—1432). Латинская империя, формально объединившая эти владения, оказалась непрочной. Балдуин Фландрский сразу же отказался от любого сотрудничества с греками и вступил в конфликт с болгарским царем Калояном, разгромившим войска империи в битве при Адрианополе (1205). От этого поражения Латинская империя не смогла оправиться. Несмотря на временную стабилизацию, достигнутую при преемнике Балдуина Генрихе I (1205—1216), силы ее таяли, ожидаемого притока рыцарей с Запада не было. Терявшее одно владение за другим, это государство пало в 1261 г. Подобную же судьбу разделило и Фессалоникское королевство. Иначе складывалась ситуация в Центральной и Южной Греции. Вся земля была разделена на рыцарские лены, приносившие владельцу до-ход около 300 анжуйских ливров в год. Бароны считались пэрами Морейского княжества и владели десятками ленов. Самый крупный домен принадлежал князю Морей. В иерархическую структуру господствующего класса были, однако, включены и греческие феодалы, слой которых был достаточно многочисленным и обеспечивал власти морейских князей большую устойчивость. «Франки» принесли в Грецию феодальные отношения, основанные на широком распространении домениального хозяйства. Повсеместно усилилась частноправовая зависимость крестьян от сеньора, возросла барщина. Основной категорией зависимого крестьянства были парики, или вилланы, лишенные личной свободы. Вилланский статус был пожизненным. Греческие феодалы — архонты — сохранили в Морейском княжестве свои земли и привилегии, особый правовой статус. Совладение отдельными территориями, смешанные браки способствовали сближению двух этнически разных групп господствующего класса. Медленно, но неуклонно развивались процессы эллинизации «франков», усваивавших язык и традиции местного населения. Консолидации Морейского княжества способствовало и то, что православная церковь сохранила здесь отчасти свои позиции: весь низший клир оставался греческим и лишь верхушка епископата принадлежала к римскокатолической церкви. Морейские князья сознавали, что унификация обрядов и полное подчинение церкви папству резко усилят сопротивление местного населения господству «франков». В XV в. Морейское княжество было завоевано византийцами (1428—1432), а Афинское герцогство — османами (1456). Венецианская Романия. В отличие от «франков» венецианцы не стремились к созданию большого государства на территории Византии. Они добивались обеспечения торговой монополии своей республики в Восточном Средиземноморье, контроля над коммуникациями и главными рынками Романии. После Четвертого крестового похода Венеция приобрела торговые кварталы Константинополя, остров Крит, порты Корон и Модон на Южном Пелопоннесе, острова в Ионическом море. Постепенно Венеция расширяла свои владения за счет важных крепостей Греции (Нав-плий, Монемвасия и др.) и островов в Эгейском море (Эвбея, Спорады и Киклады и др.). Крупнейшим ее приобретением в XV в. стал Кипр (1489). Города венецианской Романии играли первостепенную роль в посреднической торговле Венеции с Востоком. Кроме того, они были поставщиками сельскохозяйственной продукции Романии, особенно зерна, на венецианские рынки. На Крите и других островах земли были поделены между государством, венецианскими колонистами, церковью и греческими архонтами. Венецианские колонисты находились в более привилегированном положении, чем архонты. Они монополизировали управление и внешнюю торговлю. На Крите увеличились отработочные повинности крестьян, возросли налоги. Недовольство крестьян усилением эксплуатации и архонтов — политическими и экономическими ограничениями — привело к резкому обострению классовой и социальной борьбы. С 1212 по 1367 г. на Крите произошло 12 крупных выступлений против венецианского владычества. Это заставило республику пойти на уступки местной знати, многие представители которой вошли в состав привилегированного чиновничества, а также на некоторое смягчение эксплуатации крестьян. С середины XIV в. усиливалась консолидация господствующего класса, шел процесс эллинизации венецианских колонистов. Вместе с тем быстрое развитие товарно-денежных отношений способствовало освобождению крестьян за выкуп, росту торгово-ремесленных слоев. В XV—XVI вв. Крит был важным центром греко-венецианской культуры, испытывавшей влияние итальянского Ренессанса. Генуэзская Романия. Генуя не приняла участия в Четвертом крестовом походе и для образования торговых колоний и факторий в Романии воспользовалась договором с никейским императором Михаилом VIII (1261). После восстановления Византии и падения Латинской империи генуэзцы основали в Галате, на противоположном от Константинополя берегу Золотого рога, свой город-крепость — Перу. Затем, с конца 60-х годов XIII в., они приступили к колонизации Крыма, где их важнейшим оплотом стал город Каффа (Феодосия). Постепенно сеть генуэзских факторий покрыла все берега Черного и Азовского морей. Наибольшее значение из них имели Солдайя (Судак), Чембало (Балаклава), Тана (Азов), Самастро (Амастрида), Севастополис (Сухуми). С середины XIV в. и до 1475 г., когда Каффа была завоевана османами, генуэзцы фактически контролировали торговлю в Азо-во-Черноморском бассейне. В Эгейском море им принадлежал остров Хиос (1346—1566) и Фокея с богатыми месторождениями квасцов. Генуэзская династия Гаттилузи управляла островами Лесбосом и Фасосом, а в XV в. — и Лемносом. В отличие от Венеции Генуя, с ее слабым центральным управлением, предоставляла дело организации факторий частным лицам или объединениям предпринимателей, банкам. Фактории обладали значительной самостоятельностью и управлялись избираемыми на год консулами и небольшим штатом финансовых и судебных чиновников. Генуэзское население было в подавляющем меньшинстве в городах Романии, и оно довольно быстро наладило прочные связи с феодальной и городской верхушкой тех областей, где устраивались фактории. Так как в генуэзской колонизации довольно широко участвовали не только купцы, но и городские низы, матросы и ремесленники, последние три группы нередко сближались по положению с эксплуатируемым местным населением городов Черноморья или Эгеиды и вместе с этим населением участвовали в борьбе против городского патрициата. Города и фактории генуэзцев в Северном (Каффа) и Северо-Восточном (Тана, Мапа-Анапа) Причерноморье были крупными центрами работорговли и экспорта рабов в Европу и мамлюкский Египет. Греческие государства в первой половине XIII в. Первые попытки отдельных греческих архонтов организовать сопротивление латинянам, народные выступления против их владычества не имели успеха. Однако с 1205 г. в Вифинии, вокруг не занятых крестоносцами городов Брусса и Никея, складывается ядро новой государственности — Никейской империи. Города Малой Азии, вошедшие в ее состав, были развитыми центрами ремесла и торговли, а земли отличались плодородием. Основатель государства Феодор I Ласкарь (1205—1222) не располагал большими денежными средствами. Однако он унаследовал много бывших императорских поместий, владения константинопольских церквей и монастырей, захваченных латинянами. Эти земли он использовал для раздачи в пронии, как правило, без права передачи их по наследству и с условием обязательного несения прониаром воинской службы. Опираясь на прониаров, а также на отряды пограничных военных поселенцев — акритов и зажиточных свободных крестьян — стратиотов, Феодор I создал эффективную армию, остановившую продвижение латинян в Малой Азии. Его преемник, талантливый полководец и администратор Иоанн III Ватац (1222— 1254), перенес военные действия на Балканы, осуществил там значительные завоевания и подготовил падение Латинской империи. Ему, однако, пришлось вступить в борьбу с другим греческим государством — Эпирским царством (1204—1337). В отличие от Никейской империи, Эпирское царство распадалось на множество полусамостоятельных феодальных владений и наместничеств. Архонты Эпира властвовали в городах. Неравномерность экономического развития отдельных областей и пестрый состав его населения (греческого, албанского, славянского и влашского) усиливали децентрализованность. В 1230 г. Эпирское царство было разгромлено болгарами, а в 40—50-е годы XIII в. — никейцами и вышло из борьбы за восстановление Византии. Третье государство возникло в Южном Причерноморье, в области Понт. Отрезанная от остальной части Малой Азии высокими горными хребтами, эта область издавна тяготела к политической самостоятельности. В 1204 г. при поддержке войск грузинской царицы Тамары, там образовалась Трапезундская империя (1204—1461) во главе с Великими Комнинами, потомками известной византийской династии. В первые годы своего правления трапезундские Комнины приняли участие в борьбе за восстановление Византии, но после поражений, нанесенных им Феодором I Ласкарем и сельджуками, вышли из борьбы. Трапезундская империя занимала выгодное географическое положение на магистральных путях торговли Западной Европы со странами Востока; она была одной из наиболее густонаселенных областей византийского мира. Восстановление Византийской империи. Значительные экономические ресурсы, близость к Константинополю, победы над соперниками предопределили успех Никейской империи в борьбе за восстановление Византии. В 1259 г. в битве при Пелагонии никейские войска разгромили союзную армию эпирских правителей и морейского князя, наиболее сильного из государей Латинской Романии. В 1261 г. почти без сопротивления отряды никейского императора Михаила VIII Палеолога заняли Константинополь. Латинская империя прекратила свое существование. Однако и восстановленная Византия была лишь подобием некогда огромной державы. В нее вошли западная часть Малой Азии, часть Фракии и Македонии, острова в Эгейском море и ряд крепостей на Пелопоннесе. Внешнеполитическое окружение Византии было неблагоприятным: на западе возникла враждебная ей коалиция, куда входила и Венеция, во главе с сицилийским королем Карлом I Анжуйским, на востоке росла турецкая угроза, на севере империю теснили болгары и сербы. Михаил VIII Палеолог (1259— 1282) был опытным политиком. Еще накануне захвата Константинополя он предоставил большие торговые льготы генуэзцам, рассчитывая на поддержку их флота против венецианцев и Карла Анжуйского. В 1274 г. он пошел на заключение унии с папством, чтобы расколоть враждебную коалицию, что ему и удалось сделать. Против болгар Михаил VIII стремился использовать орды монгольского хана Ногая. Казалось бы, внешнеполитическая угроза была устранена. Однако резко выросла внутренняя оппозиция Михаилу VIII из-за непопулярности его униатской политики у греческого населения и его пособничества крупным феодалам в ущерб городам, акритам (которых он стал облагать высокими налогами) и основной массе сельских жителей. Поздневизантийский феодализм (XIII — середина XV в.). В конце XIII — середине XV в. господство крупного феодального землевладения, как светского, так и церковного, еще более упрочилось. Прония вновь приобретает форму наследственного условного владения, приближаясь к западноевропейскому феоду. Существенно расширяются иммунитетные привилегии феодалов: помимо пожалованного налогового иммунитета они все чаще получают (или присваивают) административный и судебный иммунитеты, тем самым укрепляя свою власть над населением вотчин. Государство, правда, как и ранее, определяло размеры публичнопра-вовой (т. е. выросшей из государственного налога) ренты с крестьян, которую оно передавало феодалам. Основу публичноправовой ренты составлял телос — налог с дома, с земли и с упряжки скота. Помимо телоса существовали налоги, распространяемые на всю общину, например десятина скота и пастбищные сборы. Кроме публичноправовой ренты (которую платили и немногочисленные свободные крестьяне) зависимые крестьяне, парики, несли и частноправовые повинности в пользу феодала, т. е. такие, которые регламентировались не государством, а обычаем. Барщина была сравнительно невелика, составляя в среднем 24 дня в году. Кроме того, в XIV—XV вв. она все чаще коммутировалась в денежные платежи. Более существенными были денежные и натуральные сборы в пользу феодала. В XIV—XV вв. завершается наступление феодалов на крестьянскую общину: они подчиняют ее самоуправление, превращая его в элемент вотчинной организации. Однако в отличие от Латинской Романии в Византии вплоть до ее падения парики имели право при условии уплаты ими ренты переселяться на другие земли и в города, хотя на практике такие возможности могли ограничиваться и феодалами, и государством. В XIII—XIV вв. росла товарность сельского хозяйства. Продукты, произведенные в вотчинах, особенно хлеб и вино, широко экспортировались. Но продавцами на внешних рынках выступали не крестьяне (сбывавшие часть своей продукции на местных рынках), а феодалы, извлекавшие наибольшие выгоды из этой торговли. Имущественная дифференциация крестьян выражалась в основном в процессе оскудения их низших слоев, что вело к превращению безземельных и малоземельных париков в наемных работников и арендаторов чужой земли. Укрепление вотчинного хозяйства приводило к развитию в деревне ремесленного производства. Поздневизантийский город не обладал монополией на изготовление и сбыт ремесленной продукции. В конце XIV — середине XV в. многие византийские феодалы утратили свои земельные владения, перешедшие в руки османов и других врагов империи. Проживая в Константинополе и других крупных городах, феодалы все шире включались в ростовщические и коммерческие операции, помещая деньги в иностранные, прежде всего итальянские, банки. Византийский город в XIII—XV вв. В XIII—XV вв. большинство городов Византии испытывало упадок. Он был вызван засильем феодалов в экономике и управлении городов, слабостью самих торговоремесленных слоев, утратой городами их аграрной периферии, демографическим спадом, произошедшим вследствие опустошения многих городов завоевателями и оттока из них населения. Все глубже в систему товарообмена внедрялись генуэзские и венецианские купцы, сохранившие и преумножившие свои привилегии к ущербу местного купечества, а отчасти и ремесленников. Так, например, расширение ввоза более дешевых и качественных западноевропейских сукон и шелковых тканей подрывало ткацкое ремесло византийских городов. Вместе с тем итальянские предприниматели стимулировали развитие некоторых других отраслей византийского ремесла прежде всего обрабатывавших сырье и обслуживавших международную торговлю. Упадок городской жизни особенно рельефно проявился в Константинополе, где целые кварталы находились в запустении. Но и там экономическая жизнь полностью не заглохла, а временами даже оживлялась. Более благоприятным было положение крупных портовых провинциальных городов, например Трапезунда. Здесь существовал союз местных феодалов и торгово-предприниматель-ской верхушки, возникший на основе участия в широкой международной и местной торговле. При этом феодалы извлекали основные выгоды из торговых налогов (коммеркиев), а купцы — из посреднической торговли. Купцы Трапезундской империи сотрудничали с итальянскими коммерсантами, перенимали у них более передовую коммерческую технику, становились их младшими торговыми партнерами. Большинство средних и мелких городов Византии аграризи-ровалось, превращалось в центры местного обмена товарами с весьма ограниченным ремесленным производством. Некоторые из них оставались только церковно-административными центрами или резиденциями крупнейших феодалвв. Византия в конце XIII — первой половине XIV в. Широкая раздача земель в прении, расширение налоговых иммунитетов, предоставляемых феодалам, и торговых привилегий — итальянским купцам, оскудение крестьян и горожан резко сократили поступления в государственную казну. Обширные траты на армию и флот, на содержание двора и нужды дипломатии уже при Михаиле VIII быстро исчерпали наличные средства. В поисках выхода из создавшегося положения императоры увеличивали налоги, прибегали к систематическому снижению золотого содержания монеты, что приводило к росту цен. К тому же нарастала турецкая угроза. К началу XIV в. большая часть Малой Азии уже была в руках турок. Попытка отразить их с помощью наемного каталонского войска в 1303—1305 гг. закончилась провалом. Пытаясь создать собственное княжество на территории Византии, каталонцы восстали и в 1306—1307 гг. разграбили Фракию, Фессалию и Южную Македонию, а в 1311 г. захватили Афинское герцогство. Лишь в Эпире и на Пелопоннесе византийцам удалось расширить свои владения. В 1320— 1328 гг в Византии вспыхнула междоусобная война между императором Андроником II и его внуком Андроником III, стремившимся захватить престол. Победа Андроника III еще более усилила феодальную знать и силы децентрализации. В 20—30-е годы XIV в. Византия вела изнурительные и бесплодные войны с Болгарией и Сербией, ослабившие все стороны накануне решающего столкновения с османами. Гражданская война и восстание зилотов (1341—1355). После смерти Андроника III в 1341 г. власть в империи оказалась в руках регента его малолетнего сына Иоанна V — знатнейшего и богатого землевладельца Фракии Иоанна Кантакузина. Оппозиционные ему силы — чиновно-служилая знать, торгово-ремесленные круги столицы, поддержанные городскими низами, — сплотились в борьбе против Кантакузина вокруг матери Иоанна V — Анны Савой-ской и незнатного по происхождению, но влиятельного сановника Алексея Апокавка. Пользуясь временным отсутствием Кантакузина в Константинополе, оппозиция взяла власть в столице в свои руки. Имущество Кантакузина и его сторонников было разграблено или конфисковано, сам он был лишен должностей. Феодалы провинции в ответ провозгласили Кантакузина императором. Однако ненависть народа к магнатам вылилась в широкое народное движение против кантакузинистов. Крестьяне громили поместья феодалов. Против феодалов и ростовщиков восстало население Адрианополя и окрестных деревень во главе с землекопом Враном. Дома феодалов разрушали, их самих убивали или отправляли под конвоем в Константинополь. Движение набирало силу. Стихийно складывался союз городов с императорской властью, поддержанный крестьянами и направленный против провинциальной знати, сил децентрализации. В 1342 г., после того как Кантакузину не удалось захватить Фессалонику, канта-кузинисты были изгнаны и оттуда. Власть во втором по значению городе империи перешла к зилотам («ревнителям»). Во главе зилотов стояла зажиточная городская торговая верхушка, чиновная администрация. Основную их военную силу составляли корпорация моряков и, возможно, ремесленники. С самого начала зилоты разделили власть с представителем константинопольского правительства, братом Алексея Апокавка Иоанном. На первом этапе движение не отличалось радикализмом и имело в основном лишь антикантакузинистскую направленность. В 1345 г. городская верхушка и часть оставшихся в городе феодалов попытались достичь компромисса с Кантакузином и сдать ему город. Их заговор был раскрыт. Народ восстал и уничтожил более ста знатных заговорщиков во главе с Иоанном Апокавком. Три дня плебейские массы громили дома богачей. Однако победа зилотов не привела ни к широким социальным реформам, ни к изменению формы правления. Частично было перераспределено имущество, конфискованы земли знати и монастырей, ограничивалось ростовщичество. Но и после победы в 1345 г. вожди зилотов не пошли далее полумер, не выдвинули собственной программы, ориентируясь на константинопольское правительство. К 1347 г. перевес был уже на стороне Кантакузина, который использовал для борьбы с противниками иноземные, прежде всего турецкие, отряды, безжалостно опустошавшие византийские земли. В 1347 г. император Иоанн VI Кантакузин овладел Константинополем. В движении зилотов произошел раскол. Правительственный архонт Алексей Метохит, сменивший Апокавка, направил недовольство плебейских масс против корпорации моряков и фактически разгромил ее. Силы сопротивления были ослаблены. Выдержавший не одну осаду Кантакузина, город был наконец взят им в 1349 г. Восстание зилотов было подавлено. По своей сути это крупнейшее городское движение поздней Византии было последней попыткой торгово-ремесленных кругов бороться с засильем феодалов. Слабость городов, отсутствие сплоченного городского патрициата, социальной организации ремесленных цехов, традиций самоуправления предопределили поражение. Реакция торжествовала. Городское население попало в еще большую, чем ранее, зависимость от феодалов. Страна была разорена. Кантакузины и Палеологи делили ее на уделы, принадлежавшие тем или иным представителям императорской фамилии. В 1348— 1352 гг. Византия проиграла войну с генуэзцами. Черноморская торговля и даже снабжение Константинополя хлебом были сосредоточены в руках итальянцев, зависимость от которых Византии все возрастала. Турецкие завоевания на Балканах (1352—1402). Пользуясь ослаблением Византии, крупнейший из турецких эмиратов — османский — в 1352 г. захватил крепость Цимпе на полуострове Галлиполи, на европейском берегу Дарданелл. Путь на Балканы был открыт. В 1362 г. Мурад I, принявший титул султана, завоевал Адрианополь и перенес туда столицу Османской империи. Вся Фракия вместе с городом Филиппополем (Пловдивом) оказалась вскоре в руках турок. Чтобы спасти империю, византийский император Иоанн V Палеолог отправился на Запад и пытался найти поддержку папства, Венгрии и других государств в организации отпора османам, однако его миссия не привела к успеху. Турки разгромили по очереди болгар, сербов и византийцев. Византия была вынуждена признать вассальную зависимость от османов, платить им дань и даже принимать участие в осман ских завоевательных походах. Но преемнику Мурада Баязиду I этого казалось мало. В 1394—1402 гг. (с перерывами) он блокировал и осаждал Константинополь, надеясь покончить с Византией. Антиосманский крестовый поход, возглавленный королем Венгрии Сигизмундом, окончился страшным поражением крестоносцев в битве при Никополе на Дунае в 1396 г. В самом Константинополе против османов сражался тысячный отряд французского полководца маршала Бусико. Но этих сил было слишком мало. Византийский император Мануил II, как и его отец Иоанн V, вновь отправился за помощью за Запад. Его принимали в Венеции и Милане, Париже и Лондоне с большими почестями, но реальной помощи, кроме денежных субсидий, он не получил. Неожиданное избавление пришло с Востока: в 1402 г. в битве при Анкаре османы были наголову разгромлены войсками Тимура. Внутренние смуты, раскол Османской державы после этого события отсрочили гибель Византии. Падение Византийской империи. Византия не сумела воспользоваться передышкой для укрепления собственного положения. В 1422 г. османы вновь осадили Константинополь, а в 1430 г. взяли Фессалонику. Чтобы обеспечить помощь Запада в условиях нового роста османской угрозы, византийское правительство пошло на заключение унии между римско-католической и православной церквами. Она была подписана во Флоренции в 1439 г. на основе признания православной церковью папского примата и католической догматики. После заключения унии был предпринят новый крестовый поход против турок. Но несмотря на первоначальные успехи, он, как и предыдущий, закончился поражением: в 1444 г. в битве при Варне армия крестоносцев была уничтожена османами. Между тем уния вызвала раскол в византийском обществе. Большинство населения относилось к ней враждебно. Так называемые латино-филы, сторонники сближения с Западом и уступок папству, выражали интересы части столичной аристократии и торгово-пред-принимательских кругов. Из политических соображений их поддерживало правительство. Второй «партией» были сторонники сближения с османами и в конечном счете капитуляции перед ними при условии сохранения богатства и привилегий знати и купечества. Православное, наиболее влиятельное течение выступало с антилатинскими лозунгами, но не имело определенной политической программы. Ни одна из группировок не возглавила патриотическое движение, которое могло бы спасти Византию. Таких социальных сил уже не существовало. После длительной осады и героического сопротивления защитников Константинополь был взят штурмом войсками султана Мехмеда II 29 мая 1453 г. Город подвергся грабежу и опустошению, население его безжалостно уничтожалось либо захватывалось в плен. Лишь через три дня султан предоставил уцелевшим жителям амнистию и разрешил беженцам вернуться в город. В 1460 г. турки покорили Морею, а в 1461 г. — Трапезундскую империю. Причины и последствия падения Византийской империи. Падение Византии было обусловлено комплексом как внешних, так и внутренних причин. Империя была надорвана уже латинским завоеванием начала XIII в. С конца XIII в. Византия вела почти непрерывные войны на западе и востоке империи. Они, а также кровавые междоусобицы XIV в. изматывали государство, уничтожали его ресурсы. Силы слабеющей Византии и набиравшей мощь Османской державы были уже в XIV в. несопоставимы. Но главнейшими причинами гибели Византии были все-таки упадок городов, ремесленного производства и торговли, оскудение крестьянства. Византия не достигла еще стадии зарождения элементов капиталистических отношений. Страна переживала политическую раздробленность, которая пришлась на самый критический период в ее истории. Помощь Византии со стороны других государств, нередко преследовавших своекорыстные цели, была недостаточна для отражения натиска османов. Рост самосознания греческого народа сдерживался господством устаревшей доктрины ойкуменизма, провозглашавшей универсальность и исключительность богохранимой «империи ромеев» в ее древних границах. Османское завоевание тяжело отразилось на экономике и социальном развитии Юго-Восточной Европы, привело к длительному регрессу в развитии производительных сил. Хотя османское господство укрепило хозяйственное положение части феодалов, которые пошли на сотрудничество с завоевателями, расширило внутренний рынок, обеспечило большую централизованность, оно ухудшило положение народов Балкан, испытывавших жестокий национальный и религиозный гнет. Утверждение османов на византийской территории сделало ее плацдармом турецкой агрессии против стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока. Глава 18. Международные связи в Западной Европе в XI—XV вв. § 1. Развитие международных отношений Характер международных отношений. На протяжении XI—XV столетий в Европе складывается определенная система международных отношений; постепенно вырабатываются некоторые дипломатические нормы и традиции. Однако международные отношения этого периода не приняли еще достаточно регулярного характера: не было постоянных послов и дипломатических представительств, не сложилось еще и международное право; само это понятие в целом едва ли применимо к этому времени — развивались лишь отдельные его элементы, и прежде всего право войны и морское право (например, Барселонское морское право, оформившееся в XII в.). На развитие международных отношений этого периода повлияло несколько факторов. Особенно способствовал сближению народов и государств экономический подъем Европы, связанный с завершением процесса феодализации, появлением городов, расширением внутренней и внешней торговли. С другой стороны, внешняя торговля нередко порождала и противоречия на почве торгового соперничества, приводившие подчас к открытым столкновениям и даже войнам. Увеличение потребностей феодалов в связи с развитием рынка не только обусловило рост эксплуатации крестьянства, но и усилило стремление феодалов к захватам чужих земель и богатств. Это порождало множество войн как в самой Европе, так и за ее пределами; усиление центральной королевской власти и постепенное преодоление феодальной раздробленности во многих странах Западной Европы также порождали конфликты и столкновения, обострявшиеся династическими спорами. В них оказывались втянутыми (в силу переплетения и запутанности вассальных связей) многие феодальные сеньоры и государства. Границы государств постоянно менялись. Более могущественные государи стремились подчинить себе других, выступая с претензиями на мировое владычество, пытались создать универсалистское (всеобъемлющее) государство под своей гегемонией. Главными носителями универсалистских тенденций выступали римские папы, византийские и германские императоры. Битва при Бувине (1214). Произошла на границе Артуа и Хеннегау между войсками Филиппа II Августа и англо-фламандско немецкой коалиции, возглавляемой Оттоном IV Это типичный пример рыцарского сражения средневековья. Конница противников была построена отдельными колоннами. Пехота (лучники, копейщики) располагалась впереди рыцарей и также была выстроена отдельными сомкнутыми отрядами. В задачу пехоты входило служить живым бруствером для рыцарской конницы. Так, один из отрядов армии Оттона выделил несколько сот пехотинцев, создавших своего рода круг. В ходе сражения рыцари по мере необходимости укрывались в этом «убежище» и приводили себя в порядок. Само сражение протекало в форме отдельных схваток отрядов и групп рыцарей. Никакого общего руководства не было, император и король сражались как рядовые рыцари. Битва продолжалась около трех часов и закончилась победой французов. Несмотря на значительные размеры армии (с обеих сторон принимало участие свыше 5 тыс рыцарей), потери были, как обычно, невелики всего несколько десятков рыцарей. Большое влияние на развитие международных отношений в Европе оказывали процесс формирования народностей и начавшийся к концу рассматриваемого периода процесс складывания национальных государств. Значительную роль играли также внешние факторы: в XIII в. — нашествие монголо-татар на Восточную и Южную Европу, в XIV—XV вв. — утверждение турок-османов в Передней Азии и на Балканском полуострове. Западная Европа и восточные страны. В XI—XIII вв. расширялись и укреплялись экономические, политические и культурные связи не только между разными европейскими странами, но и между странами Европы и Востока. Этому способствовали и крестовые походы (см. гл. 8), и торговая деятельность итальянских морских республик, Генуи, Пизы, Венеции, основавших свои фактории в Восточном Средиземноморье и Причерноморье, и посредническая роль Византии. Путешествия европейцев в восточные страны, предпринимавшиеся с политическими, религиозными и торговыми целями (Гильом Рубрук, Джованни ди Плано Карпини, Никколо, Маффео и Марко Поло и др.), обмен товарами, продуктами ремесла и земледелия были чрезвычайно плодотворными для Запада. Они значительно расширили географический кругозор европейцев; европейцы позаимствовали у народов Востока ряд технических достижений, в том числе ветряную мельницу и усовершенствованное водяное колесо. Из восточных стран были заимствованы некоторые сельскохозяйственные культуры: рис, гречиха, арбузы, лимоны, абрикосы; стал входить в употребление тростниковый сахар, завезенный в Европу из Сирии. По восточному образцу начали в это же время изготовлять некоторые ткани — муслин (по названию города Мосула в Месопотамии), дамаск (от города Дамаска), атлас (по-арабски «красивый»). Влияние Востока, которое шло также через арабов Сицилии и Испании, сказалось и в бытовых нововведениях — в ношении бороды, устройстве горячих бань, частой смене белья и др. Битва при Креси (1346). В XIV — XV вв тактика сражений претерпевает изменения все большее значение приобретает пехота — лучники и арбалетчики, — состоящая из свободных крестьян или городских ополченцев, рыцарская конница постепенно уступает место наемникам Англичане хорошо использовали особенности местности крутой обрыв и густой лес обеспечивали фланги, перед фронтом их позиции тянулся длинный пологий склон Основу английской армии составляли лучники, построенные в несколько шеренг с таким расчетом, чтобы они не мешали свободной стрельбе Вместе с ними располагались спешенные рыцари, служившие опорой этого смешанного строя Французские рыцари прямо с марша предприняли несколько разрозненных атак на построения англичан, однако результат был плачевным Утомленные маршем, под дождем и в грязи, рыцарские кони с трудом преодолевали затяжной подъем, сами же рыцари представляли удобную цель для английских лучников, стрелы которых пробивали доспехи уже со 150 м Сражение превратилось в избиение французов, и только то, что английская конница была спешена и не могла преследовать бежавшего противника, спасло французскую армию от полного разгрома. В 40-е годы XIII в. Центральная Европа оказалась перед опасностью монгольского завоевания. Полчища хана Бату, разорив и опустошив в 1237—1240 гг. русские земли, весной 1241 г. двинулись в Польшу и Венгрию. Большое войско, состоявшее главным образом из польских и немецких отрядов, пыталось остановить монголо-татарских завоевателей в Силезии, однако было полностью разгромлено. Было разбито и 60-тысячное венгерское войско. Передовые монголо-татарские отряды дошли до Адриатики. Ослабленная крестовыми походами и внутренними раздорами Западная Европа казалась беззащитной перед надвигающейся грозной опасностью. Однако монголо-татары, основательно истощенные к этому времени героическим сопротивлением Руси, повернули в степи Причерноморья и Заволжья. В середине 40-х годов XIII в. папа Иннокентий IV попытался заключить союз с монголо-татарами, предлагая им принять католицизм и рассчитывая найти в них союзников против сарацин, угрожавших последним владениям крестоносцев на Востоке, и против своего врага императора Фридриха II. Папа преследовал также цели способствовать распространению католического вероучения на обширных территориях, подвластных монголо-татарам, в том числе и в русских землях. Подобные попытки пап продолжались и позднее, но, как правило, не приносили реальных результатов, кроме усиления деятельности католических миссионеров, особенно францисканцев и доминиканцев (см. гл. 20), на Востоке, где были созданы католические епархии «в землях неверных». Перемены в соотношении сил на международной арене в XIV—XV вв. Священная Римская империя после Гогенштауфенов (1254) и наступившего затем периода междуцарствия перестала играть ведущую роль в международной политике. Ослабело к концу XIII — началу XIV в. и политическое могущество папства. Главное место в международной политике занимают теперь отношения и конфликты между наиболее централизованными к этому времени западноевропейскими государствами — Англией, Францией, Кастилией, Арагоном. Самым крупным из международных конфликтов этого времени явилась Столетняя война между Францией и Англией (1337— 1453). В англо-французский конфликт с самого начала оказались втянутыми многие европейские государства. Францию поддерживали папа, короли Шотландии, Сицилии, Кастилии, граф Фландрский. На стороне Англии выступали германский император Людвиг Баварский, позднее герцог Бургундии, ряд нидерландских и немецких князей, города Фландрии. Столетняя война, закончившаяся в конце концов победой Франции, имела важные международные последствия. В результате ее завершилась политическая консолидация Франции; она, как в XII—XV вв. и Англия, стала оказывать все большее влияние на европейскую международную политику. В Столетней войне начали вырабатываться новые методы ведения военных действий и новые принципы организации вооруженных сил, которые затем получили широкое распространение. Феодальное ополчение в значительной степени уступило место наемным войскам. Вместо тяжеловооруженной рыцарской конницы на первое место выдвигается легкая конница и особенно нехота, вооруженная сначала большими луками и арбалетами, поражающими цель на далекое расстояние, а затем, с изобретением пороха, — и огнестрельным оружием. С появлением в XIV в. артиллерии изменилась тактика военных действий. Если раньше войска могли отсидеться за толстыми стенами замков, то с появлением артиллерии, для которой крепостные стены не являлись непреодолимой преградой, эта тактика была уже малоэффективна. Военные действия все больше приобретали характер не осадной, а маневренной войны. Следует, однако, иметь в виду, что эволюция военной тактики, связанная с появлением огнестрельного оружия, особенно артиллерии, заняла не одно столетие и продолжалась и после окончания Столетней войны. „ Новым для этого периода явлением было также ведение партизанской войны с противником, оккупирующим территорию страны. Ярким примером подобной войны было партизанское движение во Франции в годы Столетней войны. § 2. Западнославянские и южнославянские страны в международных отношениях в XII—XV вв. Уже в период раннего средневековья славянские страны Центральной и Южной Европы играли заметную роль в европейской политической жизни. Но с конца XII в. с ослаблением Священной Римской империи и Византии эта роль становится более значительной: происходящие в этих странах события неоднократно оказываются в центре европейской политической жизни. Международное значение борьбы Польши и других славянских народов с немецкой экспансией (Грюнвальдская битва 1410 г.). После покорения полабских славян немецкими феодалами (см. гл. 11) немецкие княжества стали непосредственными соседями Польши, которая явилась следующим объектом их экспансии. Используя феодальную раздробленность Польши, маркграфы Бранденбурга в XIII в. овладели рядом западных польских земель. А в начале XIV в. на Польшу напал Тевтонский орден, который захватил Восточное Поморье и отрезал Польшу от Балтики. Угроза со стороны немецких феодалов усилила в польском обществе стремление к сохранению независимости и объединению польских земель. Князю Владиславу Локетку удалось в 1320 г. объединить большую часть польских земель в единое государство. Однако его попытки отвоевать у Ордена Восточное Поморье окончились неудачей: Орден, провозглашавший себя борцом против «язычников» и «схизматиков», опирался на массовую поддержку рыцарства не только Германии, но и многих других европейских стран. Борьба против Ордена привела к сближению Польши с Великим княжеством Литовским (включавшим в свой состав белорусские, украинские и русские земли), которое приняло форму унии (так называемая Кревская уния 1385 г.). В 1409 г. началась «Великая война» ПольскоЛитовского государства с Тевтонским орденом. Решающее сражение произошло 15 июля 1410 г. под Грюнвальдом. Многоэтничному войску Ордена противостояли поляки, литовцы, восточные славяне и присоединившиеся к ним добровольцы из Чехии. Битва завершилась разгромом войска Тевтонского ордена, его мощь была подорвана. Борьба была продолжена затем средствами дипломатии, на ряде собиравшихся в XV веке общеевропейских церковных соборов (см. гл. 20). На этих соборах польсколитовские дипломаты и юристы подвергли критике лицемерие Ордена, не прилагавшего усилий для христианизации своих подданных — пруссов — и боровшегося против соседних — христианских — государств. Когда в 50-х годах XV в. часть прусского дворянства и города выступили против Ордена и перешли под власть польского короля, ни одно европейское государство не оказало Ордену серьезной поддержки. По Торуньскому миру 1466 г. Тевтонский орден признал себя вассалом Польши и вынужден был вернуть ей Восточное Поморье. С этого времени можно определенно говорить об упадке рыцарских орденов, составлявших важный компонент политических структур Европы периода развитого феодализма и созданных ими политических образований. Гуситские войны (1419—1434) и их международное значение. Распространившиеся по всей католической Европе, особенно в период схизмы (см. гл. 20), требования реформы церкви на чешской почве получили развитие в сочинениях профессора Пражского университета Яна Гуса (ок. 1369—1415 гг.). Учение Гуса, тесно связанного, как и его сподвижники, с пражским бюргерством, представляло собой «бюргерскую ересь». Гус требовал секуляризации церковных имуществ и ликвидации особых привилегий духовного сословия. Разделяя представления Джона Виклифа о церкви как общине всех верующих, Гус обличал пороки духовенства перед светскими людьми и призывал их своими активными действиями вернуть церковь в состояние евангельской бедности. С выступления Гуса против продажи индульгенций начался его открытый конфликт с католической иерархией. Гус был отлучен от церкви и должен был уехать из Праги (1412). Вызванный якобы для обсуждения его взглядов на собор в Констанце, Гус без каких-либо дискуссий был осужден как еретик и сожжен на костре 6 июля 1415 г. Казнь Гуса вызвала бурю негодования в Чехии и способствовала быстрому росту последователей его учения. В силу особенностей исторического развития страны1 учение Гуса приобрело сторонников в самых разных общественных слоях. Гуситами стали не только горожане, крестьяне, многие представители рыцарства (особенно мелкого), но и часть крупных феодалов. Правительство короля Вацлава IV оказалось не в состоянии расправиться силой со сторонниками гуситского учения. В 1419 г. в стране началась гражданская война между католическим и гуситским лагерями. В ходе этой борьбы наметилась дифференциация в самом гуситском лагере. Один лагерь объединял крупных феодалов, часть рыцарства, более зажиточные круги бюргерства. Все они выступали за секуляризацию церковных имуществ и подчинение традиционной церковной организации руководству светских сословий. Этот лагерь получил название чашников, потому что одним из главных его требований было требование причащения мирян не только хлебом (как ранее), но и вином из чаши (как причащалось в католической церкви лишь духовенство), однако он был против каких-либо других реформ церкви и общества. Сторонники другого, более радикального направления получили наименование габаритов (по названию их центра — города Та1 Подробная характеристика внутреннего положения в Чехии XIV—XV вв. имеется в вузовском курсе истории южных и западных славян. бор на юге Чехии). В их рядах объединялись более демократические слои бюргерства, городского плебейства и мелкого рыцарства, опиравшиеся, особенно на начальном этапе, на массовую поддержку крестьян, которым был открыт доступ в таборитское войско наравне с представителями других сословий. В городах, находившихся под их властью, к управлению привлекались все члены городской общины. Табориты отвергали традиционную организацию и формы культа католической церкви, считая источником веры лишь текст Библии. Своих священников они выбирали. Провозглашая необходимость активной вооруженной борьбы с врагами «божьего закона», они создали армию, во главе которой стоял опытный полководец Ян Жижка. Табориты выдвигали положение, что подданные могут не повиноваться господам, находящимся в состоянии «смертного греха». Наряду с социальной движение гуситов имело и определенную национальную направленность. Сам Гус боролся против засилья немецкой профессуры в Пражском университете, его последователи выступали против господства немецкого патрициата в чешских городах, против немецкого духовенства в Чехии. Бежавшие от гуситов немецкие патриции и монахи распространяли представление о гусизме как движении, специально направленном против немцев, способствуя этим консолидации сил против гуситов в Центральной Европе. В 1420 г. римский папа объявил крестовый поход против еретиков-гуситов, а войско крестоносцев возглавил император Сигизмунд. В 1420—1431 гг. против гуситов было организовано пять крестовых походов, но, несмотря на участие в них князей и рыцарства целого ряда европейских стран, все они закончились поражением крестоносцев. С конца 20-х годов табориты перешли в наступление и стали предпринимать военные походы на земли Венгерского королевства и соседних с Чехией немецких княжеств, сопровождавшиеся пропагандой их учения. К этому времени гуситское движение перестало быть лишь чешским явлением. В 30—50-х годах XV в. его сторонники играли довольно заметную роль в идейной и социальной жизни таких стран, как Венгерское королевство, Польша, Молдавия. Отдельные разрозненные выступления последователей гуситов имели место и в таких отдаленных от Чехии землях, как Фландрия или Швейцария. С походами гуситов в Германию возникла опасность соединения войск таборитов с выступлениями городских низов и крестьянства против имперских князей и крупных феодалов. С трудом светской власти и церкви удалось подавить выступления сторонников гусизма в соседних с Чехией странах, и серьезной поддержки извне гуситское движение не получило. Но оказавшись не в состоянии усмирить гуситов военной силой, духовные и светские власти Европы были вынуждены согласиться на публичное обсуждение взглядов гуситов на «вселенском» соборе в Базеле. Выявившиеся во время обсуждения различия во взглядах двух главных направлений гусизма позволили отцам собора использовать их в своих интересах. Собор в 1433 г. заключил соглашение с чашниками, которое признавало право мирян в Чехии причащаться из чаши. Собор и император молчаливо согласились и с секуляризацией церковных имуществ. Это соглашение означало разрыв между двумя направлениями гусизма, чашниками и таборитами. После этого объединенные силы чашников и католических панов уничтожили таборитское войско в битве у Липан 30 мая 1434 г. Это поражение стало концом таборитского движения. В дальнейшем римскую курию перестали удовлетворять и те сравнительно небольшие уступки, которые сделал умеренным гуситам Базельский собор. В 60-х годах XV в. соглашения были отменены и папа снова объявил крестовый поход против гуситов. Однако теперь, когда Чехия перестала быть источником опасности для феодального строя, большая часть соседей уклонилась от участия в этом предприятии. К концу XV в. Чехия стала единственной в Европе страной, где государственным актом светской власти (решениями Кутногорского сейма 1485 г.) было обеспечено мирное сосуществование католиков с гуситами, имевшими собственную церковную организацию, не подчинявшуюся римскому папе. Борьба Болгарии и Сербии против турецкой агрессии. С середины XIV в. над государствами Балканского полуострова нависла угроза завоевания турками-османами. Турки-османы, захватив византийские владения в Малой Азии, уже в 1352 г. обосновались на европейском берегу Дарданелльского пролива (см. гл. 17) и начали свое продвижение в глубь Балканского полуострова. Успехам османов благоприятствовала политическая раздробленность южнославянских государств: разделение Болгарии на три государства, распад обширной державы сербского короля Стефана Душана (1331 —1355) после его смерти на ряд самостоятельных владений. Их правители враждовали друг с другом, нередко прибегая к помощи османов. Это давало возможность османам вести борьбу с этими государствами поодиночке. В 1371 г. в битве при Черномене были разбиты войска сербских правителей, чьи владения располагались в центральных районах бывшей державы Душана, в 1389 г. в битве на Косовом поле погиб сербский князь Лазарь, в 1393 г. османы захватили столицу Болгарии Тырново. С захватом османами обширных территорий на Балканах к концу XIV в. вопрос о турецкой опасности стал одной из постоянных тем обсуждения европейских политических деятелей, к которым обращались за помощью правители Византии и южнославянских государств. Турецкие завоевания и политика правящих кругов европейских государств. Несмотря на неблагоприятные политические условия, южнославянское население упорно боролось с османами. Так, в начале XV в. в уже завоеванной Болгарии вспыхнули народные восстания. Лишь в 1459 г. пала последняя сербская крепость — Смедерево. Однако правящие круги большинства европейских государств мало что делали для организации отпора вторгшимся на Балканский полуостров завоевателям. Дипломатическую активность развивала папская курия, пропагандируя идею антитурецкой коалиции и рассчитывая на утверждение католицизма на Балканах в форме унии католической и православной церквей. Результаты этой деятельности на практике оказались весьма незначительными несмотря на частные успехи войск антиосманской коалиции, в чем ясно проявился и упадок роли папства как международного политического и религиозного центра, и перенесение центра тяжести международной политики в сферу отношений между складывающимися в Западной Европе централизованными государствами. Из европейских держав лишь Венгерское королевство и Венеция, чьи интересы были непосредственно затронуты вторжением османов, вели против них крупномасштабные военные действия и в течение длительного времени. Оба эти государства стремились, нанеся поражение османам, установить собственную власть над освобожденными от османского господства южнославянскими землями. Хотя в отдельные моменты (например, во время венгерских походов против османов в 1442— 1443 гг.) действия этих держав получали поддержку местного населения, в целом прочный антиосманский союз южнославянских народов с этими государствами не сложился, что в значительной мере и определило безрезультатный характер их борьбы с продвижением османов. К концу XV в. господство османов на Балканах полностью утвердилось. Возникла реальная опасность их вторжения в страны Центральной Европы и в Италию, тем более что на Средиземном море появился турецкий флот. Утверждение турецкого господства в Восточном Средиземноморье и на Балканах и дальнейшее наступление турок на Запад оказали значительное влияние на политическую и экономическую жизнь Европы. Турецкая опасность стала одним из постоянно действующих факторов международной политической жизни европейских государств на протяжении ряда последующих столетий. Глава 19. Производительные силы общества Западной Европы в V—XV вв. Производительные силы средневекового общества — люди, природная среда их обитания и созданные ими в процессе жизнедеятельности орудия, навыки и формы организации труда. Входя в базис феодальной формации как ее материальная основа, производительные силы отличались тогда рядом особенностей. Хозяйство было преимущественно мелким и натуральным. Его характеризовали ручные орудия и низкая производительность труда, отсутствие сколько-нибудь значительных материальных ресурсов, простое (нерасширенное) воспроизводство. Даже крупные владения феодалов чаще всего представляли собой конгломерат более или менее значительных усадеб, деревень или их групп, обычно разбросанных и существовавших за счет суммированного индивидуального труда. Такому хозяйству были присущи не только комплексный характер, использование одного и того же инвентаря для бытовых и производственных нужд, но как бы «сращение» работника с орудиями его труда и с всеобщим средством производства — землей, прямая зависимость от природной среды. Демографические процессы в V—XV вв. Решающая производительная сила общества — люди. Рождаемость и смертность, характер семьи, миграции и расселение людей, общая структура населения (социальная, профессиональная, этническая, половая, возрастная) и их динамика определяются как естественнобиоло-гическими, так и общественными факторами. В V —XV вв. демографические процессы в Западной Европе были сложными и отнюдь не прямолинейными, они прошли через ряд спадов и подъемов. Слишком сильны были факторы смертности — знаменитая «триада бедствий»: болезни, войны, голод. Наиболее опасными болезнями, нередко со смертельным исходом, были туберкулез, сибирская язва, желтуха, малярия, дизентерия, брюшной тиф, венерические болезни. Немалые страдания приносили малокровие, трахома, ревматизм, кожные поражения, паразиты. Женщины часто погибали от родов, дети — от рахита и детских болезней. Эпидемии чумы, оспы, холеры подчас принимали общеевропейский характер, опустошали население целых районов. Каждое столетие было отмечено пандемиями. Известны тягостные последствия эпидемий чумы и оспы в VI в., трагические результаты «черной смерти» — бубонной чумы 1348— 1349 гг., которая унесла в разных странах от четверти до половины населения. Эпидемиям способствовали антисанитарные условия, особенно в городах с их скученностью. Люди, материальные запасы и ценности, важные для их жизни, погибали в ходе войн и военноколонизационных движений, столь частых в ту эпоху. В ходе «Великого переселения народов», арабских завоеваний VIII в., набегов венгров, походов викингов конца VIII — середины XI в., нормандского завоевания Англии XI в., затем крестовых походов погибало до '/з местного взрослого населения, особенно мужчин. Для XII—XV вв. были характерны также непрерывные межгосударственные войны, внутренние усобицы и мятежи. Средневековые документы свидетельствуют о хроническом недоедании основной массы тогдашнего населения и гибели многих людей от голода. Описан катастрофический, доводивший до людоедства голод VI, VIII—IX вв. В X—XI вв. даже в плодородной, давно освоенной долине Рейна неурожаи и голод повторялись каждые 3—4 года, в XI в. в разных районах Германии было до 62 голодных лет. В среднем по Западной Европе были голодными каждые 3—6 лет. В условиях прямой зависимости от природы любое стихийное бедствие — ураган, засуха или излишние осадки, пожар или наводнение, размножение вредителей или эпизоотия — вызывали неурожай, падеж скота и как следствие — голод. Создавать же и хранить запасы продовольствия при тогдашних низких урожаях и высоких рентах и налогах не представлялось возможным. «Триада бедствий» тесно увязывалась со всеми общественными условиями. От недоедания более всего страдали низшие слои города и деревни. Голодные люди порождали слабое потомство и были восприимчивы к болезням. Эпидемии приводили к забрасыванию пашен. Войны разрушали хозяйственную цикличность и производительные силы. И все это снова порождало голод. Средняя продолжительность жизни составляла примерно 40— 45 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Треть детей не доживала до 12—15 лет (возраст совершеннолетия и брачности), из них большая часть — до года. До 50 лет доживало менее четверти людей, в основном из более состоятельных слоев. Нередко до половины мужчин оставалось вне брака: военные, монахи, работники и ученики, с XI в. — белое духовенство. Религия и обычаи того времени поощряли высокую (естественную) рождаемость. Но из-за высокой детской смертности и частого бесплодия женщин в большинстве семей вырастало обычно лишь от одного до трех детей. Численность населения увеличивалась медленно. В V в. она пережила резкий спад, с VII в. начала восстанавливаться. К XI в. на Британских островах проживало до 2 млн. человек, в Италии и Франции — примерно по 6, на Пиренейском полуострове — более 4, в Скандинавских странах — 1, в Германии — 3,5, на Балканах — 2—4 млн. человек. На рубеже I и II тысячелетий произошел демографический скачок, население быстро увеличилось на 20—40 %. Видимо, это было следствием сложения вотчинной системы и государства, что дало людям экономическую и политическую стабильность. Численность населения продолжала медленно увеличиваться до конца XIII в., а в середине XIV в. резко упала в результате «черной смерти», затем пострадала от Столетней и других войн, крупных восстаний. Лишь к началу XVI в. был достигнут доэпидемический уровень: на Британских островах — 3—5 млн. человек, во Франции—12—18, в Италии — 7,5—11, в Германии — 7,5—12, в Скандинавских странах— 1—2, в Греции — 4,5—6 млн. человек1. В период демографических спадов, особенно в XIV—XV вв., деревни многих стран континента ощущали нехватку рабочих рук, в то время как некоторые города, куда устремились обездоленные люди в поисках средств к жизни, испытывали относительную перенаселенность. Этнический состав Западной Европы в раннее средневековье был пестрым: греки, романские народности, кельты, фракийцы, германцы, балты, славяне, угро-финны, «вкрапления» азиатских и африканских этносов (арабы, евреи, берберы, тюрки, левантийцы). В V—XI вв. в результате перемещения больших масс людей произошло сильное смешение племен и народностей Западной Европы. Образовывались народы с полиэтнической основой — ядра будущих наций. Обмен общественным опытом ускорял развитие орудий труда, коммуникаций, правовой и общей культуры. В средние века по всей Западной Европе окончательно сформировалась и распространилась малая индивидуальная семья (родители и неженатые дети, в среднем до 5 человек). Сначала сохранялась и большая семья (родители, женатые дети, братья с семейными детьми и т. д. — до 40 и более человек). В условиях натурального хозяйства, примитивной техники, трудоемких работ (корчевание леса, осушение болот и др.) это было необходимо. В ходе миграций, войн, внутренней колонизации, обезземеливания крестьян и их ухода в города, роста общественного разделения труда, особенно в период зрелого феодализма, большая семья постепенно разр