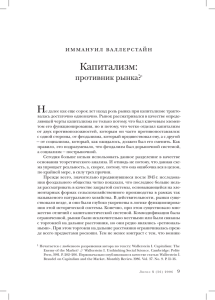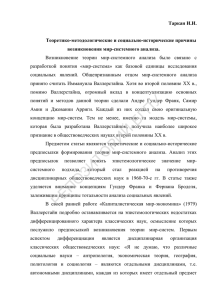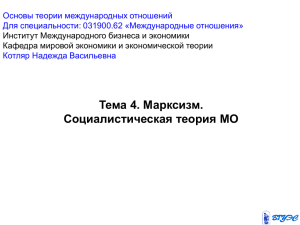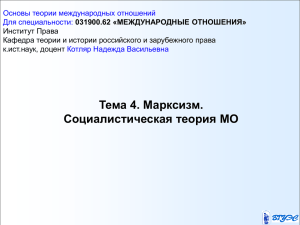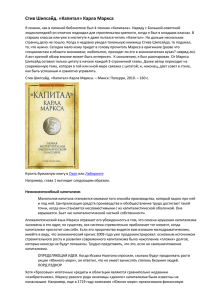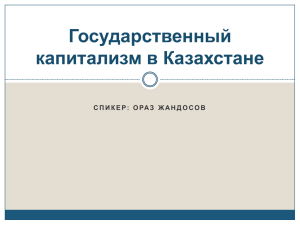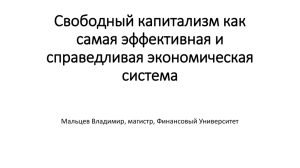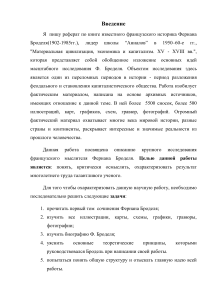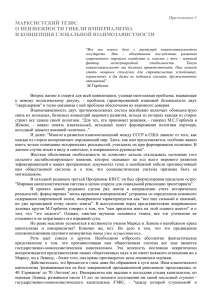МИР-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МАРКСИЗМ Диалектика и метафизика: старая борьба в новой форме Краснодар, 2022 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ПОНЯТИЕ МИР-СИСТЕМЫ Революция в исторической науке Понятие мир-системы Разделение труда в мир-системе Временные границы мир-системы Капитализм и мир-система Классы Формации 7 7 10 12 13 17 20 37 ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ, РАЗВИТИЕ НЕДОРАЗВИТОСТИ, ОТЦЕПЛЕНИЕ 41 ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ 55 ЭКОНОМИКА Цена и стоимость Монополии и рынок Системные циклы накопления 60 60 66 73 ОТНОШЕНИЕ К МАРКСИЗМУ 78 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 89 ПОСЛЕСЛОВИЕ 96 2 “Эти невинные и детские фантазии образуют ядро новейшей младогегельянской философии, которую в Германии не только публика принимает с чувством ужаса и благоговения, но и сами философские герои также преподносят с торжественным сознанием ее миропотрясающей опасности и преступной беспощадности. Первый том предлагаемой работы ставит себе целью разоблачить этих овец, считающих себя волками и принимаемых за таковых, — показать, что их блеяние лишь повторяет, в философской форме, представления немецких бюргеров, что хвастливые речи этих философских комментаторов только отражают убожество немецкой действительности”. (К. Маркс и Ф. Энгельс, “Немецкая идеология”) ВВЕДЕНИЕ В последние годы в левой среде России получил широкое распространение так называемый мир-системный анализ — теория, претендующая на научное описание общественного развития. Представители организаций и групп в России, называющие себя марксистами, социалистами и коммунистами, ссылаются на мир-системный анализ как на развитие марксизма или хотя бы его критическое дополнение. Многочисленные левые активисты прибегают к мир-системному анализу как к научному доказательству в теоретических спорах, ссылаются на представителей мир-системного анализа как на ученых первой величины, обладающих соответствующим авторитетом. Аргументы в пользу применения мир-системного анализа марксистами можно свести к двум основаниям: во-первых, мир-системный анализ учитывает изменения, произошедшие в мире со времени написания классических работ марксизма и тем самым устраняет разрыв между устаревшей теорией прошлого и позапрошлого веков и современными условиями капитализма. Во-вторых, мир-системный анализ, по словам его защитников, является ничем иным как развитием теории империализма В.И. Ленина, а стало быть является прямым наследником марксизма в изучении всемирного капиталистического хозяйства: как Ленин в своей теории империализма показывал различия в уровне развития капиталистических стран, так и мир-системщики базируются на такой разнице и делают из нее соответствующие выводы. Мир-системный анализ нередко называют современным марксизмом. Сторонники и толкователи мир-системного подхода тем легче могут ссылаться на авторов мир-системщиков, чем меньше среди их зрителей и слушателей тех, кто взялся бы самостоятельно разобраться, что же в действительности представляет собой мирсистемный анализ. 3 Приведем ряд высказываний. “Насколько мне известно, мир-системный анализ в целом отпочковался от марксизма. Конечно, он находился и под значительным влиянием теории зависимого развития, которую развивали латиноамериканские экономисты… … мир-системный подход, на мой взгляд, должен быть интегрирован в... марксистскую методологию и пересмотрен с позиции этих марксистских принципов, и тогда его аналитическая глубина достигнет значительно более высоких значений... Есть в мир-системном подходе, конечно, марксистское направление. Это, прежде всего, Самир Амин, недавно умерший, но оставивший большое наследие. Вообще все мир-системщики связаны с марксизмом, просто в разной степени... Мне ближе всего взгляд на капиталистическую мир-систему, которую развивает Самир Амин... Он поставил в основу своей интерпретации отношений между центром и периферией понятие «империалистическая рента». Это понятие вообще основывается на всей предыдущей традиции марксистского анализа империализма. Оно представляет собой конкретную форму прибавочной стоимости, которая сформулирована применительно к современному мировому капиталистическому хозяйству. Причём, интерпретируя империалистическую ренту, суть которой, конечно, в присвоении неоплаченного труда рабочих, Самир Амин связывает этот процесс мировой экономики с различиями в уровне оплаты труда на периферии и в центре… Ну и, конечно, я не отбрасываю ни в коем случае вклад других теоретиков мирсистемного подхода, например модель развития отсталости «development of underdevelopment», которую предложил А. Г. Франк… Он показал при анализе развития государств, что проблема так называемых развивающихся стран является искусственно навязанной... Мне очень нравится и вклад Джованни Арриги, который показал, что происходят вот такие глобальные циклы накопления капитала в условиях капитализма, показал связь между периодически возникающей финанциализацией и перенакоплением капитала в мировых масштабах в реальном секторе экономики. Ну, думаю, что и вклад Валлерстайна, и его классификация стран на центр, периферию и полупериферию тоже важны для анализа современного капитализма. Но повторяю: все эти концепции должны быть интегрированы в систему понятий «Капитала», империализма, и вот тогда их аналитическая, эвристическая сила, я бы сказал, развертывается по-настоящему... Из современных марксистов, если говорить о западных, которые издавались на русском языке, мне нравится Самир Амин, несколько его книг было переведено” (Р.С. Дзарасов, интервью “Lenin Crew”). Из ролика “ПолитШтурма”: “Сейчас Садонин активно продвигает мир-системный анализ. Но марксизм и мир-системный анализ — это два совершенно разных подхода к изучению и пониманию общественной жизни” (Ютуб-канал “ПолитШтурм”, ролик “Весь Василий Садонин за 15 минут”). Ответ Садонина: 4 “Расскажите об этом Ленину и Розе Люксембург. Потому что первые крупные работы в области марксистского мир-системного анализа делали именно эти многоуважаемые теоретики еще в начале XX века. Мир-системный анализ или мир-системный подход рассматривает мировую капиталистическую экономику как нечто целое - со своими внутренними законами развития и противоречиями. В противовес более раннему подходу, который рассматривал мировую экономическую систему как простую сумму национальных капитализмов. Вот, например, что пишет Ленин в главе номер восемь книги “Империализм как высшая стадия капитализма”: “Вывоз капитала, одна из самых существенных экономических основ империализма, еще более усиливает эту полнейшую оторванность от производства слоя рантье, налагает отпечаток паразитизма на всю страну, живущую эксплуатацией труда нескольких заокеанских стран и колоний... Вот сущность империализма и империалистического паразитизма. Понятие: “государство-рантье”, или государство-ростовщик, становится поэтому общеупотребительным в экономической литературе об империализме. Мир разделился на горстку государств-ростовщиков и гигантское большинство государств-должников… Государство рантье есть государство паразитического, загнивающего капитализма, и это обстоятельство не может не отражаться как на всех социально-политических условиях данных стран вообще, так и на двух основных течениях в рабочем движении в особенности”. Дальше Ленин пишет о том, что положение страны - центральное или периферийное - очень сильно влияет на классовую расстановку сил внутри самого общества. И дальше он цитирует, в том числе, ранние наблюдения Маркса и Энгельса по этому поводу. Давайте почитаем. Энгельс писал, например, Марксу 7 октября 1958 года: “Английский пролетариат фактически все более и более обуржуазивается, так что эта самая буржуазная из всех наций хочет, по-видимому, довести дело в конце концов до того, чтобы иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат рядом с буржуазией. Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует весь мир, это до известной степени правомерно”. Или вот еще. В письме к Каутскому от 12 сентября 1882 года Энгельс писал: “Вы спрашиваете меня, что думают английские рабочие о колониальной политике? То же самое, что они думают о политике вообще. Здесь нет рабочей партии, есть только консервативная и либерально-радикальная, а рабочие преспокойно пользуются вместе с ними колониальной монополией Англии и ее монополией на мировом рынке”. То есть, то, что положение пролетариата очень сильно отличается от того, к центру или к периферии относится страна их проживания, — начали замечать еще Маркс и Энгельс. Ленин же написал целую книгу “Империализм как высшая стадия капитализма”, в которой он сосредоточился не только на вопросах монополизации экономики внутри капиталистических стран, но и на взаимоотношениях этих стран: на неравноценном обмене, колониальных войнах и так далее. По сути, его труды и были марксистским мир-системным анализом. Просто при Ленине такого термина, “мир-системный анализ”, еще не было. Поэтому он и не использовал его в своих работах. А “великие” теоретики из “ПолитШтурма”, видимо, решили: про то, что Ленин не писал, то, автоматически, реакционно. Это еще хорошо, что наши 5 деятели из “ПолитШтурма”... там интернет или какие-нибудь презервативы не записали в реакционное изобретение буржуазии: Ленин же про такое не писал! Хотя, кстати, надо посмотреть их статьи на интернет-ресурсе, может быть, там чтото такое уже и есть. Марксисты в XXI веке могут и даже должны использовать мир-системный анализ в своей работе, поскольку без него невозможно выстроить правильную тактику революционной борьбы. Ну если вам, конечно, нужна эта революционная борьба. Если вам интересно создать свою уютную секту и воспроизводить идеологические штампы столетней давности, при этом собирая донатики, то, конечно, в баню эту мир-систему” (В. Садонин, ютуб-канал “ВЫХОД ЕСТЬ!”, ролик “Деградация Марксизма / ПолитШтурм: Оппортунизм, Догматизм, Вредительство”). “Однако не нужно думать, что левые течения в конце XX - начале XXI века сугубо деградируют. Нет, появляются новые популярные школы, новые подходы. Ну, например, та же теория мир-системы. Да, ее можно критиковать, но те же Иммануил Валлерстайн или Самир Амин выстроили модели, которые довольно хорошо показывают принципы работы пост-колониального, или неоколониального, мира. Показывают, почему капитализм и его политические и культурные надстройки могут серьезно отличаться в центре и на периферии. Почему, наконец, тезис Маркса о том, что более развитая страна показывает менее развитой ее будущее, зачастую в современно мире просто не работает” (А. Рудой, ютуб-канал “Вестник Бури”,ролик “ВСЯ ИСТОРИЯ ЛЕВЫХ ИДЕЙ: от Томаса Мора до Николая Платошкина”). “... есть много разных моделей, версий, которые дают нам возможности несколько спрогнозировать наше будущее [речь об экономике], но, на мой взгляд, наиболее убедительным подходом является тот, что был сформулирован представителями мир-системного анализа. Это такое ответвление в марксизме, которое занимается международными экономическими отношениями в контексте центро-периферических отношений, в контексте отношений неэквивалентного обмена между центром и периферией” (О. Комолов, интервью на ютуб-канале “Дмитрий Солодин”, ролик “Что будет с капитализмом? Интервью с Олегом Комоловым”). “... эти споры [о полемике Ленина и Розы Люксембург по поводу капиталистического рынка] переросли в мир-системный анализ. Напомню, что мирсистема это такой взгляд на капитализм, который предполагает, что капитализм - неоднородная система, в которой есть страны центра, периферии и полупериферии. Соответственно, страны центра эксплуатируют периферию. Многие представители этого подхода вышли из марксистского мировоззрения. Однако не все сохранили с ним связь. Мы придерживаемся именно марксистской трактовки мир-системы. Более того, мы считаем, что мир-система не противоречит марксистской методологии, а дополняет ее. Особенно концепция превращения трудовой стоимости в цену производства” (Р. Абдулов, ютуб-канал “Простые числа”, ролик “Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку”). 6 “Мэтр современной социальной теории, автор мир-системного анализа И. Валлерстайн прямо называет себя марксистом, а мир-системный анализ является сегодня одним из самых популярных методов исследования капитализма” (И.В. Купряшкин, “Мир-системный подход к всемирной истории: от мини-миров к мир-социуму”). Отсутствие объективных условий для настоящего подъема и мощного развития рабочего движения, иными словами, отсутствие подлинного рабочего движения как такового, — обусловливает незнакомство широких слоев рабочего класса с теорией марксизма и коммунизмом вообще. Той же причиной обусловлено и поверхностное знакомство с предметом самих левых активистов, которые сейчас представлены в первую очередь творческой интеллигенцией, работниками сферы услуг и студенчеством. В таких условиях даже те течения, идеи и концепции, которые просто называются коммунистическими, не имея к коммунизму ровным счетом никакого отношения, принимаются как публикой, так и активистами за чистую монету. Не нужно далеко ходить за примерами — достаточно указать на идеологию таких организаций как КПРФ, “Суть времени”, “Движение за новый социализм” и т.д. В настоящем очерке мы покажем, что школа мир-системного анализа стоит в одном ряду с вышеназванными организациями: что мир-системный анализ в равной мере не является ни продолжением марксизма, ни его конструктивной критикой. Что он, ровно наоборот, выступает прямой противоположностью марксизма, враждебной рабочему классу антинаучной и реакционной идеологией. ПОНЯТИЕ МИР-СИСТЕМЫ Революция в исторической науке Так как хождение мир-системного анализа во многом держится на авторитете его авторов, то вначале мы не можем пройти мимо основателя мир-системного анализа (настоящего основателя, а не Валлерстайна, как многие думают) и его революционной роли в науке. Известный французский ученый Фернан Бродель был первым автором, пустившим понятие мир-системы (“мир-экономика”) в научный оборот. Как в западных, так и в российских академических кругах Бродель до сих пор пользуется большим авторитетом, так как его деятельность в исторической науке считается, с одной стороны, масштабной, с другой стороны, новаторской. Масштабной — по охвату исторического процесса, которым интересуется Бродель: его основные работы посвящены истории Европы Средних веков и Нового времени. На большом количестве фактологического материала Бродель показывает становление капитализма в Европе. Новаторской деятельность Броделя признают потому, что он применил к изучению истории общества свой оригинальный подход. По Броделю, общественную историю следует рассматривать в трех временных разрезах. Во-первых, жизнь общества основана на материальной базе окружающей природы. Условия ландшафта, климата и другие значительные факторы оказывают на жизнь общества долгосрочное влияние. Медленные, почти неподвижные изменения (если их вообще можно различить) этого 7 общения человека с физической средой Бродель называет неподвижной историей, или неподвижным историческим временем. Более короткие, чем первые, но достаточно долгие процессы изменения условий жизни общества относятся к длительной истории — или к длительному историческому времени. Это изменения социального порядка: существование государств, народов, общественных институтов, сложившихся иерархий социальных связей и т.д. Материальная база таких изменений - изменения в технике, хозяйстве, транспорте, денежном обращении и т.д., влекущие за собой масштабные изменения быта общества. Третий уровень исторического исследования — текучая, подвижная, событийная история. Круговорот громких событий и ярких проявлений общественной жизни. Бродель в своих трудах многократно обращается к схеме разделения времен как к инструменту, который должен открыть перед историей новые возможности. Работы Броделя пропитаны предвосхищением некоего рывка в исторической науке, который должен произойти при помощи схемы Броделя, а также вовлечения в исторический анализ прочих научных дисциплин. Таким образом вокруг Броделя сложился ореол обновителя науки, многочисленные поводы к чему подавал сам Бродель. Так в предисловии к одной из своих главных работ он скромно оценивает свои усилия: “Всякий труд ощущает свою революционность и устремлен на поиски нового, пытается чего-то достичь. Если бы Средиземноморье потребовало от нас всего лишь выйти за рамки привычного, разве это уже не составило бы величайшей заслуги?” (Ф. Бродель, “Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II”, том 1) Как видно, лукавая скромность Броделя заключается в том, что он, с одной стороны, называет свою работу революционной, с другой стороны, приравнивает эту революционность к стремлению “всего лишь выйти за рамки привычного”, в чем он видит “величайшую заслугу”. Тем не менее, уклончивое кокетство Броделя сработало и к настоящему времени его имя окутано слепым почитанием и дежурными восхвалениями многочисленных переводчиков, комментаторов, историков и т.д. “Ф. Бродель стал общепризнанным лидером этого научного направления [Французской историографической школы Анналов]. Он продолжил начатую ими [своими предшественниками по школе] рефлексию относительно предназначения исторического познания, задачей которого, как они считали, должно стать не простое описание событий, а изучение глубины исторического движения всех сторон жизни общества в их единстве, с одной стороны, и стремление к объяснению на этой основе событий настоящего — с другой. Принято считать, что Бродель осуществил революционный поворот в области исторического познания, обратившись к опыту других наук о человеке при анализе социокультурной макродинамики” (Э. Орлова, сборник статей Ф. Броделя “Очерки истории”, статья “Предисловие переводчика”). Так, с подачи самого Броделя, некритический взгляд на него как на революционера в исторической науке крепко укоренился в научном и около-научном 8 сообществе, так что этот миф бездумно повторяется всеми и каждым, кто берется говорить о Броделе. Примером такого суеверного преклонения перед великим ученым, совершившим революцию в исторической науке, может быть следующий пост “Цифровой истории”: “24 августа 1902 года родился Фернан Бродель —- французский историк, яркий представитель второго поколения знаменитой школы “Анналов”, исследователь зарождения системы капитализма. Бродель произвел революцию в исторической науке, предложив учитывать экономические и географические факторы при анализе исторического процесса. Он рассматривал историческое время как внутренне неоднородную категорию, выделив три его уровня: короткое (повседневная жизнь человека, смена политических событий), среднее (циклы подъемов и спадов значимых социальных и культурных процессов) и долгое время (то, что определяет существование цивилизации)”. (“ВКонтакте”, паблик “Цифровая история”, пост от 24.08.2021) Приведенная цитата хороша тем, что она лаконично и емко выражает, почему Броделя считают обновителем истории. Здесь заслуга Броделя достаточно описана: он предложил “учитывать экономические и географические факторы при анализе исторического процесса”. Если расширить это описание, то надо сказать, что экономика и география — не единственные факторы, которые Бродель предложил учитывать. Дело идет о том, что, как мы видели из описания времен, Бродель отводит ключевую роль объективным материальным обстоятельствам, которые влияют на движение общества долгосрочно и вне зависимости от воли людей. Более того, работы Броделя наполнены сетованиями по поводу того, что историография слишком сосредоточена на короткой, событийной истории, а не на длительной, материально предопределенной истории. Таким образом Бродель, как инноватор в истории, есть ни кто иной как материалист. И покуда он прилагает материалистическое понимание к исторической науке, существо его заслуги заключается не менее как в том, что он открыл исторический материализм. Однако широко известно, что открытие определяющей связи между материальной, природной основой жизни общества и развитием самого общества принадлежит настоящим родоначальникам исторического материализма — Марксу и Энгельсу. Уже в самом начале своей научной карьеры они написали книгу “Немецкая идеология”, в которой последовательно и систематично изложили основы материалистического понимания истории. Такое понимание действительно является подлинной революцией в науке, как как именно классики марксизма избавили историческую науку от разрозненных попыток идеалистически сконструировать объективную теорию исторического развития. “Мы знаем только одну единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон, её можно разделить на историю природы и историю людей. Однако обе эти стороны неразрывно связаны; до тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга. История природы, так называемое естествознание, нас здесь не касается; историей же людей нам придется заняться, так как почти вся идеология 9 сводится либо к превратному пониманию этой истории, либо к полному отвлечению от неё. Сама идеология есть только одна из сторон этой истории” (К. Маркс и Ф. Энгельс, “Немецкая идеология”). “Первая предпосылка всякой человеческой истории — это, конечно, существование живых человеческих индивидов. Поэтому первый конкретный факт, который подлежит констатированию, — телесная организация этих индивидов и обусловленное ею отношение их к остальной природе. Мы здесь не можем, разумеется, углубляться ни в изучение физических свойств самих людей, ни в изучение природных условий — геологических, оро-гидрографических, климатических и иных отношений которые они застают. Всякая историография должна исходить из этих, природных основ, и тех их видоизменений, которым они, благодаря деятельности людей, подвергаются в ходе истории” (К. Маркс и Ф. Энгельс, “Немецкая идеология”). Итак, мы видим немаловажный и далеко не единственный штрих к попыткам сблизить между собой мир-системный анализ и марксизм. Вчера все знали, что исторический материализм открыли Маркс и Энгельс, сегодня оказывается, что это был Бродель. А если и не был, то к чему споры? Главное, что и мир-системный анализ и марксизм оба стоят на позициях исторического материализма. Разумеется, дело обстоит как раз наоборот. Далее мы увидим, что спекуляции мир-системного анализа вокруг теории марксизма составляют одну из его существенных черт. Теперь же, когда революционному величию Броделя оказано должное внимание, мы можем рассмотреть, какие научные плоды заключает в себе этот исторический переворот. Понятие мир-системы Концепция мир-системного анализа базируется на понятии “мир-системы”, или “мир-экономики”, или “мир-империи” и т.д. Из нашего изложения будет видно, что эти слова являются лишь разными формами одного и того же понятия, поэтому мы не будем останавливаться и пояснять применение той или иной формы в каждом конкретном случае. В зависимости от контекста мир-системщики применяют свое понятие к самым разным областям общественной жизни: по большей части к экономике, а также к политике, культуре и социальной жизни. Бродель как историк пытался найти удобный, на его взгляд, объект для описания исторического процесса. Таким объектом и явилось то, что он назвал “мир-экономикой”: “Мир-экономика (выражение неожиданное и плохо воспринимаемое французским языком, которое я некогда придумал за неимением лучшего и не слишком согласуясь с логикой, дабы передать одно из частных употреблений немецкого слова Weltwirtschaft — “мировое хозяйство”) затрагивает лишь часть Вселенной, экономически самостоятельный кусок планеты, способный в основном быть самодостаточным, такой, которому его внутренние связи и обмены придают определенное органическое единство” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.”, том 3). 10 “... мир-экономика [Речь о средиземноморском регионе] был суммой индивидуализированных изолированных пространств, экономических и неэкономических, перегруппировываемых таким миром-экономикой... он охватывал огромную площадь (в принципе то была в ту или иную эпоху самая обширная зона сплоченности в заданной части земного шара)... обычно он пренебрегал границами других крупных группирований истории)” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.”, том 3). “При изучении какого-угодно мира-экономики первая забота — это очертить пространство, которое он занимал. Обычно его пределы легко уловить, ибо они изменялись медленно. Зона, какую охватывал такой мир-экономика, представляется первейшим условием его существования. Не существовало мира-экономики без собственного пространства...” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.”, том 3). “... наличие некоего центра, служащего к выгоде какого-либо города и какоголибо уже господствующего капитализма, какова бы ни была форма последнего. Умножение числа центров свидетельствовало либо о некой форме молодости, либо же о какой-то форме вырождения или перерождения. В противоборстве с внутренними и внешними силами и в самом деле могло наметиться, а затем и завершиться смещение центра: города с международными признанием, городамиры, беспрестанно друг с другом соперничали и сменяли одни другие” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.”, том 3). “... будучи иерархизированным, такое пространство было суммой частных экономик; из них одни бывали бедными, другие — скромными, и одна-единственная в центре мира-экономики оказывалась относительно богатой. Отсюда возникали различные виды неравенства, разность потенциалов, посредством которых и обеспечивалось функционирование всей совокупности. И отсюда то “международное разделение труда”, по поводу которого П.М, Суизи говорит нам, что Маркс не предвидел, что оно “конкретизируется в виде [пространственной] модели развития и отсталости, которая противопоставит два лагеря человечества — имущих и неимущих, — разделенных еще более радикальной пропастью, нежели та, что разделяет буржуазию и пролетариат развитых капиталистических стран”. И тем не менее речь здесь идет не о каком-то “новом” разделении, но о ране очень древней и, вне сомнения, неизлечимой. Она существовала задолго до Марксовой эпохи”. (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.”, том 3). “Сколь бы очевидными не были случаи экономической зависимости, каковы бы ни были их последствия, было бы ошибкой представлять себе порядок мираэкономики управляющим всем обществом в целом, в одиночку определяющим прочие порядки общества. Ибо имелись другие порядки. Экономика никогда не бывает 11 изолированной. Ее почва, ее пространство суть равным образом те почва и пространство, где поселяются и живут другие сущности — культурная, социальная, политическая, — беспрестанно в экономику вмешивающиеся, дабы ей способствовать либо с тем же успехом противостоять” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.”, том 3). “... с наступлением нового времени главенство экономики становится все более и более весомым: она ориентирует, нарушает равновесие, воздействует на другие порядки. Она чрезмерно усиливает неравенство, замыкает в бедности или в богатстве соучастников мира-экономики...” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.”, том 3). Итак, понятие мир-экономики заключается в том, что на определенной территории располагается население, которое объединено системой разделения труда. То есть, такая территория является в известном смысле самодостаточной: основные продукты производятся на ней, обмениваются через торговлю и потребляются здесь же. Бродель не считает такую территорию экономически замкнутой: она может вести обмен с другими частями света — главное, что она самостоятельна. Далее следует, что такая экономически обособленная территория не обязательно должна быть политически единой. Скажем, на ней может располагаться несколько государств. Более того, понятие мир-экономики шире, чем совокупность государств либо народов, либо организационных образований — главный критерий для выделения мир-экономики, опять же, расположенное на этой территории разделение труда, достаточное для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность общества, расположенного здесь. Разделение труда в мир-системе Хотя Бродель и говорит, что общественное разделение труда существовало задолго до капитализма, он тем не менее начинает отсчет капиталистической мирэкономики с того разделения труда, которое было на момент зарождения капитализма. Предыдущая история разделения труда остается у него за бортом. Бродель смотрит на разделение труда в мир-экономике как на данность той исторической эпохи, которую он рассматривает. Это не удивительно, ведь из приведенных цитат видно, что разделение труда у Броделя — это лишь одна из характеристик мир-экономики, должная объяснить различия между экономиками внутри системы, — а не то общественное разделение труда, с которого начинают исследование марксисты: “Разделение труда в пределах той или иной нации приводит прежде всего к отделению промышленного и торгового труда от труда земледельческого и, тем самым, к отделению города от деревни и к противоположности их интересов. Дальнейшее развитие разделения труда приводит к обособлению торгового труда от промышленного. Одновременно, благодаря разделению труда внутри этих различных отраслей, развиваются, в свою очередь, различные подразделения индивидов, сотрудничающих в той или иной отрасли труда. Соотношение этих 12 различных подразделений обусловливается способом применения земледельческого, промышленного и торгового труда (патриархализм, рабство, сословия, классы). При более развитом общении те же отношения обнаруживаются и во взаимоотношениях между различными нациями” (К. Маркс и Ф. Энгельс, “Немецкая идеология”). Несмотря на то, что Бродель относит разделение труда лишь к одной из характеристик мир-экономики, он все же говорит, что мир-экономика суть явление автономное. Это можно понимать только в том ключе, что разделение труда, существовавшее в начале капитализма, стало его основой. Следовательно, то, исторически имевшее место, разделение труда стало основой мир-экономики Броделя. Однако разделение труда свойственно всему человеческому обществу и развивается вместе с ним. Прежде чем Бродель мог выделить мир-экономику в рамках сложившегося разделения труда (которое только и позволило ей существовать автономно), ему следовало проследить, как разделение труда развивалось в предшествующей истории. Но если учесть, что Бродель смотрит на мир-экономики как на равнозначные сущности, которые существовали в разные исторические периоды, то становится ясно, что разделение труда берется им как чистая абстракция, в отрыве от исторического развития. Марксизм исходит из того, что разделение труда есть объективная основа общественного развития. Именно разделение труда приводит людей к возможности создавать прибавочный продукт, а значит и делиться на классы по принципу присвоения этого продукта. Поэтому, разделение труда — это в первую очередь основа для всего человеческого общества и всей человеческой истории, и лишь во вторую очередь оно определяет автономность отдельно взятой цивилизации или разность экономик внутри нее. В отличие от Маркса и Энгельса Бродель игнорирует всю предшествующую историю разделения труда от момента его зарождения до того состояния, в которое оно развилось накануне зарождения капитализма. Неизбежным следствием такой ошибки становится чисто абстрактный, оторванный от действительной истории взгляд Броделя на исторический процесс. История человечества перестает быть цельной и последовательной, а становится собранием фактов о самостоятельном существовании тех или иных автономных образований/цивилизаций. Поступательный ход развития общества, обусловленный углублением разделения труда, заменяется у Броделя не связанным причинно-следственной связью существованием территориальных единиц. С одной стороны, так Броделю как историку легче описывать Европу того времени, но, с другой стороны, такой подход разрывает историческую цепь, не дает увидеть единство человеческой истории, выявить всеобщие и частные законы общественного развития — а ведь именно в этом и заключается подлинная цель науки истории. Временные границы мир-системы Если мир-системщик Фернан Бродель искусственно вырывает из исторического процесса целые куски в пространстве и времени, то мир-системщик Анри Гундер Франк более последователен в этом отношении: 13 “... задолго до рождения мнимой “европейской мир-экономики” и еще долгое время после наступления этого события реальная мировая экономика характеризовалась обширным разделением труда и сложной торговой системой, которая была преимущественно азиатской. Ее главными производителями/экспортерами серебра были Латинская Америка и Япония, и золота — Латинская Америка, Юго-Восточная Азия и Африка. Южная, Восточная и Западная Африка были главными источниками золота в течение веков, но некоторые части Африки также экспортировали и рабов на Запад и на Восток” (А. Фрак, “Пять тысяч лет мировой системы в теории и практике”). “В противовес Валлерстайну мы считаем, что существование и развитие одной и той же мировой системы, в которой мы живем, прослеживается назад в глубь веков на пять тысяч лет и более. Согласно Валлерстайну и в отличие от нашей мировой системы, мир-системы [Валлерстайна] обязательно не должны охватывать весь мир полностью. Бродель и Валлерстайн оба подчеркивают различие между мировой экономической системой и системой мир-экономики. “Мировая экономика — это выражение, относящееся ко всему миру в целом… Мирэкономика касается только части, экономически автономного сегмента” (Бродель). “Иммануил Валлерстайн сообщает нам то, чего он достиг в теории мир-экономики, рассматривая одновременно и самые крупные элементы в системе мер, которые попрежнему будут связаны” (Бродель)” (А. Франк, “Пять тысяч лет мировой системы в теории и практике”). Таким образом, логика построения мир-системы в руках Франка получает свое органичное продолжение: если мир-система — это структура в виде совокупности территории и населения, взаимосвязанного разделением труда, то почему такая структура не должна пониматься как всеобщая, мировая структура? И почему эта структура должна существовать лишь в различные временные промежутки, а не на протяжении всей человеческой истории? “Спор [между мир-системщиками] между пятьюстами и пятью тысячами лет истории мировой системы на самом деле является спором по поводу того, как описывать историю мировой системы. Это спор между прерывностью и непрерывностью. Одна позиция заключается в том, что способ производства или социальная формация в мировой истории делают резкий скачок около 1500 года. Эта позиция преобладает среди историков и теоретиков мир-систем, включая Валлерстайна и Амина. Другая позиция состоит в том, что накопление капитала не началось или не стало “непрерывным” только после 1500 года нашей эры, но было движущей силой исторического процесса на протяжении всей истории мировой системы. Не было резкого перелома между различными “мир-системами” или даже “способами производства” около 1500 года”. (А. Франк, “Пять тысяч лет мировой системы в теории и практике”). Франк делает шаг вперед — он понимает, что общественное развитие нужно понимать в контексте непрерывности исторического процесса. Но он перегибает палку в другую сторону: вместо того, чтобы трактовать различные исторические ступени развития общества как взаимосвязанные, он, — показательно демонстрируя свою противоположность марксизму, — смотрит на общественную историю как на процесс, не имеющий качественно различных этапов-ступеней. 14 Накопление капитала, которое у Франка присуще всей мировой истории и которое он использует поэтому как доказательство существования единой мировой системы, — это не то научное понятие о накоплении капитала, которое выработано Марксом и которое, разумеется, относится к эпохе капитализма, а не ко всей мировой истории. Маркс понимает под накоплением капитала такой процесс концентрации богатства в частных руках, который сопровождается развитием наемного труда — необходимого условия капиталистического производства. Накопление капитала, таким образом, есть процесс подготовления производительных сил для перехода к таким производственным отношениям, когда главной характеристикой непосредственных производителей, рабочих, являются их личная свобода и отсутствие частной собственности на средства производства. Именно в этом капитал отличается как общественное отношение от того, что можно назвать капиталом, например, в Древнем Риме. Франк же называет накоплением капитала всякий рост общественного богатства, который, действительно, свойственен по-существу всем историческим эпохам. Непонимание капитала как общественного отношения, как экономической, строго научной категории и связанные с этим ошибки — неизменное свойство всего мир-системного анализа. “Действительные споры ведутся вокруг вопроса, какие структуры создают “систему” или “мировую (мир-) систему” в особенности. Мы настаиваем на том, что иерархия комплексов центр-периферия (и “хинтерландов”) внутри мировой системы, в которой излишки распределяются между зонами иерархии, с необходимостью предполагает существование некоторых форм “международного” (в лучшем случае термин, вводящий в заблуждение) разделения труда. Критерием системного участия в единой мировой системе является следующий: регион, который не является частью данной системы, будет занимать положение, как если бы он был или является сейчас ее частью, в случае, если другие части системы не будут занимать положения, как если б они были или сейчас являются частью системы. Взаимодействие между одной и другой частями системы может быть только непрямой цепью связей. Более слабая системная связь будет заключаться в том, что различные части могут также реагировать и влиять на одни и те же напряженные экологические ситуации глобального масштаба” (А. Франк, “Пять тысяч лет мировой системы в теории и практике”). Франк последовательно развивает мысль и приходит к выводу, что существо вопроса заключается не во времени или территории существования мир-системы, а в самом понятии мир-системы как системы/структуры элементов и связей. Он мыслит последовательно метафизически и отбрасывает одну за другой характеристики мирсистемы, привязывающие ее к действительному миру: дело не в территории, дело не во времени, дело не в разделении труда. Легкий географический оттенок, заключенный в “экологических ситуациях глобального масштаба”, и тот сходит, потому как кроме необоснованной фразы здесь ничего нет. Таким образом, все сводится к простому пониманию системы как совокупности частей, соединенных связями. Вообще Франк замечателен тем, что в отличие от коллег он не наносит на свои рассуждения налет ложной интеллектуальности. Все просто и ясно: взял холостую спекулятивную систему, отсеял все обременяющие материальные обстоятельства, получил чистую абстракцию “системы” — с чистыми элементами и чистыми связями. Метод Франка это квинтэссенция мир-системного метода в его подлинном виде, а также 15 и метафизического метода вообще. Теперь, доведя свою “систему” до кристально чистой абстракции, Франк может идеалистически наполнить ее тем, что ему нужно: “Подводя, таким образом, итог, мы можем среди критериев участия в одной и той же мировой системе выделить следующие: 1) всесторонние и длительные торговые связи; 2) устойчивые или периодически возобновляющиеся политические связи с определенными регионами или народами, особенно включая отношения центр-периферия-хинтерланд, а также отношения и процессы в схеме гегемония/соперничество; 3) общие экономические, политические и, возможно, также, культурные циклы. Определение этих циклов и их влияния на размеры мировой системы играет ключевую роль в нашем исследовании” (А. Франк, “Пять тысяч лет мировой системы в теории и практике”). Ясно, что следуя своему методу, Франк мог привести любой другой набор признаков, ведь после рафинирования понятия “мир-системы” до пустой абстракции его руки ничем не связаны. Отсюда ясно и то, что придание важности торговым и политическим связям, а также цикличности движения мировой экономики и пр. — это не результат всестороннего научного исследования, а просто следование конъюнктуре научного дискурса. Все вокруг говорят про политику да торговлю — вот Франк и вставил эти слова в свою схему-болванку. Хотя на место этих слов можно вставить все что угодно еще. Но насколько чиста в своей спекулятивной абстрактности система Франка, настолько же она более непрочна по сравнению со своими системами-сестрами: “Наиболее общее непонимание проявляется в том, что термин “мировая система” означает признание существования только одной мировой системы на протяжении всей мировой истории. Находим ли мы здесь трудности?.. Не только мы находим сильно разрозненное развитие политических экономик доколумбовой Америки по отношению к экономикам Евразии, но даже для Евразии было бы неправильно сделать вывод, что там была только одна гигантская всеохватная мировая система. Скорее там было несколько направлений регионального развития, которые в ранние периоды их развития могли оформиться в обособленные системы. Тем не менее, мы… считаем, что одна мировая система постепенно стала объединять (только поглощением) все другие, в первую очередь в Евразии, и затем после 1492 года по всему миру. Это и есть то Афро-евразийское рождение, и затем образовавшийся мировой экономический свод, который мы называем “мировая система”. Этот аргумент идет вопреки полученной в большом количестве теории и столь многих отдельных областей знания, а также столь сильно специализированной истории (и историков), что является весьма спорным, даже когда вполне понимался. При взгляде в прошлое, возможно, было ошибкой принять термин “мировая система”, поскольку это способствовало неправильному пониманию наших тезисов о мировом развитии” (А. Франк, “Пять тысяч лет мировой системы в теории и практике”). Что и следовало доказать. “Мировая система” была мировой до тех пор, пока Франк спорил с братом-Валлерстайном, но как только речь зашла о нестыковке этого 16 понятия с реальностью, то “мировая система” стала уже общим названием для “нескольких направлений регионального развития”. Таким образом, вся критика Франка в адрес сотоварищей исчезла без следа. Метафизика — как неизменный метод идеализма — на то и метафизика, что при соприкосновении с действительной историей построенные ею “системы”, “структуры” и “связи” рассыпаются как карточные домики, а автор-метафизик вынужден оправдываться, что его не так поняли. Капитализм и мир-система Итак, мы видим, что спор мир-системщиков между собой о времени существования мир-системы по существу ведется о том, признавать ли мир-систему понятием, тождественным капитализму — ведь именно о временных границах, соответствующих времени существования капитализма, говорит Франк. Однако мир-система, как ее понимают мир-системщики, естественным образом расходится с капитализмом, как его понимают марксисты. Если в марксизме под капитализмом понимают общественно-экономическую формацию, то в мир-системном анализе капитализм это просто… система. “... Маркс знал, что он был человеком XIX в., и что его видение неизбежно ограничивалось социальной реальностью того времени... он знал, что в его работе есть противоречие между описанием капитализма как логически идеальной системы (которой на самом деле никогда не существовало) и анализом конкретной повседневной реальности капиталистического мира (И. Валлерстайн, “Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация”). “Капитализм — это прежде всего и главным образом историческая социальная система. Чтобы понять его происхождение, функционирование или нынешние перспективы, мы должны рассматривать его в том виде, в каком он существует в реальности. Конечно, можно попытаться представить эту реальность как сумму абстрактных положений, однако было бы глупо использовать такие абстракции для описания и классификации этой реальности. Вместо этого я предлагаю попытаться описать, чем в действительности капитализм был на практике, как он функционировал в качестве системы, почему он развивался так, как развивался, и в каком направлении он движется сегодня” (И. Валлерстайн, “Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация”). Валлерстайн дает понять: Маркс ошибочно описывал капитализм как логически идеальную систему, сумму абстракций, а он, Валлерстайн, правильно описывает капитализма таким, каким он был на практике — как исторический капитализм. Проблема заключается в том, что научное знание — это всегда сумма абстракций. Вопрос лишь в верности той или иной абстракции. И Маркс и Валлерстайн абстрагируют понятия из совокупности исторических фактов. Маркс пришел к абстракции капитализма как общественно-экономической формации. Валлерстайн пришел к абстракции капитализма как социальной системы — или мир-системы. 17 Что же не устраивает Валлерстайна в описании Маркса? Его не устраивает, что это “описание капитализма как логически идеальной системы (которой на самом деле деле никогда не существовало)”, противоречит “конкретной повседневной реальности капиталистического мира”. Например, вслед за буржуазными историками марксизм признает, что на заре капитализма существовали классы буржуа и аристократии, а Валлерстайн, вслед за Броделем, указывает: один и тот же человек мог быть и аристократом и буржуа одновременно — вот вам и противоречие между абстрактной схемой и действительностью. Или еще: абстракция “пролетариат” подразумевает, что есть группа лично свободных людей, у которых нет в собственности средств производства и которые поэтому могут рассчитывать на доход только в виде заработной платы, — но Валлерстайн хорошо изучил действительную историю капитализма и говорит: такого класса в чистом виде никогда не было — многие рабочие жили с семьями в частных домах и имели доходы помимо зарплаты — кто с огорода, кто с ремесла и т.д. Разве не “глупо использовать такие абстракции [как “пролетариат] “для описания и классификации этой реальности?” Вообще Валлерстайн и Бродель славятся своим монументальным подходом к предмету: главный труд Броделя занимает три увесистых тома, Валлерстайна — четыре тома. И это за вычетом их прочих многочисленных книг и статей. В контексте сказанного ясно, что монументальность их работ заключается в максимально возможной детализации исторической картины: они описывают зарождение и развитие капитализма настолько подробно, насколько могут, используют столько источников, сколько могут и т.д. Но написать о капитализме много — это одно, а сформулировать, что такое капитализм — совсем другое. Сколько бы книг не написали мир-системщики, результаты их трудов все равно выражаются в “сумме абстрактных положений” — и эта сумма заключается в понятии “мир-система”. В то же время нельзя не согласиться с Валлерстайном: “капитализм” Маркса действительно представляет собой “логически идеальную систему” — чего не скажешь о “мир-системе”, авторы которой не могут даже договориться о том, как ее определить. Таким образом, Валлерстайн, когда он, по сути, говорит, что его исследование капитализма лучше, чем у Маркса, на самом деле обнаруживает свойственное всем мир-системщикам непонимниае диалектического метода, одним из принципов которого является принцип абстрактного и конкретного. Действительно, Валлерстайн прав в том, что логическая схема Маркса противоречит действительным фактам. Но дело заключается в том, что человеческое, научное знание всегда есть сумма абстракций, противоречащих действительным фактам. Абстракция — это обобщение. Ее назначение заключается в том, чтобы выделить из набора фактов то свойство, которое их объединяет. Но метафизическое, сугубо формально-логическое, абстрагирование ищет точного соответствия в каждом конкретном случае. Например, если у нас есть сто красных яблок, мы можем абстрагировать (то есть обобщить) из них понятие “красные яблоки”. Эта абстракция не есть сами действительные яблоки — она лишь понятие, отражение действительности в голове человека. Суть метафизического метода заключается в следующем: если все сто яблок будут красными и мы скажем, что это “красные яблоки”, то, с точки зрения метафизики, мы не ошиблись. Но если среди этой сотни будут податься кое-где зеленые яблоки, то применить к ним понятие “красные яблоки” метафизика уже не позволяет — ведь она требует строго формально-логического соответствия. Почему метафизический метод не работает в применении к действительности? Потому что он не учитывает, что окружающий нас мир материален, а материя 18 существует только в форме движения. Следовательно, мир всегда пребывает в движении. Однако движение имеет не только грубую, механическую, но и более развитые формы: химическую, биологическую, общественную, мыслительную и пр. Всегда движутся и живые организмы, и общественные отношения, и наша мысль. Таким образом, не только окружающий мир, но и познающий его человек всегда пребывают в движении. Следовательно, сущность верных, научных понятий заключается в том, чтобы не просто описать предмет как набор качеств, но и описать его в движении. Если мы придумываем из головы, что у нас есть сто красных яблок и называем их “красные яблоки”, метафизика в этом случае работает и не вызывает проблем. Ничто не мешает этим яблокам быть красными всем до одного — ведь они существуют только как представление в нашей голове. Но совсем другое дело, когда мы абстрагируем понятия из действительного мира. Например в комнате стоят три ящика с яблоками. В одном из них лежат только зеленые яблоки, в другом — вперемежку и зеленые и красные, а в третьем — большей частью красные, но видно, что и зеленые там присутствуют. Если мы попросим товарища забрать из комнаты ящик с красными яблоками, то, с точки зрения метафизического метода мы выразились неверно — потому что наше понятие “ящик с красными яблоками” неверно, оно не соответствует точно действительности. В комнате нет ящика с красными яблоками, там есть ящик с яблоками, большая часть из которых красные плюс немного зеленых. Но товарищ поймет нас и заберет именно тот ящик, о котором мы говорим. Так практика, критерий истины, показывает, что наше понятие “ящик с красными яблоками” верно отражает действительность. Почему так? Потому что это понятие учитывает движение: в данном случае общественную его форму: нам нужно, чтобы нужный ящик с яблоками переместился и был потреблен кемто, поэтому понятие должно быть сформулировано так, чтобы наш товарищ понял нас в этом конкретном контексте. Наше понятие должно учитывать не только качественные признаки предмета, который оно обозначает, но и общественные отношения по поводу этого предмета. Только так оно может использоваться нами в практике, в действительной жизни. Следовательно, с точки зрения метафизики наше понятие неверно отражает окружающий мир, но с точки зрения диалектики, учитывающей движение, это понятие верно, и практика подтверждает его верность. В такой же плоскости надо понимать, например, и марксистское понятие товара. Начинающие марксисты на кружках могут бесконечно спорить о понятии товара и его соотношении с услугами, потому что они еще мыслят метафизически и пытаются понимать товар как определение, четко соответствующее действительности. Однако примеры из практической жизни легко разрушают позицию каждой из спорящих сторон. Начинающий марксист не понимает еще, что понятие товара, как и любое другое понятие, не обязательно должно формально-логически точно соответствовать конкретным предметам — оно должно отражать эти предметы в контексте общественного движения. Возвращаясь к Валлерстайну: если определенные слои пролетариев живут в частных домах, кто-то с огородами, кто-то ремеслиннечает, кто-то оказывает услуги, кому-то помогают родственники и т.д. и т.п., — то это вовсе не означает, что понятие пролетариата как класса людей живущих наемным трудом неверно. Это понятие диалектическое, оно создано не для того, чтобы формально-логически точно отразить действительный мир. В условиях общественного движения оно верно, потому как отражает генеральную тенденцию, определяющую все общественные отношения в капиталистической формации. 19 Поэтому верна система Маркса, которая в отдельных случаях не соответствует конкретным примерам из жизни, но в целом достоверно отражает развитие общественных отношений. И потому неверна мир-система, которая точно соответствует существованию совокупности людей, связанных разделением труда и живущих на определенной территории, — но не видит общественного движения этой совокупности. “Великий ученый” Иммануил Валлерстайн не преодолел рубеж начинающего кружковца. Он видит, что система представлений о капитализме, построенная Марксом, то там то здесь не соответствует конкретным проявлениям действительной жизни, — и с серьезным, ученым видом говорит: “есть противоречие между описанием капитализма [Марксом] как логически идеальной системы (которой на самом деле никогда не существовало) и анализом конкретной повседневной реальности капиталистического мира”. Но правда заключается в том, что за этим серьезным, ученым, глубокомысленным заявлением скрывается наивность человека, не понимающего, что он критикует. Такую наивность можно простить начинающему кружковцу, но не ученому с мировым именем. Классы Прежде чем перейти непосредственно к тому, как мир-системщики понимают социальную жизнь, нужно коснуться методологии мир-системного анализа, заложенной Броделем. “Для историка, тесно привязанного к конкретному, глобальное общество может быть лишь суммой живых реальностей, связанных или не связанных одни с другими. Не одно вместилище, но несколько вместилищ и несколько [видов] вмещаемого. Именно в таком смысле я взял за правило, за неимением лучшего, говорить об обществе как о множестве множеств, как о полной сумме всех фактов, каких мы, как историки, касаемся в разных областях наших исследований” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.”, том 2). Следовательно, чтобы определить общество и чтобы сделать это более удобным способом, Бродель предлагает смотреть на общество систематически - через призму классификации. “Разумеется, практически такую глобальность должно расщеплять на множества более ограниченные, более доступные наблюдению. Иначе — как управиться с этой огромной массой?” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.”, том 2). “... разве не поступала таким образом всякая общественная наука, очерчивая и подразделяя свою область? Она сразу же разделяла реальное на части, руководствуясь духом систематизации, но также и по необходимости: кто из нас не специализирован в некотором роде с самого рождения, в силу своих способностей 20 или своей склонности, для постижения того или иного сектора познания, а не какогонибудь другого?” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.”, том 2). Если общество это система взаимоувязанных множеств, то чем же являются эти множества? “Обе в принципе обобщающие общественные науки — социология и история — разделяются по многочисленным специализациям: социология труда, социология экономическая, политическая, социология познания и т.д., история политическая, экономическая, социальная, история искусства, идей, история науки, техники и т.д. Таким образом, различать, как мы это делаем, внутри того большого множества, какое образует общество, несколько множеств, притом лучше всего известных, — это подразделение банальное. [Таковы], конечно, экономика на надлежащем месте; социальная иерархия, или социальные рамки; политика; культура — каждое из этих множеств в свою очередь подразделяется на подмножества и далее в таком же роде. В такой схеме глобальная история — это изучение по меньшей мере четырех “систем” самих по себе, затем в их отношениях, их зависимостях, их взаимном перекрытии, с многочисленными корреляциями и переменными величинами, присущими каждой группе…” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.”, том 2). Бродель смешивает методологию исследования с предметом исследования, “множество множеств” как классификацию фактов об обществе — с “множеством множеств” как самим обществом. С одной стороны, когда Бродель говорит об обществе как о множестве множеств, он имеет в виду методологию исследования: разделить общество на классы явлений, относящихся к той или иной области человеческих знаний значит упростить исследование, облегчить понимание предмета. Но, с другой стороны, множества у Броделя это не просто множества фактов общественной жизни, сгруппированных по областям знаний — это качественно отличные совокупности явлений общественной жизни, которые живут и движутся, взаимодействуют между собой: они могут конкурировать, конфликтовать, доминировать друг над другом, одним словом составляют существо общественного развития: “Больше того, важно не воображать априори, будто такой-то или такой-то сектор мог раз и навсегда обладать превосходством над [каким-то] другим или над всеми другими. Я, например, не верю в неоспоримое и постоянное превосходство политической истории, в священный приоритет государства” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.”, том 2). “В Европе… быстро развивавшаяся экономика довольно часто… опережала другие секторы”, — то есть другие множества, — “Она заставляла эти секторы определяться в зависимости от нее, и нет никакого сомнения, что именно это утверждавшееся первенство оказалось одной из основ ранней современности небольшого континента” 21 (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.”, том 2). “... миры-империи… были, вне сомнения, образованиями архаичными, [итогом] старинных побед политики над экономикой” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.”, том 3). Становится очевидно, что мир-система как удобный объект для исследования является лишь одним из множеств (или их сочетаний) и выступает, таким образом, техническим приемом, используемым для описания предмета исторического исследования. На этом этапе своего существования, в руках ее создателя Броделя, “мир-система” более представляется таким техническим приемом, она еще не вульгаризирована и не превращена в самодовлеющую сущность, из которой последователи Броделя пытаются вывести любые свои иллюзии на счет общества. Утверждая методологию своего исследования, Бродель прямо расписывается в метафизическом характере мир-системного метода: “Недостижимый идеал — представить все в едином плане и в едином движении. Метод, какой можно порекомендовать, заключается в том, чтобы, разделяя, сохранять в уме глобальное видение: оно непременно проявится в объяснении, будет воссоздавать единство, побудит не верить мнимой простоте общества, не пользоваться этими расхожими формулировками — общество сословное, общество классовое или общество потребления, — не вдумавшись заранее в общую оценку, которую они навязывают. И, следовательно, не верить в удобные тождества: купец = буржуа, или купцы = капиталистам, или же аристократы = земельным собственникам; не говорить о буржуазии или о дворянстве так, как если бы слова эти безошибочно определяли хорошо очерченные множества, как если бы легко различимые границы разделяли либо категории, либо классы, тогда как перегородки эти “столь же текучи, как вода” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.”, том 2). Чтобы лучше показать, как Бродель понимает общественное устройство, нужно привести еще некоторые цитаты: “В единственном ли, во множественном ли числе, но [понятие] социальная иерархия в конечном счете обозначает банальное, но важнейшее содержание слова общество...” “Я бы предпочел говорить об иерархиях, а не о социальных стратах, категориях, или даже классах”. “Но вернемся… к слову иерархия. Оно само собою, без особых затруднений приложимо ко всей истории обществ с высокой плотностью населения: ни одно из таких обществ не развивалось по горизонтали, как общество равных. Все [они] откровенно иерархизированы”. “... не существует общества без каркаса, без структуры” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.”, том 2). 22 Таким образом, понятие общества, по Броделю, заключается в социальной системе, структуре. Покажем, какое конкретное содержание вкладывает Бродель в эту форму: “Иерархический порядок никогда не бывает простым, любое общество — это разнообразие, множественность; оно делится наперекор самому себе, и это разделение есть, вероятно, самое его существо. Возьмем пример: так называемое “феодальное” общество, изначально присущий которому плюрализм пришлось-таки признать и объяснять марксистским и “марксистствующим” историкам и экономистам, изо всех сил старающимся определить это общество. Могу ли я сразу же и до того, как двигаться далее, сказать, что я испытываю к столь часто употребляемому слову феодализм такую же аллергию, какую испытывали Марк Блок или Люсьен Февр? Этот неологизм, ведущий свое происхождение из вульгарной латыни (feodum — феод), для них, как и для меня, относится лишь к ленному владению и к тому, что от него зависит, — и ничего более. Помещать все общество Европы с XI по XV в. под этой вакабулой не более логично, чем обозначать словом капитализм всю совокупность этого же общества между XVI и XX вв. Но оставим этот спор. Согласимся даже, что так называемое феодальное общество — еще одна расхожая формула — могло бы обозначать большой этап социальной истории Европы, что [вполне] законно использовать это выражение как удобную этикетку там, где мы с таким же успехом могли говорить о Европе А, обозначая как Европу В следующий этап [ее истории]... Лучшим описанием так называемого феодального общества остается, на мой взгляд… — “феодальное” общество, сформированное веками “выпадения в осадок”, разрушения, вызревания, было [формой] сосуществования по меньшей мере пяти “обществ”, пяти разных иерархий. Самым древним, располагавшимся у основания и пришедшим в расстройство, было общество сеньориальное, чьи [истоки] теряются во мраке веков, которое группировало в небольшие свои ячейки сеньеров и ближайших к ним крестьян. Менее древним, и однако же простиравшим свои корни очень далеко, до самой Римской империи, а духовные свои корни — еще глубже, было общество теократическое, которое с помощью силы и упорства строила римская церковь, ибо ей требовалось не только завоевать, но и удержать своих адептов, а значит, без конца заново завладевать ими. Значительная часть прибавочного продукта ранней Европы шла на содержание этого громадного и обширного предприятия: соборы, церкви, монастыри, церковные ренты. Что это было — вложение капитала или растранжиривание его? [характерное для мир-системщиков непонимание понятия “капитал”] Третья система: вокруг территориального государства организовывалось более молодое общество, выраставшее среди других и искавшее в них опору. Государство потерпело крушение во времена последних Каролингов, но, как часто бывает, крушение не было тотальным. Четвертый субсектор: феодальный строй в точном значении слова, прочная надстройка, стремившаяся к вершине [социальной структуры] по пустотам, сохранявшимся благодаря ослаблению государства, надстройка, объединявшая сеньеров в длинную иерархическую цепочку и пытавшаяся посредством такой иерархии все удержать, всем управлять. Но церковь не будет целиком захвачена ячейками системы, государство в один прекрасный день разорвет эту сеть; а что 23 касается крестьянина, то он будет зачастую жить в стороне от этой ажитации наверху. Наконец пятая, и последняя система, с нашей точки зрения, важнейшая из всех — города. Они выросли или появились заново начиная с X — XI вв. [Города] — особые государства, особые общества, особые цивилизации, особые экономики. Города были детищем далекого прошлого: в них зачастую оживал Рим. Но были они и детищем настоящего времени, которое обеспечивало им расцвет. Они были также новыми творениями: в первую голову результатом колоссального разделения труда — между деревней, с одной стороны, и городом, с другой, результатом долго сохранявшейся благоприятной конъюнктуры, возрождавшейся торговли, вновь появившейся монеты. Благодаря монете, великому множителю, возникал как бы электрический ток, который от Византии и стран ислама через безбрежное пространство Средиземного моря оказывался подключен к Западу. Когда же впоследствии все море станет христианским, наступят новый подъем и потрясение всей прежней Европы. Итак, в целом — несколько обществ, которые сосуществовали, которые худо ли, хорошо ли опирались друг на друга. То была не одна система, но несколько систем, не одна иерархия, но несколько иерархий, не одно сословие, но сословия, не один способ производства, но несколько, не одна культура, но несколько культур, [само]сознаний, языков, образов жизни. Все слова надлежит поставить во множественном числе” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.”, том 2) С одной стороны, здесь подтверждается наше утверждение о том, что множества Броделя — это не просто классификация фактов общественной жизни, не просто методология, но и существо общественной жизни, анатомия общества, как ее видит Бродель. С другой стороны, споря со словом “феодализм”, Бродель подает дело так, будто это слово неудобно, так как означает собой “одну систему”, “одну иерархию”, “один способ производства”, “одну культуру”, “один язык” и т.д. Бродель же разводит тучи руками и проясняет: не одна, а несколько! Конечно, ни один разумный человек не поспорит с тем, что в средневековой Европе были разные языки и культуры, разные сословия и образы жизни. Однако Бродель не просто так обвиняет слово феодализм в том, что оно означает нечто единственное: из всего, к чему Бродель приравнивает это слово, действительно единственным для данной исторической эпохи является только применяемый марксизмом (феодальный) способ производства. Бродель искусственно ставит существующий в единственном числе способ производства с существующими во множестве языками, экономиками, культурами и т.д. Бродель соизмеряет несоизмеримое. Таким образом он пытается отделаться от реальной причины своей аллергии — от формационной теории Маркса, чтобы последняя не мешала ему в построении “мир-экономики”. А используемые при этом банальности о множестве сословий и культур — это лишь пыль в глаза, грязный прием. Валлерстайн продолжает линию своего учителя: “Если мир-системы — это единственно реальные социальные системы (помимо действительно изолированных самодостаточных экономик), то из этого должно следовать, что возникновение, консолидацию и политические роли классов и статусных групп необходимо рассматривать как элементы этого мира24 системы. В свою очередь, это означает, что одним из ключевых элементов для анализа класса или статусной группы является не наличие у них самосознания, но географические рамки их самоопределения” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна I”). “Классы всегда существуют как потенция (an sich) [в себе — нем.]. Проблема состоит в том, при каких условиях они обретают классовое сознание (für sich) [для себя — нем.], то есть действуют как группы в политико-экономической сфере и даже в некоторой степени оказываются культурным единством. Подобное самосознание появляется в результате конфликтной ситуации. Однако для высших страт открытый конфликт (а стало быть, и очевидное самосознание) всегда есть faute de mieux [нечто за неимением лучшего варианта — фр.]. Вероятность сохранения их привилегий настолько же велика, насколько неопределенными становятся границы классов” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна I”). “В конфликтных ситуациях многочисленные общественные фракции имеют тенденцию сокращаться до двух основных групп путем формирования альянсов, то есть по определению невозможно одновременное наличие трех и более классов, осознающих себя в качестве таковых. Очевидно, что может также существовать множество групп профессиональных интересов, которые могут самоорганизоваться для действия в пределах социальной структуры. Однако в действительности такие группы представляют собой всего одну разновидность статусных групп и часто в самом деле тесно пересекаются с другими их разновидностями, определяемыми по этническим, лингвистическим или религиозным критериям” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна I”). Итак, Валлерстайн прямо и четко формулирует то, что стесняется сказать Бродель: мир-система — это единственно верное понимание общественной жизни, поэтому исходить нужно из мир-системы. Классы суть лишь элементы мир-системы наряду с другими видами общности (статусные группы). Далее идет противопоставление понимания классов как обладающих самосознанием — пониманию классов как географически определенных общностей. Вполне логично: если мирсистема это географически обусловленное образование (и в этом ее главное свойство), то и ее составные элементы, в том числе классы, также географически обусловлены. Целое определяет части. Классы всегда существуют как потенция, пишет Валлерстайн. Это значит, что класс это не та или иная общность людей как таковая, а лишь состояние такой общности. Если они “действуют как группы в политико-экономической сфере и даже в некоторой степени оказываются культурным единством”, значит в это время они обладают классовым сознанием, значит они являются классом. Если нет — то нет и классового сознания, то в данный момент они не класс. Таким образом, под классом в данном контексте понимается состояние группы людей, когда они действуют организованно, то есть сознательно, в конфликтной ситуации. Такому-то пониманию и противопоставляет Валлерстайн понятие класса как географически обусловленной общности. Следовательно, противопоставляются несоизмеримые характеристики 25 явления, такие как его содержание (класс вообще — географически обусловленная общность) и форма (класс, находящийся в состоянии конфликта). Как метафизик Валлерстайн путает статику и динамику — класс и его состояние. Как мир-системщик Валлерстайн решает созданную им же проблему путем простого трюка — класс есть элемент мир-системы, вот и все. Противопоставление Валлерстайном классов как действующих общностей и классов как географически определенных общностей — не случайно. Вполне ясно, против кого он направляет свою мысль. Сравните его пассаж о классе в себе и классе для себя со следующим местом из Маркса: “Первые попытки рабочих к объединению всегда принимают форму коалиций. Крупная промышленность скопляет в одном месте массу неизвестных друг другу людей. Конкуренция раскалывает их интересы. Но охрана заработной платы, этот общий интерес по отношению к их хозяину, объединяет их одной общей идеей сопротивления, коалиции. Таким образом, коалиция всегда имеет двойную цель: прекратить конкуренцию между рабочими, чтобы они были в состоянии общими силами конкурировать с капиталистом. Если первой целью сопротивления являлась лишь охрана заработной платы, то потом, по мере того как идея обуздания рабочих в свою очередь объединяет капиталистов, коалиции, вначале изолированные, формируются в группы, и охрана рабочими их союзов против постоянно объединенного капитала становится для них более необходимой, чем охрана заработной платы. До какой степени это верно, показывает тот факт, что рабочие, к крайнему удивлению английских экономистов, жертвуют значительной частью своей заработной платы в пользу союзов, основанных, по мнению этих экономистов, лишь ради заработной платы. В этой борьбе — настоящей гражданской войне — объединяются и развиваются все элементы для грядущей битвы. Достигши этого пункта, коалиция принимает политический характер. Экономические условия превратили сначала массу народонаселения в рабочих. Господство капитала создало для этой массы одинаковое положение и общие интересы. Таким образом, эта масса является уже классом по отношению к капиталу, но еще не для себя самой. В борьбе, намеченной нами лишь в некоторых ее фазах, эта масса сплачивается, она конституируется как класс для себя. Защищаемые ею интересы становятся классовыми интересами. Но борьба класса против класса есть борьба политическая” (К. Маркс, “Нищета философии”). Таким образом, Валлерстайн спорит с Марксом, но спорит присущим мирсистемщикам образом: приводит марксово высказывание о классе в себе и классе для себя, и смешивает это высказывание с пунктом, по которому он действительно расходится с Марксом — то есть с тем, что есть класс вообще. Иными словами, Валлерстайн, по форме спорит с Марксом и как-бы опровергает марксизм, но по содержанию приводит ложную аналогию: либо якобы марксистское неверное определение класса, либо верное определение Валлерстайна. Из приведенной цитаты Маркса видно, что при помощи понятий “класс в себе” и “класс для себя” Маркс характеризует процесс развития рабочего движения — или процесс роста сознательности пролетариата. Действительно, в понимании марксистов 26 сознательность масс имеет решающее значение для возможности совершения пролетарской революции, так как только наученные горьким опытом войн, лишений, голода, нищенства и эксплуатации вообще, рабочие приходят к пониманию, что изменить положение вещей они способны лишь через единую организацию рабочего класса. До того, как в рабочем классе набирается критическая доля сознательных рабочих, — пока рабочее движение заключается преимущественно в экономической борьбе, отстаивании интересов отдельных групп рабочих, — рабочий класс, хотя и существует как класс, но это существование лишь объективно, то есть не осознано самими рабочими как массой. С тех пор, как в среде пролетариата происходит качественное изменение: понимание классовой борьбы становится всеобщим, создается и развивается политическая партия пролетариата, рабочие консолидируются и стремятся к организованной борьбе с буржуазным государством — пролетариат с тех пор существует уже не только объективно, но и становится субъектом политической борьбы, осознает себя как такой субъект, то есть осознает себя как класс — становится классом для себя. Однако наличие классового сознания нельзя считать определяющей характеристикой пролетариата как класса, — как это делает Валлерстайн, — ведь его сознание вторично по отношению к его бытию: “В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание” (К. Маркс, “К критике политической экономии”). Если же говорить о том, что такое класс вообще, то всем известно классическое определение Ленина: “Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы, это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства” (В.И. Ленин, “Великий почин”). Этому определению соответствует и описание пролетариата как класса — у Маркса и Энгельса: 27 “В той же самой степени, в какой развивается буржуазия, т. е. капитал, развивается и пролетариат, класс современных рабочих, которые только тогда и могут существовать, когда находят работу, а находят ее лишь до тех пор, пока их труд увеличивает капитал. Эти рабочие, вынужденные продавать себя поштучно, представляют собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли, а потому в равной мере подвержены всем случайностям конкуренции, всем колебаниям рынка” (К. Маркс и Ф. Энгельс, “Манифест коммунистической партии”). Мы ясно видим, что марксизм понимает классы в первую очередь как объективно, материально, общественным производством обусловленные общности людей. Вопрос о том, осознают ли эти люди себя как класс или нет — второй вопрос. Что бы ни думали сами люди, они всегда относятся прямо или косвенно к тем или иным общественным классам. Раз мы выявили подлог Валлерстайна, остается голое сравнение двух позиций: марксизм понимает классы как объективно и постоянно существующие общности людей, объединенные своим местом в общественном производстве; Валлерстайн понимает классы как элементы мир-системы — географически определенные общности людей, которые можно назвать классами лишь тогда, когда они осознают себя таковыми и действуют в конфликтной ситуации. Прекрасное дополнение и развитие марксизма мир-системным анализом! Но от объективной реальности не уйти, и Валлерстайну приходится пустить ее в свою теорию через задний ход: он сразу же оговаривается, что для высших страт (стало быть, для буржуазии) открытый конфликт (стало быть, революция) есть нечто нежелательное, потому как при открытом конфликте растет самосознание (стало быть, пролетариата), а значит буржуазия рискует потерять свои привилегии (стало быть, ее свергнут). Итак, пытаясь опровергнуть марксистское понимание классов, Валлерстайн тут же осекается и на птичьем мир-системном языке признает классовую теорию марксизма. Далее, Валлерстайн продолжает развивать, дополнять и углублять марксизм и берется за положение о двух основных классах. В понимании Валлерстайна в конфликтных ситуациях элементы мир-системы, в виде многочисленных общественных фракций, стремятся к объединению в две противоборствующие общественные группы. Если учесть, что Валлерстайн готов признать классом только общность людей, действующую сознательно во время конфликтной ситуации, то логичен следующий его вывод: невозможно одновременное наличие трех и более классов, осознающих себя в качестве таковых. В переводе на человеческий язык, Валлерстайн хочет изложить и выдать за свою мысль марксистское понимание революционного развития, а именно, что в период революционного подъема основные классы капиталистического общества — буржуазия и пролетариат — концентрируют вокруг себя прочие классы и слои общества; буржуазия — реакционные и кормящиеся с ее рук элементы: большинство интеллигенции, поповщину, полицию, военных, чиновников, а также имеющую с ней общие цели мелкую буржуазию; а городской, организованный, фабрично-заводской пролетариат — другие слои пролетариата, как то работников прочих отраслей промышленности и торговли, служащих, а также сознательную интеллигенцию, сознательных военных, находящуюся в нужде мелкую буржуазию, средние слои крестьянства и деревенскую бедноту. 28 “Кто не понял, читая Маркса, что в капиталистическом обществе при каждом остром моменте, при каждом серьезном столкновении классов возможна либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот ничего не понял ни в экономическом, ни в политическом учении Маркса” (В.И. Ленин, “Третий Интернационал и его место в истории”). Поляризация классов во время революции действительно есть альянс, но альянс разных классов, которые остаются разными классами, а не альянс эфемерных элементов мир-системы, существование которых как класса возможно лишь во время конфликтной ситуации (т.е. революции). Общественные классы, слои и прослойки, помимо буржуазии и пролетариата, существуют как до революции, как во время, так и после нее: история СССР неопровержимо доказывает этот факт. Но если Валлерстайн пишет, что разные общественные фракции имеют тенденцию к объединению в две основные группы, то тут же он пишет, что наряду с ними остаются многочисленные профессиональные объединения, “которые могут самоорганизоваться для действия в пределах социальной структуры” (интересно было бы посмотреть, как они делают это вне). Но эти профессиональные союзы — лишь один из множества других элементов мир-системы, объединенных по этническим, языковым, религиозным и пр. признакам. Что же получается? В теории Валлерстайна есть некая метафизическая мирсистема, в структуре которой состоят многочисленные элементы — объединения людей по этническому, языковому, религиозному и пр. признакам. В момент конфликтной ситуации часть этих элементов проявляет сознательность и обнаруживает тенденцию к объединению в две большие группы, однако остальные элементы этого не делают. Отсюда видно, насколько глубоко расхождение между мир-системным анализом и марксизмом в понимании революции. С одной стороны, Валлерстайн думает, что поляризация классов во время революционных потрясений заключается в формировании неких двух самосознающих себя общностей, которые только и могут быть классами. С другой стороны, он вынужден признать, что даже во время революции общество делится на фракции — и говорит, что часть этих фракций остается в стороне от общественной поляризации. Таким образом, он изображает революцию не как всеобщее тотальное потрясение основ общественного строя, затрагивающего абсолютно все классы и слои — а как некий конфликт, в который вовлечены лишь определенные части общества. Еще лучше взгляд Валлерстайна отражают следующие места: “Бесспорно, что при Ancien Régime [старом режиме — фр.] аристократия и буржуазия были различными социально-правовыми категориями. Однако можно поспорить, являлись ли они представителями разных классов. Читатели этой книги должны помнить, насколько скептически я отношусь к тому, что подобные разновидности социально-правовых категорий могут многое сказать (если вообще что-нибудь говорят) об экономических функциях данных групп (во Франции и где угодно в другом месте) с самого момента возникновения капиталистического мира-экономики в XVI веке. И если они не отвечают на этот вопрос, а представители указанных групп в значительной мере совпадают друг с другом в качестве де-факто капиталистических предпринимателей, то в таком случае триумф (если можно его так назвать) “буржуазии” над “аристократией” в ходе Французской революции не является ни необходимым условием, ни коррелятом, ни следствием перехода от феодализма к капитализму во Франции, но скорее 29 выражением острой внутри“элитной”, или, если угодно, внутрибуржуазной, борьбы вокруг устройства и основных направлений политики французского государства” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна III”). “Чем же в таком случае была Французская революция? Много шума из ничего? Определенно нет. … это была сравнительно сознательная попытка разнообразных групп правящих капиталистических страт форсировать крайне необходимые реформы французского государства в свете ощутимого британского рывка вперед к позиции гегемона в мире-экономике… ...революция создала ситуацию краха правопорядка, которой оказалось достаточно, чтобы запустить подъем первого значительного антисистемного (то есть антикапиталистического) движения в истории мир-системы Модерна — движения французских “народных масс”. Как таковое оно, конечно, кончилось крахом, но, по сути, оказалось духовной основой для всех последующих антисистемных движений. Так произошло не потому, что Французская революция была буржуазной, а именно потому, что она ей не была” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна III”). Как видно, Французская революция это не свержение класса феодальной аристократии классом буржуазии, а лишь передел власти внутри французской элиты. Словечко “элита” решает проблему. Нельзя еще раз не отметить, насколько тупоумно, чисто метафизически понимает Валлерстайн классы: аристократ де мог быть капиталистическим предпринимателем, как и буржуа, следовательно между ними нет четкой разницы, а значит они и не являются отдельными классами. И вновь применение метафизического метода — попытка описать историческую действительность как застывшую черно-белую картину. Валлерстайн обходит вниманием, что в переходе значительного числа аристократии к буржуазному способу существования, то есть к предпринимательству, и заключается, в том числе, победа класса буржуазии. Итак, если классы это не постоянно существующие благодаря своему месту в производстве общности людей, а лишь ситуативно определяемые группы, сознающие себя в своем стремлении к политической власти, то далее Валлерстайн делает логичный вывод: “Однако утверждение, что не может существовать три класса и более, не означает, что классов всего два. Классов может не быть вообще, хотя это редкая и преходящая ситуация. Но может быть всего один класс — вот наиболее распространенное положение дел. Если же мы имеем два класса, то такая ситуация наиболее взрывоопасна” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна I”). Суть ясна: революции, гражданские войны, кровавая борьба общественных слоев за власть — это не закономерная, объективно неизбежная развязка классовой борьбы, в свою очередь обусловленной развитием общественного производства, а просто местечковая разборка за власть осознающих себя общественных групп, на фоне нейтралитета других слоев общества. Политический вывод очевиден: не нужно втягивать общество в вооруженное противостояние, и если и возникает “конфликтная ситуация”, то лучше принять меры к ее устранению и избежать жертв, нежели накалять атмосферу и ввергать обществ в хаос и разруху. 30 Очередным достоверным подтверждением того, что Валлерстайн неуклюже переделывает марксистскую классовую теорию служит следующее место: “С одной стороны, мы сказали, что в обществе может быть только один класс, но, с другой стороны, мы также утверждали, что в действительности классы существуют лишь в конфликтных ситуациях, а конфликт предполагает две стороны. Здесь нет противоречия, поскольку конфликт может быть определен и как столкновение между одним классом, воспринимающим себя в качестве универсального, и всеми прочими стратами. В действительности именно такая ситуация является всеобщей для мир-системы Модерна. Капиталистический класс (буржуазия) выдвинул претензии на то, чтобы стать универсальным и организовать политическую жизнь так, чтобы достичь своих целей, вопреки противодействию обоих своих оппонентов. С одной стороны, это были сторонники традиционной статусной системы, несмотря на то, что прежние статусы могли утрачивать свое исходное соотношение с экономическими функциями. Эта группа предпочитала определять социальную структуру как бесклассовую. Именно для противостояния этой идеологии буржуазия станет действовать как сознающий себя класс” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна I”). “Однако у буржуазии был и другой оппонент — наемные работники. Всякий раз, когда последние начинали осознавать себя как класс (что в XVI веке еще происходило не слишком часто), они определяли положение в целом как ситуацию поляризации между двумя классами. В таких обстоятельствах буржуазия оказывалась перед серьезной тактической дилеммой. Сохраняя собственное классовое сознание, буржуазия способствовала появлению классового сознания у рабочих, но тем самым рисковала своим политическим положением. Если же для решения этой проблемы буржуазия заставляла умолкнуть свое классовое сознание, то она рисковала ослабить себя в противостоянии с обладателями высоких традиционных рангов” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна I”). О наличии одного класса уже было сказано выше. Здесь же интересно, что Валлерстайн выставляет дело так, будто буржуазия имеет противников в лице 1) “сторонников традиционной статусной системы” и 2) наемных работников. Нетрудно понять, что речь идет просто-напросто о старом господствующем классе — феодальной аристократии. Марксизм просто и обоснованно описывает классовую борьбу при переходе от феодализма к капитализму: “Вообще столкновения внутри старого общества во многих отношениях способствуют процессу развития пролетариата. Буржуазия ведет непрерывную борьбу: сначала против аристократии, позднее против тех частей самой же буржуазии, интересы которых приходят в противоречие с прогрессом промышленности, и постоянно — против буржуазии всех зарубежных стран. Во всех этих битвах она вынуждена обращаться к пролетариату, призывать его на помощь и вовлекать его таким образом в политическое движение. Она, следовательно, сама передает пролетариату элементы своего собственного образования, т. е. оружие против самой себя. 31 Далее, как мы видели, прогресс промышленности сталкивает в ряды пролетариата целые слои господствующего класса или, по крайней мере, ставит под угрозу условия их жизни. Они также приносят пролетариату большое количество элементов образования. Наконец, в те периоды, когда классовая борьба приближается к развязке, процесс разложения внутри господствующего класса, внутри всего старого общества принимает такой бурный, такой резкий характер, что небольшая часть господствующего класса отрекается от него и примыкает к революционному классу, к тому классу, которому принадлежит будущее. Вот почему, как прежде часть дворянства переходила к буржуазии, так теперь часть буржуазии переходит к пролетариату, именно — часть буржуа-идеологов, которые возвысились до теоретического понимания всего хода исторического движения. Из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности, пролетариат же есть ее собственный продукт” (К. Маркс и Ф. Энгельс, “Манифест коммунистической партии”). Таким образом, марксизм последовательно описывает процесс борьбы буржуазии против феодальной аристократии — когда буржуазия была молодым, прогрессивным, развивающимся классом, и против пролетариата — когда развитое буржуазией производство начинает приходить в противоречие с буржуазными производственными отношениями. Валлерстайн просто украл эту схему у классиков марксизма и извратил ее до неузнаваемости, получив на выходе замудренную, ничего не объясняющую метафизическую схему: буржуазия и два ее противника. У Маркса и Энгельса феодальная аристократия это исторически существовавший, но исчезнувший противник буржуазии. Его существование и исчезновение логично укладывается в классовую теорию. У Валлерстайна же буржуазии противостоит не исторически обусловленный классовый соперник, а висящее в вакууме понятие о неких “сторонниках традиционной статусной системы”. Концепция Валлерстайна ничего не объясняет, а только вносит разлад в систему научных понятий о классовой борьбе. Итак, все далеко идущие выводы Валлерстайна (как и других мир-системщиков) органично вытекают из перенятой ими у Броделя методологии. Как мы видели эта методология приравнивает любые описательные характеристики общества, как то группы, фракции, социальные иерархии и мир-систему как таковую — на правах множеств, с помощью которых Бродель описывает общество. Отсюда ясно, что группы, фракции, социальные иерархии, системы, структуры, миры-города, миры-экономики, миры-империи, миры-системы, мировые системы — все это разные названия одного и того же грубо описательного, метафизического метода мир-системного анализа, с помощью которого он борется с марксистскими понятиями классов, общественноэкономических формаций и с марксизмом вообще. “Множество множеств” Броделя рождается в питательной среде структур и систем, элементов и связей, вырастает в социальные иерархии и миры-экономики — и дозревает, в конце концов, до готовой “мир-системы”. А последняя, разумеется, является не ступенью развития общества, как капитализм у Маркса, а лишь одним, более живучим из возможных вариантов наряду с другими: 32 “Разве внутренне взаимосвязанное глобальное общество не представляет иерархии, которой удалось навязать себя всей совокупности, не обязательно уничтожая других?” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.”, том 2). Становится очевиден вывод из всего мир-системного подхода: капитализм — это не общественно-экономическая формация, наступление и окончание которой объективно неизбежны, капитализм — это лишь один из возможных видов социальной структуры общества, один из видов мир-системы. Следовательно, социальная революция не является объективно неизбежным явлением, а общественное преобразование не обязательно должно быть революционным: оно возможно посредством консенсуса в социальной иерархии общества. Политический вывод: не надо раскачивать лодку! Насколько Валлерстайн искажает классовую теорию, настолько же он искажает и представление об идеологиях, присущих общественным классам. “Идеология — вот имя, которое мы дадим этим попыткам устранить то, что, на первый взгляд, представляется глубоким и, возможно, непреодолимым разрывом между конфликтующими интересами. Идеологии — это не просто способы взгляда на мир, они больше, чем предрассудки и исходные постулаты. Идеологии — это политические метастратегии, и как таковые они востребованы лишь в таком мире, где политическое изменение считается нормальным явлением, а не девиацией. Именно таким стал капиталистический мир-экономика под воздействием культурного потрясения революционно-наполеоновского периода. Именно этот мир выработал идеологии, которые на протяжении XIX и XX веков служили и учебниками ежедневной политической деятельности, и в качестве кредо, оправдывающих земные компромиссы — этой деятельности присущие” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна IV”). “В результате возникли три доктрины по отношению к Модерну и “нормализации” изменения: консерватизм, или как можно большее ограничение опасности; либерализм, или достижение по прошествии должного времени счастья человечества как можно более рациональным образом; социализм/радикализм, или ускорение движения к прогрессу путем суровой борьбы против тех сил, которые оказывали этому значительное сопротивление. Именно в промежутке 1815 — 1848 годов сами термины консерватизм, либерализм и социализм стали широко использоваться для обозначения трех перечисленных доктрин” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна IV”). “Принципиально отметить, что после 1848 года социалисты перестали ссылаться на Сен-Симона — социалистическое движение стало организовываться вокруг марксистских идей. Предметом жалоб была уже не бедность, которую можно было уменьшить путем реформ, но дегуманизация, вызванная капитализмом, и решением этой проблемы было его полное низвержение (см. Kolakowski, 1978, 222)” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна IV”). 33 Итак, есть нечто, “что, на первый взгляд, представляется глубоким и, возможно, непреодолимым разрывом между конфликтующими интересами”. В переводе с птичьего мир-системного на человеческий язык это значит, что Валлерстайн признает классовый антагонизм — объективную противоположность интересов общественных классов, которая не может быть разрешена в пределах капитализма. Далее, есть некие “попытки устранить” этот антагонизм, называемые Валлерстайном идеологиями. Далее, идеологии — это некие политические метастратегии, — ох уж это пристрастие к умным словам и отсутствию смысла, — которые востребованы лишь в таком мире, где изменение считается нормой. Валлерстайн так впечатлен ускорением исторического времени после промышленной революции, что не признает никаких изменений за предшествующими историческими эпохами. По его мнению эпоха мир-системы Модерна, — то есть эпоха капитализма, — отличается от предшествующих эпох тем, что в ней изменения в политической сфере стали происходить быстрее, соответственно люди стали воспринимать их как норму. Действительно, в передовых странах, где промышленное развитие началось раньше, вызванные им бурные изменения общественных, а значит и политических отношений, отличают данную эпоху от предшествующей истории. Но насколько поверхностно и пошло надо понимать ход истории, чтобы выделять эпоху капитализма именно по этому признаку, да еще и договориться до того, что изменения в политической жизни стали считаться нормой именно в эту эпоху — как будто не было всей предшествующей истории с ее многочисленными изменениями: реформами, восстаниями, переворотами, завоеваниями и т.д. Но самое главное — Валлерстайн как метафизик отрывает идеологические течения от их материальной основы в общественной жизни, то есть появление основных идеологий XIX века он вульгарно-идеалистически объясняет волей людей к устранению некоего конфликта — в то время как появление таких идеологий всецело покоится на изменении в условиях общественного производства и соответствующих изменениях классовой структуры общества: “Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время и его господствующая духовная сила. Класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного производства, и в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, оказываются в общем подчиненными господствующему классу. Господствующие мысли суть не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений, как выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения; следовательно, это — выражение тех отношений, которые и делают один этот класс господствующим, это, следовательно, мысли его господства. Индивиды, составляющие господствующий класс, обладают, между прочим, также и сознанием и, стало быть, мыслят; поскольку они господствуют именно как класс и определяют данную историческую эпоху во всём её объёме, они, само собой разумеется, делают это во всех её областях, значит господствуют также и как мыслящие, как производители мыслей, они регулируют производство и распределение мыслей своего времени; а это значит, что их мысли суть господствующие мысли эпохи. Например, в стране, где в данный период времени между королевской властью, 34 аристократией и буржуазией идёт спор из-за господства, где, таким образом, господство разделено, там господствующей мыслью оказывается учение о разделении властей, о котором говорят как о «вечном законе». Разделение труда, в котором мы уже выше нашли одну из главных сил предшествующей истории, проявляется теперь также и в среде господствующего класса в виде разделения духовного и материального труда, так что внутри этого класса одна часть выступает в качестве мыслителей этого класса (это — его активные, способные к обобщениям идеологи, которые делают главным источником своего пропитания разработку иллюзий этого класса о самом себе), в то время как другие относятся к этим мыслям и иллюзиям более пассивно и с готовностью воспринять их, потому что в действительности эти-то представители данного класса и являются его активными членами и поэтому они имеют меньше времени для того, чтобы строить себе иллюзии и мысли о самих себе. Внутри этого класса такое расщепление может разрастись даже до некоторой противоположности и вражды между обеими частями, но эта вражда сама собой отпадает при всякой практической коллизии, когда опасность угрожает самому классу, когда исчезает даже и видимость, будто господствующие мысли не являются мыслями господствующего класса и будто они обладают властью, отличной от власти этого класса. Существование революционных мыслей в определенную эпоху уже предполагает существование революционного класса, о предпосылках которого необходимое сказано уже выше ” (К. Маркс и Ф. Энгельс, “Немецкая идеология”). Таким образом, либерализм и консерватизм суть идеологическое отражение тех мест, которые занимали в производстве буржуазия и аристократия в XIX веке. Поскольку буржуазия была молодым и прогрессивным классом, ее идеологи возвещали необходимость всеобщей свободы, равенства и братства, отстаивали “естественные” человеческие права, стремились к либерализации политической жизни — то есть обобщали и формулировали назревшие общественные изменения, сопровождающие рост класса буржуазии. Консервативная идеология, в свою очередь, выражала интересы старой феодальной аристократии, богатство и положение которой базировалось на отживающем феодальном способе производства, а значит, на крупном землевладении. Разумеется, развитие торговли и предпринимательства было не на руку этой аристократии. В процессе ее разложения часть аристократии постепенно переходила к капиталистическому способу производства, предпринимательству: земли переставали быть предметом аренды в старом понимании, а пускались в капиталистический оборот, сами аристократы принимались торговать и строить мануфактуры, заводы, фабрики. Та же часть аристократии, которая не поспевала за изменениями в способе производства, клеймила новые буржуазные порядки, превозносила благую старину, дедовские порядки как нечто правильное, соответствующее человеческой природе и т.д. — то есть идеологически оправдывала существование старого способа производства, то есть была консервативна. В свою очередь, социализм есть идеологическое выражение, мировоззрение просыпающегося к борьбе пролетариата. С ростом и развитием пролетариата развивался и социализм, от утопических и наивных представлений о лучшей жизни — к подлинно научному пониманию общественного развития. Таково марксистское понимание идеологических течений в обществе. А что же пишет Валлерстайн? Поскольку во главу угла он поставил отношение людей к 35 “изменениям”, то и консерватизм у него — это противодействие изменениям, “как можно большее ограничение опасности”; либерализм — способствование изменениям в их органическом течении, “или достижение по прошествии должного времени счастья человечества как можно более рациональным образом” (стало быть капиталистический способ производства и есть “как можно более рациональный” — ну и вздор!); а социализм — некое нетерпеливое стремление ускорить общественные изменения “путем суровой борьбы против тех сил, которые оказывали этому значительное сопротивление”. Все встало на свои места: у Валлерстайна как у буржуазного идеолога социалисты — это нетерпеливые люди, которые непонятно зачем хотят ускорить прогресс, да еще и делают это путем “суровой борьбы” с теми, кто с ними не согласен. Вообще, лишний раз плюнуть в социализм/коммунизм является хорошим тоном чуть ли не для всех мир-системщиков. Так, Валлерстайн, не просто изображает тяжелую борьбу коммунистов как их субъективное нетерпеливое желание подогнать прогресс, но и пишет далее, что с появлением марксизма изменился “предмет жалоб” социалистов. Раньше де они “жаловались” на бедность, а теперь (в середине XIX века) бедность стало возможно “уменьшить путем реформ”, поэтому социалисты перешли к “жалобам” на дегуманизацию. Таким образом, портрет социалистов дополняется еще одной нелицеприятной чертой: эти люди не просто хотят по своему произволу, путем бессмысленной непримиримой борьбы ускорить прогресс, так еще и лавируют в зависимости от конъюнктуры, объясняя свои стремления подходящими моменту поводами — то бедностью, то дегуманизацией. Вот только господин Валлерстайн чтото путает: бедность нельзя преодолеть путем реформ, потому как этим путем нельзя устранить классовое деление общества. Пока есть классы, будет и бедность. Но какое до этого дело Валлерстайну? По отношению к бесчисленным массам пролетариев, живших в голоде и нищете, угнетаемых и унижаемых, — не только в XIX, но и в XX веке, и до сих пор, — по отношению к этим людям высокомерные слова про “жалобы” кабинетного буржуазного теоретика Валлерстайна представляются не иначе, как истинное скотство. Опасаясь, как бы его не причислили к социалистам или коммунистам, Валлерстайн выражает свой взгляд на классы и революцию более рельефно: “Прогресс не является неизбежным. Мы боремся за него. И форма, которую принимает борьба, — не борьба социализма против капитализма, а борьба за переход к относительно бесклассовому обществу и против перехода к некоему новому, основанному на классовости способу производства (отличному от исторического капитализма, но не обязательно лучшему)” (И. Валлерстайн, “Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация”). “Коммунизм — это Утопия, что означает: нигде. Это воплощение всех наших религиозных эсхатологий: пришествие Мессии, второе пришествие Христа, нирвана. Это не историческая перспектива, а нынешняя мифология. Социализм, в отличие от этого, является достижимой исторической системой, которая однажды может быть создана в мире. “Социализм”, претендующий на то, что он является “временным” моментом перехода к Утопии, [то есть социализм как первая фаза коммунизма] не представляет никакого интереса. Интерес представляет конкретный исторический социализм, который соответствует минимуму определяющих характеристик исторической системы, 36 в максимальной степени способствующей развитию равенства и справедливости, и который увеличивает контроль человечества над своей жизнью (демократия) и освобождает воображение” (И. Валлерстайн, “Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация”). Комментарии излишни. Из всего сказанного следует простой вывод: самый яркий представитель мирсистемного анализа Иммануил Валлерстайн в сущности является пошлым апологетом буржуазии, так как его метафизическая мешанина не имеет никакой другой объективной цели, кроме как запудрить мозги неискушенным политикой рабочим и отвести их подальше от классовой борьбы. Заметьте также и то, что путаница Валлерстайна неразрывно связана с концепцией мир-системы: эта путаница не может существовать без опоры в виде мир-системы, а мир-система не может не приводить к такой путанице. То есть мир-системный анализ это не метод, который существует наряду с путаницей, допускаемой его авторами — мир-системный анализ сам и есть путаница. В связи с этим интересно слышать утверждения, что если кто-то из мир-системщиков и является антикоммунистом, то, во всяком случае, сам метод мир-системного анализа — это шаг вперед, и марксистам следует применять данный метод как новое достижение научной мысли. Но в том то и дело, что мир-системный анализ неизбежно приводит к логическим несуразностям, ведь понятие мир-системы оторвано от действительного мира. Винегрет из разрозненных терминов, логические нестыковки, извращение научных понятий и порождаемая ими неразбериха в головах трудящихся — это и есть мирсистемный анализ как таковой. Формации Ярким примером вражды мир-системного анализа и марксизма служит “азиатский способ производства” Маркса: “...как и в случае с дискуссией об азиатском способе производства, дебаты... пробили брешь в учении Маркса, который анализировал исключительно способы производства и только в отдельно взятом государстве; отныне марксизм больше походил на идеологию, чем на открытую для дебатов научную доктрину” (И. Валлерстайн, “Мир-системный анализ. Введение”). “Этот термин [азиатский способ производства] изобрел Карл Маркс для обозначения того, что все привыкли считать централизованной имперской системой, созданной по причине того, что нужно было поддерживать и контролировать ирригационную систему. Главным для Маркса было то, что эти системы не вписывались в его всеобщую последовательность развития “способов производства”, то есть система производства здесь была организована по-другому” (И. Валлерстайн, “Мир-системный анализ. Введение”). Или, например, Франк — бьет по марксизму в выше упомянутом споре с Валлерстайном: 37 “... что “подъем Запада” был основан на европейской исключительности, которая [исключительность] разделяется веберовской и марксистской социальной наукой… Марксистская экономическая теория, как кажется, отличается — использованием понятий, подобных “способу производства” “классовой борьбе”, но и она в равной степени европоцентрична. Оба эти понятия интерпретируются в рамках единого общества или социальной формации. Таким образом, марксистские историки экономики ищут источники “подъема Запада” и “развития капитализма” в Европе и равным образом или даже более европоцентричны, чем их “буржуазные” оппоненты. Примеры включают нечистое понятие “азиатского способа производства”, который не оставил ни единого следа нигде в Азии. Это понятие завещано марксизмом наряду с предубеждением против развития Азии, которое рассматривается как традиционное, отсталое и застойное” (А. Франк, “Пять тысяч лет мировой системы в истории и практике”). Спекуляции на “азиатском способе производства”, с которым все мир-системщики носятся как с писаной торбой и который якобы ломает последовательность общественно-экономических формаций Маркса — неизменное свойство мирсистемного анализа. С изрядным усердием фикцию о “проблеме” азиатского способа производства повторяют и российские эпигоны мир-системного анализа. Поскольку Маркс выделял пять общественно-экономических формаций: первобытно-общинный строй (первобытный коммунизм), рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм, — а наряду с этим в его письменном наследии неоднократно упоминается сочетание “азиатский способ производства”, — мир-системщики подают дело так, будто азиатский способ был некоей трудностью для Маркса, который якобы так и не смог включить азиатский способ производства в последовательность формаций. Поэтому мир-системщики никогда не применут указать на недоработанность или несостоятельность формационной теории. Прежде всего отметим, что общественно-экономическая формация, или способ производства, это определенный этап развития общественного воспроизводства, который характеризуется определенным сочетанием производительных сил и производственных отношений. Например, рабовладение характеризуется тем, что к средствам производства в данной формации относятся не только земля, инвентарь, хозяйственные постройки и т.д., но и непосредственные производители, которые создают продукт. Такому производству соответствует надстройка, в которой собственники средств производства противостоят непосредственным производителям — как рабовладельцы рабам. Или, например, вызывающий у Броделя аллергию феодализм. Здесь непосредственные производители уже не являются рабами, а находятся в личной зависимости от собственника. Их положение отличается от положения рабов, потому что уровень развития производительных сил достиг известной степени, когда прибавочного продукта общества уже достаточно для того, чтобы непосредственный производитель мог трудиться часть времени на себя и, таким образом, поддерживать свою жизнь самостоятельно, а другую часть времени — на феодала. Важно заметить, что право собственности на средства производства может выступать в одних и тех же формациях в разной форме. Так, при рабовладении 38 существовали как отмирающая общинная, так и государственная, так и близкая к современной капиталистической частная собственность. Далее, Маркс неоднократно использует в своих работах и письмах словосочетания, включающие в себя слово “азиатский”. В зависимости от контекста, речь идет то об “азиатском способе производства”, то об “азиатской форме собственности”, то об “азиатских формах общества” и т.п. Азиатский способ также упоминается Марксом при описании Индии его времени, и даже встречается при описании русской торговли. Главным признаком, объединяющим все случаи употребления Марксом данного выражения, является не его (выражения) отношение к формациям, а то, что государство в той или иной степени обладает монополией на земельную собственность. Однако Маркс отмечает и тот факт, что фактическое владение и пользование землей могут находиться в руках как общин, так и частных лиц (например, крестьян). Проиллюстрируем сказанное словами Маркса из его письма Энгельсу: “...В некоторых из этих общин земли всего села обрабатываются сообща, но в большинстве случаев каждый владелец обрабатывает свой собственный участок. Внутри общины существует рабство и кастовое деление. Пустующие земли используются как общие пастбища. Жены и дочери занимаются домашним ткачеством и прядением. Эти идиллические республики, которые заботятся лишь о том, чтобы ревностно охранять границы своего села от соседнего, все еще существуют в почти нетронутом виде в северозападных провинциях Индии, только недавно захваченных англичанами. Мне кажется, что трудно представить себе более солидную основу для азиатского деспотизма и застоя” (Письмо Маркс Энгельсу от 14 июня 1853 года). Мы видим, что индийскую общину, основанную на рабстве, Маркс называет “солидной основой для азиатского деспотизма”, что следует понимать следующим образом: способ производства в данном случае по существу рабовладельческий (рабство в общинах), а формой его проявления выступает общинная — по форме, публичная/государственная — по содержанию, собственность на землю. “Азиатский способ производства” — это одна из форм (например, наряду с “античной” формой, о которой помалкивает Валлерстайн), в которой проявляется рабовладельческий способ производства. Главной чертой, характеризующей данный способ как рабовладельческий является то, что непосредственные производители не имеют собственности на землю, орудия труда и результаты своего труда, и, к тому же, лично несвободны. То, что собственность на землю в данном конкретном случае не составляет монополию демократически управляемой общины, как в Греции, или более развитую частную собственность, как в Риме — вторично, так как это лишь форма проявления рабовладельческого способа производства как такового. Спекуляция мир-системщиков на “азиатском способе производства” происходит из их непонимания диалектического принципа абстрактного и конкретного. “Та специфическая экономическая форма, в которой неоплаченный прибавочный труд выкачивается из непосредственных производителей, определяет отношение господства и порабощения, каким оно вырастает непосредственно из самого производства, и, в свою очередь, оказывает на последнее определяющее обратное воздействие. А на этом основана вся структура экономического строя, вырастающего из самых отношений производства, и вместе с тем его 39 специфическая политическая структура. Непосредственное отношение собственников условий производства к непосредственным производителям — отношение, всякая данная форма которого каждый раз естественно соответствует определенной ступени развития способа труда, а потому и общественной производительной силе последнего, — вот в чем мы всегда раскрываем самую глубокую тайну, скрытую основу всего общественного строя, а следовательно, и политической формы отношений суверенитета и зависимости, короче, всякой данной специфической формы государства. Это не препятствует тому, что один и тот же экономический базис — один и тот же со стороны основных условий — благодаря бесконечно разнообразным эмпирическим обстоятельствам, естественным условиям, расовым отношениям, действующим извне историческим влияниям и т. д. — может обнаруживать в своем проявлении бесконечные вариации и градации, которые возможно понять лишь при помощи анализа этих эмпирически данных обстоятельств” (К. Маркс, “Капитал”, том 3, книга III). Таким образом, абстрактное понятие “рабовладельческий способ производства” отражает конкретные формы способа производства, существовавшие в действительной истории и объединенные общими признаками. То же относится и к понятиям других способов производства, как и, вообще, ко всем понятиям, составляющим познание человека. Разумеется, это обстоятельство не нарушает установленную Марксом последовательность пяти общественно-экономических формаций, а, наоборот, составляет ее необходимую часть. Если спекуляции об “азиатском способе производства” и “пробивают брешь”, то не в марксизме, а в самом мир-системном анализе, очередной раз демонстрируя научную несостоятельность данного течения. Действительно ли Валлерстайн не понимает, о чем пишет, или намеренно лжет — вопрос второстепенный. Понятие общественно-экономической формации как абстракция общественного развития, которая отражает политические, религиозные, культурные и пр. отношения людей как надстройку над базисом производственных отношений — есть верная абстракция действительного мира. Эта абстракция будет работает в любую эпоху в любом месте, следовательно, это по-настоящему научная абстракция, по-настоящему верная теория. В противоположность, абстракция мир-системы — чисто спекулятивная абстракция, оторванная от действительного мира и не дающая понимания того, как мир развивается. Собственная спекулятивность мир-системщиков не дает им возможности понять слова Маркса об азиатском способе производства. Разбор этого вопроса также наглядно показывает степень внимания и ответственности, с которой мир-системщики подходят к изучению трудов ученыхклассиков. Отсюда же ясно, почему мир-системщики не принимают формационную теорию вообще: “Другой вывод, который был неправильно отнесен к идее о пяти тысячах лет мировой системы, гласит, что капитализму пять тысяч лет. Мы доказываем вместо этого, что понятия феодализма, капитализма и социализма означают переходные идеологические состояния и наилучшим будет оставить их из-за нехватки их реальной или “научной” основы. Они затемняют скорее фундаментальную непрерывность, лежащую в основе мировой системы, нежели 40 исторические различия и переходы, на которые эти термины предположительно проливают свет” (А. Франк, “Пять тысяч лет мировой системы в теории и практике”). ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ, РАЗВИТИЕ НЕДОРАЗВИТОСТИ, ОТЦЕПЛЕНИЕ В изображении мир-системщиков марксисты якобы смотрят на экономическое развитие общества, или на классовую борьбу, или на другие аспекты общественной жизни, как на сугубо национальные явления. “Для ортодоксальных марксистов “внутреннее” всегда представлялось как нечто внутреннее относительно политических границ некоторой страны. “Экономика”, таким образом, представлялась им национальной конструкцией. Классы также были национальным явлением. Соответственно, существовали страны, на которые можно было навесить ярлык “капиталистические”, — и наоборот. Это был принципиальный спор, поскольку в процессе написания книги я развивал альтернативный взгляд на капитализм. В моем понимании капитализм был характерной чертой определенной мир-системы — той специфической мир-системы, которую я назвал “миром-экономикой”. Классы были классами этой мир-системы, и государственные структуры также существовали внутри мир-системы” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна I”). Валлерстайн как всегда использует излюбленный грязный прием мирсистемщиков — ставит читателя перед ложной альтернативой. С одной стороны некие ортодоксальные марксисты, которые почему-то считают, что борьба классов либо экономическое развитие происходят в национальных границах отдельно взятых государств, с другой стороны, умный Валлерстайн объясняет, что классы существуют не в рамках национального государства, а в рамках мир-системы, что экономика развивается не в национальных рамках, а в рамках мир-системы. Иными словами, некие ортодоксальные марксисты смотрят на общественное движение узко, в национальных рамках, а Валлерстайн смотрит шире — в рамках мир-системы. В сухом остатке: марксисты смотрят узко, ограниченно, мир-системщики смотрят широко. Но, к сожалению для Валлерстайна, марксисты никогда не смотрели на отдельные государства как на самодовлеющие сущности, внутри которых идет автономное развитие экономики или автономная борьба классов. “Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала производство и потребление всех стран космополитическим. К великому огорчению реакционеров она вырвала из-под ног промышленности национальную почву. Исконные национальные отрасли промышленности уничтожены и продолжают уничтожаться с каждым днем. Их вытесняют новые отрасли промышленности, введение которых становится вопросом жизни для всех цивилизованных наций, — отрасли, перерабатывающие уже не местное сырье, а сырье, привозимое из самых отдаленных областей земного шара, и вырабатывающие фабричные продукты, 41 потребляемые не только внутри данной страны, но и во всех частях света. Вместо старых потребностей, удовлетворявшихся отечественными продуктами, возникают новые, для удовлетворения которых требуются продукты самых отдаленных стран и самых различных климатов. На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга. Это в равной мере относится как к материальному, так и к духовному производству. Плоды духовной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными, и из множества национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература” (К. Маркс и Ф. Энгельс, “Манифест коммунистической партии”). В том то и дело, что марксисты всегда смотрели на общественное развитие самым широким взглядом — как на развитие всего общества. Именно поэтому в центре внимания марксистов находятся присущие всему человеческому обществу классовая борьба, производство, производственные отношения и т.д. Марксист констатирует, что национальная замкнутость наций феодального периода падает под ударами всемирной торговли, что средства сообщения объединяют все нации в единое целое, что культура отдельных народов сливается в единую мировую культуру. Поэтому действительная разница между марксизмом и мир-системным анализом ровно противоположна тому, что пытается изобразить Валлерстайн: марксизм смотрит на развитие общества с всемирно-исторических позиций, а мир-системный анализ, — непонятно зачем, — с точки зрения ограниченной пространством и временем мир-системы. Тем не менее, классики марксизма действительно иллюстрируют действие своей теории, как правило, на примере конкретных национальных государств: Англии, Франции, Германии и т.д. В чем же не прав Валлерстайн? Он, как всегда, не различает абстрактное и конкретное. Категория “классовая борьба” отражает существо общественных отношений, их основу, которая неизменна в любой части мира, где установилось классовое общество — то есть по всей Земле. Но проявляется это существо во множестве конкретных форм, обусловленных различием климатов, языков, религий, культур и т.д. По другому и быть не может. Если совокупность фактов общественной жизни можно выявить сначала только в национальной форме, так как обособленная нация обладает общим языком, общим хозяйством, общей культурой и т.д., — если экономическую сторону жизни общества можно выявить сначала только из статистических данных отдельных государств, — если, таким образом, борьбу классов изначально можно анализировать лишь в конкретно-исторической форме внутринациональной борьбы, — то нет ничего удивительного в том, что марксизм рассматривает жизнь общества в этих конкретных формах, описывает эти конкретные национальные экономики, выявляет классовую борьбу в этих национальных рамках: “Если не по содержанию, то по форме борьба пролетариата против буржуазии является сначала борьбой национальной. Пролетариат каждой страны, конечно, должен сперва покончить со своей собственной буржуазией” (К. Маркс и Ф. Энгельс, “Манифест коммунистической партии”). Таким образом, марксизм начинает с анализа национальных государств, — с конкретных форм действительности, — абстрагирует эти формы и приходит к научным 42 понятиям классов, классовой борьбы, формаций и т.д., свойственных всему человеческому обществу. Мир-системный анализ, наоборот, начинает с выдуманной схемы — и приходит к беспорядочному нагромождению многочисленных фактов, из которых нельзя сделать никаких определенных выводов. Приписывание мир-системщиками марксистам однобокого понимания национального развития имеет более широкий контекст, связанный с концепцией мирсистемщиков “центр-периферия”. Мир-системный анализ предполагает, что мирсистема это такая структура, которая состоит из центра, полупериферии и периферии. Как видно из самих слов, центр — это наиболее развитая часть капиталистического мира, в которую стекаются все ресурсы из полупериферии и периферии. Периферия — это отстающие страны капиталистического мира, которые снабжают ресурсами центр и полупериферию, не имея возможности сопротивляться ограблению ни военным ни экономическим путем. Соответственно, полупериферия — это такие страны капиталистического мира, которые занимают промежуточное положение: с одной стороны у них есть достаточно военных сил и экономического потенциала чтобы угнетать менее развитые страны, но, с другой стороны, они сами являются объектом для эксплуатации более развитыми странами центра. Несмотря на то, что само по себе перечисление иерархичности стран капиталистического мира банально и не продвигает науку ни на йоту вперед, мирсистемщики придают своей метафизической конструкции важнейшее значение. Все изъяны современного мира — бедность отстающих стран, их разграбление более сильными конкурентами, перекосы в мировом хозяйстве, кризисы, войны и все что угодно еще — все объясняется мир-системщиками через центр и периферию. Де та или иная страна находится в центре, поэтому она может себе позволить пользоваться ресурсами, выкачанными из периферии и уходить еще дальше вперед в своем развитии, и наоборот — та или иная страна отстает от центра, не может вырваться из зависимости, потому что она находится на периферии, потому что ее грабят, потому что она отстает. Нужно ли говорить, что подобное позитивистское объяснение ничего не объясняет? Но как вы думаете, с чем сопряжено понятие о центре и периферии? Правильно — с опровержением марксизма: “Проблема состояла в том, что “Капитал” действительно давал ключ к пониманию классовых конфликтов, но предположения Маркса относительно развития капитализма в мировом масштабе не подтверждались историческими фактами. Предположения Маркса сильно напоминают тот “плоский мир”, который последние годы усиленно навязывает Томас Фридман. Прочитав (или перечитав) “Манифест коммунистической партии”, признается Фридман, он пришел в благоговейный восторг от того, как “остро Маркс детализировал силы, плющившие мир на пике промышленной революции, и как хорошо он предвидел, каким образом эти силы будут продолжать плющить мир даже и до настоящего времени”... Как заметил Харви задолго до Фридмана, трудно представить себе более точное определение глобализации, как мы ее знаем сегодня, чем данное сто пятьдесят лет назад Марксом и Энгельсом. Но Фридман упустил из виду (а Маркс и Энгельс не предвидели), что в эти сто пятьдесят лет растущая взаимозависимость народов не “расплющила” мир посредством всеобщего процесса капиталистического развития. Приведет ли нынешний перенос центра 43 мировой экономики в Азию к тому или иному варианту “плоского” мира — это вопрос, который мы оставляем пока открытым. Но не вызывает сомнений, что за последние два столетия возрастающая взаимозависимость западного и незападного миров всязывалась не с конвергенцией, о которой говорится в “Манифесте коммунистической партии”, а со все большей дивергенцией” (Д. Арриги, “Адам Смит в Пекине”). “... Андре Гундер Франк вводит новую метафору “развитие недоразвитости” — для описания и толкования этой дивергенции. Дивергенция, заявляет он, есть не что иное, как выражение процесса капиталистической экспансии, которая одновременно ведет к развитию (богатству) в основных регионах (Западная Европа, Северная Америка, Япония) и недоразвитию (бедности) в остальных регионах. Он считает, что этот процесс основан на отношениях метрополия — сателлит, посредством которых метрополия присваивает экономический излишек за счет сателлитов, обеспечивая себе экономическое развитие, в то время как “сателлиты остаются недоразвитыми, не имея доступа к своему собственному экономическому излишку, а также вследствие все той же поляризации и эксплуататорских противоречий, которые метрополия насаждает и поддерживает во внутренней структуре сателлита”. Механизмы присвоения и отчуждения (экспроприации) могут варьироваться по регионам и периодам, но остается неизменной структура процесса капиталистической экспансии: метрополия — сателлит или центр — периферия, причем этот процесс продолжает поляризовать, а не выравнивать богатство и нищету народов” (Д. Арриги, “Адам Смит в Пекине”). Итак, мы наконец нашли конкретный пример того, почему марксизм устарел: Маркс и Энгельс думали, что мир “расплющит” от сил, описанных ими в “Манифесте” — что бы это не значило. Но мир не расплющило… Как научно, как глубокомысленно! За время своего существования марксизм отразил немало отравленных ядом стрел, но с такой серьезной и продуманной критикой мы, кажется, еще не сталкивались. Арриги не не говорит, о каких именно силах, должных расплющить мир, идет речь: это классы?, — или это экономические силы?, — или это какие-нибудь множества на манер Броделя? Одно ясно точно: вопреки предвидению Маркса и Энгельса мир так и не расплющило... Но зацепочка все-таки есть: мир пошел не по пути конвергенции, как в “Манифесте”, а по пути дивергенции, говорит Арриги. Конвергенция значит сближение, слияние и т.п., дивергенция, наоборот, значит расхождение, разъединение и т.д. Итак, “Манифест” утверждает слияние всех стран и народов в единое целое посредством распространения торговли, углубления разделения труда, вовлечения в производство масс в разных частях света (что и следует понимать под конвергенцией). Арриги называет это плоской картиной: он имеет в виду, что при таком мировом слиянии, какое описано в “Манифесте”, распределение богатства в мире должно стать равномерным. Причем, равномерным не только в смысле равного распределения для индивидов, но, в первую очередь, в смысле равного распределения для государств. Следовательно, расплющенный, плоский мир — это мир, в котором общественное богатство распределено равномерно между странами. Но в действительности, говорит Арриги, мы имеем дело с разъединением, обособлением частей мира друг от друга. В контексте сказанного это надо понимать так, 44 что общественное богатство не распределилось равномерно между странами и народами. Наоборот, наблюдается все больший разрыв между богатыми, развитыми странами (или центром) и бедными, недоразвитыми странами (или периферией). Таким образом, марксизм якобы утверждал, что с развитием капитализма все страны мира должны распределить общественное богатство равномерно, а мир-системный анализ утверждает — прогноз Маркса не сбылся: страны не развиваются равномерно, богатство не распределяется равномерно, развитие богатых стран идет вперед, недоразвитость бедных стран усугубляется. Вот откуда (в том числе) разговоры про устаревание марксизма. Но почему марксизм так просчитался? Почему марксизм не понял, что мир не объединяется (конвергенция), а разъединяется (дивергенция)? Потому что марксизм не знал концепции “центр-периферия”. Эта концепция разъясняет, каким образом богатые страны выкачивают все соки из бедных и, тем самым, усугубляют разрыв. Дело становится более ясным, если разделить экономическое развитие и классовую борьбу. Когда Арриги пишет, что Маркс описал глобализацию, его слова звучат убедительно, потому что мы видим своими глазами — мировая экономика сливается воедино. Когда же Арриги пишет, что вопреки прогнозу Маркса мир так и не расплющило, это тоже звучит убедительно — потому что классовая борьба, описанная в “Манифесте” все еще не пришла к своей развязке. Так Арриги ложно отождествляет описанное в “Манифесте” слияние мирового хозяйства с описанной там же классовой борьбой. Производство действительно сливается воедино, но классовая борьба еще не разрешилась. Арриги передергивает: в “Манифесте” написано о слиянии частей света, а в действительности происходит разъединение. В эту брешь Арриги и протаскивает “центр-периферию” Франка — якобы она объясняет то, чего не смог объяснить Маркс. Итак, мы видим, что концепция “центр-периферия” это не просто бесполезный инструмент описания разницы между богатыми и бедными странами. Что богатые страны не дают бедным развиваться — это и так всем понятно. Придумывать для данного факта, без надобности, новый термин было бы чистым ребячеством. Но понятие “центр-периферия” придумано для другого — для того, чтобы показать, что марксизм не сработал. Механика опровержения марксизма мир-системным анализом все та же: сначала делается грязная подмена позиции марксизма. Марксизм утверждает, что мировое производство сливается в единое целое, и этот факт, в свою очередь, меняет производственные отношения, создает предпосылки для социальной революции. Мир-системный анализ исподтишка приравнивает революцию и равномерное распределение богатства между странами посредством словечка “расплющивать” и, таким образом, выворачивает все наизнанку: якобы марксизм предсказывает, что создание единого мирового производства на базе капитализма должно привести к равномерному распределению общественного богатства между разными странами. Теперь, когда подмена произошла, можно начать войну с ветряной мельницей. Смотрите, говорят мир-системщики, Маркс и Энгельс не предвидели, что мир пойдет по другому пути: богатство не распределяется равномерно между странами, а, наоборот, пропасть между богатыми и бедными народами все шире. Марксизм устарел, он не учитывает изменений, произошедших в мире за полтора века. Но не печальтесь, оппортунисты всех стран, — продолжают мир-системщики, — специально для вас мы разработали новый научный инструмент — мир-системный анализ. Его понимание центра и периферии объяснит вам то, чего вы не могли понять: что богатые страны богатеют, эксплуатируя бедные, а бедные страны беднеют, эксплуатируемые богатыми. Берите, пользуйтесь, не благодарите! 45 Арриги прямо пишет, что концепция “центр-периферия” сделала классовую теорию побочным явлением: “Выдвинутое Франком понятие “развитие недоразвитости” подверглось массивной критике, поскольку в рамках этой концепции классовые отношения сводились к эпифеномену, побочному явлению отношений центр — периферия. Так, критикуя Франка, Роберт Бреннер признает, что “экспансия капитализма через торговлю и инвестиции не приводит к капиталистическому развитию автоматически, как предсказывал Маркс в “Манифесте” (Д. Арриги, “Адам Смит в Пекине”). Из приведенной цитаты видно и еще одно передергивание мир-системщиков. Якобы марксизм утверждает, что отсталые страны, когда они вовлекаются в капиталистические отношения, должны пойти по тому же пути развития, что и передовые страны капитализма. Нет, говорят, мир-системщики, практика показывает, что эти страны не развиваются так, как когда-то развивались передовые капиталистические страны. Англия, когда она начинала свой капиталистический путь, никем не эксплуатировалась, а какая-нибудь современная страна третьего мира, вовлекаемая в мировую торговлю, с самого начала попадает под пресс империализма. Иначе мир-системщики выражают эту мысль так, что марксисты якобы считают, что все страны мира развиваются линейно: и Англия конца XVIII века и страна третьего мира XX века, в представлении марксистов, якобы должны проходить одни и те же ступени развития. Пример слепого следования этим диким представлениям о марксизме мы привели вначале в цитате А. Рудого. О чем же в действительности идет речь? “Физик или наблюдает процессы природы там, где они проявляются в наиболее отчётливой форме и наименее затемняются нарушающими их влияниями, или же, если это возможно, производит эксперимент при условиях, обеспечивающих ход процесса в чистом виде. Предметом моего исследования в настоящей работе является капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения производства и обмена. Классической страной этого способа производства является до сих пор Англия. В этом причина, почему она служит главной иллюстрацией для моих теоретических выводов. Но если немецкий читатель станет фарисейски пожимать плечами по поводу условий, в которые поставлены английские промышленные и сельскохозяйственные рабочие, или вздумает оптимистически успокаивать себя тем, что в Германии дело обстоит далеко не так плохо, то я должен буду заметить ему: De te fabula narratur! [He твоя ли история это!] Дело здесь, само по себе, не в более или менее высокой ступени развития тех общественных антагонизмов, которые вытекают из естественных законов капиталистического производства. Дело в самих этих законах, в этих тенденциях, действующих и осуществляющихся с железной необходимостью. Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего” (К. Маркс, “Капитал”, том 1). 46 Итак, Маркс утверждает, что менее развитая в промышленном отношении страна видит в более развитой свой собственный образ в будущем. И дело здесь, как видно, не в ступени, на которой стоит та или иная страна, а в самом характере капиталистического производства. Разве это не так? Разве в отсталых странах не идет сплошь да рядом развитие производства и разве эти страны не превращаются в промышленные? Ясно, что дело обстоит именно так. Ясно и то, что развитие капиталистического производства в этих странах вовлекает их в действие антагонизмов капиталистического производства. Здесь нет даже намека на то, что отсталые страны должны в своем развитии проделать тот же путь, что и страны развитые. Нет здесь и ни одного слова о распределении богатства между ними. Мы подошли вплотную к утверждению о том, что Ленин де был первым мирсистемщиком — ведь он выявил неравномерность развития капитализма на его империалистической фазе. Но если бы Ленин был первым мир-системщиком, то он: 1) должен был бы утверждать, что Маркс ошибся в выравнивании общественного богатства между разными странами при капитализме ; 2) должен был бы обосновать свое утверждение через концепцию центр — периферия, как это и делает мир-системный анализ. Вдобавок, весь мир-системный анализ вообще и теория развития недоразвитости в частности, покоятся на утверждении, что монополистический капитализм — это не стадия развития капитализма, а лишь один из секторов мир-экономики, который существовал в ней всегда. Ленин, наоборот, утверждает, что империализм — это новый этап развития капиталистической формации. Мир-системный анализ объясняет неравномерность развития при капитализме вопреки Марксу, Ленин объясняет неравномерность развития, опираясь на Маркса. Мы видим, что мир-системный анализ находится в полном и непримиримом противоречии с теорией империализма Ленина. “Финансовый капитал и тресты не ослабляют, а усиливают различия между быстротой роста разных частей всемирного хозяйства” (В.И. Ленин, “Империализм как высшая стадия капитализма”). “Не ослаблять, а усиливать” можно только то, что уже существовало раньше. Марксизм, в том числе в лице Ленина, не считает, что все страны, вовлекаемые в капиталистические отношения, должны развиваться линейно, однообразно и т.д. — это очередная ложь мир-системщиков о марксизме. Еще одной особенностью мир-системного анализа, из-за которой его ошибочно отождествляют с теорией империализма Ленина, является понятие об империалистической ренте Самира Амина. “Современный капитализм - это капитализм генерализированных монополий. Под этим я подразумеваю то, что монополии более не похожи на островки (хотя бы и важные) в море остальных (еще относительно автономных) компаний, а образуют интегрированную систему. Поэтому они плотно контролируют все производственные системы. Малые и средние предприятия и даже крупные корпорации, не являющиеся в строгом смысле олигополиями, прочно заключены внутри сети контроля, установленной монополиями. Уровень их автономности упал настолько, что они выступают не более чем субподрядчиками монополий. Эта система генерализированных монополий — продукт нового этапа централизации капитала в странах “триады” (США, Западная и Центральная Европа и Япония), 47 проходившего в 1980-е — 1990-е годы. Генерализированные монополии теперь господствуют в мировой экономике. “Глобализация” — это название, данное ими набору требований, назначение которых — осуществление ими контроля над производственными системами на периферии глобального капитализма (т.е. в мире за пределами триады). Это не более чем новая стадия империализма... Капитализм генерализированных и глобализированных монополий представляет собой систему, гарантирующую этим монополиям монополистическую ренту, которая взимается со всей прибавочной стоимости (превращенной в прибыль), извлекаемой капиталом из эксплуатации рабочей силы. В той мере, в какой эти монополии действуют на периферии глобальной системы, монополистическая рента есть империалистическая рента. Процесс накопления капитала, — которым определяется капитализм во всех его последовательных исторических формах, — таким образом, движим стремлением к максимизации монополистической/империалистической ренты. Этот сдвиг центра тяжести процесса накопления капитала служит источником дальнейшей концентрации дохода и богатства в интересах монополий, контроль над которыми находится в основном в руках олигархий (“плутократии”), управляющих деятельностью олигополистическх групп в ущерб доходам трудящихся и даже в ущерб доходам немонополистического капитала” (С. Амин, “Вирус либерализма”). То, что современные монополии являются намного более крупными, всеохватывающими и интегрированными, чем во времена Ленина, ясно и без Амина. Это очевидный факт, не требующий теоретических изысканий. Но изменились ли монополии качественно? Экономическое существо теории империализма Ленина заключается в том, что монополии сконцентрировали в своих руках такое капиталы и такую власть, которые позволяют им получать прибыли на величину капитала больше, чем остальные предприятия капиталистического хозяйства. Если в эпоху свободной конкуренции абсолютное большинство предприятий находились в более-менее равных условиях, то прибыль, которую они извлекали была средней прибылью. Какой бы величины ни был капитал отдельно взятого капиталиста, этот капиталист мог рассчитывать на среднюю прибыль на свой капитал. Например, если средняя прибыль на текущий момент равняется 10 %, то капиталист, имеющий капитал 10 000 000 рублей, получит на нее прибыль в 10 %, то есть 1 000 000 рублей., а капиталист, имеющий 100 000 000 рублей, получит, соответственно, среднюю норму на свой капитал — 10 000 000 рублей. Новый период капитализма, — исследованный Лениным и названный им монополистическим капитализмом — империализмом, — наступает тогда, когда экономические и политические возможности национальных и интернациональных компаний становятся настолько всеобъемлющими, что они становятся помехой извлечению среднестатистическим капиталистом средней нормы прибыли. Монополии захватывают рынки сырья и тем самым увеличивают свою прибыль, сокращая собственные издержки на сырье и увеличивая его цену для конкурентов. Параллельно продукция монополии становится все более дешевой и вытесняет продукцию конкурентов. Монополии разоряют и поглощают конкурентов. Это качественно иная ситуация, чем при капитализме свободной конкуренции: решающая роль крупных предприятий в мировом хозяйстве позволяет им проводить политику урезания рыночной свободы конкурентов, ставить их в зависимость от себя, отбирать часть их прибыли. Таким образом, монополии получают уже не среднюю прибыль, а сверхприбыль. 48 Что дает Амину право утверждать, что современные монополии изменили свой характер по сравнению с теми монополиями, которые изучал Ленин? То что, они интернациональны? Но они и при Ленине уже были интернациональны. Что они ставят в подчинение государства и фактически захватывают государственную власть? Но это описывает уже Ленин. Что они извлекают прибыль выше средней? Но именно это и выявил Ленин. Действительно, современные монополии более интегрированы, чем прошлые, но что это меняет по существу? Так что же нового сказал Амин? Он не сказал ни одного нового слова, которое продвинуло бы науку дальше в понимании империализма. Все, что он сделал: назвал описанные Лениным монополии новым словом — генерализированными монополиями, и назвал открытую Лениным сверхприбыль новым словом — империалистической рентой. Надо также сказать, что рентой в экономической науке называется доход, получаемый не от производства, а по праву собственности, прибылью же — доход, получаемый от производства (и, что производно, торговли). Монополистические союзы как раз и являются высшей формой организации производства, поэтому, — несмотря на конкретные формы рентных отношений, в которых в том числе может проявляться их господство, — получаемая ими прибыль является в первую очередь прибылью, а не рентой. Ленин дал этому явлению научно точное определение, Амин — исковеркал его. Впрочем, мы уже давно поняли, что бесполезно искать в мир-системной болтовне научно точные определения. Так к чему же Амин изобрел свой империалистический велосипед? “Именно эта система, обычно называемая “неолиберальной”, система генерализированных монополий, “глобализированная” (империалистическая) и финансиализированная (по необходимости ради самовоспроизводства), сейчас на наших глазах “схлопывается”. Эта система, явно неспособная преодолеть свои растущие внутренние противоречия, обречена и далее идти вразнос. “Кризис” системы возник благодаря ее же “успеху”. На самом деле пока что стратегия, применявшаяся монополиями, всегда приводила к желаемым результатам в виде программ “жесткой экономии” и так называемых планов социальных (в действительности — антисоциальных) оптимизаций/сокращений, навязываемых до сих пор, несмотря на сопротивление и борьбу с ними. По сей день инициатива остается в руках монополий (“рынков”) и их политических слуг (правительств, подчиняющихся так называемым “требованиям рынка”)... В этих условиях монополистический капитал открыто объявил войну трудящимся и народам. Это объявление войны сформулировано во фразе: “либерализм — не предмет для переговоров”. Монополистический капитал ни в коем случае не утихомирится, а будет продолжать безумствовать” (С. Амин, “Вирус либерализма”). Амин вынужден прибегать к теоретическим костылям в виде ссылок на Ленина для обоснования своей героической войны с “вирусом либерализма”, распространяемым Соединенными Штатами. Этот вирус прямо-таки доводит Амина до какого-то религиозного фанатизма: зло объявило войну! все на баррикады! Именно для придания хоть сколько-нибудь рационального вида своей истерике Амин и прибегает к империализму Ленина. 49 Но, может быть, несмотря на коверкание ленинизма, Амин, тем не менее, следует по пути строительства социализма? Обратимся к еще одному понятию мир-системного анализа — “отцеплению”: “Я использую термин “отцепление” (delinking), предложенный мной около полувека тому назад и, кажется, замененный в современном дискурсе синонимом “деглобализация”. Я никогда не понимал этот термин в смысле отхода к автаркии; речь шла о пересмотре стратегии перед лицом внутренних и внешних сил в ответ на неизбежные требования, диктуемые выбором самостоятельного развития. Отцепление способствует перестройке “глобализации” на основе договоренностей, а не подчинения особым интересам империалистических монополий. Оно также дает возможность снижения неравенства в международном масштабе... Империализм в той форме, в какой он существовал до первых лет после Второй Мировой войны, создал контраст между индустриализированными империалистическими центрами и подчиненной периферией, где промышленное производство не допускалось. Победы национально-освободительных движений запустили процесс индустриализации периферийных стран, осуществлявшейся через политику отцепления; эта политика была необходима для того, чтобы стало возможным развитие с опорой на собственные силы. Вместе с социальными реформами, иногда радикальными, эта политика отцепления сформировала условия, позволившие странам, наиболее далеко продвинувшимся в данном направлении, — прежде всего, конечно же, Китаю, — со временем войти в число “новых растущих”… Но империализм нынешнего периода, империализм “триады”, вынужденный отступить и “скорректировать” себя применительно к условиям этой новой эпохи, воссоздал себя на новом фундаменте — на основе “преимуществ”, используя которые, он стремится удержать привилегии исключительности, которые я разделил на пять категорий. Это привилегии, связанные с контролем над: технологиями; доступом к природным ресурсам планеты; глобальной интеграцией монетарной и финансовой системы; системами коммуникации и информации; оружием массового поражения. Таким образом, основная форма, которую приобретает отцепление сегодня, определяется именно через вызов этим пяти привилегиям современного империализма” (С. Амин, “Вирус либерализма”). Амин преподносит современный империализм как нечто новое в сравнении с тем, каким империализм был раньше. Соответственно, “отцепление” это стратегия борьбы постколониальных стран с новым видом империализма. Если Амин просто исковеркал, но по существу повторил теорию империализма Ленина, то, может быть, он повторит и ленинский способ борьбы с империализмом? “... когда я говорю про про delinking, про это отгораживание, про эту независимость, это — вопрос стратегии, то есть вместо того, чтобы вас заставляли подчиняться требованиям более могущественных стран, вместо того, 50 чтобы вы приспосабливались под них, вы по возможности от них дистанцируетесь и пытаетесь в какой-то степени отгородиться. Например, Всемирный банк, когда говорит о приспособлении, он говорит о том, что фактически вы должны пойти на поводу у США... … когда я предлагаю отгородиться, дистанцироваться, я имею в виду следующее: у вас должно быть собственное видение, собственная стратегия, свои решения, свои институты, и тогда вы уже со своей стороны должны постараться принудить эти державы пойти навстречу вашим требованиям. Вот в чем суть моей концепции. И я считаю, что альтернативы этому просто не существует. Всемирный банк заявил, что это невозможно сделать, потому что сейчас происходит глобализация, а в условиях глобализации это невозможно. Но мы же не против глобализации, мы не против универсализма. Просто нужно понимать, что глобализация в смысле универсализма должна создавать условия для перемен, для того, чтобы отойти от той системы, которая сейчас существует, когда угнетаются более слабые страны, от капиталистической глобализации, и перейти к другому формату мироустройства, когда нет гегемонов в мире, когда все страны имеют равные возможности для развития, у всех есть возможность развивать свои производительные силы. Вот о какой глобализации идет речь, а не о такой глобализации, которую навязывают капиталистические страны” (С. Амин, “Вирус либерализма”). “Отцепление” это путь национальной независимости для слабых капиталистических стран, чтобы они могли вырваться из под гнета империализма. Здесь нет ни слова о классовой борьбе пролетариата этих стран с местной буржуазией, ни слова о возрождении международного рабочего движения, ни слова о революции и диктатуре пролетариата. “Отцепление” — это мечта о независимости национального буржуазного государства, которое могло бы двигаться все по тем же капиталистическим рельсам, но не подвергаясь гнету монополий. Не зря Амин каждый раз берет в кавычки слово “рынок”, когда говорит о монополиях, — что бы он не говорил про империализм, — для него, как для мир-системщика, монополистический капитализм это не этап развития капитализма, а отдельный сектор хозяйства, отличный от “нормальной” рыночной экономики. Он не уходит от рынка к плану, он уходит от современного монополизированного рынка к отжившей форме рынка эпохи свободной конкуренции. Его реакционный романтизм настолько очевиден, что Амин сам понимает это и пытается отговориться: “Аргумент, что развитие капитализма разрешило аграрный вопрос в центрах системы, казался привлекательным даже для марксистов прошлого. Обратите внимание на знаменитую работу Каутского (“Аграрный вопрос”), написанную до начала Первой мировой войны и ставшую библией социал-демократии. Этот аргумент был унаследован ленинизмом и претворен в жизнь — с сомнительными результатами — путем “модернизации” коллективного хозяйства в эпоху Сталина. По сути, капитализм действительно “решил” (посвоему) аграрный вопрос в центрах системы, но на перифериях, будучи неотделим от империализма, он создал новую аграрную проблему огромных масштабов, которую не способен разрешить, кроме как уничтожив половину человечества путем геноцида… Так что же делать? 51 Необходимо сохранить крестьянское сельское хозяйство на обозримое будущее XXI столетия. Сделать это надо не из романтической тоски по прошлому, а просто потому, что решение проблемы лежит вне плоскости логики капитализма, являясь частью долгосрочного перехода к миру социализма. Поэтому необходимо создать регламентирующие установки для отношений между “рынком” и крестьянским земледелием. На национальном и региональном уровнях эти специфически адаптированные к местным условиям регламенты должны защищать местное производство, обеспечивая необходимую продовольственную безопасность на национальном уровне и нейтрализуя продовольственное оружие империализма. Другими словами, надо разорвать связь между внутренними ценами и ценами на международном рынке, медленно, но неуклонно повышая производительность крестьянского земледелия, таким образом сделав возможным контроль над миграцией населения из сельской местности в города. На уровне того, что называется мировым рынком, регулирование, возможно, должно происходить посредством межрегиональных соглашений, например, между Европой, с одной стороны, Африкой, арабским миром, Китаем и Индией — с другой. Это будет отвечать требованиям развития, которое интегрирует, а не отстраняет” (С. Амин, “Вирус либерализма”). Картина еще больше проясняется: Амин не просто предлагает решение аграрного вопроса но и противопоставляет свое решение “сомнительным результатам “модернизации” коллективного хозяйства в эпоху Сталина”. Впрочем, мы не будем здесь касаться советской экономики. Решение аграрного вопроса лежит вне логики капитализма, говорит Амин, — вслед за предложением сохранить крестьянское хозяйство на весь XXI век. Как бы ни было смешно такое предложение, оно полностью укладывается в логику разницы между “капитализмом как таковым” “нормальным рынком”. “Капитализма как таковой” это высокоразвитая часть экономики; если сельскохозяйственное производство вовлекается в капиталистические отношения, оно неизбежно становится на путь укрупнения: либо на основе буржуазной частной собственности, либо, не дай бог, на основе советской кооперации с “сомнительными результатами”. Но мир-системный анализ — реакционное учение. Его не устраивают прогрессивные формы хозяйства: ни капиталистические, ни социалистические. Его устраивает идиллический, стародедовский, мелкотоварный способ производства. Мелкобуржуазная душа мирсистемщика грезит о благой жизни, как она была раньше, — до появления этого проклятого “капитализма как такового”, — где каждый мелкий хозяйчик имел возможность вести свое мелкое дельце: выращивать и продавать овощи, мастерить и продавать утварь и т.д. И как же Амин хочет вернуть благословенные времена мелкотоварного производства? Посредством неких регламентов, которые защищали бы местное сельскохозяйственное производство от международного рынка. Или, как он поясняет, посредством разрыва связи цен на внутреннем и внешнем рынках. Итак, с одной стороны, Амин утверждает, что “отцепление” это не автаркия, т.е. национальное буржуазное государство Амина имеет связь с внешним миром. Но каким образом государства сообщаются друг с другом? Разумеется, посредством торговли. А как осуществляется торговля? Посредством мировых цен — ведь эта торговля ведется на мировом рынке, в мировой конкуренции. Каким же образом Амин хочет оградить внутренний рынок от мировых цен? Есть только один, проверенный практикой вариант: 52 ограничить внешнюю торговлю государственной монополией. Но это не выгодно буржуазии. Значит, нужно экспроприировать буржуазию. Значит нужно установить диктатуру пролетариата. Значит нужно совершить социалистическую революцию. Но Амин — буржуазный идеолог, ему не нужны “сомнительные результаты”, как он именует плановое хозяйство. Ему проще водить читателя за нос, придумывая какие-то регламенты и международные соглашения, которые позволили бы регулировать международную торговлю — несмотря на то, что утопичность таких предложений очевидна и школьнику. Аналогичное забалтывание Амин применяет и когда говорит о национализации средств производства: “Вместо монополий должны появиться публичные институты, режим управления которыми должен устанавливаться законодательством. Такие институты могут включать в себя представителей: (I) крестьян или фермеров (главные заинтересованные лица), (II) вышестоящих (поставщики исходных материалов, банки) и нижестоящих (пищевая промышленность, розничная торговля) звеньев производственной цепи, (III) потребителей, (IV) местных властей (заинтересованных в состоянии природной и социальной среды: школы, больницы, городское планирование, строительство жилья, транспорт), (V) государства (граждан). Перечисленные стороны будут самостоятельно выбирать своих представителей в соответствии с процедурами, отвечающими установленному для каждой из этих составляющих режиму социализированного управления; например, это могут быть производственные единицы, поставляющие исходные материалы, управляемые руководством, включающим как работников, непосредственно занятых на данном предприятии, так и работников предприятий-смежников и т.д. Эти структуры должны быть выстроены по правилам, предусматривающим на каждом уровне определенную формулу привязки необходимых управленческих кадров, например, через исследовательские центры, ведущие независимую научную работу и разрабатывающие подходящие технологии. Мы можем даже допустить представительство “поставщиков капитала” (“мелких акционеров”) после национализации, если сочтем это полезным” (С. Амин, “Вирус либерализма”). “Если руководящие органы должны будут иметь дело с конфликтами интересов между теми, кто предоставляет займы (банки), и теми, кто их получает (“предприятия”), то принципы формирования этих руководящих органов должны быть разработаны с учетом того, что это за предприятия и что для них требуется. Нужна реструктуризация банковской системы, которая стала слишком централизованной с тех пор, как мы в течение последних сорока лет стали отказываться от старых схем регулирования, существовавших до того два столетия. Есть серьезные доводы в пользу того, чтобы перестроить систему банковской специализации в соответствии с потребностями получателей банковских кредитов и их экономическими функциями (краткосрочное предоставление ликвидных средств, средне- и долгосрочное инвестиционное финансирование), а также с нуждами их клиентов. Мы могли бы тогда создать, например, “сельскохозяйственный банк” (или единую координированную систему сельскохозяйственных банков), клиентура которого состояла бы не только из фермеров и крестьян, но и из партнеров сельхозпроизводителей “на входе” 53 (вышестоящие звенья цепочки) и на “выходе” (нижестоящие звенья), как описано выше. Руководство банком осуществлялось бы с участием, с одной стороны, представителей банка (его должностных лиц, нанятых руководством), с другой стороны — клиентов (крестьян или фермеров и других хозяйствующих субъектов выше и ниже по цепочке) (С. Амин, “Вирус либерализма”). Зря великие умы ломали голову над общественным устройством, зря социализм проходил долгий путь от утопических прозрений до развитой науки. Амин решил все вопросы одним движением руки: надо просто сделать монополии публичными институтами, режим управления которыми устанавливается законодательством (как будто сегодня дело обстоит иначе), — и натолкать в органы управления этих институтов всех, кто придет в голову — крестьян и фермеров, поставщиков и покупателей, потребителей, муниципальных и государственных служащих, а еще врачей, учителей, дворников, кочегаров — и не забыть бы про плюющих в потолок мелкобуржуазных интеллигентов. Предлагаемая Амином модель есть не что иное, как классический буржуазный миф о публичном управлении, государственном или коммерческом — не важно. Всех позвали, всем дали возможность голосовать и контролировать, все требования соблюдены, все по закону. Одно забыли — отменить частную собственность. “Мы даже можем допустить представительство “поставщиков капитала” (“мелких акционеров”) после национализации, если сочтем это полезным”, — похозяйски решает Амин. Вот только очень зря господин Амин берет “поставщиков капитала” — “акционеров” в кавычки, — будто это не капиталисты, не частные собственники, а какие-то лишь похожие на них субъекты. В системе Амина, не знающей пролетарского государства, вовлеченной в международную торговлю, сохраняющей крестьянское сельскохозяйственное производство, — в этой системе право собственности все так же будет действовать; в этой системе “поставщики капитала” это настоящие акционеры, настоящие капиталисты — без кавычек. И само собой ясно, что капиталисты размажут по стене любые органы управления своих компаний, “если сочтут это полезным”. Кстати, в современной России, как и в других капиталистических странах, описанный Амином способ успешно применяется. Сначала, на выборах, граждане — “крестьяне и фермеры, потребители и т.д.” — избирают в “публичные институты” своих представителей — депутатов всех уровней и президента, формирующего исполнительную власть. Затем совокупность народных избранников пишет законы и издает указы по поводу государственных компаний и банков — то есть “законодательно устанавливает режим управления”. Вместе с этим, — бегая из Думы в свои офисы и из своих офисов в Думу, — они же и управляют корпорациями и госкорпорациями, строго блюдя интересы своих избирателей. И да, они “сочли полезным” “даже допустить представительство “поставщиков капитала” (“акционеров”)” — в виде продажи долей собственности местной и иностранной буржуазии и посредством допуска в советы директоров западных надсмотрщиков. В общем, все как хотел Амин. Таким образом, национализация Амина есть лишь замшелый миф о действенности буржуазного парламентаризма, приложенный к управлению предприятиями, находящимися в государственной собственности. Нужно ли очередной раз повторять, что все это никак не относится к марксизму, а наоборот, прямо враждебно ему? 54 ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ Вопреки представлению о близости мир-системного анализа марксизму, мы видим, что между мир-системным анализом и марксизмом лежит пропасть. И это не удивительно, ведь мир-системный анализ и марксизм покоятся на противоположных философских основаниях. О различии метафизического и диалектического методов мы уже упоминали ранее. Метод Маркса заключается в рассмотрении всего исторического процесса как единого процесса, только после всестороннего и полного анализа которого можно объяснять его составные части. Например, для марксиста феодальная Европа, это определенная ступень в развитии всего человеческого общества, ее можно описать и понять только в контексте всей человеческой истории. Для мир-системщика Броделя феодальная Европа это произвольно выделенная автономная территория, способная себя самообеспечивать. Для марксиста разделение труда это основа всего исторического процесса. То, что в феодальной Европе благодаря разделению труда стали возможны автономные территории — лишь частный момент длящегося на протяжении всей человеческой истории разделения труда. Для Броделя установившееся на ту пору разделение труда есть вырванный из контекста всемирного развития факт, с помощью которого искусственно создается понятие “мир-экономики”. Для марксиста феодальная Европа как совокупность общественных отношений есть продукт длительного исторического развития: расцвета и упадка Римской империи, распространения христианства, столкновения цивилизации с варварами и т.д. — без этих предшествовавших событий не могло сложиться той самой исторически данной Европы, с тем самым исторически сложившимся разделением труда, на основе которого Бродель делает вывод об автономности мир-экономики. Для мир-системщика феодальная Европа есть висящая в вакууме абстракция, оторванная от действительной жившей, изменявшейся Европы. Для марксиста феодальная Европа — частный момент в постоянном движении общественного развития, поэтому нет никакой необходимости выдумывать для такого частного момента специальную теоретическую форму, отличную от общего понимания общественного развития. Для мир-системщика феодальная Европа — изолированное автономное образование, сам факт автономности которого принимается им за данность. Таким образом мы видим, что марксизм и мир-системный анализ расходятся попросту как диалектический и метафизический методы. Диалектический материализм не может ограничиться изолированным рассмотрением отдельно взятого факта, а, наоборот, описывает любой факт действительной жизни как факт, связанный и обусловленный всеми остальными фактами окружающего мира. У каждого явления есть своя история, из которой его можно понять. Каждый факт связан с бесчисленным количеством других фактов, без учета которых наше понимание о данном факте всегда ограничено и неполно, искажено. Каждый факт находится в непрестанном движении, в ходе которого он изменяется под действием собственных внутренних причин, под действием внешних влияний, и сам, к тому же, оказывает влияние на окружающий мир. Без как можно более полного, глубокого, всестороннего анализа этой взаимосвязанности и взаимообусловленности явлений действительного мира невозможно составить верное представление о нем. 55 Метафизический метод, наоборот, описывает действительный мир как застывшую картину, как фотографию. Метафизик может дотошно описывать все мельчайшие детали такой фотографии, выявлять в ней “системы” и “структуры”, объяснять состояние объекта на фотографии из тех деталей, форм, структур, которые видны на фотографии, но он упускает из виду главное — что фотография отражает лишь одинединственный момент непрекращающегося движения действительного мира. Так, Бродель видит феодальную Европу на том этапе, на котором она была до развития капитализма, с тем разделением труда, которое она имела к тому времени, с теми общественными отношениями, которые в ней сложились на тот момент — отрезает и выкидывает всю предшествующую историю общества и говорит: мир-экономика это автономное территориальное образование, основанное на системе разделения труда, позволяющей себя обеспечивать. А ведь вопрос состоит в первую очередь том, каким путем Европа пришла к тому состоянию, в котором ее застает Бродель, а не в том, в каком именно состоянии она была на тот момент. Бродель вырывает частный момент из контекста общественной жизни и делает его точкой отсчета для дальнейшей истории. Так получается, что для диалектического метода марксизма феодальная Европа — это лишь историческая ступень, которая была такой, какой она была, потому что ей предшествовали другие ступени, и которая, в свою очередь, обусловила последующие ступени; а для метафизического метода мир-системного анализа феодальная Европа это застывший снимок, который превращается в координаты для описания дальнейшего исторического процесса. Метафизик пытается максимально точно описать застывший снимок исторического процесса и ищет ответы в деталях этого снимка, как будто они существовали всегда и будут существовать дальше. Диалектик, наоборот, не обманывается частными формами исторического процесса, а ищет ответы в его течении. Конкретные исторические формы общества изменчивы. В разные эпохи на разных территориях существовали разные территориально обособленные общества людей. Они могли быть до известной степени автономны, но существо их исследования заключается не в том, чтобы спекулятивно выявлять способствующие такой автономности “системы” и “структуры”, а в том, чтобы распознавать в тех или иных формах общества общие законы общественного развития. Мир-системный анализ, однако, мимикрирует под материалистическое учение. Некоторые его представители даже манифестируют свою приверженность материализму. “Наш подход — беззастенчивый исторический материализм. Его главные теоретические предпосылки: 1) существование и развитие мировой системы, простирающейся вглубь веков не только на пять сотен, но также на пять тысяч лет; 2) мировая экономика и ее форма протяженных торговых связей — ядро этой мировой системы; 3) процесс накопления капитала является движущей силой истории мировой системы; 4) структура центр-периферия является одной из главных характеристик мировой системы; 5) чередование периодов гегемонии и соперничества является разрядкой напряжения мировой системы, хотя системы повсеместной гегемонии были редки или не существовали, и 56 6) восходящие и нисходящие фазы длинных экономических циклов подчеркивают экономический рост в мировой системе” (А. Франк, “Пять тысяч лет мировой системы в теории и практике”). Франк “беззастенчиво” утверждает, что его подход есть “беззастенчивый исторический материализм”. Возможно, беззастенчивый материализм это какой-то новый вид исторического материализма? Обратимся же к тому, что говорят об историческом материализме его создатели: “Итак, дело обстоит следующим образом: определённые индивиды, определённым образом занимающиеся производственной деятельностью, вступают в определенные общественные и политические отношения. Эмпирическое наблюдение должно в каждом отдельном случае — на опыте и без всякой мистификации и спекуляции — вскрыть связь общественной и политической структуры с производством. Общественная структура и государство постоянно возникают из жизненного процесса определенных индивидов — не таких, какими они могут казаться в собственном или чужом представлении, а таких, каковы они в действительности, т. е. как они действуют, материально производят и, следовательно, как они действенно проявляют себя в определенных материальных, не зависящих от их произвола границах, предпосылках и условиях. Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни. Образование представлений, мышление, духовное общение людей являются здесь еще непосредственным порождением материального отношения людей. То же самое относится к духовному производству, как оно проявляется в языке политики, законов, морали, религии, метафизики и т. д. того или другого народа. Люди являются производителями своих представлений, идей и т. д., — но речь идет о действительных, действующих людях, обусловленных определенным развитием их производительных сил и — соответствующим этому развитию — общением, вплоть до его отдаленнейших форм. Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием, а бытие людей есть реальный процесс их жизни. В прямую противоположность немецкой философии, спускающейся с неба на землю, мы здесь поднимаемся с земли на небо, т. е. мы исходим не из того, что люди говорят, воображают, представляют себе, — мы исходим также не из существующих только на словах, мыслимых, воображаемых, представляемых людей, чтобы от них прийти к подлинным людям; для нас исходной точкой являются действительно деятельные люди, и из их действительного жизненного процесса мы выводим также и развитие идеологических отражений и отзвуков этого жизненного процесса... Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития; люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание. При первом способе рассмотрения исходят из сознания, как если бы оно было живым индивидом; при втором, соответствующем действительной жизни, исходят из 57 самих действительных живых индивидов и рассматривают сознание только как их сознание. Этот способ рассмотрения не лишён предпосылок. Он исходит из действительных предпосылок, ни на миг не покидая их. Его предпосылками являются люди, взятые не в какой-то фантастической замкнутости и изолированности, а в своем действительном, наблюдаемом эмпирически, процессе развития, протекающем в определённых условиях. Когда изображается этот деятельный процесс жизни, история перестает быть собранием мертвых фактов, как у эмпириков, которые сами ещё абстрактны, или же воображаемой деятельностью воображаемых субъектов, какой она является у идеалистов” (К. Маркс и Ф. Энгельс, “Немецкая идеология”). Заметим мимоходом, что “эмпирики, которые сами еще абстрактны” — и есть та категория, под которую попадают мир-системщики. Их эмпиризм заключается в желании изучить исторический процесс на основе собрания большого фактического материала, но их абстрактность заключается выдумывании из головых абстрактных, оторванных от жизни конструкций типа “мир-системы” — для обобщения этих фактов. И далее: “Таким образом, это понимание истории заключается в том, чтобы, исходя именно из материального производства непосредственной жизни, рассмотреть действительный процесс производства и понять связанную с данным способом производства и порожденную им форму общения — то есть гражданское общество на его различных ступенях — как основу всей истории; затем необходимо изобразить деятельность гражданского общества в сфере государственной жизни, а также объяснить из него все различные теоретические порождения и формы сознания, религию, философию, мораль и т. д. и т. д., и проследить процесс их возникновения на этой основе, благодаря чему, конечно, можно изобразить весь процесс в целом (а потому также и взаимодействие между его различными сторонами). Это понимание истории, в отличие от идеалистического, не разыскивает в каждой эпохе какую-нибудь категорию, а остаётся всё время на почве действительной истории, объясняет не практику из идей, а объясняет идейные образования из материальной практики и в силу этого приходит также к тому результату, что все формы и продукты сознания могут быть уничтожены не духовной критикой… и т. д., а лишь практическим ниспровержением реальных общественных отношений, из которых произошел весь этот идеалистический вздор, — что не критика, а революция является движущей силой истории, а также религии, философии в всякой иной теории. Эта концепция показывает, что... каждая... ступень [истории] застаёт в наличии определенный материальный результат, определенную сумму производительных сил, исторически создавшееся отношение людей к природе и друг к другу, застает передаваемую каждому последующему поколению предшествующим ему поколением массу производительных сил, капиталов и обстоятельств, которые, хотя, с одной стороны, и видоизменяются новым поколением, но, с другой стороны, предписывают ему его собственные условия жизни и придают ему определенное развитие, особый характер. Эта концепция показывает, таким образом, что обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства. Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм общения, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное, есть реальная основа того, 58 что философы представляли себе в виде «субстанции» и в виде «сущности человека», что они обожествляли и с чем боролись, — реальная основа, действию и влиянию которой на развитие людей нисколько не препятствует то обстоятельство, что эти философы в качестве «самосознания»… восстают против нее. Условия жизни, которые различные поколения застают в наличии, решают также и то, будут ли периодически повторяющиеся на протяжении истории революционные потрясения достаточно сильны, или нет, для того, чтобы разрушить основы всего существующего; и если нет налицо этих материальных элементов всеобщего переворота, — а именно: с одной стороны, определенных производительных сил, а с другой, формирования революционной массы, восстающей не только против отдельных сторон прежнего общества, но и против самого прежнего «производства жизни», против «совокупной деятельности», на которой оно базировалось, — если этих материальных элементов нет налицо, то, как это доказывает история коммунизма, для практического развития не имеет никакого значения то обстоятельство, что уже сотни раз высказывалась идея этого переворота” (К. Маркс и Ф. Энгельс, “Немецкая идеология”). Сюда необходимо присовокупить еще одну цитату Франка, где он прямо противопоставляет свой взгляд приведенным словам классиков марксизма: “... мы полагаем… что модели производства не являются ключом к пониманию “переходов” в истории мирового развития. Скорее эволюционное развитие мировой системы как целого является более важным. Кроме того, “переходы” представляются как следствие свободных типов конкуренции в мировой системе, нежели изменения моделей производства. Главным образом, “переходы” видятся как вопрос о роли и позиции определенного сущностного заряда процесса мирового накопления” (А. Франк, “Пять тысяч лет мировой системы в теории и практике”). Итак, если марксизм начинает с действительных людей и их производственных отношений как основы их существования и истории, — поднимаясь, таким образом, с земли эмпирических фактов до неба научных абстракций, — то мир-системный анализ делает ровно наоборот. Сначала он выдумывает понятие “мир-системы” (“мирэкономики” / “мир-империи” / “структуры” / “системы” и т.д., и т.п.), а затем подгоняет под это понятие всю совокупность эмпирических фактов общественной жизни, которые попадаются на его пути, — спускаясь, таким образом, с небес спекулятивных абстракций до грешной земли действительных исторических фактов. Сравните описание исторического материализма у Франка и у классиков марксизма, — и вы ясно увидите, что материализм Франка на деле является идеалистическим пониманием истории на основе сведения исторического процесса к заранее выдуманной спекулятивной схеме. Цитата Франка о материализме ценна тем, что она отражает философские позиции всего мир-системного подхода, независимо от его конкретных представителей. Теперь понятно, почему исторический материализм Франка “беззастенчивый”: он беззастенчиво извращает подлинный исторической материализм до неузнаваемости и его полной противоположности — идеализма. 59 ЭКОНОМИКА Цена и стоимость Особого внимания заслуживают экономические взгляды мир-системщиков. К примеру, вот как Валлерстайн смотрит на определение пролетариата в зависимости от способа получения дохода рабочими. “Полезно ли в концептуальном плане применять термин “пролетарий” по отношению к индивиду? Я в этом сомневаюсь. При историческом капитализме, как и при предыдущих исторических системах, индивиды, как правило, жили в рамках относительно стабильных структур, в которых общий фонд текущих доходов и накопленный капитал составляли единое целое и которые мы можем назвать домашним хозяйством, или дворохозяйством. Тот факт, что границы этих хозяйств постоянно меняются из-за притока и оттока индивидов, не умаляет значения этих хозяйств как единиц рационального расчета вознаграждения и расходов. Люди, стремящиеся выжить, считают весь свой потенциальный доход, независимо от его источника, и оценивают его с точки зрения реальных расходов, которые они должны понести. Их минимальная цель — выжить; затем, обладая большим доходом, наслаждаться образом жизни, который они считают удовлетворительным; и наконец, далее, с еще большим доходом вступить в капиталистическую игру в качестве накопителей капитала. Для всех реальных целей именно домашнее (дворо-) хозяйство — экономическая единица, участвующая во всех формах деятельности. Обычно оно состояло из родственников (однако не всегда и не только из них), было большей частью соседским, но по мере развития товаризации постепенно утрачивало этот характер” (И. Валлерстайн, “Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация”). Итак, главный представитель мир-системного анализа Валлерстайн считает неуместным применять к индивиду термин “пролетарий”. Он ссылается на то, что при историческом капитализме, — напомним, что “исторический капитализм” у Валлерстайна противопоставляется теоретическому описанию Маркса, который “был ограничен своим временем”, — что при историческом капитализме индивиды живут не в одиночку, а семьями, под одной крышей. А значит и экономический анализ жизни этих индивидов следует делать в рамках домохозяйств. Нет ничего удивительного в том, что Валлерстайн не принимает понятие пролетариата как экономическую категорию, а полностью сосредоточивается на “домохозяйствах” — ведь он буржуазный идеолог. В чем же разница между вариантами, которые предлагает Валлерстайн? Когда он пишет, что рассматривать отдельного индивида как пролетария не имеет смысла, он имеет в виду, что при таком рассмотрении нельзя провести достаточный экономический анализ доходов и расходов данного индивида. Хотя в наше время мониторинг доходов и расходов отдельного человека уже нельзя считать чем-то недостижимым — и государства двигаются в этом направлении семимильными шагами, — можно согласиться, что во времена Валлерстайна такой анализ действительно был 60 затруднителен. И в этом смысле Валлерстайн прав: домохозяйства как экономическая категория более удобны для подсчета потребления физических лиц. Но проблема заключается в другом: говоря о негодности понятия “пролетарий” для соответствующего подсчета, Валлерстайн подло умалчивает (ведь он “ученый” и должен знать) о понятии “пролетариат”. Разница между “пролетарием” и “пролетариатом” в данном контексте более существенная, чем может показаться. Пролетарий как отдельный представитель класса пролетариата — это индивид, который не имеет средств производства и трудится по найму. Но все же он пролетарий, а не просто член домохозяйства. Почему? Потому что как пролетарий он создает для капиталиста прибавочную стоимость. Но покуда речь идет о стоимости товаров, то мы должны помнить, что она определяется средним общественно необходимым трудом, затраченным на производство данного товара. Средним общественно необходимым трудом, а не трудом отдельного пролетария. Следовательно понятие “стоимость” и входящее в него понятие “прибавочная стоимость” могут быть поняты только в контексте общественного производства и классов, а не отдельных индивидов. Хотя в действительности каждый конкретный индивид прикладывает свой труд самостоятельно, но в целом по обществу, абстрактно, прибавочная стоимость создается всем классом пролетариата, а присваивается всем классом буржуазии. Соответственно, если Валлерстайн понимает, что рассматривать надо не отдельных индивидов, а общности, то он должен был бы противопоставлять не отдельного пролетария и домохозяйства, а пролетариат и домохозяйства. Мы вновь фиксируем грязный прием мир-системного анализа — ложную аналогию. Далее, если бы Валлерстайн и был честным ученым, и противопоставил бы друг другу пролетариат и домохозяйства с целью выяснить доходы населения, то он, все равно, ничего не смог бы сделать, потому что мир-системному анализу недоступно понимание разницы между ценой и стоимостью. Чтобы более-менее достоверно подсчитать доходы и расходы населения, следует прибегнуть к расчету в рыночных ценах или просто — в ценах. Других эмпирических возможностей пока что не реализовано. Самыми простыми словами: доходы домохозяйств определяются как величина заработной платы в национальном масштабе плюс некоторые другие виды доходов, а расходы домохозяйств — это величины налоговых поступлений от физических лиц, доходы банков и других финансовых организаций, получаемые от физических лиц, розничная выручка организаций и так далее. Манипулируя подобными величинами, можно сложить представление о текущем экономическом положении населения (то есть домохозяйств/пролетариата) и о его динамике. Нам не нужно углубляться в детали таких расчетов — достаточно только отметить, что расчет доходов и расходов домохозяйств в рыночных ценах это вполне достоверный анализ экономического положения населения вообще, и пролетариата, в частности. Более того, даже в Советском Союзе доходы и расходы населения считались подобным же образом, ведь и советская экономика не ушла от денег и цен. Если в целом Валлерстайн прав в способе вычисления экономического положения населения, то в чем подвох? Подвох в том, что расчет в ценах и сами цены — это лишь часть экономической картины жизни общества, лишь поверхность явления, под которой скрывается сущность — стоимость экономических благ. Мы не можем здесь углубляться в нюансы разницы между ценой и стоимостью, а опишем ее лишь самыми общими словами. Стоимость всех товаров определяется средним общественно необходимым трудом, затраченным на их производство. Этот труд, в свою очередь может быть 61 определен (то есть измерен) только затраченным временем. Временем, а не ценой. Следовательно, прибавочная стоимость, это количество времени, которое составляет разницу между тем количество времени, что пролетариат трудился всего, и тем количеством времени, которое пролетариату было необходимо трудиться для поддержания своего существования. То есть прибавочная стоимость это то количество времени труда пролетариата, которое безвозмездно присваивает себе буржуазия. Разница между стоимостью и ценой становится ясной при рассмотрении рыночной конкуренции. Например, производство одного товара требует длительного труда занятых работников. Это значит, что стоимость такого товара довольно высока — ведь на его производство нужно затратить много рабочего времени. Но, допустим, в силу конкуренции производители вводят новое, более совершенное оборудование, сохраняя (поначалу) количество рабочих рук. Тогда производство товара увеличится, увеличится его предложение на рынке, а его цена — упадет. Таким образом, несмотря на то, что данный товар обладает все той же стоимостью, его цена оказывается низка. Нетрудно представить и обратную ситуацию, когда стоимость товара довольно низка, но конкуренция и рыночная конъюнктура позволяют продавать его по высокой цене. Если конкуренция отдельных производителей позволяет выявить разницу между ценой и стоимостью, то общественное воспроизводство, взятое в целом, позволяет увидеть их тождество. Сумма всей произведенной стоимости выражается, хранится ни в чем ином, как в массе произведенных товаров. Но и сумма всех рыночных цен также привязана ни к чему иному, как к массе произведенных товаров. Если и сумма всех стоимостей и сумма всех цен эмпирически выражаются в одном и том же носителе — товарной массе, то отсюда следует, что, несмотря на то, что сумма стоимости и сумма цен имеют разное измерение (время и деньги), они, тем не менее, тождественны друг другу, то есть равны. Так получается, что: 1) один и тот же товар может быть высокой цены, но низкой стоимости — или наоборот, один и тот же предприниматель может производить товарную массу высокой стоимости, но продавать ее по низкой цене — и наоборот. И так далее, вплоть до того, что некоторые виды активов (например, необработанная земля или оказанные услуги) имеют денежное выражение, то есть цену, но вовсе не имеют стоимости: так как они не хранятся в продуктах труда; 62 2) но эта разница между ценой и стоимостью, — проявляющаяся в бесчисленном множестве конкретных случаев, — стирается в целом по экономике: потому что речь идет об одной и той же товарной массе. Теперь вернемся к Валлерстайну. Поскольку общественное богатство при капитализме определяется массой произведенных товаров, то первичным действительным измерением этого богатства является стоимость, то есть время, затраченное на его производство. Именно с этой точки зрения становится ясно, что класс буржуазии эксплуатирует класс пролетариата, отнимая у него большую часть времени, затраченного в процессе производства — в виде прибавочной стоимости. Что касается цен — это лишь вторичный измеритель общественных благ. Вторичный, потому что, во-первых, цены, особенно в конкретных случаях, искажают стоимость товаров — то есть их реальную ценность, а во-вторых, более характеризуют распределение общественных благ, затемняя существо производства. Отсюда ясно, что, когда Валлерстайн третирует слово “пролетарий” как негодное и противопоставляет этому слову “домохозяйства”, — он скрывает от читателя самую малость, сущую безделицу — эксплуататорский характер капиталистического хозяйства. “Именно в контексте такой структуры домашнего хозяйства рабочим классам стало навязываться общественное разделение труда на производительный и непроизводительный. De facto производительный труд стал определяться как труд по зарабатыванию денег (главным образом, наемный труд), а непроизводительный труд — как труд хотя и вполне необходимый, но представлявший собой лишь деятельность по поддержанию жизни. В связи с этим считалось, что труд, непосредственно не приносящий заработка, не производит никакого “излишка”, который мог бы быть присвоен кем-то другим. Этот труд был либо полностью нетоваризованным, либо включал мелкое (но в таком случае действительно мелкое) товарное производство… Производительный (наемный) труд стал делом в первую очередь взрослых мужчин/отцов и во вторую очередь — других (более молодых) взрослых мужчин в домашнем хозяйстве. Непроизводительный труд (по поддержанию жизни) стал делом в первую очередь взрослых женщин/матерей и во вторую очередь — других женщин плюс детей и стариков. Производительный труд совершался вне домашнего хозяйства на “рабочем месте”, а непроизводительный труд — в домашнем хозяйстве… Новое, что принес исторический капитализм — это корреляция между разделением труда и его оценкой. Мужчины могли часто выполнять работу, отличную от женской (а взрослые — работу, отличную от таковой детей и стариков), но при историческом капитализме шел процесс постоянного обесценивания женского труда (а также труда молодых и старых) и, соответственно, все большего акцентирования значения труда взрослых мужчин. В то время как в других системах мужчины и женщины выполняли специфическую (но обычно равно оцениваемую) работу, при историческом капитализме взрослый мужчина — наемный рабочий попадал в разряд “добытчиков”, “кормильцев”, а взрослая женщина, работающая по дому, — в разряд “домохозяек”. Таким образом, когда началось составление национальной статистики, которая сама есть продукт капиталистической системы, все кормильцы (в отличие от домохозяек) стали рассматриваться как представители экономически активной рабочей силы. Так был институционализирован сексизм. Легальный и внелегальный аппарат гендерного 63 разделения и дискриминации вполне логично следовал за появлением этой базовой дифференцированной оценки труда” (И. Валлерстайн, “Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация”). Продолжая шарить по карманам пролетариата, как налоговый инспектор в поисках скрытых доходов, Валлерстайн подгоняет под это дело теоретическую базу. По его версии, так как труд наемных рабочих исторически стал определяться производительным, приносящим “излишек” (читай “прибавочную стоимость”) трудом, то, соответственно, труд внутри домохозяйств (здесь — непроизводительный, женский труд) приносящим прибавочную стоимость не считался, а значит буржуазная статистика не могла оценить доходы домохозяйств, приносимые таким трудом. Мысль проста: рабочие имели больше доходов, чем только заработную плату. Валлерстайн отвязывает труд наемных рабочих на капиталистических предприятиях от труда внутри домохозяйств, и тем самым создает видимость, будто понятие прибавочной стоимости не учитывает труд в домохозяйствах. Отсюда вытекает вывод, написанный между строк: марксистское понимание эксплуатации и марксистская политическая экономия вообще — дают неадекватную картину экономической жизни общества, марксизм изображает пролетариат в более худшем положении, чем есть на самом деле. Разумеется, этот невысказанный намек Валлерстайна входит в число извечных трюков буржуазных апологетов — показать, что рабочий класс находится в намного лучшем положении, чем об этом заявляют коммунисты. Хитрость Валлерстайна состоит в том, что он пишет: “производительный труд стал определяться как труд по зарабатыванию денег (главным образом, наемный труд)”. И действительно, классическая буржуазная политэкономия пришла к пониманию производительного труда как такого труда, который приносит прибыль капиталисту. Это теоретическое обобщение несет в себе долю истины. Например, если мы представим себе товар, в производстве которого задействованы только капиталистические предприятия (например, производство станков), то, естественным образом, прибавочная стоимость, заключенная в товарной продукции таких предприятий, создана не кем иным как наемными рабочими. Следовательно, стоимость такой продукции, — а значит и заключенная в ней прибавочная стоимость, или прибыль капиталиста, — определяется общественно необходимым временем труда рабочих, занятых на данных капиталистических предприятиях. Но представим себе другой товар — такой, который производится как на капиталистических предприятиях, так и в домохозяйствах. Например, вино. Дело сразу меняется: если в местности, где производится домашнее вино, появляется винодельческий завод, цена на это вино становится ниже. Движение цены отражает падение стоимости производства вина: так как в его производстве теперь задействовано больше людей, работающих на более производительном оборудовании. Так мы видим, что не только труд наемных рабочих на капиталистических предприятиях, но и труд частных производителей (пока такие еще не выдавлены конкуренцией) определяют общественно необходимое время на производство товара, а значит определяют его стоимость и цену. Это значит, что труд наемных рабочих и труд в домохозяйствах не оторваны друг от друга, как это пытается изобразить Валлерстайн. Буржуазный идеолог не понимает, что если стоимость как общественное отношение производится прежде всего и главным образом, на капиталистических предприятиях посредством наемного труда, то это не значит, что она вообще производится только наемными рабочими, в отсутствие остального общества. 64 Вновь метафизика, вновь непонимание диалектического закона соотношения абстрактного и конкретного, всеобщей связи явлений. Итак, наемные рабочие и члены домохозяйств идут на рынок и покупают там продукцию, стоимость которой определяется их совместным общественно необходимым временем труда. С ростом капиталистического производства, с разорением мелкой буржуазии, с исчезновением частного домашнего производства разница между населением, занятым наемным трудом и другими категориями населения стирается все больше. Мы видим, что в современных развитых капиталистических странах такая разница совершенно нивелирована. В этом и проявляется существование капитализма как формации, в которой производство посредством наемного труда является доминирующим способом производств — хотя и другие способы присутствуют. Еще бросается в глаза, что Валлерстайн, противореча всему ходу развития капиталистического производства, говорит о “все большем акцентировании значения труда взрослых мужчин”. Валлерстайн утверждает, 1) что при капитализме мужчина стал задействован преимущественно в наемном труде, и 2) что мужчина при капитализме стал считаться кормильцем семьи, а женщина домохозяйкой. Отсюда он делает вывод, что такая дифференциация труда привела к сексизму и гендерной дифференциации (о боже, как же без этого?). Хотя Валлерстайн должен прекрасно знать, что одной из особенностей капитализма является тенденция вытеснения наемного мужского труда женским и детским. Если говорить о мужчине как о кормильце, то при капитализме он, как раз, перестает быть таковым, уравниваясь с женщиной и ребенком в статусе говорящего орудия труда. Противоречивость роли женщины в капиталистическом производстве заключается в том, что, с одной стороны, сохраняются еще старые феодальные пережитки, при которых женщина принижается по сравнению с мужчиной. В наступающих капиталистических отношениях роль женщины как собственности ее мужа усиливается еще более, и положение женщины, таким образом, становится еще хуже. Но с другой стороны, женщина, как только что было сказано, становится конкурентом мужчины в наемном труде. Лишь на первых порах капиталистического производства, когда мужчина становится наемным рабочим и приносит домой деньги, под действием все тех же феодальных представлений, он воспринимается как кормилец. Но по мере роста производительности труда, когда капиталист заменяет более громоздкие и сложные в обращении машины более простыми, — с которым могут теперь управиться и женщина и даже ребенок, — сам собой наступает момент, когда капиталист нанимает на работу женщину или ребенка — потому что теперь они могут выполнять ту же работу, что ранее выполнял мужчина, но платить им, при этом, можно меньше (ведь они не “кормильцы”). По современному обществу мы видим, что в капиталистически развитых странах, где пролетаризация населения достигла максимальных значений, женский вопрос практически отпал, а феминизм, за ненадобностью, давно превратился в фарс наряду с прочими, спекулирующими на гендере протестными течениями. Таким образом, рассуждения Валлерстайна о кормильцах и домохозяйках, о сексизме и гендерной дискриминации — это, в действительности, не выводы на основе экономических знаний, а самая пошлая обывательская болтовня на расхожую тему — при полном непонимании экономической науки. В контексте сказанного особо цинично по отношению к пролетариату звучат следующие слова: 65 “В реальности пролетаризация вызывала столь мало энтузиазма у нанимателей рабочей силы, что они способствовали развитию половозрастного разделения труда” (И. Валлерстайн, “Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация”). Вот как это называется! Не то чтобы капиталист выгонял мужчину с работы, потому что женщине или ребенку можно платить меньше — капиталист просто “способствует развитию половозрастного разделения труда”. Если и есть в мирсистемном анализе хоть что-то примечательное, то это искусство цинизма его представителей — буржуазных интеллигентов. Монополии и рынок Броделя почитают за его якобы всесторонний подход к описанию истории — он де применяет в своих работах анализ всех сфер жизни общества и природных условий, которые могут так или иначе влиять исторический процесс. Он подробно описывает климатические условия, особенности ландшафта, соотношение воды и суши, погодные условия, особенности транспорта, почты, денежной системы и еще много и много чего. Но, к сожалению, реальная цена такой всесторонности не стоит и ломаного гроша, как мы сейчас убедимся на примере экономических взглядов Броделя. “На самом же деле доступная наблюдению действительность до XIX в. была намного сложнее. Разумеется, можно проследить эволюцию или, вернее сказать, несколько эволюций, которые соприкасаются друг с другом, стимулируют друг друга, даже противоречат друг другу. Иначе говоря, признать, что существует не одна, а несколько экономик. Та, которую описывают предпочтительно, — это так называемая рыночная экономика, т.е. механизмы производства и обмена, связанные с деятельностью людей в сельском хозяйстве, с мастерскими, лавками, с биржей, банками, ярмарками и, разумеется, с рынками. Именно с этих ясных, даже “прозаичных” реальностей и с легко улавливаемых процессов, которые их питают, и началось складывание понятийного аппарата экономической науки. Таким образом, она с самого начала замкнулась, ограничив себя неким избранным полем зрения и исключив из рассмотрения все другие. А ведь под рынком простирается непрозрачная для взгляда зона, которую зачастую трудно наблюдать из-за отсутствия достаточного объема исторических данных. Это та элементарная “базовая” деятельность, которая встречается повсеместно и масштабы которой попросту фантастичны. Эту обширную зону на уровне почвы я назвал, за неимением лучшего обозначения, материальной жизнью, или материальной цивилизацией. Двусмысленность такого выражения очевидна. Но я полагаю, если мой взгляд на вещи будет принят в отношении прошлого — как, по видимому, разделяют его некоторые экономисты в отношении настоящего, — что рано или поздно отыщется более подходящая вывеска для обозначения этой инфраэкономики, этой второй, неформальной, половины экономической деятельности, этой экономики самодостаточности, обмена продуктов и услуг в очень небольшом радиусе. 66 А с другой стороны, над обширной поверхностью рынков — а не под нею — возвышаются активные иерархические социальные структуры. Они искажают ход обмена в свою пользу, расшатывают установившийся порядок. Стремясь к этому, а порой и не желая того специально, они порождают аномалии, “завихрения” и дела свои ведут весьма своеобразными путями. На этом верхнем “этаже” несколько крупных купцов Амстердама в XVIII в. или Генуи в XVI в. могли издали пошатнуть целые секторы европейской, а то и мировой экономики. Таким путем группы привилегированных действующих лиц втягивались в кругооборот и расчеты, о которых масса людей не имеет понятия. Так, например, денежных курс, связанный с торговлей на далекие расстояния и запутанным функционированием кредита, образует сложное искусство, открытое в лучшем случае немногим избранным. Эта вторая, непрозрачная зона, которая, находясь над ясной картиной рыночной экономики, образует в некотором роде ее предел, представляется мне… сферой капитализма по преимуществу. Без нее капитализм немыслим; он пребывает и процветает в ней. Я… в конце концов пришел к выводу, что в период с XV по XVIII в., и даже гораздо раньше, рыночная экономика была принудительным, навязываемым порядком вещей. И как всякий навязываемый порядок, социальный, политический или культурный, она вызывала противодействие, развивала противоборствующие ей силы, которые действовали как сверху, так и снизу... Что меня по-настоящему укрепило в этом мнении, так это то, что через ту же самую решетку я довольно быстро и довольно ясно разглядел членение современных обществ. В них рыночная экономика по-прежнему управляет всей массой обменов, которые контролирует наша статистика. Но кто стал бы отрицать, что конкуренция, которая представляет отличительный признак рыночной экономики, отнюдь не господствует над современной экономикой? Сегодня, как и вчера, существует особый мир, в котором пребывает капитализм как таковой — на мой взгляд, истинный капитализм, всегда многонациональный, родственный капитализму великих Ост- и Вест-Индских компаний и разного масштаба монополий, юридически оформленных и фактических, которые некогда существовали и в принципе, в основе своей аналогичны монополиям сегодняшним... Но совпадения распространяются и дальше. Ибо… начала вырисовываться новая, современная форма внерыночной экономики: едва прикрытый натуральный обмен, прямой обмен услугами… да плюс к тому еще и многочисленные формы надомничества и самодеятельного “ремесла”. Этот уровень деятельности, лежащий ниже рыночного, или за пределами рынка, достаточно значителен, чтобы привлечь внимание иных экономистов: разве он не достигает самое малое от 30 до 40 % национального продукта, которые таким образом ускользают от всякого статистического учета даже в индустриально развитых странах?” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация и капитализм, XV-XVIII вв.”, том 1). “...как он [Бродель] позже писал в работе о капитализме и цивилизации, существовало четкое разделение между сектором свободного рынка и сектором монополий. Капитализмом Бродель называл только сектор монополий, он не считал свободный рынок признаком капитализма и даже, наоборот, настаивал на том, что капитализм — это “антирынок”. Концепция Броделя и по форме и по 67 существу была прямым ударом по позициям экономистов-классиков (включая Маркса,), которые рассматривали рынок и капитализм как нечто единое” (И. Валлерстайн, “Мир-системный анализ. Введение”). Настолько же определенно выражается и Арриги: “И в этой интеллектуальной атмосфере я нашел во втором и третьем томах трилогии Фернана Броделя “Материальная цивилизация, экономика и капитализм” интерпретативную схему, которая легла в основу этой книги. В этой интерпретативной схеме финансовый капитал не является особой стадией развития мирового капитализма, не говоря уже о том, чтобы быть его последней и высшей стадией. Скорее он представляет собой повторяющееся явление, которым отмечена капиталистическая эпоха с самого своего начала в Европе позднего Средневековья и раннего Нового времени” (Д. Арриги, “Долгий двадцатый век”). “Бродель… считает капитализм полностью зависимым в своем появлении и экспансии от государственной власти и образующим антитезу рыночной экономике. Выше него [нижнего “этажа”], в зоне по преимуществу рыночной экономики, множились горизонтальные связи между разными рынками; некий авторитаризм обычно соединял там спрос, предложение и цену. Наконец, рядом с этим слоем или, вернее, над ним зона “противорынка” представляла царство изворотливости и права сильного. Именно там и располагается зона капитализма по преимуществу — как вчера, так и сегодня, как до промышленной революции, так и после нее” (Д. Арриги, “Долгий двадцатый век”). Мы можем выделить два важных вопроса. Во-первых, как взгляд Броделя соотносится с экономическим учением марксизма, вообще, и, во-вторых, как соотносятся взгляд Броделя на монополии и учение об империализме Ленина, в частности. Бродель, в пику ленинской теории империализма, хочет показать, что монополистическая стадия в развитии капитализма есть не стадия, а просто положение, когда господство капитализма “как такового” над нормальной экономикой распространилось по всей мир-экономике. Однако марксистам никогда не приходило в голову утверждать, что уже на начальных этапах развития капиталистического способа производства не было монополий. Как раз, наоборот, монополии компаний, занимавшихся торговлей с другими частями света и поддерживаемые государством — один из ярких примеров начинающегося капиталистического способа производства. Такие монополии активно конкурировали друг с другом, душили конкурентов, подчиняли себе еще не развитый промышленный капитал — уже на первых шагах капитализма. Само собой разумеется, что указанные монополии существовали наряду с остальной рыночной экономикой, частью которой они и являлись. Несмотря на то, что Бродель подает факт сосуществования простого товарного хозяйства с монополиями как нечто новое — факт этот, разумеется, был всегда известен и учитывался Марксом и Энгельсом при описании зарождения капиталистического способа производства. Вздорность “открытий” Броделя станет тем более явной, если обратиться к “Немецкой идеологии”: 68 “Второй период наступил с середины XVII и продолжался почти до конца XVIII века. Торговля и судоходство расширя­лись быстрее, чем мануфактура, игравшая второстепенную роль; колонии начали приобретать значение крупных потребителей; отдельные нации в длительных битвах делили между собой открывавшийся мировой рынок. Этот период начинается законами о мореплавании и колониальными монополиями. Конкуренция между нациями устранялась, по возможности, путем тарифов, запрещений, трактатов; в конечном же счете борьба конкурентов велась и решалась с помощью войн (в особенности морских). Самая могущественная морская держава, Англия, получила перевес в торговле и мануфактуре. Здесь уже имеет место их концентрация в одной стране. Мануфактура постоянно всячески охранялась — покровительственными пошлинами на внутреннем рынке, монополиями на колониальном рынке и дифференциальными пошлинами на внешнем рынке. Оказывалось покровительство обработке производимого в данной стране сырья (шерсть и полотно в Англии, шёлк во Франции), запрещался вывоз производимого в стране сырья за границу (шерсть в Англии) и оставлялась в пренебрежении, а то и вовсе запрещалась обработка импортируемого сырья (хлопок в Англии). Нация, первенствовавшая в морской торговле и обладавшая наибольшим колониальным могуществом, обеспечивала себе, конечно, и самое широкое — как в количественном, так и в качественном отношении — развитие мануфактуры. Мануфактура вообще не могла обходиться без охраны, так как достаточно было малейшей перемены в других странах, чтобы она лишилась своего рынка и была разорена; при скольконибудь благоприятных условиях ее легко было ввести в той или иной стране, но именно поэтому ее легко было и разрушить. Вместе с этим благодаря тем методам, какими она велась, особенно в течение XVIII века в деревнях, она так срастается с жизненным укладом огромной массы людей, что ни одна страна не осмеливается ставить на карту существование мануфактуры разрешением свободной конкуренции. Поэтому мануфактура, поскольку ей удаётся вывозить свои продукты, всецело зависит от расширения или ограничения торговли, оказывая, со своей стороны, сравнительно ничтожное обратное воздействие на нее. Этим объясняется её второстепенное значение, а также влияние купцов в XVIII веке. Именно купцы, и в особенности судовладельцы, больше всех настаивали на государственной охране и монополиях; правда, и владельцы мануфактур требовали — и добивались — охраны, но в смысле политического значения они всегда уступали купцам. Торговые города, особенно при­морские, достигли некоторой цивилизованности и приобрели крупнобуржуазный характер, тогда как в фабричных городах продолжала царить мелкобуржуазная стихия... XVIII век был веком торговли. Пинто определенно говорит об этом: «Торговля — это конек нашего века»; и еще: «с некоторых пор только и говорят, что о торговле, мореплавании, флоте» (К. Маркс и Ф. Энгельс, “Немецкая идеология”). Таким образом, мир-системный анализ не дает ничего нового, утверждая, что монополии существовали на ранних стадиях капиталистического способа производства. Наоборот, концепция Броделя о капитализме, как об одном из участков общественной экономики, который всегда был таким, каким он был — то есть о 69 капитализме, как о высшей форме хозяйственной деятельности, завязанной на кредите, вексельном обращении, акционировании, монополиях и т.д., — эта концепция полностью идет вразрез с марксизмом, так как в марксизме капитализм — это способ производства, который основан на наемном труде (а не смежный сектор экономики) и именно в этом его отличие от других способов производства. Монополии, как компании, имеющие значительное превосходство над конкурентами и целыми отраслями экономики, существовавшие на заре капитализма, отождествляются Броделем с монополистическим капитализмом, каким он сложился в конце XIX — начале XX веков. Марксисты де считают, что сначала капитализм существовал как капитализм свободной конкуренции — без монополий, а после того перерос в империализм — в котором монополии имеют исключительное положение и фактически управляют экономикой. Но ведь монополии вместе со всеми признаками развитого капитализма (капитализма как такового) — спекуляцией, пошлинами, административным давлением, торговыми войнами и т.д. — существовали уже на заре капитализма. Отсюда следует, что марксисты проглядели существование и господство монополий на ранних этапах капитализма и ошибочно приписали такое положение вещей лишь империалистической стадии развития капитализма. Таким образом, выдуманной позиции марксистов, что монополии сами по себе есть новая стадия развития капитализма свободной конкуренции, противопоставляется якобы исторически верное представление о том, что капитализм как таковой, со всеми своими передержками, существовал с самого начала, наряду с нормальным рыночным механизмом. Марксизм признает, что монополии, финансы и другие проявления высокоорганизованной хозяйственной деятельности существовали не просто на ранних стадиях капитализма, но некоторые — уже в древнем мире. Нет никакой необходимости это отрицать. Но марксизм смотрит на капитализм как на развивающееся явление. Капитализм не представляет собой какую-то раз навсегда установленную систему, которая, как у метафизика Броделя, существовала в том же виде вначале, как она существует теперь. Капитализм это явление, которое изменяется исторически и на разных этапах своего развития отличается более теми или иными признаками. Капитализм эпохи свободной конкуренции — это становящееся развитое товарное хозяйство. Его особенность заключается в том, что капиталистический способ производства — то есть производство посредством наемного труда и частной собственности — пробивает себе дороги во все отрасли народного хозяйства, навязывает себя в городе и проникает в деревню. На данном этапе торговый капитал играет поначалу ведущую роль — и именно он то и выступает как носитель развитых форм хозяйствования как то финансы и кредит. Да, монополии и защищаемые государствами компании занимают доминирующее положение в своих отраслях и национальных рынках, да, они разоряют более слабых игроков, да, эта бурная жизнь торговли, спекуляции и биржевой игры существует параллельно с еще не проснувшимся к международной торговле традиционным, феодальным хозяйством. Но капитализмом, капиталистической формацией является не эта, якобы автономная часть народного хозяйства как таковая, а все народное хозяйство в его совокупности —- сам процесс перестройки феодального способа производства и поглощение его капитализмом. Картина Броделя, в которой капитализм как таковой и чистый рынок это автономно существующие в экономике системы, неверна, потому что монополия является монополией лишь на фоне остальной массы производителей, над которыми она и 70 доминирует. Потому что спекуляция является спекуляцией на фоне нормального товарного обращения. Потому что вексель является новой денежной формой — на фоне обычных наличных денег. Иными словами, экономические этажи Броделя это никакие не этажи и никакие не автономные участки экономики, а неразрывные части единой экономической системы, пребывающей в движении и изменении. Да, рынок как таковой существовал задолго до капитализма, но рыночный обмен излишком при рабовладельческом строе или феодализме и рыночный обмен специально для обмена произведенными товарами при капитализме — это совершенно разные рыночные обмены, совершенно разные рынки. Форма та же, но содержание разное. Таким образом, для марксиста нет одного и того же рынка, а значит одной и той же идеи нормальной рыночной экономики, свободной от капитализма. Рынок рабовладельцев, феодалов и капиталистов — это разные этапы развития обмена, а следовательно, по существу разные рынки — хоть по форме, они на протяжении тысячелетий оставались неизменными. Мы вновь видим, что разница между марксизмом и мир-системным анализом носит глубокий характер и проявляется методологически как разница между метафизикой и диалектикой. С одной стороны пустые абстракции нормального рыночного механизма и капитализма как такового, вырывание этих явлений из исторического контекста, подмена формы и содержания, с другой — взгляд на явление как на целостный процесс изменения общественного производства, в котором рынок и монополии — лишь частные моменты, формы развития одной и той же сущности — общественного воспроизводства. Если Бродель механически разрывает рынок и капитализм, то так же механически он объединяет частные проявления монополизма на ранних этапах капиталистического производства с монополизмом как стадией развития капитализма. Итак, для марксистов отношение между капитализмом свободной конкуренции и монополистическим капитализмом заключается в том, что, с одной стороны, это два этапа развития одного и того же явления — то есть капитализма, а с другой стороны, это одна и та же сущность в разных проявлениях. Капитализм свободной конкуренции был представлен в существовании громадного количества мелких производителей, которые могли конкурировать между собой, сбивать цену, переманивать клиентуру и т.д., но капитализм свободной конкуренции был таковым не потому, что, как выходит у Броделя, на заре капитализма преобладал нормальный рынок, а капитализм как таковой еще не был широко распространен, — а потому что другим этот капитализм, заставший производительные силы после феодализма, и не мог быть. Метафизичность понятия нормальной рыночной экономики в том и проявляется, что с появлением капиталистического способа производства гибель так называемого свободного рынка стала вопросом времени. Еще раз — не существующий во все времена неизменный, извечный, неменяющийся свободный рынок, а конкретно-исторический, перестраиваемый капитализмом, монополизирующийся рынок. Если, с одной стороны, капитализм свободной конкуренции представлял собой, в целом, широкое поле для бесконечного числа малых предпринимателей, то, с другой стороны, уже происходящая в нем концентрация и централизация капитала вели и, в конечном счете привели, к монополистической стадии развития рыночного хозяйства. В начале XX века оказалось, что простора для свободной экспансии капитализма больше нет — все территории земного шара уже были втянуты в мировые капиталистические отношения. В то же время, концентрация и централизация капитала достигли таких масштабов, что всесильные монополитсические союзы с легкостью могли душить и 71 разорять массы мелкой буржуазии, переигрывая ее с помощью низких цен, более совершенных орудий производства, более высокой производительности труда, захвату рынков сырья и т.д. Эпоха свободной конкуренции подошла к концу — и не могла не подойти. Наступила новая, качественно отличная эпоха развития капитализма, при которой определяющую роль в мировом хозяйстве стали играть не стихийные изменения спроса и предложения на свободном рынке, а сила и власть монополистов, их произвол, их частнособственнические нужды и потребности. Концентрация и централизация капитала, и монополизация вообще есть неизбежные следствия технического развития. Всесторонняя взаимосвязь технологического процесса производства на разных предприятиях, все большая потребность во внутреннем планировании производства монополистами, настоятельная потребность согласования работы всего общественного производства — в этих явлениях выражается рост производительных сил от эпохи свободной конкуренции к эпохе государственно-монополистического капитализма и далее — к плановому хозяйству. Мы еще раз видим, что нет никаких различных секторов или этажей в экономике, которые выделяет Бродель — а есть историческое развитие одного и того же капитализма. Нет никакого противостояния мнимых противников: нормальной рыночной экономики и капитализма как такового — а есть органическое развитие капитализма от свободного рынка к монополистической стадии и плановому, социалистическому хозяйству. Не метафизически оторванные от реальности понятия, существующие извечно и противодействующие в голове Броделя — а действительный процесс развития общественного производства при капитализме. “Так против кого выдвигается общественное обвинение во Франции? Против трестов, против ТНК; это означает целить высоко и целить правильно. Лавочка, где я покупаю свою газету, не относится к капитализму, она лишь обнаруживает его сеть (когда имеется сеть), от которой зависит скромная лавочка. Не относятся к капитализму также и ремесленные мастерские и мелкие независимые предприятия… Эти мелкие предприятия, эти крохотные единицы — имя им легион. Но они заметны как значительная масса в крупных конфликтах, бросающих яркий свет на них и на занимающую нас проблему” (Ф. Бродель, “Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.”, том 3). Как видно, выдумка Броделя про верхние и нижние этажи капитализма на практике приводит к прямой защите капитализма: пусть Бродель не одобряет монополии и, тем самым, выступает против крупного капитала — но он стоит на стороне мелких производителей, ведь с их помощью он может удовлетворить свои мещанские потребности: купить какую-то ремесленную вещичку, газетку, булочку. Не важно, что он не считает мелких производителей частью капитализма — выше мы указали, что в действительности они являются неотъемлемой частью капиталистического способа производства. Не замечает Бродель и того простого факта, что в мелкой лавочке он может купить булочку, но трамвайчик то ему доступен только благодаря концентрации и централизации капитала. Сочетание модели мир-экономики с “капитализмом как таковым” вступает в прямое противоречие с теорией империализма Ленина. По Ленину империалистические группировки, подчиняющие себе национальные государства, являясь, с одной стороны, порождением эпохи свободной конкуренции, с другой стороны, не только выступают 72 душителями мелкой буржуазии, — по которой льет слезы Бродель, — но и являются реальной движущей силой империалистических войн. Следовательно, если корнем проблем общества, на нынешнем уровне его развития, является капитализм, то борьба рабочего класса должна быть направлена как против буржуазии и буржуазного государства вообще, так и против самых мощных империалистических объединений капиталистов в частности. Такая борьба для марксистов — неизбежная часть классовой борьбы, ее магистральная линия. Что касается Броделя, то он вообще далек от подобных мыслей. Для него верхние и нижние этажи капитализма существуют лишь для того, чтобы выразить недовольство монополиями, но не делать ни шага дальше. Если Бродель видит лишь разницу между крупной и мелкой буржуазией, и превратно трактует крупный капитал как ненормальное состояние общества, а мелкий — как нормальное — то это говорит о том, что в экономике Бродель реакционер: он не признает прогрессивной роли монополизации капитала как шага к следующей ступени общественного развития. Броделю надо, чтобы существовал некий свободный рынок, наполненный мелкими производителями. Насколько идиллическое, настолько же и замшелое, отсталое понимание, попытка повернуть экономическое развитие вспять. А если учесть, что Бродель проповедовал свои прямо-таки пещерные взгляды на экономику во второй половине XX века, то от его учености и вовсе ничего не остается — его просто невозможно рассматривать всерьез. Системные циклы накопления Мир-системный анализ славится также и тем, что он, якобы, является развитием экономической мысли вообще и марксистской политэкономии в частности. Самым показательным понятием в этом контексте служит понятие о системных циклах накопления капиталистической мир-системы: “Так сложилось, что броделевская идея финансовых экспансий как заключительных стадий важных капиталистических событий позволила мне разложить весь жизненный цикл капиталистической мировой системы (longue duree Броделя) на более податливые единицы анализа, которые я назвал системными циклами накопления” (Д. Арриги, “Долгий двадцатый век”). “... системные циклы накопления — это процессы “командных высот” капиталистической мировой экономики или “капитализма у себя дома, по Броделю”... [В этой концепции] классовая борьба и поляризация мировой экономики в центре и на периферии… почти полностью выпали из картины” (Д. Арриги, “Долгий двадцатый век”). Фернан Бродель считает, что капитализм это не социально-экономическая формация, однажды появившаяся и однажды должная исчезнуть, а всего лишь один из секторов мир-экономики наряду с нормальной рыночной экономикой. Его последователь, Джованни Арриги, исходит из этой посылки и задается целью описать, каким образом “капитализм как таковой” проделал путь от своего зарождения до современности, какие этапы он прошел. Для названия таких этапов Арриги и применяет понятие “системный цикл накопления”. Два важных момента: 73 1) системные циклы — это не этапы развития мирового хозяйства вообще, — как формации в марксизме, — а лишь этапы становления именно той части экономики, которую Бродель считает капитализмом; 2) Арриги исключает из рассмотрения классы и классовую борьбу. Тот факт, что Арриги исходит из метафизики Броделя, показывает, что Арриги применяет мир-системный метод и безусловно является мир-системщиком. Тот факт, что Арриги не берет в расчет концепцию “центр-периферия”, а рассматривает только развитие “капитализма как такового”, показывает, что мир-системный анализ не является единым целостным научным мировоззрением (на самом деле, авторы мирсистемщики противоречат друг другу чуть ли не на каждом шагу — в этой статье мы привели лишь пару примеров для иллюстрации). Тот факт, что Арриги выбрасывает за борт экономического исследования классы, показывает, что, несмотря на внутренние противоречия, мир-системный анализ сохраняет единство — на почве борьбы с марксизмом. Как и его собратья, Арриги идет дорогой уклончивости, изворотливости и лукавства: его борьба с марксизмом проявляется не только в причудливой форме согласия с отдельными мыслями Маркса, но даже под видом того, будто он основывает свое исследование, в том числе, на положениях марксистской политэкономии: “... общая формула капитала у Маркса (Д —Т— Д') может быть понята как отражение не только логики индивидуальных капиталистических инвестиций, но и повторяющейся закономерности исторического капитализма как миросистемы. Основная особенность этой закономерности состоит в чередовании эпох материальной экспансии (Д—Т этапов накопления капитала) с фазами финансового возрождения и экспансии (Т — Д' стадии). На фазах материальной экспансии денежный капитал «приводит в движение» растущую массу товаров, включая товаризованную рабочую силу и природные ресурсы; а на фазах финансовой экспансии растущая масса денежного капитала «освобождается» от своей товарной формы, и накопление осуществляется посредством финансовых сделок, как в сокращенной формуле у Маркса: Д — Д'. Вместе эти две эпохи, или фазы, составляют полный системный цикл накопления (Д—Т— Д')” (Д. Арриги, “Долгий двадцатый век”). Итак, Арриги утверждает, что формула капитала может быть понята не только как “логика индивидуальных капиталистических инвестиций”, но и как повторяющаяся закономерность капиталистического развития. Арриги пытается воспроизвести двустронний взгляд Маркса на капитал: с одной стороны, формула обращения капитала отражает индивидуальный оборот отдельно взятого капиталистического предприятия, с другой стороны, эта же формула отражает обращение капитала в общественном масштабе. Возьмем индивидуального предпринимателя: в начале у него есть определенная сумма денег Д. Далее, он покупает на эту сумму товар Т. После перепродает купленный товар за сумму Д', получая, таким образом, прибыль (Д < Д'). Если же посмотреть на все общественное обращение капитала, то и его можно анализировать через ту же формулу: у торговых капиталистов (данная формула говорит именно о них — здесь не учитывается производство товара) есть определенная денежная масса, они закупают на нее товарную массу, а затем продают и получают прибыль. Снова Д—Т— Д'. Сразу обратим внимание на то, что в “Капитале” имеется множество подобных формул и все они относятся к разным позициям, с которых мы смотрим на капитал, и 74 приведенная Арриги формула — всего лишь одна из них. Так, формула Д—Т— Д' характеризует обращение именно торгового капитала, то есть речь идет о торговом капиталисте, который ничего не производит, а лишь покупает товары для перепродажи. Следовательно, данная формула не затрагивает процесс производства товара, а ведь без произведенного товара не может быть и перепродажи, без производства капитала не может быть и его обращения. Потому, если Арриги говорит, что формула Д—Т— Д' отражает собой “повторяющиеся закономерности исторического капитализма как миросистемы”, то: 1) для описания общественного воспроизводства капитала Арриги применяет не ту формулу, которую следует применять в марксистской политэкономии — с учетом производства капитала; 2) Арриги применяет формулу, которая создана для описания капитализма как целостной хозяйственной системы, а не как отдельного сектора “капитализма как такового”. Но ведь Арриги описывает процесс, в котором капитал не только обращается, но и производится. Если он хотел использовать марксистскую терминологию, то ему следовало применять формулу Д - Т… П… Т' - Д' — где учитывается производство (П) капитала. То есть Арриги сразу же неверно трактует положения Маркса, делая вид, что “системные циклы накопления” согласуются с марксистской политэкономией. Далее Арриги раскрывает понятие системного цикла: он состоит из двух этапов: 1) материальная экспансия (Д—Т): здесь денежный капитал приводит в движение растущую массу товаров, включая рабочую силу; 2) финансовая экспансия (Т— Д'): растущая масса денежного капитала освобождается от своей товарной формы и накопление осуществляется посредством финансовых сделок. Надо понимать так: капиталисты, представляющие собой “капитализм как таковой”, имеют в распоряжении денежную массу. Они направляют эту денежную массу в некапиталистический сектор экономики посредством покупки там средств производства и рабочей силы. Тем самым капиталистическое производство расширяется: с одной стороны, растет масса производимых товаров, с другой стороны, в производство включаются массы населения, которые ранее не были связаны с капитализмом как таковым. В этом заключается материальная, товарная экспансия капитализма. Далее, денежная масса, обслуживающая производство товара, перестает делать преимущественно это и направляется в финансовый сектор: если на первом этапе капитал накоплялся посредством увеличения производства товаров, то на втором этапе накопление происходит в денежной, финансовой форме. Причем, это денежное накопление является второй волной экспансии, потому что оно как бы закрепляет собой действие первой волны. В трактовке Арриги формула Маркса окончательно теряет смысл. У Маркса эта формула отражает одновременно двустороннее движение капитала: если один капиталист закупает у второго товар и таким образом проделывает свою первую фазу Д—Т, то второй капиталист в этот же момент, при этой же сделке, уже продает купленный ранее товар и таким образом проделывает свою вторую фазу Т— Д'. Одна и та же купля-продажа является для одного капиталиста первой фазой, для другого — второй (общественный процесс обращения капитала также характеризуется этой формулой). Таким образом, формула Маркса отражает двоякий процесс обращения капитала: с одной стороны, этот процесс разорван во времени (между первой и второй фазой одного и того же капиталиста может пройти время), с другой стороны, этот 75 процесс протекает одновременно (одна и та же сделка заключает в себе обе фазы формулы). У Арриги формула работает только в обрезанном разорванном во времени виде: сначала протекает один этап экспансии, потом другой. Они чередуются, а не идут одновременно. Системные циклы накопления полностью теряют связь с политэкономией марксизма. Далее, и индивидуальный и общественный капитал одновременно существуют в трех формах. Те деньги, которые есть у капиталиста в руках — это денежная форма. Когда капиталист вкладывает деньги в орудия труда, сырье и рабочую силу, часть его капитала перестает существовать в денежной форме, а переходит в производственный процесс, то есть существует в производственной форме. Но капиталист не тратит все деньги сразу: часть остается в форме денег. Далее, когда из производства выходит готовый товар, обогащенный прибавочной стоимостью — это уже третья форма существования капитала. Ясно, что в действительном производстве все эти формы существуют одновременно как составные части одно капитала: у одного и того же предпринимателя есть свободные деньги, одновременно идет производство новых товаров и одновременно на рынке продаются уже готовые, ранее произведенные товары. Сказанное относится и к воспроизводству капитала в общественных масштабах. Но если капитал существует одновременно в трех формах, то и его рост (т.е. накопление, о котором говорит Арриги) происходит в этих же трех формах: в производственном процессе участвует все больше орудий труда, сырья, рабочей силы, на рынке обращается все больше готовых товаров, и одновременно с этим, — и только вместе с этим, — растет количество капитала в денежной форме. Причем номинальное выражение количества денег не имеет значения: денежная масса может состоять из 1 000 000 рублей или из 100 000 000 рублей — ее действительная ценность заключается в том, производство какого количества товаров эта масса обслуживает, а не каким количеством нулей она называется. Следовательно, когда Арриги отрывает накопление капитала в товарном виде от накопления в денежном виде, он полностью извращает научное, марксистское понимание о накоплении капитала. Напомним, что Арриги совершенно не учитывает и производственную форму существования капитала. Итак, мы видим, что использование формулы Маркса — это лишь прикрытие, под которым Арриги протаскивает метафизическую схему роста капитала. Успех этой метафизики среди наивной публики заключается в том, что Арриги привязывает свою искусственную схему к реальному историческому процессу перемещения центра капиталистических производственных отношений. Действительно, эти отношения концентрировались большей частью то в одном месте, то в другом — как, например, экономическое первенство перешло в XX веке от Великобритании к Соединенным штатам, а сейчас, по видимому, переходит от Штатов к Китаю. Но, во-первых, в таком наблюдении нет ничего нового: передачу первенства между странами понимали экономисты уже до Маркса; во-вторых, такие передачи объясняются смещением центров производства товаров: там, где производится все больше товаров, будет и все больше денег. Далее, когда производимого товара становится достаточно много, данная страна может себе позволить направлять капитал в непроизводственные сферы, спекулировать ими, перенаправлять большие денежные потоки между отраслями и т.д. — одним словом, создается видимость, будто денежная экономика отрывается от производственной, будто происходит та самая “финансиализация” — термин будто бы что-то объясняющий. 76 Поэтому придумка Арриги не только не несет в себе ничего нового и ничем не помогает экономической науке, но даже наоборот — толкает эту науку назад, в область метафизических схем и отживших заблуждений. Но если схема Арриги не годится для экономики, то для чего она годится? Проводя различие между своими циклами накопления и другими видами циклов, которыми ученые пытались описывать капитализм, Арриги пишет: “Проблема связи между возникновением капитализма и долгосрочными колебаниями цен с самого начала вызывала интерес у миросистемных исследователей… Наиболее озабоченные этим вопросом Барри Джиллс и Андре Гундер Франк настаивали на необходимости признания того, что “фундаментальные циклические ритмы и столетние тенденции мировой системы существуют уже на протяжении почти 5000 лет, а не 500 лет, как принято считать в миросистемных и длинноволновых подходах. Короче говоря, связь между столетними циклами Броделя и капиталистическим накоплением капитала не имеет под собой никаких ясных логических или исторических оснований. Понятие системных циклов накопления, напротив, выводится напрямую из броделевского понятия капитализма как «неспециализированного» верхнего «этажа» в иерархии мира торговли” (Д. Арриги, “Долгий двадцатый век”). “Таким образом, системные циклы накопления в отличие от ценовой логистики и кондратьевских циклов являются по сути своей капиталистическими явлениями. Они свидетельствуют о фундаментальной преемственности мировых процессов накопления капитала в современную эпоху” (Д. Арриги, “Долгий двадцатый век”). Перед нами все тот же спор между мир-системщиками о том, что понимать под мир-системой и сколько времени она существует. Системные циклы накопления — это то, что Арриги противопоставляет Франку как черту, присущую капитализму как таковому. То есть использует это понятие для спора с Франком. “Основная цель концепции системных циклов состоит в описании и объяснении формирования, консолидации и распада последовательных режимов, благодаря которым капиталистический мир-экономика вырос из своего субсистемного эмбрионального состояния в эпоху позднего Средневековья и приобрел нынешнее глобальное измерение. Вся конструкция покоится на нетрадиционном представлении Броделя об отношениях, которые связывают формирование и расширенное воспроизводство исторического капитализма как мировой системы с процессами формирования государства, с одной стороны, и формирования рынка — с другой” (Д. Арриги, “Долгий двадцатый век”). Картина полностью ясна. Если Франк довел метафизику Броделя до логического завершения, оторвав абстрактное понятие мир-системы от любых материальных ограничений — то Арриги отстаивает первоначальный, привязанный к историческому 77 моменту, замысел Броделя. Если Франк утверждает, что мир-система это более широкое, чуть ли не всемирное, явление — то Арриги проводит мысль Броделя о том, что мир-система это развившийся, экспансировавший остальную экономику “капитализм как таковой”. Кстати, Валлерстайн не согласен ни с одним, ни с другим. Итак, происхождение системных циклов накопления, — казалось бы негодной и бесполезной абстракции, — объясняется не добросовестным экономическим исследованием Арриги, основанном на положениях марксизма, — а спором между последователями Броделя по поводу его мир-экономики. Арриги посредством своих системных циклов латает дыры в метафизике Броделя, Франк посредством своей мироэкономики рвет до конца. Но ни к экономической науке, ни, тем более, к марксизму этот спор не имеет никакого отношения. Вообще к спору мир-системщиков по поводу понимания броделевской метафизики, — как и вообще к спорам любых последователей идеалистических учений, — можно применить слова, сказанные Марксом и Энгельсом о последователях Гегеля: “Эта зависимость от Гегеля — причина того, почему ни один из этих новоявленных критиков даже не попытался приняться за всестороннюю критику гегелевской системы, хотя каждый из них утверждает, что вышел за пределы философии Гегеля. Их полемика против Гегеля и друг против друга ограничивается тем, что каждый из них выхватывает какую-нибудь одну сторону гегелевской системы и направляет её как против системы в целом, так и против тех сторон, которые выхвачены другими” (К. Маркс и Ф. Энгельс, “Немецкая идеология”). ОТНОШЕНИЕ К МАРКСИЗМУ Лукавое и изворотливое отношение мир-системщиков к марксизму хорошо иллюстрирует следующая цитата из Валлерстайна: “Под конец позволю себе сказать несколько слов о Карле Марксе. Это — монументальная фигура современной интеллектуальной и политической истории. Он завещал нам великое наследие — концептуально богатое и морально вдохновляющее. Однако его слова о том, что он не марксист, мы должны принимать всерьез и не сбрасывать их со счетов как bon mot [острое словечко, остроту - фр.]. В отличие от многих из его самопровозглашенных последователей, Маркс знал, что он был человеком XIX в., и что его видение неизбежно ограничивалось социальной реальностью того времени. В отличие от многих, он знал, что теоретическая формулировка понятна и действенна лишь при сопоставлении с альтернативной формулировкой, которую она прямо или косвенно критикует, и что она совершенно не имеет смысла относительно формулировок и схем, которые разработаны для решения других проблем, основанных на других посылках. В отличие от многих, он знал, что в его работе есть противоречие между описанием капитализма как логически идеальной системы (которой на самом деле никогда не существовало) и анализом конкретной повседневной реальности капиталистического мира. 78 Поэтому давайте подходить к его работам единственно разумным образом — воспринимать Маркса как товарища в борьбе, который знал столько, сколько он знал” (И. Валлерстайн, “Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация”). Видать Валлерстайн товарищ Марксу. Боже упаси от таких товарищей! В этой статье мы уже достаточно видели, как “товарищ” Валлерстайн обращается с марксизмом и каково его настоящее отношение к марксизму. Как здесь не вспомнить знаменитые слова Ленина: “С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение. Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для "утешения" угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его. На такой "обработке" марксизма сходятся сейчас буржуазия и оппортунисты внутри рабочего движения. Забывают, оттирают, искажают революционную сторону учения, его революционную душу. Выдвигают на первый план, прославляют то, что приемлемо или что кажется приемлемым для буржуазии” (В.И. Ленин, “Государство и революция”). Тем не менее, в так называемом левом движении современной России у мирсистемного анализа, действительно, немало товарищей. В соответствии с приведенной цитатой Ленина Валлерстайн сначала хвалит Маркса, но дальше признает его учение по-существу неверным. Маркс де был ограничен своим временем. Отсюда должно вытекать, что учение Маркса либо устарело, либо неверно. То есть это учение надо либо доработать, либо опровергнуть. Мы уже видели, что дорабатывать Валлерстайн ничего не стал, а, наоборот, опровергал — посредством искажений, лжи и издевок. К сказанному уместно добавить и старую-добрую песню буржуазного интеллигента-реформиста, — в исполнении Валлерстайна, — о том, что социализм это, конечно, хорошо, и что он, конечно, наступит... когда-нибудь… в следующей жизни. “Я… верю, что мы живем на ранних стадиях перехода от капитализма к социализму, который происходит “у нас на глазах”. Одна из причин, почему нам интересно анализировать “переход от феодализма к капитализму”, — это помогает нам понять, как реализуются такие сравнительно редкие преобразования. Имея это в виду, важно подчеркнуть, что подобные переходы переживают не “общества в национальных границах” и тому подобные конструкции. Их переживают миросистемы. Разумеется, повторю еще раз, преобразование такого размаха не может совершиться за день, месяц или год. Это процесс перехода” (И. Валлерстайн, “Анализ мировых систем и ситуация в современном мире”). 79 По отношению к марксизму мир-системщики не гнушаются и откровенного сплетничества, которое иногда переходит все разумные границы: “А между тем в Советском Союзе, в коммунистических странах Восточной Европы, внутри коммунистических партий Франции и Италии разворачивалась дискуссия об “азиатском способе производства”. Когда Маркс описывал, причем довольно кратко, стадии развития экономических структур, через которые прошло человечество, одну модель он так и не смог вставить в свою последовательность. Он назвал ее “азиатским способом производства”, применив этот термин к большим бюрократическим империям-автократиям, существовавшим по меньшей мере на территории Китая и Индии. То есть Маркс применил свое новое понятие к экономическим системам великих цивилизаций, о которых он читал в работах востоковедов. В 1930-е годы случилось так, что эта концепция не понравилась Сталину. По всей видимости, ему показалось, что ее можно применить и к царской России, и к стране, которой управлял он сам. Сталин велел переосмыслить Маркса, то есть попросту вычеркнуть эту концепцию из научного обихода. Трудно пришлось советским, да и вообще коммунистическим ученым, после этого запрета. Теперь они вынуждены были выворачивать свои построения так, чтобы все периоды истории России и стран Азии вписывались в разрешенные понятия “рабства” и “феодализма”. Но с Иосифом Сталиным не спорили” (И. Валлерстайн, “Мир-системный анализ. Введение”). Валлерстайн не подкрепляет свою болтовню о Сталине хоть какими-то фактами, или, на худой конец, “секретными документами”. Это просто грязные сплетни и клевета. Нельзя обойти стороной и броделевскую трактовку марксизма и его деятелей. В учебнике для французских школьников Бродель пишет следующее: “По Марксу, революция есть результат естественных социальных взрывов, происходящих в определенное время под воздействием индустриализации и борьбы классов. Пролетариат, которого вследствие индустриализации становится все больше в городах, является революционным по своей природе. К нему примыкают некоторые круги буржуазии, в среде которой формируются новые идеологии и которая также имеет революционное призвание. В некоторых случаях пролетариат может пользоваться поддержкой этой либерально-демократической буржуазии. Но надо заметить, что Маркс и Энгельс приняли эту стратегию не без колебаний. После событий 1848 г. они относились с недоверием (и тому были причины) к французскому крестьянству, этому лже-пролетариату, привязанному к своему клочку земли” (Ф. Бродель, “Грамматика цивилизаций”). Во-первых, трактовка революции как естественного социального взрыва нисколько не приближает читателя к пониманию того, как трактовали революцию классики марксизма. Естественный социальный взрыв — так может сказать о революции любой буржуазный идеолог. Далее, Бродель пишет, что революция происходит в определенное время под воздействием индустриализации и борьбы классов. Для Броделя существует его мир-экономика капитализма, индустриализация — как процесс ее становления — с одной стороны, и некая борьба классов — с другой 80 стороны. Под воздействием этих обстоятельств, стало быть, происходит революция. Вновь метафизическая сумма обособленных явлений с искусственной, механической связью между ними. Прежде всего, по Марксу, революция — это одно из проявлений самой классовой борьбы, а не нечто отдельное, происходящее под воздействием классовой борьбы. Откуда такая разница? Разница происходит оттого, что для Броделя революция — это эксцесс его выдуманной мир-системы, которому он не может придумать объяснения, а для Маркса, как сказано, революция это часть классовой борьбы. К тому же, насколько Бродель ограничивает понятие революции условиями выдуманной им мир-экономики — т.е. индустриализацией, настолько же, наоборот, Маркс смотрит на революцию как на явление общеисторическое, т.е. как на смену общественно-экономических формаций. Объяснение революции индустриализацией сразу отсекает целый пласт марксистской теории, в соответствии с которой, революцию следует понимать и трактовать как процесс ломки старых общественных отношений, более не соответствующих развитию производительных сил. Конечно, мы могли бы списать небрежность Броделя в описании взглядов Маркса и Энгельса на его неряшливость и поверхностность как ученого — если бы мы не наблюдали до этого целой метафизической картины общественного развития с претензией на научность, а вдобавок еще и попытки трактовать экономическую жизнь общества на самых пошлых и реакционных домыслах. Именно в контексте метафизической мешанины Броделя и следует понимать его извращение Маркса — а не в силу невнимательности и тому подобного. Продолжая вводить школьников в заблуждение, буржуазный ученый развивает логику извращения марксизма и указывает, что пролетариат становится революционным по своей природе, потому что вследствие индустриализации его становится все больше в городах. Таким образом революционность пролетариата основана на том, что его численность в городах увеличивается, а это, в свою очередь, вызвано индустриализацией — и на этом эмпирическом факте логика Броделя заканчивается. Пролетариат революционен, потому что он — дитя индустриализации. Бродель, как метафизик и позитивист, видит, что процесс нарождения пролетариата эмпирически сопровождается процессом, называемым индустриализацией, и ростом городов. Отсюда, как метафизик и позитивист, он делает вывод, что пролетариат — продукт индустриализации. Разумеется, революционный характер пролетариата состоит не в том самом по себе пустом факте, что общественное производство индустриализируется. В прошлые эпохи индустриализации — то есть массового введения крупного машинного производства — не происходило вовсе. Однако, по Марксу, революционные классы существовали и тогда. Для рабовладельческого общества революционным классом были освобождающиеся рабы, для феодального — бегущие в города крестьяне. Но ни в первом, ни во втором случае не было никакой индустриализации. Революционным классом для данной исторической эпохи является тот класс, существование которого обусловлено изменением производительных сил и который, вследствие такого изменения, не может существовать в человеческом обличии старым способом. Промышленный пролетариат становится революционным классом, потому что, вопервых, он сам есть продукт складывающихся новых производственных отношений (и, следовательно, он сам несет с собой это новое производство и общение), и, во-вторых, старые производственные отношения делают условия его существования невыносимыми. То, что бытие пролетариата в капитализме сопряжено с развитием 81 крупной индустрии, таким образом, не является причиной его революционности, самой по себе, а лишь сопровождает процесс его развития. Далее, Бродель указывает, что к революционному пролетариату могут примыкать некоторые круги буржуазии, которые тоже имеют революционное призвание. Это верно, если понимать дело так, что к пролетариату примыкают такие элементы буржуазии, которые поднялись до уровня теоретического понимания общественного развития. Но тут же Бродель пишет, что в некоторых случаях пролетариат может пользоваться поддержкой этой либерально-демократической буржуазии. Следовательно, Бродель понимает под примыкающей к пролетариату буржуазией радикальные круги либерально-демократической буржуазии — которая никак не может иметь революционного призвания — ведь либерально-демократическая буржуазия как раз выступает против социалистов. Итак, Бродель хочет впрячь в одну упряжку и революционный пролетариат и некие примыкающие к нему круги буржуазии. Но не той буржуазии, которая перешла на сторону пролетариата, а враждебной пролетариату либерально-демократической буржуазии. Следовательно, речь у него идет не о революции, как о свержении пролетариатом буржуазии, а некоем социальном взрыве, в процессе которого возможно объединение враждебных сторон. Откуда это полное расхождение с марксизмом? Все оттуда же — из концепции мир-системы. Если в центре внимания марксистов классовая борьба, то и революция — это элемент классовой борьбы. Следовательно, как самый напряженный и драматический момент классовой борьбы, революция никак не может сопровождаться объединениями, перемириями, переговорами противоборствующих классов между собой или даже между их частями — ведь революция это решающий и ожесточенный этап классовой борьбы. Напротив, если в центре внимания мир-системщиков концепция мир-системы, то и революция это лишь один из процессов, происходящих в мирсистеме, и он не должен необходимо заключаться в непримиримой борьбе классов. Таким образом, революция для Маркса это кульминация, ожесточенное сражение в ходе классовой борьбы, революция для Броделя это процесс трансформации мирэкономики. И Бродель как автор такой концепции и буржуазный идеолог никому не обязан отталкиваться от классовой борьбы. Следующая часть приведенной цитаты также свидетельствует о непонимании и неразберихе в голове Броделя относительно марксизма. Сперва Бродель приписывает Марксу и Энгельсу, что они считали возможной поддержку пролетариата враждебной ему либерально-демократической буржуазией, затем он называет это их стратегией и говорит, что такая стратегия далась классикам не без колебаний. Однако! Колебания буржуазных идеологов, таких как Бродель, между крупной и мелкой буржуазией — вещь общеизвестная. Но вот колебания со стороны Маркса и Энгельса — это что-то новенькое. Бродель пишет, что Маркс и Энгельс после 1848 года относились к французскому крестьянству, этому “лже-пролетариату”, с недоверием. Прежде всего, слово “лже-пролетариат” должно, вероятно, отражать собой позицию классиков по отношению к крестьянству. Однако, учитывая, что классики никогда не считали крестьянство “лже-пролетариатом”, а относили его к мелкобуржуазной стихии, можно понять, что Бродель просто-напросто вносит ненужное фразерство в изложение и так полностью извращаемого им марксизма — с целью настроить французов против классиков марксизма, будто те относились к французскому народу с каким-то предубеждением. 82 Но что же случилось в 1848 году? Как известно, в 1848 году в Европе произошла череда революционных потрясений, главную роль в которых сыграло восстание парижского пролетариата. Революционное была жестоко подавлена. После во Франции были проведены выборы президента посредством прямого всеобщего избирательного права. Так как подавляющее большинство населения Франции составляли крестьяне, то их участие в выборах предопределило победу соответствующего претендента — реакционера Наполеона III, в чем для рабочего класса Франции не было ничего хорошего. Разумеется, Маркс и Энгельс, отзывались о французском крестьянстве, избравшем президентом реакционера, не лучшим образом. Однако Бродель приводит их отношение к французскому крестьянству как иллюстрацию к колебаниям по поводу тактики союзов с либерально-демократической буржуазией. Будто Броделю невдомек, что либерально-демократическая буржуазия — это собирательное название именно для представителей буржуазии как таковой, то есть для крупных капиталистов того времени. Здесь же речь идет о крестьянстве, то есть о мелкой буржуазии. Иронично то, что, в соответствии с марксистской теорией, пролетариат действительно может находиться в союзе с мелкой буржуазией — для общего натиска на крупный капитал, однако Бродель, наоборот, полностью извращает взгляды классиков на этот счет: “Дискуссия относительно форм революционного действия после смерти Маркса (1883) продолжилась. Немка Роза Люксембург (1871 - 1919) следовала заветам Маркса: с ее точки зрения, доверять можно только пролетариату; он должен оставаться единственной движущей силой революции; все другие классы ему враждебны, а следовательно, и создание “партии” должно быть делом пролетариата; партия должна контролироваться изнутри, прежде всего со стороны массы ее рядовых членов; такой контроль есть единственное средство воспрепятствовать бюрократизации партии. Мысль Ленина пошла в другом направлении: вместе с другими реформистами он подверг сомнению (“в эпоху империализма”) мысль о естественности, спонтанности революционного характера пролетариата (впрочем, он всегда ненавидел “спонтанность”). По его мнению, пришло время сделать акцент на создании партии, обратить внимание на поиски пролетариатом союзников среди других угнетенных слоев населения. В 1902 г. в своей работе “Что делать?” он писал, что без централизованной партии профессиональных революционеров пролетариат пойдет не по революционному, но по реформистскому пути, по пути некоего тред-юнионизма, подчинится утопии рабочей аристократии... Помимо этого, выступая против Розы Люксембург и некоторых других деятелей, Ленин утверждал, что эра национальных войн не закончена, что необходимо искать союза с либеральной буржуазией. Борясь с идеями Розы Люксембург, он поддержал программу аграрных преобразований, отказался рассматривать крестьянство как реакционный фактор. Судя по всему, в этом решающем вопросе он находился под влиянием русских социалистовреволюционеров (эсеров). Подобно им, он видел в угнетенном крестьянстве главную движущую силу революции и предполагал использовать его огромный взрывной потенциал. Как известно, именно крестьянство обеспечило победу 1917 г., из чего следует, что Ленин был прав, хотя бы в том, что касалось России. 83 Мы не можем себе позволить входить в детали этих дискуссий и определения идеологических позиций; некоторые из них сыграли свою роль в эволюции СССР после 1917 г. Достаточно показать, как менялись взгляды от первичного марксизма до ленинизма. Ленинизм — это идейно переработанный марксизм (“переинтерпретированный”, как сказали бы антропологи), это марксизм, адаптированный к конкретным условиям недостаточно промышленно развитой России с ее преимущественно сельским населением, к условиям царской России начала XX в. “Численность пролетариата была слишком незначительной, его роль в экономической, социальной и политической жизни была явно недостаточной, чтобы своими собственными силами он смог вызвать к жизни революцию, которая бы сразу противопоставила его всему остальному обществу” (Люсьен Гольдман)” (Ф. Бродель, “Грамматика цивилизаций”). Итак, настоящий ученый преподносит нам настоящие открытия. Оказывается, Ленин расходился с Марксом по вопросу о роли крестьянства в революции. По Броделю, Маркс придерживался позиции, в соответствии с которой “доверять можно только пролетариату” (как будто речь идет не о классовой борьбе, а о каких-то интригах буржуазных политиканов), который является единственной движущей силой революции, причем, все другие классы ему враждебны. Что же, любому человеку, который интересовался марксизмом серьезно, хорошо известно, что не только Ленин, но уже сами Маркс и Энгельс придавали чрезвычайно важную роль крестьянству как двигателю революционного преобразования. Широко известны слова Маркса: “Все дело в Германии будет зависеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым изданием Крестьянской войны. Тогда дела пойдут превосходно” (К. Маркс, письмо Ф. Энгельсу от 16 апреля 1956 года). Не менее известна позиция Ленина, в соответствии с которой революционная диктатура в полуфеодальной России должна была быть союзом пролетариата и крестьянства в форме Советов. Тем не менее, Бродель не просто противопоставляет Ленина Марксу и Энгельсу — он еще и противопоставляет им Ленина как реформиста — и это еще одна важная деталь. Реформизм — это ошибочная позиция, в соответствии с которой переход к социализму возможно осуществить с помощью буржуазного парламентаризма, реформ, сотрудничества партий и классов, уступок и торговли с буржуазией — во избежание вооруженного столкновения и жертв. Если так, то реформизм Ленина в данном случае должен был бы заключаться в том, что по сравнению с Марксом он отказывается от практики вооруженной борьбы с буржуазией. Однако никому и в голову не придет заподозрить Ленина в таких мотивах. Раз уж Бродель хотел выставить Ленина отступником от марксизма, то ему следовало назвать Ленина ревизионистом — ведь речь идет о ревизии стратегии, которую Маркс и Энгельс “приняли не без колебаний”. Дальше — больше. “Мысль Ленина пошла в другом направлении: вместе с другими реформистами он подверг сомнению (“в эпоху империализма”) мысль о естественности, спонтанности революционного характера пролетариата (впрочем, он всегда ненавидел “спонтанность”)”. Фраза про некую ненависть Ленина к спонтанности окончательно отбивают желание и возможность воспринимать Броделя как исследователя, к которому можно относиться серьезно — вновь сплетничество вместо 84 науки. Однако содержание этого отрывка важно: Маркс де смотрел на революционный характер пролетариата как на нечто спонтанное. Это надо понимать так, что революционность пролетариата есть нечто, не поддающееся объективному прогнозу: невозможно сказать, в какие отрезки времени пролетариат поведет себя революционно, а в какие нет — это происходит спонтанно. Понимать эту фразу иначе невозможно. Что до Ленина, то он, у Броделя, отказался от подобного понимания поведения пролетариата и двинулся в другом направлении — в сторону строительства партии. Таким образом, Бродель хочет сказать, что Маркс и Энгельс смотрели на пролетариат как на класс, поведение которого не поддается прогнозированию и организации; выходит, что они из-за этого не считали возможным союзы пролетариата с другими угнетенными классами — с одной стороны, и не стремились создать крепкую партийную организацию пролетариата — с другой. Разумеется, Бродель полностью извращает реальность. Во-первых, Маркс и Энгельс, в отличие от Броделя, были последовательными материалистами, и считали что движение классов на арене истории определяется материальными условиями их существования. Да, в определенном смысле это движение стихийно, но, с другой стороны, очевидно, что стихийность классового движения носит относительный характер, а поведение классов вполне поддается прогнозу — на то социализм и наука. В более-менее спокойные годы, когда экономика растет и развивается, производство увеличивается, буржуазии требуется больше рабочих рук, а значит, спрос на рабочую силу растет и влечет за собой рост заработной платы — в такие годы пролетариат чувствует себя лучше и его революционность находится на спаде. Но когда народное хозяйство приходит к очередному кризису капитализма, производство и обмен тормозят, капиталисты выбрасывают рабочих на улицу — изменяется и поведение пролетариата: он приходит в движение, становится все более революционным, а, в определенных случаях, и в правду может дойти до стихийного взрыва. Именно так и смотрели на пролетариат Маркс и Энгельс и именно так смотрел на пролетариат вслед за ними Ленин. Ни о каком спонтанном характере пролетариата здесь нет и речи — это выдумка Броделя. Во-вторых, пролетариат никогда не рассматривался классиками марксизма как класс, который является единственной движущей силой революционных преобразований. Да, классики утверждали, что пролетариат, как продукт крупной промышленности, является единственным до конца революционным классом — ибо только его положение требует полного слома старых общественных отношений. Но это не значит, что другие классы не могут проявлять себя как революционные. Ярким примером было российское крестьянство начала XX века: оно, как и пролетариат, терпело тяготы капитализма, голод, войны, нищенство — и постольку становилось революционным. Ясно, что после получения земли в собственное распоряжение, крестьянство стало разворачиваться назад, в сторону реакции, так как товарообмен на селе восстановился, деревня задышала — и ему было достаточно эволюционного капиталистического развития. Тогда уже часть крестьянства в лице мелкой буржуазии, кулачества обрела реакционный характер и повела борьбу против Советской власти и коллективизации. Таким образом, революционность тех или иных классов зависит от конкретных обстоятельств и требует конкретного рассмотрения в их движении — то есть требует диалектического метода. Бродель же, как метафизик, хочет видеть крестьянство либо революционным, либо нет. Отсюда эта бессмыслица в изложении взглядов классиков марксизма — Бродель просто не понимает, о чем говорит. 85 В-третьих, вызывает недоумение, что Бродель выставляет Ленина тем, кто, в отличие от Маркса и Энгельса, сфокусировался на партийном строительстве. Всем известно, что Маркс и Энгельс не только были первыми, кто открыл необходимость организации рабочего класса посредством политической партии, но также были и первыми, кто учредил по-настоящему международную организацию пролетариата — Интернационал. В своей деятельности они уделяли самое пристальное внимание организованности и дисциплине, вели неустанную борьбу против внутренних врагов, разлагавших партию изнутри. Поэтому стремление Ленина к организованности партии, к дисциплине, взаимной требовательности, строгости и критике между членами партии — не его придумка или прихоть, и не его изменение марксизма, а, наоборот, последовательное проведение в жизнь взглядов и практики Маркса и Энгельса. К тому же, смотреть на дело таким образом было свойственно не одному Ленину, а большевикам вообще. Ясно, что подобная постановка вопроса об организации партии никак не противоречила взглядам Маркса и Энгельса, не была ходом “в другом направлении”, а наоборот, развивала и обогащала уже достигнутое понимание организации пролетариата. Умопомрачительное утверждение Броделя о том, что Ленин якобы искал союза с либеральной буржуазии на основании того, что эпоха национальных войн еще не закончена, — настолько нелогично и вздорно, что его можно пропустить. Интереснее, что Бродель объясняет отступничество Ленина от марксизма влиянием эсеров. Якобы Ленин пересмотрел взгляд на крестьянство, перестал считать его реакционной силой и вслед за эсерами, находясь под их влиянием, смотрел на крестьянство как на главную движущую силу революции. Подавляющее число крестьянства в обществе, конечно, делает его участие в революционном процессе необходимым, но уж никак не делает крестьянство главной движущей силой революции. Развитие общественного производства сосредоточивает массы капиталов и населения в городах, и города, таким образом, становятся центрами, управляющими всем национальным хозяйством: происходящее в городах, влияет на жизнь в деревне, деревня целиком и полностью подчинена городу, а потому, каким бы сильным не был “взрывной потенциал” крестьянства, он ни к чему не приведет без организации пролетариатом революционных преобразований в городах. Следовательно, главная движущая сила революции это сам пролетариат. Крестьянство же в этой паре — хотя и важный, но второй, ведомый союзник. Оно идет за пролетариатом, оно управляется им, как деревня управляется городом. В понимании Броделя ленинизм это иначе интерпретированный марксизм. И хотя его слова о том, что ленинизм это марксизм, приложенный к российской действительности начала XX века, верны, разницу между марксизмом и ленинизмом Бродель строит отнюдь не на разнице в конкретных условиях их применения, а на якобы имевшем место “реформизме” (который Бродель путает с ревизионизмом) Ленина. Очередной иллюстрацией служит пассаж из последнего абзаца, откуда следует, что в аграрной России якобы обнаружилось как что-то новое, что пролетариат не составлял большинства населения России. Этот факт был бы чем-то новым для марксизма, если бы Маркс и Энгельс сами не жили в эпоху, когда подавляющее большинство населения Европы, включая передовые страны, составляло крестьянство. Еще более яркий пример наплевательского отношения к истории — историка Броделя связан с описанием им II съезда РСДРП. Он пишет: 86 “На втором съезде РСДРП в Лондоне (1903) произошел раскол на большевиков, имевших преимущество всего в один голос, и меньшевиков, в их числе Плеханов. В чем причины раскола? Он был вызван первой статьей партийного устава, в которую Ленин внес положения, известные под именем “демократического централизма”. Эти положения предусматривали следующее: 1) руководящую роль профессиональных революционеров (т.е. специалистов); 2) строгую (железную) партийную дисциплину; 3) расширенные и диктаторские права Центрального Комитета, которому должны были подчиняться низовые организации; 4) при необходимости передачу всех полномочий узкому партийному бюро. Все ясно, не так ли? Партия становилась самостоятельной военной машиной, что послужило причиной критических выступлений со стороны меньшевиков, которые заявляли об установлении диктатуры, о забвении демократических принципов партийного строительства. Кстати, Троцкий уже тогда предвидел, что ленинская концепция приведет к установлению диктатуры одного человека, а именно руководителя Центрального Комитета партии” (Ф. Бродель, “Грамматика цивилизаций”). Чтобы разобрать все передергивания, поместившиеся в этом маленьком отрывке текста, нужно было бы написать отдельную статью. Мы же ограничимся одним местом. Бродель пишет, что раскол на съезде был вызван первым параграфом устава, и дальше раскрывает, что содержалось в этом параграфе. А теперь сравним написанное Броделем с текстом первого параграфа в редакции Ленина: Бродель 1 параграф устава в редакции Ленина “...первой статьей партийного устава, в которую Ленин внес положения, известные под именем “демократического централизма”. Эти положения предусматривали следующее: 1) руководящую роль профессиональных революционеров (т.е. специалистов); 2) строгую (железную) партийную дисциплину; 3) расширенные и диктаторские права Центрального Комитета, которому должны были подчиняться низовые организации; 4) при необходимости передачу всех полномочий узкому партийному бюро. Все ясно, не так ли?” “Членом партии признается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций”. Раскол РСДРП действительно проявился, в том числе, в полемике вокруг первого параграфа устава, но Бродель не просто подает эту полемику неверно, он еще и затолкал в одно предложение все свои фантазии о большевиках. Но откуда эта неряшливость? Ответ очевиден: то, что описывает Бродель, привело в дальнейшем к “установлению диктатуры одного человека”, а ведь Троцкий предупреждал… “Все ясно, не так ли?” 87 Таким образом, единое и цельное учение марксизм-ленинизм Бродель выставляет как механическую сумму противоречащих друг другу взглядов Маркса и Энгельса — с одной стороны, и Ленина — с другой; изображает классиков марксизма людьми, действовавшими по своему произволу, а не из теоретических соображений. При этом Бродель прибегает к таким грязным уловкам, что невольно удивляешься, как человека, написавшего такой текст о марксизме, могут считать серьезным ученым и как на мир-системщиков вообще могут ориентироваться люди, называющие себя марксистами сегодня? Какие марксисты, такие и ориентиры. Но если часть мир-системщиков антимарксисты, то вот, например, Самин Амин — социалист, — слышим мы. Что же… “Читатель способен увидеть, что между взаимоотношениями утопического либерализма с практическим управлением в историческом капитализме и социальной идеологией с фактическим управлением в советском обществе существует аналогия, а не противоречие. Мы имеем в виду социалистическую идеологию большевизма, которая имеет в своей основе социал-демократию того образца, который существовал до 1914 года — впрочем, большевизм с ней никогда и не порывал. Социалистическая идеология большевизма не ставила под вопрос “естественное” сближение между стоящими за отдельными примерами общественной жизни рациональностями, выдавая за “исторический смысл” упрощенную линейную интерпретацию своего собственного “вынужденного” образа действия. Сближение выражается тем же самым способом — в соответствии с догматическим мышлением управление экономикой по плану (заменяющему рынок) адекватно отвечает всем нуждам; демократия же может только утверждать плановые решения, и противодействовать им нерационально. Однако здесь вымышленный социализм сталкивается с требованиями управления реально существующим социализмом, перед которым стоят реальные и серьезные проблемы, такие как, например, развитие производительных сил с целью “догнать и перегнать”. Власть обращается к циничным скрытым практикам. Тоталитаризм присущ обеим системам и выражается одним и тем же способом — систематической ложью. То, что его проявления были более жесткими в СССР, объясняется тем, что обусловленные попыткой догнать Запад задержки в развитии стали тяжелым грузом для системы, в то время как более высокий уровень развития Запада предоставлял его обществам возможность расслабиться (отсюда, как правило, “мягкие” формы тоталитаризма, вроде консьюмеризма периодов быстрого и легкого роста)” (С. Амин, “Вирус либерализма”). В этой статье мы уже имели удовольствие наблюдать теоретические штудии господина Амина, и, — надо сказать, — после такого знакомства его поучения в сторону Советской власти выглядят, как если бы пятилетний мальчик учил отца, как рожать детей. История Советского Союза это самый главный материал для теоретического обобщения современных коммунистов, и эта тема во многом неизведана. Ни одному вменяемому исследователю еще не пришло в голову писать о советской экономике так безапелляционно, так резко, так безосновательно, как это делают персонажи наподобие Амина. Потому мы не можем себе позволить вдаваться в серьезное опровержение аминовской галиматьи. Из приведенной цитаты достаточно увидеть только одно — Самир Амин, — чуть ли не коммунист среди мир-системщиков, чуть ли 88 не чужой среди своих, — на деле оказывается низкопробным либеральным антисоветчиком, использующим классический пошлый инструментарий a la “тоталитаризм”. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Надо сказать, мир-системщики исписали такое количество бумаги, что разбирать их теоретические изыскания можно бесконечно. Все же, мы не ставим себе задачу тратить уйму времени, — ни своего, ни читателя, — чтобы детально опровергать все заблуждения, все передергивания, всю ложь, все сплетни, всю пошлую болтовню мирсистемщиков — ведь этому грязному потоку нет конца и края. Основное, что следовало разобрать — разобрано. Мир-системный анализ был интересен нам с трех сторон: 1) является ли он развитием марксизма; 2) если нет, то предлагает ли он ценную критику марксизма; 3) делает ли он шаг вперед в развитии науки. Результаты нашего исследования оказались крайне неутешительными. Что касается соотношения между мир-системным анализом и марксизмом, то мы воочию убедились, что это две диаметрально противоположные теории. Марксизм стоит на твердых материалистических позициях и следует диалектическому методу. Мир-системный анализ остается на почве материализма до тех пор, пока это не мешает существованию концепции “мир-системы”. Метод мир-системного анализа метафизический. Мир-системный анализ укоряет марксизм в стремлении ограничить исследование рамками национальных государств, но на деле, именно марксизм исследует общественное развитие в его целом, всеобщем виде, в то время как мирсистемный анализ ограничен исследованием сугубо капиталистических отношений, да и то в виде мир-системы, да и то в виде “капитализма как такового”. Марксизм исследует историю общества во всей ее полноте, и только на этой основе анализирует современное общество, в то время как мир-системный анализ вырывает из исторического полотна эпоху зарождения капиталистических отношений и делает из нее центр координат для всей человеческой истории. Марксизм выводит законы общественного развития в их общей форме, но видит разницу между абстрактным существом таких законов и конкретными формами их проявления. Мир-системный анализ не только не дорос до этой методологической высоты, но и спотыкается на каждом шагу, пытаясь обвинить марксизм в оторванности от “исторического капитализма”. Марксизм как исторический материализм кладет в основу исследования производственные отношения общества, выводя из них всю совокупность прочих общественных отношений: политических, гражданских, религиозных, культурных и т.д. Мир-системный анализ, в отрыве от производственных отношений, создает искусственную систему социальных иерархий, связей, этажей и т.д., — с целью подогнать их под концепцию мир-системы. Соответственно, марксизм приходит к пониманию того, что классы есть главные движущие силы общественного развития, что история человечества это история борьбы классов, что революционное преобразование есть объективно неизбежная кульминация такой борьбы. Мир-системный анализ, наоборот, трактует историю как 89 историю развития “мир-системы”, а классы упоминает лишь наряду с прочими элементами мир-системы, во вторую и в третью очередь. Насколько марксизм обнажает и разоблачает эксплуататорскую сущность капитализма, настолько же он видит и движение общества вперед, которому способствует капиталистический способ производства. Более того, марксизм признает и утверждает прогрессивную роль капитализма как ступени, без которой общество не может сделать следующего шага. Мир-системный анализ, наоборот, либо пытается примириться с капитализмом в виде рынка свободной конкуренции, либо выступает против него в виде монополий. Марксизм понимает, что свободный рынок и монополизм — это две ступени одного и того же капитализма. Мир-системный анализ путается в определении капитализма и сбивается к вульгарной трактовке “капитализма как такового”. Марксизм понимает, что свободный рынок и монополизм — это не только ступени капитализма, но и ступени общественного развития вообще, что следующей ступенью будет плановое хозяйство, социализм, коммунизм. Мир-системный анализ разрывается между рынком и монополией, готов признать капитализмом что-то одно, либо не признает ни то, ни другое, а о мир-системном анализе, как о течении, признающем социализм в марксистской трактовке, говорить вообще не приходится. Если мир-системный анализ и упоминает социализм как будущее общество, то непременно в противоположность коммунистической “утопии”. Таким образом, мир-системный анализ и марксизм соотносятся как идеалистическое и материалистическое учения, как метафизический и диалектический методы, как мелкобуржуазная и пролетарская идеологии. Одним словом, они враждебны друг другу. Поэтому утверждения о том, что мир-системный анализ есть продолжение марксизма, что это его развитие, его углубление, его дополнение, его ответвление и т.д. и т.п., — делать такие утверждения могут только далекие от марксизма люди. Но как же обстоит дело с критикой марксизма мир-системным анализом? Ничем не лучше. Мы видели, как историк Бродель искажает историю социализма, как он коверкает историю коммунистической партии, как он ерничает по поводу партийного строительства большевиков. Как он борется с формациями, предлагая вместо них наивные социальные иерархии. Мы видели жалкие попытки Валлерстайна опровергнуть классовую теорию, и при этом — его снисходительное, свысока, отношение к “ограниченному своим временем” Марксу. Мы наблюдали его глупейшие укоры по поводу якобы имеющегося несоответствия марксистской теории настоящему, “историческому” капитализму. Мы видели, как Франк безуспешно надрывается опровергнуть формационный подход и заменить его мир-системной метафизикой. Как Арриги по-дилетантски обращается с формулой Маркса, не понимая, что она означает, и пытается выстроить на ней свою теорию. Как Амин, не вылезший из теоретических штанишек и погрязший в пустом прожектерстве, поучает практиков советского строительства, как надо вести кооперацию крестьянства и национализировать предприятия, как он оплевывает Советский строй. Как все они вместе до неузнаваемости искажают положения марксизма, как они лгут о марксизме, как они пытаются принизить его, как они делают поклепы на коммунистов, как они сплетничают о коммунистах. Если все это назвать словом “критика”, то да — критику марксизма с их стороны можно признать. Если же говорить о научной, заслуживающей внимания критике, то в мир-системном анализе ее нет от слова совсем. И наконец, дает ли мир-системный анализ что-то новое науке? Мы видели, насколько вульгарны и реакционны представления мир-системщиков об экономическом 90 устройстве общества. Если Бродель еще хоть как-то стесняется и не поднимает на щит свои экономические заблуждения, то его менее умные последователи превращают “капитализм как таковой” в научную категорию, с помощью которой они пытаются объяснить всю экономическую жизнь. Мы уже отмечали, что все, до чего доходят мирсистемщики в экономике — это призыв повернуть историю назад, вернуться к “нормальному” рынку, к мелкотоварному производству. О плановом хозяйстве мирсистемный анализ даже не заикается. Наиболее привлекающей внимание экономической потугой мир-системного анализа является понятие о системных циклах накопления Арриги. Но и здесь мы наблюдали, что эти циклы были подогнаны как теоретические костыли под “мирэкономику” Броделя. С одной стороны, циклы накопления базируются на абсолютно извращенном понимании оборота капитала Маркса, — то есть построены на песке, — с другой стороны, выдумка этих циклов не дает нам ровным счетом ничего нового в понимании капитализма, ни на йоту не продвигает нас вперед, не открывает никаких неясных доселе моментов. То же относится и к концепции “центр-периферия”. Трудно найти в науке настолько же банальное, насколько и совершенно бесполезное понятие как “центр-периферия”. Понятие, посредством которого несостоятельные ученые пытаются придать научный вид своим пошлым рассуждениям о том, что мол передовые страны угнетают страны отсталые, и что последние не могут развиться, пока находятся под гнетом. Да разве это не понятно и ребенку? К чему эти новые слова, к чему теоретические выкрутасы, к чему высоколобые рассуждения по поводу простейших фактов? Ответ очевиден: к тому, чтобы скрыть и заболтать свою научную бесплодность и бесполезность. Зато у мир-системщиков все очень хорошо с рекламой. Например, ученик Валлерстайна Георгий Дерлугьян пишет: “...Тогда Валлерстайн открыл для себя работы Фернана Броделя, прежде всего “Средиземноморье”. Итогом стал прорыв в социальной науке, который начался с публикации в 1974 году первого тома “Современной миросистемы”. Второй (после африканистики) этап в интеллектуальной биографии Валлерстайна начинался неожиданно оглушительным успехом. Монографию признала Книгой года Американская социологическая ассоциация и присудила ее автору премию Питирима Сорокина. ИВ [Иммануила Вллерстайна] тогда превозносили буквально как нового Маркса или Макса Вебера (такова шапка одной из голландских газет тех лет), но также клеймили отступником и от Маркса, и от Вебера. Оценки совершенно противоположные, но, может статься, все они отчасти справедливы. Чтобы двинуться дальше классиков, их надо было усвоить и преодолеть, притом преодолеть либерально-реформистскую и марксистскую традицию надо было непременно вместе: ибо, как говорил Пьер Бурдье, самая труднопреодолимая ортодоксия никогда не является нам в одиночку, а непременно в паре с якобы взаимоисключающей антиномией” (Г.М. Дерлугьян, “Самый неудобный теоретик” — предисловие к книге Валлерстайна “Мир-системный анализ. Введение”). Подобным неуместным пафосом и интеллигентским высокомерием пропитан весь воздух вокруг мир-системного анализа. Например: 91 “Миросистемный анализ без должного почтения отнесся к границам общественных наук, и это, пожалуй, стало его третьим основополагающим элементом. Ученые, ставшие на позиции миросистемного анализа, принялись всесторонне изучать социальные системы на длительной временной протяженности. Они без стеснения брали темы и материалы, которые до того принадлежали исключительно историкам и экономистам, политологам и социологам, и создавали единые аналитические конструкции. Но миросистемный подход нельзя назвать мультидисциплинарным, поскольку он не признавал за всеми этими дисциплинами права на интеллектуальное существование. Миросистемный анализ выработал свой собственный, единодисциплинарный подход” (И. Валлерстайн, “Мир-системный анализ. Введение”). Оказывается, мир-системщики были первыми, кто обобщал сведения различных наук! Марксисту, — научное мировоззрение которого выработано на основе обобщения таких крупных отраслей знаний как философия, политэкономия и социализм, — марксисту читать подобное просто смешно. В продолжении этого отвратительного самолюбования Валлерстайна мы находим тот самый довод, что мир-система заменяет якобы устаревающий марксизм: “Конечно же, выдвинув свои три основополагающих принципа (миросистема, а не национальное государство в качестве единицы анализа, длительная протяженность и единодисциплинарный подход), миросистемный анализ покусился на множество священных коров. Поэтому вполне естественно, что контратака не заставила себя ждать. Бурная реакция последовала незамедлительно с четырех сторон: возмутились номометы-позитивисты, ортодоксальные марксисты и сторонники автономной сущности государств или отдельных культур. Все их претензии сводились к одному — миросистемный анализ не учел их основные принципы. Конечно, они были правы, но вряд ли такой аргумент может что-то решить в интеллектуальном споре” (И. Валлерстайн, “Мир-системный анализ. Введение”). “Ортодоксальный марксизм погряз в постулатах общественной науки XIX века, как, впрочем, и классический либерализм. Постулаты следующие: капитализм является неминуемым этапом после феодализма; фабричная организация производства — основа капиталистического производства; социальные процессы линейны; экономическая база определяет менее существенную политическую и культурную надстройку... Основная претензия марксизма заключалась в том, что, рассматривая разделение труда по оси ядро-периферия, центральным элементом для объяснения социальных перемен миросистемный анализ видел оборотничество против марксистского производственничества с его добавочной стоимостью и классовой борьбой буржуазии и пролетариата. К тому же миросистемный анализ отказывался признавать неоплачиваемый труд отмирающим анахронизмом, и это марксисты также вменяли ему в вину. И снова критики разворачивали вспять направленные против них доводы. Сторонники миросистемного анализа считали, что в капиталистической системе существует множество вариантов организации труда и что оплачиваемый труд является одним из многих, причем не самым выгодным с точки зрения капитала. Они готовы были рассматривать и оценивать классовую 92 борьбу и любые другие проявления социального протеста только в контексте всей миросистемы. К тому же миросистемщики не считали государства капиталистической мироэкономики автономными или изолированными образованиями, а соответственно, не могло у них быть и какого-то особенного способа производства” (И. Валлерстайн, “Миро-системный анализ. Введение”). Количество передергиваний в этой цитате так же велико, как и в других местах, но мы разобрали уже множество примеров и не будем здесь останавливаться. Разве что, нельзя не отметить, что Валлерстайн тужится выставить марксистов какими-то обиженными неудачниками. Однако в ходе нашего разбора стало очевидно, что мирсистемный анализ не просто ничего не может противопоставить марксизму, но он настолько нелеп и беспомощен, что может вызвать у марксистов только жалость. Если кого-то смущает, что Валлерстайн так смело говорит не только за себя но и вообще за мир-системщиков — смущаться нечего, ведь основные представители мирсистемного анализа были связаны и организационно: “... В 1979 г. Арриги переезжает в Америку и присоединяется к основанному Валлерстайном Центру Фернана Броделя при Университете штата Нью-Йорк в Бингемтоне. Вокруг бингемтонской школы миросистемного анализа возникает своеобразный теоретический квартет, более шутливо называвшийся «Бандой четырех» (по отзвуку китайского разоблачительного процесса над вдовой Мао бывшей актрисой Цзянь Цынь и ее подельниками). Помимо Арриги и Валлерстайна в квартет вошли радикальные экономисты Андре Гундер Франк и Самир Амин. Вместе они написали две компактные книжки, пользовавшиеся в те годы немалым успехом и переведенные на десяток основных языков мира. Первая книга давала системный и историко-циклический анализ грянувшего в семидесятые годы кризиса, вторая критически оценивала итоги политики антисистемных движений в ХХ в. и предлагала варианты будущих стратегий… В Бингемтоне неизбежно витала мысль, что громадное историческое предприятие Фернана Броделя надо каким-то образом продолжать и выводить на анализ современного мира…” (Г.М. Дерлугьян, К. Харрис, “Эволюция командных высот капитализма: Венеция - Амстердам - Лондон - Нью-Йорк” — предисловие к книге Арриги “Долгий двадцатый век”). Реклама творит чудеса: там где было бесплодное и эклектическое, — а потому не принимаемое всерьез научным сообществом, — направление, там появляется некое опасное, грозящее власть предержащим учение: “Мы уже предположили, что изучение мир-систем особенно ненадежно из-за невозможности найти сопоставимые примеры. Не придает большей надежности и то обстоятельство, что всем ведущим игрокам политической сферы немедленно становится ясным и очевидным воздействие, которое оказывают на общество высказывания о мир-системе. Поэтому именно в данной области знания общественное давление на ученых в виде довольно плотного социального контроля над их деятельностью становится особенно 93 мощным, и это обстоятельство в большей степени, чем методологические проблемы, объясняет нежелание ученых проводить исследования в данной сфере” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна I”). Но как бы не изголялся “товарищ” Валлерстайн, как бы не пугал он власть предержащих своим картонным мечом, — все же его, академического буржуазного ученого, легче представить на каком-нибудь пошлом пропагандистском шоу в кругу капиталистов, чем в немилости у властей. Кстати, вот он сидит на Гайдаровском форуме, и в присутствии “ведущих игроков политической сферы”, преодолевая “общественное давление”, бесстрашно заявляет: “Когда мы говорим о принципах науки сложных вещей, то я всегда говорю о структурном кризисе. Вечных систем нет, все системы медленно, но стабильно изменяются, все системы медленно, но верно по определению теряют равновесие — таковы законы природы. И текущая система не может долго оставаться неизменной, но при этом практически невозможно предсказать на этой развилке, в каком направлении эта система будет двигаться дальше. И в результате это дает нам тот хаос, то, что мы сейчас называем хаосом, и это приводит также к огромной политической борьбе, которая сейчас продолжается и еще 20, 30, 40 лет не остановится. Вот это равновесие, равновесие между этими двумя развилками будет меняться, будет идти с наклоном то в одну сторону весов, то в другую сторону, но не будет перевеса в сторону капиталистической системы, потому что капиталистическая система для самих капиталистов уже невыгодна, да и вообще нежелательна с точки зрения более низших классов. Да, пятьсот лет она существовала, но этого недостаточно для того, чтобы она выжила. Тут, понимаете, сами капиталисты сейчас оказались в такой ситуации, когда невозможно накапливать капитал, в результате это приводит к параличу попыток капиталистов и дальше накапливать капитал, поэтому и капиталисты, и низшие классы — все ищут альтернативную государственную систему. А альтернативные системы имеют право на существование, просто мы не можем знать, какую систему мы будем иметь, мы можем только бороться за ту систему, которую мы предпочитаем” (Сайт Правительства РФ, статья “VI Гайдаровский форум”). Безобидности этой речи позавидовал бы даже Зюганов. Но что делать? Наверное, нелегко бороться с капитализмом, когда сам ты входишь в сливки буржуазного общества. К попыткам хоть как-то подпудрить и причесать свои неудачные теоретические потуги мир-системщики прибавляют еще и характерный для них “научный” язык. Неспособность к простым и ясным, научно точным умозаключениям, мир-системщики, как студенты первого курса, пытаются спрятать за бессмысленными нагромождениями умных слов. Пример: “Следует подчеркнуть, что речь идет именно об организационной, а не о структурной тенденции. Проблема состоит не в том, является ли мирэкономика более или менее интегрированной, тренды — инфляционными или дефляционными, а права собственности — более или менее 94 концентрированными. Эти структурные переменные дополняют организационные возможности, однако корреляция между организационными и структурными уровнями — это вопрос длительной, а не среднесрочной перспективы. Организационные возможности — это область политического выбора людей, это решения, которые люди принимают относительно форм, наиболее подходящих для осуществления их интересов” (И. Валлерстайн, “Мир-система Модерна I”). Неподготовленному читателю может показаться, что в приведенном отрывке говорится о каких-то высоких научных материях — в действительности же это обычная идеалистическая белиберда, под которой нет никаких научных оснований. Пристрастие к употреблению умных слов смешивается у мир-системщиков с самой пошлой болтовней и пережевыванием давно отброшенных наукой положений. Но пережевывают они с расстановкой, с умным видом, “научно”. Неизбежным следствием их путаницы и выступают все наукообразные словечки мир-системщиков как то мирсистема, центр-периферия, иерархия, структура, финансиализация, системные циклы накопления, гегемония и т.д. и т.п. Этот птичий язык просто необходим мирсистемщикам: если они будут пользоваться устоявшимися научно точными терминами, то их метафизика рассыпется как карточный домик еще до прихода всякой критики. Славится мир-системный анализ и своей чуть ли не коммунистической революционностью. Не шутите! Сквозящее изо всех пор интеллектуальное высокомерие представителей мир-системного анализа органично дополняется революционным фразерством его самых радикальных, “левых” элемнтов: “Сегодняшний момент предоставляет нам историческую возможность пойти намного дальше; он требует, в качестве единственно возможного эффективного решения, дерзкой и решительной радикализации выдвигаемых альтернатив, которые должны быть способны побудить трудящихся и народы перейти в наступление, чтобы сорвать военную стратегию врага” (С. Амин, “Вирус либерализма”). “Эта радикализация преследует троякую цель: демократизация общества, достигаемый вследствие принимаемых мер социальных прогресс и занятие антиимпериалистической позиции” (С. Амин, “Вирус либерализма”). “Когда я говорю здесь о дерзости, это означает, что радикальные левые силы в этих обществах должны иметь смелость распознать и понять те вызовы, перед лицом которых они стоят, и поддержать продолжение и радикализацию той необходимой для этого борьбы, которая уже идет. Отцепление Юга готовит почву для разрушения самой системы империализма” (С. Амин, “Вирус либерализма”). “Дерзость здесь состоит в том, чтобы набраться смелости и двинуться вперед как можно решительнее, не особенно беспокоясь о реакции империализма” (С. Амин, “Вирус либерализма”). Двинуться вперед, не заботясь о реакции противника. Прекрасный план! 95 “В заключение: дерзость, дерзость и еще раз дерзость! Таким образом, под дерзостью я подразумеваю: 1) для радикальных левых в обществах империалистической “триады” — необходимость участия в построении альтернативного антимонополистического социального блока; 2) для радикальных левых в обществах периферии — участие в построении альтернативного антикомпрадорского социального блока... Потребуется некоторое время для успешного выстраивания этих блоков, но этот процесс может быть значительно ускорен, если радикальные левые решительно возьмутся за дело и начнут продвигаться по долгому пути, ведущему к социализму. Поэтому необходимо предлагать стратегии, нацеленные не на “выход из кризиса капитализма”, а на “выход за пределы капитализма, находящегося в кризисе” (С. Амин, “Вирус либерализма”). “... мы можем сформулировать руководящие принципы для возможного возрождения “фронта Юга”. Эти принципы относятся как к сфере политики, так и к экономическому управлению глобализацией. В политическом плане: осуждение нового принципа политики Соединенных Штатов (“превентивной войны”) и требование вывода всех иностранных военных баз из Азии, Африки и Латинской Америки” (С. Амин, “Вирус либерализма”). Как хорошо продумано, как ловко, как смело! Дерзко, дерзко, дерзко! Вообще экзальтированные возгласы Амина больше напоминают религиозную проповедь, нежели рациональное рассуждение. Его давление на эмоции читателя не сопровождается никакими реально осуществимыми планами. Здесь есть только некие “радикальные левые”, все конкретные действия которых сводятся к тому, чтобы “иметь смелость понять и распознать” и т.п. Кстати, на русском языке книга Амина вышла в 2007 году. Кто-нибудь может сказать, к чему привели за прошедшее время столь дерзкие поползновения Амина? Разумеется, они так и остались пустым звоном. Нужно ли говорить, что истерическикомичная проповедь Амина, — дерзкая по форме, трусливая по содержанию, — в действительности есть лишь отражение теоретического бессилия мелкобуржуазного идеолога, мечущегося между гнетом крупного капитала и желанием сохранить рыночную экономику? Полу-мелкобуржуазная, полу-религиозная проповедь Амина настолько бессодержательна и бесполезна, что ее можно вложить в уста любого российского “коммунистического” оппозиционера — и там она будет звучать абсолютно органично. Таковы стороны мир-системного анализа: “марксистская”, критическая, научная, нравственная и т.д. Таков сам мир-системный анализ. “Все ясно, не так ли?” ПОСЛЕСЛОВИЕ Искажения и извращения марксизма не являются чем-то новым: они существовали с самого зарождения марксистского учения. С тех же самых пор 96 коммунисты вели непримиримую борьбу с этими искажениями. Теперь, — когда мы подошли к завершению нашего обзора, — будет уместно вспомнить слова Энгельса о Евгении Дюринге, который, как известно, в свое время развивал марксизм не хуже мирсистемщиков: “Что обещал нам г-н Дюринг? Все. Что сдержал он из своих обещаний? Ничего… подвиги г-на Дюринга, о которых раструбил громкими фразами сам г-н Дюринг, оказались, при первом же прикосновении к ним, чистейшим шарлатанством… Философ, способ мышления которого «исключает всякое поползновение к субъективно ограниченному представлению о мире», оказался субъективно ограниченным не только своими крайне недостаточными, — как мы это установили, — познаниями, узко метафизическим способом мышления и карикатурным самовозвеличением, но и просто своими личными ребяческими причудами. Он не может изготовить свою философию действительности, не навязав предварительно своего отвращения к табаку, к кошкам и к евреям — в качестве всеобщего закона — всему остальному человечеству, включая евреев. Его «действительно критическая точка зрения» по отношению к другим людям состоит в том, чтобы упорно приписывать им вещи, которых они никогда не говорили и которые представляют собой собственный фабрикат г-на Дюринга. Его жиденькие, как нищенская похлебка, рассуждения на обывательские темы, вроде ценности жизни и наилучшего способа наслаждения жизнью, пропитаны таким филистерством, которое вполне объясняет его гнев против гётевского Фауста. Оно, конечно, непростительно со стороны Гёте, что он сделал своим героем безнравственного Фауста, а не серьезного философа действительности — Вагнера. — Коротко говоря, философия действительности оказывается в конечном итоге, употребляя выражение Гегеля, «самым жиденьким отстоем немецкого просветительства», — отстоем, жиденькая и прозрачная пошлость которого получает более густой и мутный вид только благодаря добавлению туда окрошки из оракульских фраз. И закончив чтение книги, мы оказываемся знающими ровно столько же, сколько знали прежде, и вынуждены признать, что «новый способ мышления», «своеобразные в самой основе выводы и воззрения» и «системосозидающие идеи» преподнесли нам, правда, немало всяческих новых нелепостей, но не дали ни одной строки, из которой мы могли бы чему-нибудь научиться. И этот человек, расхваливающий свои фокусы и свои товары под гром литавр и труб, не хуже самого заурядного базарного зазывалы, — причем у него за громкими словами не скрывается ничего, ровным счетом ничего, — этот человек осмеливается называть шарлатанами таких людей, как Фихте, Шеллинг и Гегель, из которых даже наименее значительный — все же гигант по сравнению с ним. И впрямь шарлатан... только кто?” (Ф. Энгельс, “Анти-Дюринг”). Мы оказались в сходной ситуации, не правда ли? Отовсюду, буквально отовсюду в левой среде мы слышали бесконечные хвалебные отзывы о мир-системном анализе. Нас убеждали в том, что мир-системный анализ — это развитие марксизма, что это дополнение марксизма, что Ленин был первым мир-системщиком. Нам говорили, что метод мир-системного анализа — это новое слово в науке, новый инструмент, который марксисты обязаны взять на вооружение, если они хотят оставаться марксистами и не отставать от времени. Нас, противников мир-системы, укоряли в догматизме, нас 97 стыдили в том, что мы увязли в литературе вековой давности и не хотим обратиться к современным научным исследованиям. Над нами смеялись, что мы механически повторяем фразы из классических работ, что мы не признаем прогресса, что мы меряем современное общество мерками девятнадцатого века. Мы тем уж были виноваты, что не последовали за деятелями широкой левой в их легковерном увлечении низкопробной околонаучной публицистикой мир-системного анализа. Тем, что мы не приняли всерьез саморекламу мир-системщиков, не поверили их притворной войне с капитализмом. Что мы не повелись на их подражание социализму и революционное фразерство. Одним словом — тем, что мы были последовательными марксистами, отвергающими любые искажения теории, от какихбы знаменитых “ученых” они не исходили, какими бы умными речами они не украшались. Но почему мир-системный анализ получил столь широкое распространение в левой среде России? Нужно учитывать, что в XX веке марксизм не просто утвердился как научное мировоззрение, но и одержал полную и сокрушительную победу над буржуазной идеологией. Невиданные успехи Советского Союза были неоспоримы и дискредитировали капитализм в глазах рабочих всего мира. Буржуазия была вынуждена изменить образ действий по отношению к коммунистам: открытая агрессия, охаивание, поносительство, наглая ложь — эти привычные инструменты буржуазных идеологов теряли эффективность и отступали на второй план. Капиталистам по всему миру нужно было умерять тон, чтобы не получить революцию у себя дома. Буржуазная интеллигенция, как рупор своего класса, трудилась над теоретическим обоснованием изменяющегося курса. Ряд ее представителей, наиболее отражающих интересы крупного капитала, продолжали стоять на радикально-либеральных позициях. Продолжающееся развитие всемирной торговли и промышленности требовали обоснования для проникновения и вмешательства монополий везде в мире. Концентрация и централизация капитала, его интернациональное смешение естественным образом продолжали подтачивать позиции мелкой буржуазии. Небольшие хозяйчики в городе и в деревне разорялись и банкротились, не выдерживая конкуренцию с растущими монополиями. Как люди, которым самим приходится трудиться, мелкие буржуа были недовольны развитием монополистического капитала, он представлялся им неким злом, девиацией, эксцессом, отличным от того, как должна работать нормальная экономика, нормальный рынок. Но как владельцы средств производства, они кормились с эксплуатации наемного труда и отнюдь не собирались уходить от рыночных отношений. Мелкая буржуазия, как отживающий и реакционный класс, вынуждена балансировать между экономическим прогрессом в виде монополизации всех сфер хозяйства и социальным конфликтом, который этот прогресс несет в рамках капитализма. Отсюда их неустойчивое, неудовлетворенное положение. Их недовольство должно регулярно выливаться в идеологические формы — и выливается. Одной из таких форм является мир-системный анализ. Мир-системщики достаточно образованы и культурны, чтобы не уподобляться злостным ненавистникам коммунизма. К тому же они вовсю эксплуатируют социалистический лексикон, так что сами они кажутся социалистами и чуть ли не коммунистами. Сочетание этих свойств как нельзя кстати подходит для выражения мелкобуржуазного протеста: против монополий, но за сохранение рынка. Таким образом, мир-системщики выглядят “социалистическими” оппонентами своих более радикальных коллег — других буржуазных идеологов. Однако “социализм” мирсистемщиков явился и их силой и их слабостью. С одной стороны, как “социалисты” они 98 привлекают к себе своих собратьев — лево-настроенных мелкобуржуазных интеллигентов, а также радикальные элементы студенчества, рабочих и крестьян, — но, с другой стороны, их, как “социалистов”, не принимает буржуазное научное сообщество (не будем забывать и то, что реальному научному содержанию мирсистемы — грош цена). Эти обстоятельства обусловили специфическое положение мир-системного анализа. На Западе он не превратился в широкое течение, так как капиталистическое хозяйство все более монополизируется и отнюдь не собирается возвращаться к блаженной памяти “нормальному” рынку. Но зато мир-системный анализа стал востребован в неожиданном месте — в России. Уже более тридцати лет в России идет процесс развала планового хозяйства и развитие капитализма. Здесь, после крушения советской экономики, осталось большое количество активов, которые капитал не успел включить в свой оборот: те самые заброшенные заводы, склады, поля и так далее. Но экономика состоит не только из крупных предприятий. Население бывшего Советского Союза получило в относительно большом количестве приватизированное имущество: земельные участки, квартиры, гаражи, хозяйственные постройки, инвентарь, паи в предприятиях, права на аренду сельхозугодий и так далее. Такие условия создали простор для широкого развития мелкого предпринимательства: консалтинговых фирм, парикмахерских, кафе, ресторанов, продуктовых магазинов, небольших производственных и сельскохозяйственных предприятий и т.д. Однако логика развития капиталистического производства никуда не делась: с течением времени капитал концентрируется в руках все меньшей группы лиц и превращается в монополистический капитал — а мелкая буржуазия разоряется и переходит на наемную работу. Да, монополии в развитом виде существовали в российской экономике уже с начала девяностых годов — это обусловлено характером плановой экономики, которой эти монополии наследовали. Но в целом в России сложились условия, аналогичные эпохе первоначального накопления капитала: когда также существовали монополии, но существовали наряду с большим количеством свободных предпринимателей и остального населения, владеющего собственностью. Как тогда, в эпоху первоначального накопления капитала, так и теперь в России, произошел процесс экспроприации собственности и концентрации ее в руках немногочисленных собственников. Но если в эпоху первоначального накопления рынок был рынком свободной конкуренции, то современный рынок — уже монополистический. Если тогда требовался еще длительный процесс концентрации и централизации капитала, чтобы монополисты возобладали над мелкобуржуазной стихией, то сегодня этот процесс произошел в России очень быстро. Если тогда на экспроприацию мелкой буржуазии требовались столетия, то сегодня вышедшую из недр советского хозяйства многочисленную российскую мелкую буржуазию экспроприировали за два-три десятка лет. Этот процесс экспроприации, — разорение мелких хозяйчиков, отъем их средств производства, отъем доставшегося при Советской власти жилья, ликвидация социальных гарантий, падение заработных плат, — процесс этот выражается в России в том числе в сокращении свободы мелкой буржуазии и в сокращении самой мелкой буржуазии. То есть он сопровождается свертыванием свободного рынка, рыночной конкуренции. Не нужно далеко ходить за примерами: там, где было множество мелких фирм-перевозчиков, теперь монополии агрегаторов такси, вместо бесчисленных частных продуктовых магазинов — гигантские сети, вместо штатных бухгалтеров — аутсорсинговые фирмы, которые сами вытесняются монополиями. И так во всем. Ход 99 монополизации неизбежно усугубляет положение не только рабочего класса и мелкой буржуазии, но и многочисленной армии офисных служащих, труд которых то в одной, то в другой отрасли становится все менее востребованным в результате вызываемой кризисами автоматизации. Постепенно общество приходит в движение: и рабочий класс и мелкая буржуазия и даже армия служащих постепенно начинают развивать политическую активность. Вот в этих то условиях и получает свое распространение мир-системный анализ. Свободная конкуренция, — еще вчера широко распространенная среди обширной российской мелкой буржуазии, — тает на глазах. А мир-системный анализ как раз и занимается плачем по свободному рынку. Служащий, сидящий обособленно в офисе, в небольшом коллективе, — а то и без коллектива, — не видящий и не понимающий необходимости обобществления труда, оторванный от коллективного, планового, систематического и регулярного труда, — этот служащий привык делать свою работу самостоятельно, быть по-возможности независимым, индивидуалистичным. Он не видит общественных производственных отношений за дверями своего офиса и не чувствует насущной потребности в хозяйственном перевороте. В его представлении достаточно определенного набора мер, некоторых реформ, чтобы исправить экономическое неустройство. И как нельзя кстати ему подходит теория мир-системного анализа, которая, вроде бы ведет к изменению общества, но “без фанатизма”, вроде бы рассуждает о зле монополий, но сохраняет рыночное хозяйство, вроде бы ведет к социализму, но без классовой борьбы. Одним словом — ведет к социализму, но сохраняет капитализм. Это органично сопрягается с изменением сознания массы мелкой буржуазии и служащих: им живется еще достаточно хорошо, но они уже ощущают, как кризис уводит почву из под их ног. Они еще не готовы к борьбе, но понимают, что тучи над их головами сгущаются. Их положение тревожно, неопределенно и шатко. Поэтому мир-системный анализ, — с его плюрализмом, эклектикой, запутанностью, невнятностью мысли, робостью, — прекрасно отражает их состояние. А если учесть, что масса мелкой буржуазии и служащих в России все очень велика, то становится ясно, почему мир-системный анализ так успешно распространяется в России. Как видно, это происходит вследствие объективных причин. Говорящие головы Ютуба не склоняют массы к мир-системному анализу, а лишь отражают уже имеющиеся мелкобуржуазные настроения масс. Массы мелкобуржуазны вследствие самого своего положения в экономике: им все равно, кто именно будет выражать их интересы, и как будет называться очередная созданная под эту цель метафизическая система. У части населения, занимающейся интеллектуальным трудом, и потому призванной отражать интересы классов в теоретической форме, есть два варианта подходить к мир-системному анализу. Первый вариант: пропустив мимо ушей всю несуразицу, пошлость, искажения и передергивания, признать мир-системный анализ наукой и встать на путь защиты интересов мелкой буржуазии, а значит капитализма вообще. Это произошло с позднесоветской академической средой после краха коммунизма: разбитая и деморализованная, она была вынуждена пойти по пути позорного пресмыкательства перед теорией, которую не признавали даже там, откуда она пришла, — но которая хотя бы имела социалистический окрас и тем самым позволяла предавать марксизм, “сохраняя лицо”. Второй путь: твердо и решительно отстаивать интересы рабочего класса, критически относиться к любым попыткам исказить марксизм, подмазаться к нему, разбавить его революционную сущность. На этом пути применение мир-системного 100 анализа бесполезно и вредно, потому как не дает ничего, кроме путаницы в головах левых. Коммунисты России, стремящиеся к созданию политической партии пролетариата, должны самым внимательным образом относиться к теории, потому что без марксистской теории не может быть марксистской партии. Коммунисты всегда боролись и теперь должны бороться с теоретическими уклонами и искажениями путем систематической, регулярной, планомерной, ежедневной и непрерывной пропаганды марксизма, опровержения научных мифов и критики врагов марксизма. Нельзя относиться к мир-системному анализу беспечно, как к явлению, которое пройдет само собой. Следует вести активную пропаганду и разъяснять существо мир-системного анализа как в левой среде, так и вне ее. Мы рассчитываем, что эта статья окажет помощь каждому такому пропагандисту. 101