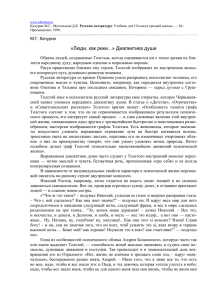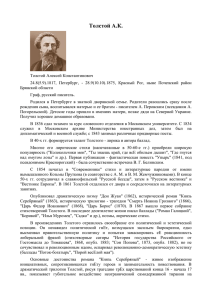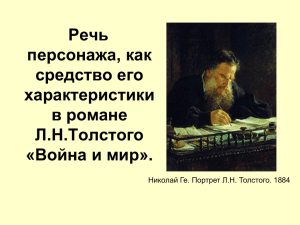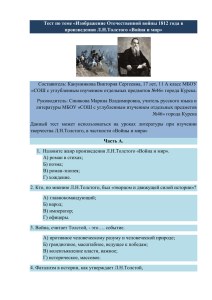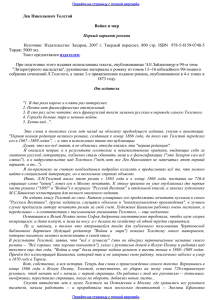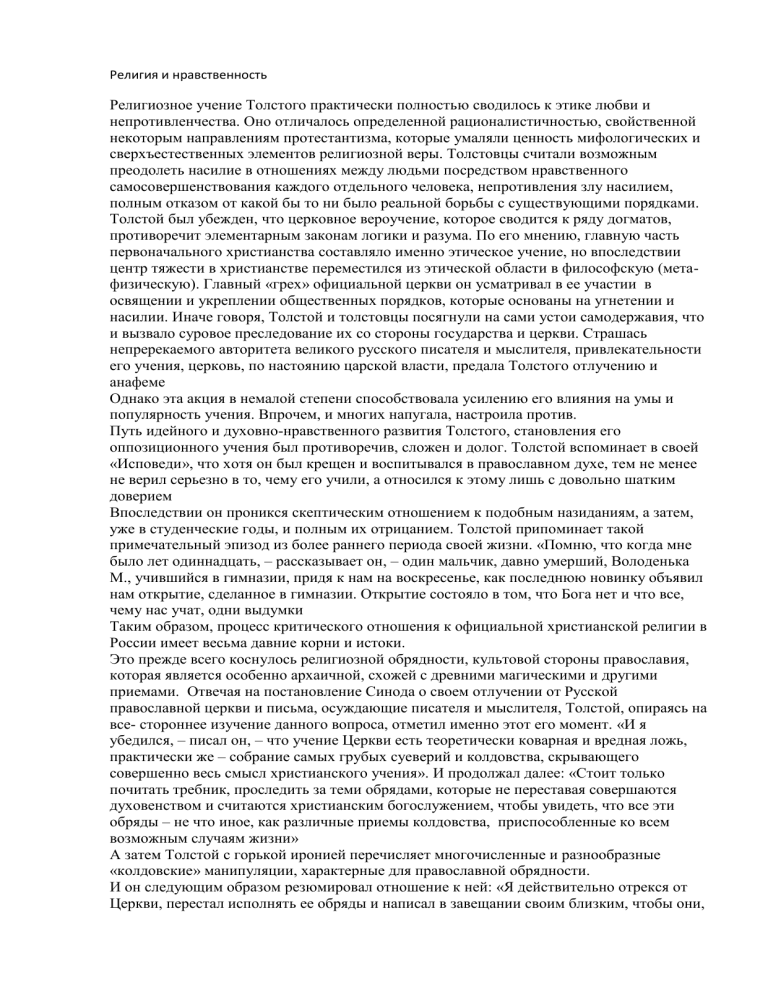
Религия и нравственность Религиозное учение Толстого практически полностью сводилось к этике любви и непротивленчества. Оно отличалось определенной рационалистичностью, свойственной некоторым направлениям протестантизма, которые умаляли ценность мифологических и сверхъестественных элементов религиозной веры. Толстовцы считали возможным преодолеть насилие в отношениях между людьми посредством нравственного самосовершенствования каждого отдельного человека, непротивления злу насилием, полным отказом от какой бы то ни было реальной борьбы с существующими порядками. Толстой был убежден, что церковное вероучение, которое сводится к ряду догматов, противоречит элементарным законам логики и разума. По его мнению, главную часть первоначального христианства составляло именно этическое учение, но впоследствии центр тяжести в христианстве переместился из этической области в философскую (метафизическую). Главный «грех» официальной церкви он усматривал в ее участии в освящении и укреплении общественных порядков, которые основаны на угнетении и насилии. Иначе говоря, Толстой и толстовцы посягнули на сами устои самодержавия, что и вызвало суровое преследование их со стороны государства и церкви. Страшась непререкаемого авторитета великого русского писателя и мыслителя, привлекательности его учения, церковь, по настоянию царской власти, предала Толстого отлучению и анафеме Однако эта акция в немалой степени способствовала усилению его влияния на умы и популярность учения. Впрочем, и многих напугала, настроила против. Путь идейного и духовно-нравственного развития Толстого, становления его оппозиционного учения был противоречив, сложен и долог. Толстой вспоминает в своей «Исповеди», что хотя он был крещен и воспитывался в православном духе, тем не менее не верил серьезно в то, чему его учили, а относился к этому лишь с довольно шатким доверием Впоследствии он проникся скептическим отношением к подобным назиданиям, а затем, уже в студенческие годы, и полным их отрицанием. Толстой припоминает такой примечательный эпизод из более раннего периода своей жизни. «Помню, что когда мне было лет одиннадцать, – рассказывает он, – один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки Таким образом, процесс критического отношения к официальной христианской религии в России имеет весьма давние корни и истоки. Это прежде всего коснулось религиозной обрядности, культовой стороны православия, которая является особенно архаичной, схожей с древними магическими и другими приемами. Отвечая на постановление Синода о своем отлучении от Русской православной церкви и письма, осуждающие писателя и мыслителя, Толстой, опираясь на все- стороннее изучение данного вопроса, отметил именно этот его момент. «И я убедился, – писал он, – что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же – собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающего совершенно весь смысл христианского учения». И продолжал далее: «Стоит только почитать требник, проследить за теми обрядами, которые не переставая совершаются духовенством и считаются христианским богослужением, чтобы увидеть, что все эти обряды – не что иное, как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям жизни» А затем Толстой с горькой иронией перечисляет многочисленные и разнообразные «колдовские» манипуляции, характерные для православной обрядности. И он следующим образом резюмировал отношение к ней: «Я действительно отрекся от Церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей и мертвое мое тело убрали бы поскорее, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым» Так окончательно разошлись пути Толстого и официальной церкви. Но эволюция убеждений самого Толстого отнюдь не была сколько-нибудь однозначной и прямолинейной. В нем, с одной стороны, рано возникло осознанное стремление к совершенствованию, но с другой – сохранились некие остатки прежней веры. «Я с шестнадцати лет, – вспоминает Толстой, – перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но верил во что-то» Казалось бы, оставалось сделать последний и решительный шаг, понять – «все вероучения ложны» Однако необходимого для этого немалого мужества, соответствующего жизненного опыта и последовательности мысли у Толстого все-таки не нашлось. Так что остаточные следы прежней веры и другие обстоятельства развернули мысль Толстого и поиск им истины в принципиально ином направлении. Не приняв христианства в его официально церковном смысле и виде, но и не отказавшись от него в принципе, он попытался придать и ему, и религии вообще собственную интерпретацию. Естественно, это прямо сказалось на подходе Толстого к таким существенно значимым вопросам, как религия, нравственность и их взаимосвязь. Эту проблему он решил вполне однозначно и категорично. Прежде всего, Толстой стал считать религию всеобщим непреложным началом духовной жизни, исключая любое другое представление на этот счет. Так, он утверждал, что «религиозное познание есть то, на котором зиждется всякое другое и которое предшествует всякому другому познанию» Иными словами, религиозное познание представлялось ему исконным и неопределимым, чем-то изначально заданным. Толстой полагал также, будто «религия есть установленное человеком между собой и вечным бес- конечным миром или началом и первопричиной его известное отношение» Следуя этому убеждению, Толстой прямо выводил нравственность из религии. «Если религия есть установленное отношение человека к миру, определяющее смысл его жизни, – утверждал он,– то нравственность есть указание и разъяснение той деятельности человека, которая сама собой вытекает из того или другого отношения человека к миру» Так что, действительно, нравственность представлялась ему непосредственно выводимой из религии, исключая какие-либо иные приемлемые варианты, в частности существование светской нравственности, которая выступает сегодня как альтернатива религиозной. В итоге появилась еще одна, толстовская, версия религии и нравственности, которая лишь породила новые раздоры, конфликты, отлучение от церкви и т. п. Как и в абсолютном большинстве аналогичных случаев, «камнем преткновения» для Толстого стала проблема смерти, т. е. того, что для человека, по его словам, «значительнее всего в мире» Она воспринималась им во всей ее неотвратимости и рисовалась в его воображении самыми мрачными красками. «Не нынче –-завтра, – сетовал он,– придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей» Его, несомненно, крайне удручала безрадостность перспективы человеческого бытия, безысходный трагизм и отталкивающая картина финала жизни человека. Толстой, например, мастерски описал в своей известной повести «Смерть Ивана Ильича» угасание человеческой жизни. В течение трех месяцев главного ее персонажа терзали по нарастающей телесные и душевные страдания. Страшна была не только сама смерть, но как раз ее неотвратимое приближение и неизбывная боль. Невольно вспоминается как благо известное песенное пожелание: «Если смерти – то мгновенной». В данном же случае ситуация оказалась принципиально иной, особенно драматичной. Было более чем достаточно времени и жизнь свою осмыслить, и вообще назначение человека, и человеческие взаимоотношения, и многое другое. Но на все эти размышления и переживания накладывали свою печать неотвязные страдания и близкая смерть. Их бессмысленность и несправедливость писатель раскрыл с огромной художественной и психологической силой. Толстой, в частности так повествует о состоянии умирающего Ивана Ильича: «Он плакал о беспомощности свой, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости бога, об отсутствии бога» И задавался вопросами: «Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?..» Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: «Ну еще, ну бей! Но за что? Что я сделал тебе, за что?»». Разумеется, такие мысли могли быть только у человека верующего, но вера которого явно ослабевает, подвергается разрушительным сомнениям, которые вообще могут привести к отказу от нее. Но такого рода отказ от веры в существование сверхъестественных сил, поклонения им и упования на них означал бы переход на позиции принципиально иного, материалистического, мировоззрения, который требовал в то время немалого мужества и вполне определенного сочетания ряда объективных и субъективных факторов. Таких мыслите- лей тогда было еще немного. Так, А. И. Герцен, русский философ-материалист, революционный демократ, говоря о том, что человек не может прожить триста лет, как это будто бы сделал, согласно «священному» преданию, Симеон Богоприимец, столько времени дожидавшийся встречи с младенцем Иисусом, заключал: «Как ни тяжела эта истина, надобно с ней примириться, сладить, потому что изменить её невозможно». Но он же утверждал: «Старчество и болезнь протестуют своими страданиями против смерти, а не зовут её, и, найди они в себе силы или вне себя средства, они победили бы смерть». Таким образом, Герцен, исходя из уровня развития современной ему науки, не способной в его время бросить вызов смерти, был готов, как и другие материалисты, к новым научным открытиям в этой области и принятию их. Дальнейший ход истории подтвердил оправданность ожиданий этого русского философа. Бессмертие же, подобно материалистам того времени, он понимал лишь метафорически – увековечение себя в делах, потомках и их памяти. Но подобную позицию Толстой разделить не смог. Дали свои плоды остатки «веры во что-то», его живое воображение не могли не шокировать омерзительные образы финальной участи людей («смрад и черви»), они настоятельно заставляли его искать какой-то выход из такого положения уже сейчас, немедленно, он не хотел ждать, когда наука скажет свое решающее слово. Однако в таком случае никакого иного выхода, кроме религиозного, Толстой усмотреть не мог, даже помыслить. Он был убежден: «В самом деле, всякий человек, как только он выходит из животного состояния ребячества и первого детства, во время которого он живет, руководясь только теми требованиями, которые предъявляются ему его животной природой, – всякий человек, проснувшись к разумному сознанию, не может не заметить того, что все вокруг него живет, возобновляясь, не уничтожаясь и неуклонно подчиняясь одному определенному, вечному закону, а что он только один, сознавая себя отдельным от всего мира существом, приговорен к смерти, к исчезновению в беспредельном пространстве и бесконечном времени и к мучительному сознанию ответственности в своих поступках, т. е. сознанию того, что, поступив нехорошо, он мог бы поступить лучше. Но в этом Толстой тоже не мог усмотреть созидательной роли науки, а значит, и прогресса вообще. Толстой, в конечном счете, счел принятие прогресса просто «верой», даже «суеверием». Находясь в Париже, Толстой стал свидетелем смертной казни гильотинированием, которая произвела на него тягостнейшее впечатление. «Когда я увидел, – рассказывает он, – как голова отделилась от тела, и то, и другое врозь застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом, – что никакие теории разумности существующего прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, – я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я со своим сердцем». Выражения – «не умом, а всем существом» и «своим сердцем» очень характерны для толстовского подхода к данной проблеме, и вообще для религиозного умонастроения. Но для Толстого крайне важными были и события личного порядка. «Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса, – пишет он, – была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания». Это были, по сути дела, явно некорректно поставленные вопросы, опять-таки характерные для религиозного умонастроения, и искал он возможные на них ответы совсем не там и не в том, где и в чем нужно. Что же касается прогресса, то, несмотря на его не линейность и противоречивость, он объективен и неустраним. Таким образом, именно неколебимая убежденность русского писателя и мыслителя в неизбежности смерти человека, обреченности человеческого индивида на небытие, неприятие им официальных православно-церковных верований относительно смерти и бессмертия человека определила религиозную направленность духовного поиска Толстого, решения проблемы религии и нравственности, который ассимилировал в своем учении и элементы пантеизма, и рационализма (но, как уже было отмечено, далеко не всегда последовательно), и многое другое. Так, например В. В. Зеньковский, русский философ-эмигрант, теолог и историк, отмечает: «Мистицизм, эмпиризм и индивидуализм – вот основные черты религиозной личности Толстого. Он менее всего рационалист, хотя оно упорно претендует на это и хотя его любят так характеризовать: на самом деле рационализм, вырастающий на основе мистических переживаний никогда не чуждается Откровения». И несколько ниже продолжает: «У Толстого же мы найдем рационализм лишь в отрицательной части его религиозной системы, в его критике церковного христианства. И кто захочет углубиться в смысл и значение этой критики, тот увидит, что ссылки на разум, отрицание всего непостижимого появляются лишь там, где это нужно Толстому». Приведенная оценка небезынтересна и полезна, но вместе с тем является очевидно предвзятой и не может считаться сколько-нибудь однозначно верной. Реальная личность Толстого намного сложнее и противоречивее. Особенно наглядно это проявляется в учении Толстого о личном бессмертии, которое неразрывно сопряжено с понятием смерть. человека. Не приняв смерть, не примирившись с ней, он вынужден был начать искать решение проблемы бессмертия. Но он заведомо не мог найти его в исключающих друг друга вероучениях и связанных с ними бессмысленной обрядности. Выход был найден им в отказе от любого конкретного вероучения, в том числе о боге, от признания отдельного, индивидуального смысла жизни и именно личного бессмертия. Он пришел к вере в бога вообще как некую всеобщую вселенскую силу, через проявление которой человек только и может обрести смысл своего бытия и бесконечность существования. «Жизнь мира, – считал Толстой, – совершается по чьей-то воле, – кто-то этою жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое- то дело». Именно через приобщение к своего рода квинтэссенции веры и жизни «простого трудового народа» Толстой обрел и бога в своеобразном пантеистическом смысле. Резюмируя толстовское учение о бессмертии, Зеньковский писал: «Истинная, разумная жизнь вечна, бессмертна, бесконечна, так как она и есть Бог, источник всего живо- го, вневременная сущность. Бессмертие поэтому не связано с личностью, оно безлично: бессмертно в нас разумное сознание, которому не может быть приписан признак личности, бессмертна в нас любовь ко всему живому, тот универсальный разум, который может раскрыться в нас». И далее он добавляет: «Если же не может быть признана бессмертной вся личность человека, так как субъектом бессмертия является тождественный во всех людях Разум, то тем менее можно говорить о восстановлении тела, о его воскресении. Личность есть преходящая форма проявления Бога, и лишь это приобщение к Богу через разумную жизнь и дает право каждому индивидуально искать бессмертия». Таким образом, у Толстого речь не идет о личном бессмертии в строгом смысле этого слова. Его учение и в этом отношении принципиально отличается от традиционно христианского. Согласно последнему, бессмертна не только душа, но и тело, причем обновленное и совершенное, которое, в конечном итоге, должно воссоединиться с ней после так называемого «второго пришествия». Так, учитель церкви еще III века Тертуллиан, подчеркивая преимущество христианского вероучения в конкурентной борьбе с другими воззрениями по этому вопросу, утверждал: «Такое верование гораздо благороднее Пифагорова, потому что оно не превратит тебя в зверя; гораздо совершеннее Платонова, потому что возвратит тебе тело и через то составит все твое целое; гораздо утешительнее Эпикурова, потому что оградит тебя от уничтожения». Впрочем, в этом вероучении есть разные нюансы на сей счет, но не о них идет речь в данном случае. В качестве обобщающего и заключительного нельзя не привести еще одно суждение Зеньковского. «Жажда бессмертия, возникающая в пределах личности, – пишет он, – для того только и просыпается по Толстому, в нас, чтобы мы вышли за пределы личности; она манит к себе, она волнует личность лишь для того, чтобы сердце наше, с разбитыми надеждами на личное бессмертие, навсегда отвернулось от любви ко всему личному, индивидуальному, чтобы научилось оно любить лишь Бога в мире и презрело всю эту дивную красоту индивидуального, Богом же созданного!..». Иными словами, согласно толстовскому учению, слияние с Богом, божественным всеобщим, должно произойти вплоть до утраты личностью своих индивидуальных характеристик и тем самым осуществляется также глубокая ревизия, хотя и не всегда последовательно, традиционных представлений о христианской любви не только к богу, но и к ближнему, к самому себе, поскольку последнее Толстой считал делом уже несущественным. Показательны в этой связи и некоторые высказывания Толстого в его письмах. Так, в письме около 20 ноября 1898 года духобору П. В. Веригину он писал: «При первом взгляде и мир и человек начались и потому должны и кончиться и страшны делаются и смерть и кончина мира; при втором, разумном взгляде – как мир никогда не начинался и никогда не кончится, и потому кончины мира не может быть, а смерть не страшна, потому что есть только более резкая перемена, чем все те, которые совершаются во временной жизни. Нет ни наград, ни наказаний, а есть только то, что и здесь, что свое добро ведет всегда» к общему добру, а свое зло ведет к общему злу, и добро радостно, а зло мучительно. Добро это единение – любовь. Зло это разъединение, злоба». А в письме тому же адресату пять лет спустя Толстой сетовал: «Пишу Вам не своей рукой, потому что чувствую себя нынче не совсем хорошо. Здоровье же мое вообще таково, каким оно должно быть в человеке, быстро приближающемся к перемене формы жизни». Однако до смерти писателя, т. е. перемены «формы жизни» оставалось семь наполненных творчеством лет. Небезынтересно в этом контексте вспомнить, что первую в истории Нобелевскую премию мира (1897 г.) предполагалось вручить как раз Толстому – великому русскому писателю и мыслителю-гуманисту. Однако он обратился с открытым письмом в швед- скую газету «Stockholm Tagblatt» с отказом от премии и предложением присудить ее духоборцам. Его письмо было опубликовано, но премию ни духоборцам, ни ему самому так и не дали. Об этом остается только сожалеть, как и о многом другом (неверии Толстого в способность науки решить проблему смерти и бессмертия человека, отрицании прогресса и т. п.). Между тем именно успехи научно-технического и социального прогресса, спустя менее столетия со времени кончины Толстого, открыли новую эру человеческой истории – реальную возможность победы над смертью. Клонирование человека, расшифровка его генома, регенерация стволовых клеток, крионика (в частности без «смрада и червей»), нанотехнология и многое другое открывают неведомые ранее перспективы достижения практического бессмертия людей и их реального воскрешения. Поэтому уже теперь с достаточным основанием и уверенностью можно возразить Толстому, что смерть не является неизбежной, наука может устранить ее фатальность, а в случае наступления смерти человека – вернуть его к жизни. Можно также утверждать, что смысл жизни – именно в самой жизни, она сама по себе есть благо, поскольку, действительно, самоценна, тем более, если человек в ее процессе служит высоким идеалам. Каждый человек решает те или иные свои насущные задачи, ближайшие и более отдаленные, но в то же время, осознавая это или нет, он своей деятельностью поддерживает эстафету поколений, ход человеческой истории и суверенность человеческого мышления, приближая всех к достижению заветной цели – обретению реального личного бессмертия. Еще одним свидетельством этому является присуждение Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2010 год британскому ученому Роберту Эдвардсу «за разработку [метода] экстракорпорального оплодотворения», который уже дал жизнь многим миллионам людей и еще не раз послужит этому высокому назначению Примечательно, что Ватикан незамедлительно выступил с осуждением Нобелевского комитета за подобный выбор, поскольку сами исследования такого рода были осуждены католической церковью намного раньше. Точно так же и Русская православная церковь принципиально выступает не только против клонирования человека, объявляя его аморальным, безумным актом, будто бы ведущим к разрушению человеческой личности и бросающим вызов своему «Создателю», но и так называемого «суррогатного материнства». Христианская религия отнюдь неслучайно не приемлет и осуждает научный поиск действенных путей и средств достижения практического бессмертия людей и их реального воскрешения. Так, по существу дела, реальные интересы человека действительно приносятся в жертву идеологическим установкам религии в любых ее проявлениях. Но научно-технический и социальный прогресс ради блага человека неодолим.