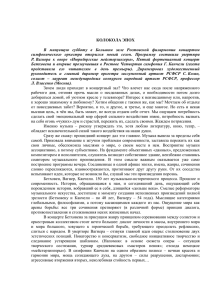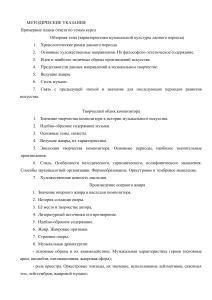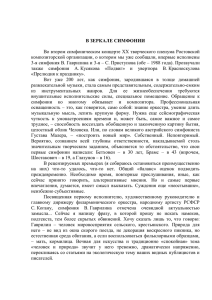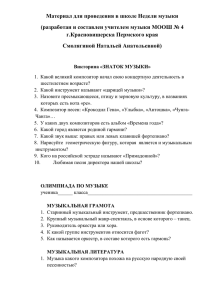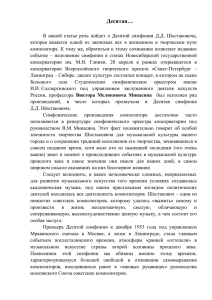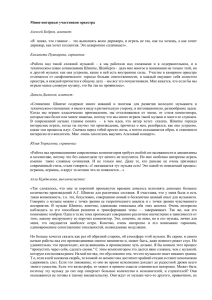ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ
ВТОРОЙ половины
XX ВЕКА
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО КУЛЬТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФИИ
Государственный
институт
искусствознания
ACADEMIA XXI
Учебники
и учебные пособия
по культуре
и искусству
Композитор -Санкт-Петербург
2005
Редакционная коллегия серии:
А. 3. БОНДУРЯНСКИЙ
Л. М. БУДЯК
Е. П. ВАЛУКИН
Ю. А. ВЕДЕНИН
Э. Л. ВИНОГРАДОВА
С. А. ГАВРИЛЯЧЕНКО
A. С. ГЕРАСИМОВА
B. Ф. ГРИШАЕВ
И. Е. ДОМОГАЦКАЯ
А. Д. ЕВМЕНОВ
А. Н. ЗОЛОТУХИНА
А. С. КАЗУРОВА
Т. Г. КИСЕЛЕВА
Т. А. КЛЯВИНА
А. И. КОМЕЧ
(председатель)
И. В. ПОПОВА
(зам. председателя)
К. Э. РАЗЛОГОВ
А. Я. РУБИНШТЕЙН
(зам. председателя)
А. М. СМЕЛЯНСКИЙ
А. С. СОКОЛОВ
Е. И. СТРУТИНСКАЯ
(зам. председателя)
Л. Г. СУНДСТРЕМ
А. В. ТРЕЗВОВ
А. В. ФОМКИН
Н. А. ХРЕНОВ
(отв. секретарь)
УИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО КУЛЬТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФИИ
Государственный
институт
искусствознания
Нижегородская
государственная
консерватория
им. М.И. Глинки
ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XX ВЕКА
Ответственный редактор
Т. Н. ЛЕВАЯ
А
Композитор • Санкт-Петербург
2005
ББК 85.313(2)
И 90
Авторский коллектив:
ВАЛЬКОВА В. Б.
ВАСИЛЬЕВА Н.В.
ГУЛЯНИЦКАЯ Н.С.
ДВОСКИНА Е. М.
ЗАЙЦЕВА Т. А.
ЗЕЙФАС Н.М.
ЛЕВАЯ Т. Н.
(отв. редактор)
МАСЛОВСКАЯ Т. Ю.
ПАИСОВ Ю. И.
CABEHKO С. И.
СЕЛИЦКИЙ А. Я.
СЫРОВ В. Н.
ХОЛОПОВА В. Н.
ЦЕНОВА B.C.
Допущено
Министерством образования
Российской Федерации
в качестве учебного пособия
для студентов
высших учебных заведений,
обучающихся
по направлению подготовки
530100 Музыкальное искусство,
и специальностям
050900 Инструментальное
исполнительство,
051000 Вокальное искусство,
051100 Дирижирование,
051200 Композиция,
051400 Музыковедение,
051500 Музыкальная звукорежиссура,
054000 Этномузыкология.
ЧИГАРЕВА Е. И.
ШЕВЛЯКОВ Е. Г.
Рецензенты:
БАЕВА А. А.
КИРНАРСКАЯ Д. К.
Авторский коллектив,
2005
©
Нижегородская государственная
консерватория им. М. И. Глинки,
2005
Государственный институт
искусствознания,
2005
©
В. Е. Валериус, дизайн,
2005
Композитор • Санкт-Петербург,
2005
ISBN 5-7379-0277-3
Содержание
Предисловие
-
Раздел I
Музыкальное творчество
и культура «оттепели»
«Оттепель» и музыкальная жизнь БО-бО-х годов
Поздний период творчества Д. Шостаковича
«Новая фольклорная волна»
Георгий Свиридов
Фольклор и театр
Родион Щедрин
Борис Тищенко
Сергей Слонимский
Р а з д е л II
7 0 - 8 0 - е годы
Приметы новой эпохи, или Диалог
с 60-ми годами
Камерная опера
Отечественный симфонизм после Шостаковича
и новый облик симфонии-драмы
Альфред Шнитке
Музыка в зеркале медитации
Арво Пярт
Валентин Сильвестров
АветТертерян
«Динамическая статика» Гии Канчели
'
13
13
39
76
93
120
12
0
139
157
177
177
207
234
253
284
284
308
329
350
Э. Денисов и судьбы отечественного
авангардного движения
Сакральная символика в жанрах
инструментального творчества
Галина Уствольская
София Губайдулина
390
390
410
Р а з д е л III
Постсоветское музыкальное пространство
429
Общие тенденции
Новейшая религиозная музыка в России
Эволюция хоровых жанров
Старые и новые реалии массовой культуры
В ракурсе постмодерна
429
447
480
514
541
369
Предисловие
Настоящее издание представляет собой учебное пособие по истории отечественной музыки второй половины X X века.
Указанные хронологические границы избраны неслучайно; их
можно мотивировать несколькими причинами. Во-первых,
закончившееся двадцатое столетие дает повод осмыслить этот
период как свершившийся факт, нашу ближайшую историю.
Во-вторых, его нижняя граница приходится на 50-е годы
(точнее, на вторую их половину), а это время, обозначенное
началом хрущевской «оттепели», стало, как известно, важнейшей вехой в жизни искусства и в жизни страны в целом.
События предыдущего периода - ждановские постановления
1946-1948 годов, уход из жизни классиков советской музыки
Н. Я. Мясковского и С. С. Прокофьева — усиливали ощущение
возникшего рубежа. Новое время ознаменовалось резкой сменой поколений, поисками новых культурных и жизненных ориентиров. С момента «оттепели» начала свое летоисчисление
«новая советская музыка» - как многие ее тогда определяли.
Почти полувековой путь, пройденный с тех пор музыкальным искусством, оказался богат событиями и именами.
«Оттепель», «застой», «перестройка», постсоветское десятилетие - лишь внешние его вехи, не исчерпывающие существа
происходящего. В эти годы отечественная музыка, наверстывая упущенное за годы сталинской изоляции, активно расширяла свои горизонты, приобщаясь к мировому опыту; обретала зрелость и глубину мысли; восстанавливала свои забытые
и подзапретные в прошлом пласты; приобщалась к новому
религиозному движению; рассеивалась по миру новой волной
эмиграции. В эти полвека еще продолжал творить Д. Шостакович, и его поздние произведения органически вписались
в «оттепельную» и «послеоттепельную» эпоху. Тогда же про-
изошло окончательное творческое самоопределение Г. Свиридова, начавшего свою композиторскую деятельность еще
в 30-е годы. И, конечно, вышло на арену поколение «шестидесятников» - композиторов, чья молодость пришлась на конец
50-х - 60-е годы и чьи последующие вехи составили основу
дальнейшей биографии отечественной музыки X X столетия.
А. Шнитке и Р. Щедрин, Э. Денисов и С. Губайдулина, Ю. Буцко и Н. Сидельников, Б. Тищенко и С. Слонимский, В. Гаврилин
и А. Петров, Г. Банщиков и А. Кнайфель, Г. Канчели и А. Тертерян, А. Пярт и В. Сильвестров, а также более старшие по
возрасту М. Вайнберг, Г. Уствольская, Б. Чайковский, А. Эшпай - вот далеко не полный список тех, кто, вместе с самыми
талантливыми из младших коллег, определял все эти годы лицо
отечественного музыкального искусства.
Предмет исследования, вынесенный на обложку предлагаемого издания, обязывает внести некоторую ясность в само
понятие «отечественной музыки» - как толкуют его авторы книги применительно к данному периоду. Уже судя по приведенному выше перечню имен, оно не сводится здесь к понятию
«русской музыки»: кроме русских музыкантов, в поле зрения
авторов вовлекается творчество композиторов Грузии,
Армении, Эстонии, Украины - некогда единое культурное
пространство бывшего СССР. С другой стороны, оно шире
и «старорежимного» определения «советская музыка» 90-е годы, например, под это определение в любом случае не
попадают. Наконец, это понятие оказывается достаточно емким,
чтобы охватывать собой произведения композиторов-эмигрантов: даже созданные в новом, зарубежном контексте, они
обнаруживают подчас глубокую взаимосвязь с корнями. Таким
образом, в широком толковании границ «отечественной
музыки» авторы издания руководствовались не столько
национальными и геополитическими критериями, сколько
стоящей за этим понятием общностью ментальной, культурно-исторической природы.
Многие из героев этой книги достигли мирового
признания, выйдя за пределы советского и постсоветского
пространства (некоторые из них - и в территориально-географическом смысле). О многих написаны серьезные исследования - монографические работы, статьи в журнальных
обзорах и сборниках 1 . Тем не менее оценка их творчества
1. Назовем прежде всего книги об А. Шнитке, Э. Денисове, С. Губайдулиной, Г. Канчели, А. Тертеряне, Р. Щедрине, Б. Тищенко, С. Слонимском, H. Каретникове, Г. Фриде и др. Существенным подспорьем
в рамках некой культурной целостности, а также осмысление
самой логики происходивших во второй половине X X века процессов в их отечественном варианте остаются насущной потребностью сегодняшнего музыкознания. Уйдя в прошлое, это время вместе с тем еще не настолько отдалилось от нас, чтобы
удостоиться внятных и объективных характеристик. Во взглядах на него, как и на всю отечественную историю X X века, инерция советского ура-патриотизма причудливо переплетается
с постсоветским нигилизмом. Поэтому свободный от крайностей, «позитивистский», в хорошем смысле слова, анализ недавнего прошлого представляется сегодня весьма назревшей
задачей. Применительно к музыке ее призвано решать и предлагаемое издание.
В то же время авторы его далеки от намерения поставить все точки над i. Трудно сказать, насколько календарное
окончание «второй половины X X века» адекватно историческому рубежу, - такие совпадения вовсе не обязательны. Граница между историей и современностью вообще зыбка и трудно уловима. С одной стороны, нечто безусловно эпохальное
произошло в 1991 году, когда обратился в прошедшее время
сам феномен «советской музыки». Минувший век, кроме того,
унес с собой не только Шостаковича, Вайнберга, Свиридова, но
и виднейших представителей поколения «шестидесятников» Шнитке, Денисова, Тертеряна, Каретникова, Гаврилина, Сидельникова (этот список пополнили, увы, и более молодые авторы),
словно замкнув тем самым свою музыкальную биографию.
С другой же стороны, тенденции, наметившиеся в 70-80-е годы, действуют и в новом столетии. Продолжают творить, пусть
и в измененном культурном пространстве, многие из представленных здесь композиторов. В силу этого книга тяготеет к открытой форме: ее внутренний сюжет не замкнут, а, напротив,
обращен в будущее, пока еще гипотетическое.
Как видно из оглавления издания, планировка его
предполагает многоаспектный подход к материалу: историкохронологический принцип сочетается здесь с монографическим и жанрово-стилевым. Такой подход, во-первых, помогает
в изучении этого раздела истории музыки стали также обобщающие
публикации Г. Григорьевой (Стилевые проблемы русской советской
музыки второй половины XX века. M., 1989), Л. Никитиной (Советская музыка: история и современность. M., 1991), фундаментальный
коллективный труд «Русская музыка и X X век» (ред.-сост. М. Арановский. М, 1997), двухтомник «Музыка из бывшего СССР» (ред.-сост.
В. Ценова. М., 1994,1996) и некоторые другие издания.
избежать дублировок с уже имеющимися учебниками 2 .
Во-вторых, он удобен с методологической точки зрения, ибо
чередует обзорные темы с темами, требующими знакомства
с конкретными музыкальными текстами. Наконец, в-третьих, он
позволяет более или менее адекватно осветить проблематику
музыкального творчества рассматриваемого периода, изначально сложную, разноуровневую и многоплановую.
Эта последняя задача определила также очерковую
структуру книги. Вынесенные в оглавление имена и тенденции
представлены по неизбежности избирательно. Но избирательность эта кажется нам мотивированной: в тематике очерков нашли отражение те явления, которые по прошествии лет оказались наиболее значимыми - и в качестве самостоятельных
художественных феноменов, и в качестве характерных примет
своей эпохи.
Разумеется, это не отменяет возможности иного, статистически-описательного подхода к материалу — в каком-то
смысле менее обязывающего и вполне резонного по отношению
к реалиям, еще не отсеянным временем. Но на данном этапе нам
представляется все же более продуктивным подход концептуальный: возрастающая временная дистанция взывает к отбору
и обобщениям; в нерасчленимом потоке музыкальных событий, фактов и имен появляется возможность выделить и подчеркнуть самые характерные проблемно-тематические узлы.
К этому и стремились авторы настоящего издания.
При том что повествование ведется в книге в разных
аспектах, в основу его все же положен историко-хронологический принцип: три основных раздела - «Музыкальноетворчество
и культура "оттепели"», «70 _ 80-е годы», «Постсоветское музыкальное пространство» - соответствуют трем историческим вехам, пройденным нашей страной во второй половине X X столетия. Такой принцип позволяет, думается, наиболее наглядно
представить образ отечественной культуры тех лет — воссоздать
ее внутреннюю динамику, ее движущие импульсы и контрасты,
представить композиторское творчество в контексте сложных
социально-психологических и художественных процессов.
Вместе с тем распределение материала по указанным
периодам оказывается достаточно условным. Это касается,
например, жанровых обзоров: так, камерная опера, да и само
камерное движение возникли раньше, нежели это обозначено
в соответствующей рубрике, а хоровые жанры привлекали вни2. Например, с «Историей современной отечественной музыки»,
вып. 3 (1960-1990. М., 2001; ред.-сост. Е. Б. Долинская), в основу
которой положен жанровый принцип.
мание композиторов на протяжении всей новейшей истории тогда как здесь они рассматриваются в разделе «Постсоветское
музыкальное пространство». Однако такое разделение тематики не было случайным или механическим. Мы исходили из того,
что в определенный промежуток времени те или иные жанрово-стилевые потенции проявлялись с наибольшей полнотой
и очевидностью. Этой же логике подчинены и представленные
в книге монографические портреты. Но и в том и в другом случае содержание очерков не ограничено указанным временным
промежутком: в них присутствуют лишь соответствующие
общей рубрике акценты.
Неизбежными оказались также повторы и пересечения в материале отдельных глав. Скажем, некоторые сочинения Свиридова или Щедрина, кроме монографических рубрик,
попадают под рубрику «Новая фольклорная волна», а также
в раздел о 7 0 - 8 0 - х годах - в связи с камерным движением и
неоромантизмом. А Шнитке, помимо, опять-таки, монографической главы, фигурирует в главе о симфонизме и различных
исторических обзорах. Но такая «диффузная», взаимопроникающая структура имеет, думается, свои преимущества: один
и тот же материал получает возможность быть освещенным
в разной плоскости, под разным углом зрения. Добавим также и с разных позиций, поскольку в написании очерков принимали участие разные авторы.
То, что к созданию книги привлечен довольно большой авторский коллектив, продиктовано, в первую очередь,
научной целесообразностью: соучастие известных ученых,
специализирующихся в соответствующих областях новейшей
отечественной музыки, способно дать оптимальный результат.
В то же время возникающее в итоге «многоголосие» не должно
смущать возможной пестротой. Позиции и оценки, не приведенные к общему знаменателю, а, напротив, сопровождающиеся индивидуальной авторской интонацией и индивидуальным
видением проблемы, могут стимулировать дополнительный
читательский интерес, взывать к диалогу и полемике. Думается, жанр учебного пособия к этому вполне располагает.
Нам остается привести здесь фамилии авторов книги,
указав в скобках названия написанных ими очерков:
В. Валькова («Поздний период творчества Д. Шостаковича»), Н. Васильева («Галина Уствольская»), Н. Гуляницкая
(«Новейшая религиозная музыка в России»), Е. Двоскина
(«Отечественный симфонизм после Шостаковича и новый
облик симфонии-драмы»), Т. Зайцева («Сергей Слонимский»),
Н. Зейфас («"Динамическая статика" Гии Канчели»), Т. Левая
(«Предисловие», «Приметы новой эпохи, или Диалог с 60-ми
годами»), Т. Масловская («Георгий Свиридов»), Ю. Паисов
(«Эволюция хоровых жанров»), С. Савенко («"Оттепель" и музыкальная жизнь 5 0 - 6 0 - х годов»; «Арво Пярт»; «Валентин
Сильвестров»; «АветТертерян»; «Общие тенденции»; «В ракурсе постмодерна»), А. Селицкий («Камерная опера»), В. Сыров
(«Борис Тищенко»; «Старые и новые реалии массовой культуры»), В. Холопова («Родион Щедрин», «София Губайдулина»),
В. Ценова («Э. Денисов и судьбы отечественного авангардного
движения»), Е. Чигарева («Альфред Шнитке»), Е. Шевляков
(«Новая фольклорная волна»).
Раздел
Музыкальное
творчество
и культура
«оттепели»
«Оттепель» и музыкальная жизнь
50-60-х годов
На рубеже пятого и шестого десятилетий X X века
начался новый период в истории советской музыки. Он был
во многом стимулирован решительными переменами, произошедшими в общественной жизни страны, — словно высвободилась неотвратимо накапливавшаяся энергия, находившаяся под спудом в течение долгих лет господства
тоталитарной системы.
После смерти И. Сталина в марте 1953 года советское
общество начало меняться довольно быстро, можно даже
сказать, стремительно. Скорость этого процесса красноречиво
свидетельствовала о глубоком кризисе сталинской империи,
созревшем к концу жизни тирана. Общественно-исторические
условия становились все благоприятнее для перемен.
На X X съезде КПСС (1956) в докладе Н. Хрущева были резко
осуждены репрессии сталинских времен, началась реабилитация узников ГУЛАГа - выпускать их на волю начали сразу после смерти Сталина, летом 1953 года; теперь им возвращали
гражданские права, позволяя вернуться к прежней жизни, тем, кто выжил в лагерях. Тоталитарная война сталинского режима против собственного народа отныне определялась как
«нарушения социалистической законности» и была всецело
списана на «культ личности». В обществе крепли надежды на
невозможность возврата к прошлому. В сфере международных
отношений была сформулирована доктрина «мирного сосуществования» и «разрядки напряженности» (впрочем, не исключавшая дальнейшей гонки вооружений); «железный занавес»
времен «холодной войны» понемногу начал раздвигаться.
Политическим творцом процесса либерализации выступил
Н. Хрущев, чья деятельность во главе государства составила
эпоху в современной истории.
Периоду «оттепели» суждена была недолгая жизнь.
Либерализация шла по нарастающей до конца 1962 года, когда разразился Карибский кризис, поставивший СССР и США
на грань термоядерного конфликта. В общественно-художественной жизни аналогичную роль сыграло посещение Н. Хрущевым выставки Московского отделения Союза художников
(МОСХ) в Манеже, где глава государства, умело направляемый чиновниками от культуры, подверг грубой разносной
критике многие произведения новаторского направления.
Затем «оттепель» постепенно затормозилась и после падения
Хрущева в 1964 году практически сошла на нет. Ее конец
жестко обозначило вторжение в Чехословакию в августе
1968 года - Советский Союз в очередной раз выступил в роли
мирового жандарма и душителя свободы. Таким образом,
период «оттепели» длился примерно десять-двенадцать лет.
«Оттепель» была связана, в первую очередь, с некоторыми изменениями идеологических ориентиров. Самоотверженный труд на благо Родины и борьба за светлое коммунистическое будущее сохранились в виде идеальных целей,
но само это недосягаемое будущее вроде бы приблизилось и
стало более понятным. Лозунгом Хрущева стало: «Нынешнее
поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
На XXII съезде КПСС был даже объявлен год наступления коммунизма - 1980-й. В это время главной задачей общества оказалось жить не хуже, чем в капиталистических странах (косвенное признание их экономического превосходства). Это
новое для советского общества стремление к человеческим условиям существования материализовалось в другом памятном
хрущевском лозунге: «Догоним и перегоним США по производству мяса, молока и масла!» При этом постепенно ослабело характерное для сталинской эпохи ощущение постоянной мобилизованности, подогревавшееся пропагандистскими клише о
«вражеском окружении»: хотя шпиономания при Хрущеве не
исчезла, люди стали меньше бояться войны, агрессии и собственного государства. Слегка распрямившись и глотнув посвежевшего воздуха, советский человек почувствовал новый, десятилетиями угнетаемый интерес к себе и к окружающему миру.
Теперь можно было заняться.собой (и в житейском, и в духовно-возвышенном смысле), а также хоть немного посмотреть
вокруг, сравнить себя с соседями из других стран, благо
контакты хоть в какой-то мере стали возможными и из анкет
постепенно исчез пресловутый пункт о «родственниках за границей» (наличие таковых служило серьезным отягчающим
обстоятельством).
Перемены в обществе наиболее полно и непосредственно выразила сфера художественного творчества - литература и искусство. Традиционная для России социальногражданственная роль искусства была сыграна в очередной
раз, ярко и самозабвенно. В известной мере художественное
творчество и, шире, духовная жизнедеятельность призваны
были компенсировать недостаток подлинных социальных перемен; ведь либерализация, в сущности, не затронула ни экономическую, ни политическую структуру общества, ориентированного, как и прежде, на «коммунистические ценности».
С этим была связана половинчатость и краткосрочность либерализации, не успевшей и не сумевшей укорениться в советском государстве.
Надежды на свободу, поначалу довольно смутные, отразились уже в первых сочинениях, появившихся после смерти Сталина. Повесть И. Эренбурга «Оттепель», чье название
дало имя всему историческому периоду, впервые была опубликована в майской книжке журнала «Знамя» за 1953 год.
В декабре того же года состоялась премьера Десятой симфонии Д. Шостаковича, с необычайной силой и художественным
совершенством выразившей дух времени и предчувствие перемен. Показательна дискуссия, состоявшаяся в связи с премьерой: хотя она протекала под знаком незыблемого регламента «социалистического реализма» и все необходимые
ритуальные фразы были произнесены, все же в целом это
было сравнительно творческое и мирное по тону обсуждение,
не сопровождавшееся ни запретами, ни официальными резолюциями.
Через пять лет, в 1958 году, появилась и резолюция:
«Об исправлении ошибок в оценке опер "Великая дружба",
"От всего сердца" и "Богдан Хмельницкий"». Она означала
пересмотр печально знаменитого постановления 1948 года,
и в ней объявлялись ошибочными обвинения в формализме
по адресу С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна
и других композиторов, хотя принципиальная установка
на «борьбу с формализмом» была вновь подтверждена.
Одно из выступлений в ходе дискуссии по поводу
Десятой симфонии Шостаковича, напечатанное в журнале
«Советская музыка» (1954, N2 4), принадлежало Андрею
Волконскому, совсем молодому композитору, еще не завершившему консерваторский курс. Новое поколение начало заявлять о себе.
Хотя творцами «оттепели», как и всякой реформы
«сверху», были люди зрелые и солидные по возрасту, именно
молодежи предназначалось воплотить либеральные импульсы в жизнь. Новое поколение, не обладавшее опытом сталинских времен, не было заражено страхом - по крайней мере,
в такой степени, как старшее. Молодые были свободны от многих предрассудков. Наконец, они естественно, «по определению», несли в себе мощный заряд жизненной силы и творческой энергии, проявлению которой общественные условия
впервые за долгое время как будто не препятствовали.
Молодым поэтам, собиравшим тысячные аудитории
на стадионах, молодым художникам и композиторам, впервые
соприкоснувшимся с мировым творческим опытом, свобода казалась почти безграничной. Это было время открытий. Примечательна в этой связи статья Родиона Щедрина «За творческое
мужество», появившаяся в 1955 году («Советская музыка»,
7), где 23-летний композитор призывает своих коллег не
только смелее обновлять собственное творчество, но и расширять свой художественный кругозор в сфере современной
музыки. Однако имена, названные Щедриным как ближайший
материал для освоения, демонстрируют глубочайшую изоляцию советского искусства от мирового опыта: это Дебюсси,
Равель, Малер и ранний Стравинский, противопоставляемый
позднему, по-прежнему «неугодному». Тем не менее начинать
реабилитацию зарубежной музыки X X века приходилось именно с этих композиторов, еще в дореволюционное время благополучно звучавших в России и посещавших ее с концертами.
Зато в 4 0 - 5 0 - е годы познакомиться с их творчеством даже профессионалу было затруднительно.
Впрочем, удивительны не только запреты, но и скорость, с каковой они начали рушиться. Не только композиторы
первой трети столетия, вроде упомянутых Щедриным Дебюсси и Равеля, но и другие, более поздние художники, и даже еще
живущие, начали активно проникать в концертные программы, осваиваться слушательским сознанием. Так, в советских
концертных залах зазвучали Онеггер, Мийо, Пуленк, Хиндемит,
Орф, Бриттен, Стравинский неоклассического и отчасти даже
позднего периода, позднее - Мессиан и Берг, наиболее «приемлемый» из нововенской «троицы». Веберн, правда, звучал
лишь изредка в камерных полузакрытых концертах, Шёнберга
играли почти исключительно иностранные гастролеры (но
«Уцелевшего из Варшавы» удалось однажды исполнить в качестве антифашистского сочинения). Практически не исполнялся и был известен лишь в отдельных записях современный
западный авангард: в концертах нельзя было услышать ни
Штокхаузена, ни Ксенакиса, ни Берио, ни Ноно. Событием ста-
ла пьеса Булеза «Взрыв», сыгранная оркестром Би-Би-Си под
управлением автора во время гастролей 1967 года.
Однако тяга к новой художественной информации
была в то время настолько велика, что ограниченность концертного репертуара легко преодолевалась другими способами,
особенно в профессиональной среде. Прямые личные контакты с Западом не слишком поощрялись и теперь, но за них, по
крайней мере, перестали преследовать: можно было получать
ноты, пластинки, изредка, если повезет, даже поехать в какуюнибудь социалистическую страну на фестиваль современной
музыки. Среди таковых важнейшую роль сыграл фестиваль
«Варшавская осень», начавшийся в 1956 году. Он имел авангардный характер, причем степень радикализма была максимальной для страны социалистического лагеря. Официальное
отношение к «Варшавской осени» неоднократно высказывалось
на страницах советской прессы; в частности, в журнале «Советская музыка» регулярно появлялись рецензии на ее программы, в лучшем случае прохладные, в худшем - резко негативные. Руководству Союза композиторов СССР не нравился этот
фестиваль, но сделать на чужой территории мало что удавалось, поскольку искусство для польской общественности сохраняло значение сферы, где допускалась значительная свобода:
оно играло роль клапана, через который выпускался пар ущемленного национально-политического самосознания.
Значение «Варшавской осени» для новой советской
музыки трудно переоценить. Оттуда регулярно поступала реальная современная звуковая продукция в виде записей и нот,
там звучала современная музыка в собственном смысле слова.
И, наконец, там исполняли советских композиторов, особенно
акцентируя творчество авангардной направленности. Отбор
произведений фестивальный комитет производил в принципе
самостоятельно, почти не считаясь с жесткой иерархией, существовавшей в Союзе композиторов СССР. При этом советской
музыки исполнялось довольно много: только в начальный период существования фестиваля, в 50-60-е годы, в концертах
«Варшавской осени» прозвучали опусы более двух десятков авторов из Советского Союза. Главенствующее положение занимали наиболее радикальные в стилистическом отношении композиторы, на родине исполнявшиеся в то время мало либо
вовсе не появлявшиеся в открытых концертах: Г. Уствольская
(1962), А. Шнитке (1965,1967), А. Пярт (1965) и в особенности
Э. Денисов (1964, 1966, 1968, 1969, 1970).
жил западный авангард 50->f - н а чал afeOjкто д о'ИБуЛезу1ШтЧж!-
хаузен, Ноно, Лигети, польские композиторы Лютославский,
Пендерецкий и др.). Однако и более ранние новации подлежали освоению: неофольклоризм Стравинского и Бартока, неоклассические «вариации на стиль» того же Стравинского
и Хиндемита, нововенский экспрессионизм, включая специфические звуковысотные структуры — свободную двенадцатитоновость (атональность) и серийную додекафонию.
Конечно, нельзя сказать, что более ранняя советская
музыка развивалась в полном отрыве от общеевропейских и
мировых процессов. В 20-е годы о таковом вообще не приходилось говорить, поскольку музыка Советской России ничем
не уступала зарубежной, в некоторых отношениях даже превосходя ее; позднее такие важные стилистические тенденции,
как, например, неоклассицизм, также нашли отражение на
российской почве (например, в творчестве Шостаковича). Но
в 40-е - начале 50-х положение резко ухудшилось: не секрет,
что новые советские опусы, исполнявшиеся за рубежом в это
время, разочаровывали своим уровнем и критиков и публику.
Даже традиционно почитаемый там Шостакович не всегда бывал исключением. Молодое поколение композиторов было
призвано, кроме всего прочего, вернуть отечественной музыке
былой престиж.
Разумеется, молодые композиторы, в отличие от политиков, не ставили себе специальной задачи «догнать и перегнать»
Европу или Америку. Они просто шли в том направлении, которое им подсказывал собственный талант и историческая ситуация. Они хотели говорить на новом языке.
«Новый язык» означал тогда освоение неизвестных советской музыке новых техник - нововенской додекафонии и
авангардного сериализма, а также сонористики (тембровой
композиции)1. На первый взгляд, речь здесь шла исключительно о композиторской «кухне», о ремесле, к тому же отнюдь не
новом - как в случае додекафонии, открытой несколько десятилетий назад. На «устарелость» серийного метода особенно
1. Додекафония, или «метод сочинения двенадцатью соотнесенными лишь друг с другом тонами» (А. Шёнберг), подразумевает строгую рационализацию звуковысотной ткани сочинения, основой которой служит 12-звуковая серия в первоначальном и различных
производных вариантах. Сериализм (или тотальный сериализм) распространяет принцип серийной организации также на другие элементы музыкального целого: ритм, тембр, динамику и форму. Сонористика (сонорика) выдвигает на первое место тембр, фактуру и
динамику в противовес мелодике и гармонии, которые утрачивают
свое традиционное первенствующее положение, вплоть до почти
полного нивелирования.
напирали официальные советские критики, «ставя на вид»
молодым композиторам увлечение «позавчерашней модой».
Другой критический аргумент касался рациональной
сухости и механистичности серийной и сериальной техники.
Однако рационализм, с чем бы он ни был связан, для молодого поколения представлял собой позитивное качество. В то время особым престижем пользовались точные науки. И не только потому, что они находились на подъеме. В точном знании
видели знание истинное, не отягченное субъективизмом и не
подлежащее идеологическому манипулированию. Чистота рационализма и просто здравого смысла противопоставлялась,
часто бессознательно, уходящей в прошлое жуткой и абсурдной сталинской эпохе. Романтическая эмоциональность, лирическое самовыражение выглядели подозрительно и служили
мишенью иронических нападок. Ирония вообще стала тестом
на подлинность, и героями нового времени оказались сыплющие остротами персонажи братьев Стругацких и блестящий
интеллектуал-физик Илья Куликов, сыгранный Иннокентием
Смоктуновским в фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года» (1962). Новизна технической задачи, оригинальность
и профессиональное мастерство в ее разрешении в этих условиях были равно весомы и для ученых, и для художников.
Первым в советской музыке сочинением, написанным
согласно серийному методу Шёнберга, очевидно, следует считать фортепианный цикл Андрея Волконского «Musica stricta»
(«Строгая музыка»), законченный в 1956 году2. Ее автору было
тогда 23 года.
Андрей Михайлович Волконский (р. 1933) сыграл совершенно особую роль в советской музыке 5 0 - 6 0 - х годов (в 1973
году он переселился на Запад и в настоящее время живет
во Франции). Потомок древнего княжеского рода, известного
в России благодаря многим своим выдающимся представителям, Волконский родился в Женеве и до репатриации семьи
в СССР (1947) успел получить на Западе первоначальное музыкальное образование, продолженное затем в Москве (в 19501954 гг. Волконский учился в Московской консерватории,
в классе композиции Ю. Шапорина, однако ее не окончил). Волконский был значительно лучше своих советских сверстников
2. Отечественные корни додекафонии были к этому времени на родине полностью забыты, равно как и имена первых русских «двенадцатитоновых» композиторов - Н. Рославца, Е. Голышева, А. Лурье
и других представителей авангарда 1910-1920-х гг.
и коллег осведомлен о современной европейской музыке и
вообще более чуток к новым художественным веяниям. До
«Musica stricta» Волконский писал тональную музыку, но уже
не слишком традиционную, отмеченную, в частности, влиянием неоклассицизма Стравинского. Затем он обратился к изучению додекафонии, что послужило причиной стилистического
поворота. «Musica stricta», опирающаяся на полифонические
формы и барочные жанры, не порывает с неоклассицизмом,
напоминая этим позднего Стравинского, но также и Шёнберга
периода Сюиты для фортепиано ор. 25, где тоже использованы традиционные жанры (Прелюдия, Гавот, Мюзет, Интермеццо, Менуэт, Жига). Четырехчастный цикл «Musica stricta» выглядит следующим образом: полифоническая прелюдия;
ричеркар на двенадцатитоновую тему с интермедиями (построенными как тройной контрапункт двенадцатитоновых мелодий); Lento rubato на две двенадцатитоновые темы; финал
в духе токкаты - двойная фуга на двенадцатитоновые темы.
«Подзаголовок произведения — Fantasia ricercata - явно ориентирован на барочную сонату с парой частей типа "прелюдия - фуга" во главе» [7, 10].
Более поздние опусы Волконского - «Сюита зеркал»
(1959), «Жалобы Щёзы» (1960; оба сочинения - для сопрано и камерных ансамблей разного состава), «Странствующий
концерт» (для сопрано, флейты, скрипки и двадцати шести
инструментов, 1967) принадлежат к вершинным достижениям молодого советского авангарда. Волконский развивает
в них утонченный структурализм Веберна в направлении, несколько сходном с Булезом, но в принципе глубоко оригинальном.
Но не только серийный метод звуковысотной организации, опробованный Волконским, был нов для советской музыки. Новой была камерная изысканность письма, где значимой
становилась мельчайшая интонация - восходящие к Веберну лаконизм и отточенность художественного высказывания. Это была
настоящая современная лексика, проникшая в советскую музыку в первую очередь благодаря Волконскому и несколько позднее так или иначе освоенная многими композиторами, в том
числе и далекими от авангарда.
Другой сферой новаторства для Волконского стало
исполнительство. Волконский - безусловно один из крупнейших современных интерпретаторов доклассической музыки.
Расширение историко-стилистического диапазона концертного репертуара - важнейшая сторона современной музыкаль-
ной жизни, начиная с середины столетия. На Западе интерес
к музыке средневековья и Ренессанса приобрел в послевоенные годы устойчивые формы, в советской культурной жизни
тогда еще отсутствовавшие. Выдающийся музыкант, клавесинист и органист, Волконский совершил настоящую революцию
в отечественной концертной практике. Ведь само звучание
клавесина было в то время непривычным, равно как и идея
исполнять старинную музыку на тех инструментах, для которых она была написана.
Волконский много выступал также как ансамблист.
Огромную роль в популяризации старинной музыки самого
широкого спектра сыграл основанный им в 1964 году ансамбль
«Мадригал», существующий до сих пор.
Волконский-интерпретатор неотделим от Волконского-композитора. Его подход к старинной музыке свободен от
догматизма любого рода, в том числе и стилизаторского.
«Я никогда не интересовался и не занимался стилизацией,
потому что считаю, что это самое плохое, что может быть. Нет,
влияние было скорее обратное: мое композиторское творчество отражалось на моем исполнительстве» [цит. по: 7, 72].
Исполнительская деятельность Волконского принесла
ему известность. Что до композиции, то уже к началу 60-х годов его сочинения превратились в подручный материал для
официозной критики, причем не только на уровне Союза композиторов, но и выше. Так, Волконский был упомянут тогдашним главным идеологом Л. Ильичевым на совещании, последовавшем за памятным посещением Хрущевым выставки
в Манеже. Поэтому сочинения Волконского допускались к звучанию крайне редко: например, в 1965 году дирижеру
Игорю Блажкову удалось исполнить «Жалобы Щазы» — до этого музыка Волконского не исполнялась пять лет. Премьера была
встречена гробовым молчанием прессы. «Странствующий
концерт» дожидался исполнения на родине более двадцати
лет: он прозвучал в Москве в 1990 году в одном из концертов фестиваля «Альтернатива» 3 .
Почти полная невозможность пробиться на концертную эстраду с собственными сочинениями оказалась, вероятно, главной причиной эмиграции Волконского в 1973 году.
С этим же во многом связана и количественная скромность его творчества. Ситуацию не изменило и переселение
3. Об «Альтернативе» см. далее в главе «Общие тенденции» раздела
«Постсоветское музыкальное пространство».
во Францию - за три десятилетия Волконский создал лишь
несколько опусов 4 . Однако в каждом из них он разрешает
новую художественную задачу, создавая композиции высочайшего художественного уровня. На Западе Волконский занимает столь же независимую позицию, что и на родине. Его
вклад в отечественную музыкальную культуру еще ждет всесторонней оценки.
Судьба другого композитора-новатора, ярко заявившего о себе в начале 60-х годов, оказалась в истории послевоенной советской музыки одной из самых драматичных.
Николай Николаевич Каретников (1930 - 1994) начал свой творческий путь на той же волне «оттепельной» свободы, что и его
сверстники, причем начал с большим блеском. Окончив Московскую консерваторию в 1953 году (класс В. Шебалина), Каретников вскоре дебютировал в московском Большом театре
балетами «Ванина Ванини» по Стендалю (1961) и «Геологи»
(1963). Однако этот успех не имел продолжения. Другие новые
сочинения Каретникова практически не исполнялись: это была
«чистая музыка» инструментальных жанров, слишком радикальная для официальных концертов того времени. Каретников был
здесь не одинок: его коллеги, молодые новаторы, испытывали
те же трудности. Тем не менее его творчество, в силу разнообразных причин, замалчивалось особенно активно. Очевидно, не привлекло оно внимания и вне СССР: достаточно сказать, что на фестивале «Варшавская осень», служившем
«окном в Европу» для советских композиторов-авангардистов, его не исполнили ни разу. В результате Каретников
оказался обречен на раздвоение: чтобы добывать средства
к существованию, он много работал в кино и драматическом
театре, а «для себя», «в стол», писал автономную музыку так, как считал нужным.
В этой двойной жизни Каретников тоже не был
исключением: и Шнитке, и Губайдулина, и многие другие его
коллеги долгие годы существовали подобным образом. Но
у Каретникова это положение вещей приобрело несколько
4. Мугам для тара и клавесина (1974), «Immobile» («Неподвижное»)
для фортепиано с оркестром (1978), Lied (Песнопение) для четырех
голосов, «Was noch lebt» («То, что живо») для меццо-сопрано и струнного трио на текст Йоханнеса Бобровского (1985), Псалом 148 для
трех однородных голосов (1989), «Carrefour» («Перекресток») для инструментального ансамбля (синтезатор, фортепиано, гобой, два фагота, две валторны, скрипка, контрабас, 1992). Волконскому также
принадлежит книга «Основы музыкальной темперации» (М., 1998;
2-е изд. - 2003).
болезненный характер: он оказался почти полностью изолированным от профессионального взаимообмена в сфере автономной музыки, как бы предоставленным самому себе. Еще
в конце 50-х годов он овладел той техникой, которую считал
необходимой для себя: речь идет о серийном методе и нововенской школе, которую он понимал как центр европейской
музыкальной традиции: «Лично мне высшим достижением
в музыке представляется "Венская школа" — явление, совершенно уникальное в истории искусства. Это некая поразительная
эстафета, которая предваряется универсальным опытом Баха
(у которого взято всё основное): Гайдн, Моцарт, Бетховен,
Шуман, Брамс, Вагнер, Малер, Шёнберг, Берг, Веберн. Ее
можно представить себе как некоего гениального долгожителя, который родился под фамилией Гайдн и умер под фамилией Шёнберг, как некое восхождение, непрерывную единую линию, единый пласт сознания» [3,107\. В серийном методе
Каретников усматривал некую высшую, объективную ценность,
один из незыблемых законов музыки, действительных на все
времена. Сам он оставался верен додекафонии практически
всю свою творческую жизнь; во всяком случае, двенадцатитоновая организация имеется и в поздних опусах композитора:
опере «Мистерия апостола Павла», законченной в 1986 году,
и Фортепианном квинтете (1990). В этой приверженности
серийному методу Каретников - почти уникальное явление
в современной отечественной музыке. Для него был существен
лишь звуковысотный параметр: он не пошел, подобно Денисову и Шнитке, в сторону тотального сериализма, и авангардные идеи послевоенного периода, очевидно, вообще остались
ему чужды. Показательным примером каретниковской додекафонии может служить одно из его ранних сочинений Струнный квартет (1963) 5 . Это лаконичный четырехчастный
цикл с традиционным жанровым наклонением частей: соната,
скерцо-вальс, Lento и финал в темпе Largo, то есть еще более
медленный. Само письмо восходит к веберновскому: налицо
мотивная дробность, резкие фактурные переключения, динамические и штриховые контрасты на малых промежутках формы. Типична также структура серии, которая делится на три сегмента, где второй отражает первый в слегка неточном ракоходе,
а третий как бы суммирует их. b a h cis fis д f е с es d as.
Но есть и индивидуальные отличия. Они проявляются
в склонности к мелодическому, порой даже кантиленному
началу, особенно заметному в медленных III и IV частях,
5. М.: Советский композитор, 1985.
в сравнительной простоте серийных структур и довольно традиционном формообразовании. Справедливо замечание
М. Тараканова о «кантилене, прочерченной пунктиром» [6, 110].
В финале есть и еще одна особенность: Каретников использует единственную высотную позицию серии, благодаря чему весь
финал воспринимается как своего рода фактурно-динамические вариации на неизменную мелодию.
Другая ипостась додекафонного мелоса Каретникова
раскрывается в его вокальной мелодике, в операх. Здесь больше ощущается другая традиция — экспрессионистского театра
Альбана Берга.
К кругу молодых композиторов-авангардистов принадлежал в 60-е годы Алемдар Сабитович Караманов (р. 1934),
художник причудливой судьбы и оригинального дарования.
Турок по отцу, русский с материнской стороны, Караманов родился и вырос в Симферополе, там же закончил музыкальное
училище, после чего приехал в Москву для продолжения
образования. В 1958 году он закончил Московскую консерваторию по классу композиции (у Д. Кабалевского и Т. Хренникова), в 1963-м - там же аспирантуру. Начав свой творческий
путь в русле традиций московской школы, Караманов постепенно пришел к своеобразному авангардному стилю, в котором он сочинял недолго (1962 - 1964), но интенсивно и глубоко
индивидуально 6 . Характерно, что серийная додекафония не
нашла применения в его сочинениях, для которых типична
почти импровизационная свобода высказывания, «новое одноголосие», по выражению Ю. Холопова [8, 122], тяготеющее
к мелодическому письму. «Реально действующими являются
мелкие группы звуков с постоянно слышимым полутоном (малой ноной, большой септимой)... По форме - это скорее речитатив, речь, чем песня» (там же).
В 1965 году Караманов, не найдя возможности продолжать жить и работать в Москве, уехал на родину, в Симферополь. Там, находясь практически в полной творческой
изоляции, он пришел к новой концепции творчества, пронизанной христианскими идеями. Как и раньше, Караманов работает с исключительной интенсивностью, создав за два года
(1965-1966) цикл из десяти одночастных симфоний «Соверши6. В этот период были созданы: триптих для фортепиано «Пролог,
Мысль и Эпилог», Музыка для фортепиано № 1 и № 2, Музыка для
виолончели, (все - 1962), Музыка для скрипки и фортепиано, Десятая симфония в трех частях, Третий струнный квартет (все - 1963),
Второй скрипичный концерт (1964).
шася», а в 1976-1980 годах - другой, из шести симфоний, под
названием «Бысть»7 (не считая многочисленных произведений
других жанров). Все они написаны совсем иным языком, далеким от диссонантности авангардного периода, развивающим
традиции позднего романтизма.
• • •
Термин «советский авангард» начал употребляться
в первой половине 60-х годов, причем исключительно в зарубежной прессе. На родине это слово звучало в официозной
критике исключительно в негативном смысле — словосочетание «так называемый авангард» до некоторой степени заменило более ранний «формализм». К группе «авангардистов»
принадлежали композиторы из разных регионов СССР России, Украины, Прибалтики, Закавказья; движение было довольно широким по охвату, хотя, конечно, не массовым. Кроме упомянутых выше Волконского, Каретникова и Караманова, здесь должны быть названы снискавшие наибольшую
известность Альфред Шнитке (1934-1998), София Губайдулина (р. 1931) и Эдисон Денисов (1929-1996) - «московская тройка», по слову дирижера Г. Рождественского, закрепившемуся
как бойкий журналистский заголовок. Значительным оказался
вклад и других молодых художников: Сергея Слонимского
(р. 1932), Бориса Тищенко (р. 1939), Родиона Щедрина (р. 1932),
Арво Пярта (р. 1935), Валентина Сильвестрова (p. 1937)8, Романа Леденёва (р. 1935), Леонида Грабовского (р. 1935) и ряда
композиторов Грузии, Армении и Литвы. Волна обновления
затронула также композиторов старшего поколения, таких как
Кара Караев (1918-1982) и Андрей Эшпай (р. 1925); коснулась
она и Дмитрия Шостаковича.
Начальная стадия освоения серийности, естественно,
стала не только практической, но и теоретической. Додекафонии в советских консерваториях не учили, не было в СССР
и живых носителей этой традиции. Единственным исключением можно считать Филиппа Гершковича (1906-1989), ученика
Веберна и Берга, в 1940 году бежавшего от фашизма в СССР
и с 1946-го по 1987-й жившего в Москве. С Гершковичем так
или иначе общались почти все московские композиторы авангардного направления. Однако нет сведений, что кого-то из них
он обучал додекафонии. К ее практическому применению сам
Гершкович обратился лишь в середине 60-х годов; подобно
7. О симфониях Караманова см. в главе «Отечественный симфонизм
после Д. Шостаковича и новый облик симфонии-драмы».
8. См. ниже монографические главы.
своим учителям, он строил преподавание главным образом
на классико-романтическом наследии.
Теоретическим подспорьем в освоении серийности
служили зарубежные книги, в первую очередь учебного характера, а также аналитические штудии произведений нововенской школы и послевоенного авангарда. Их результаты отчасти обнародовались как научный и учебно-методический
материал, а также в форме докладов в Союзе композиторов и
в Московской консерватории 9 . Практическое изучение подобного рода позволило критически осмыслить опыт предшественников, по возможности избежав прямого подражания: здесь
теория помогала творчеству. Таким путем молодые советские
авангардисты непосредственно включались в общеевропейские эволюционные процессы.
Акцент на технологии, характерный для авангарда
60-х годов, отнюдь не отменял тот факт, что новые способы
композиции несли новую музыкальную выразительность очень
широкого спектра. То, что эта выразительность в принципе должна быть чисто музыкальной, сохраняя чистоту своей специфики, придавало ей особую привлекательность в глазах молодого поколения советских композиторов. Для них это означало
преодоление идеологической отягощенности и прорыв к общекультурным ценностям. Новая музыка словно освобождала
от диктата времени и места, открывая невиданные доселе горизонты духовной свободы.
Необходимость «наверстывать» привела к тому, что
интервал между освоением «классической» нововенской
додекафонии и овладением новым методом тотального
сериализма оказался очень кратким. Так, Денисов создает
свои первые ортодоксальные додекафонные опусы в 1961 году; всего лишь через три года в финале «Итальянских песен»
для голоса и камерного ансамбля появляется серийная организация высот, длительностей и громкостной динамики [9,
84]. Для создания сериальных структур Денисов пользуется
цифровыми таблицами, аналогичными булезовским, и в техническом отношении движется в том же направлении, что и
его западные коллеги, то есть к индивидуализации серийной
структуры в каждом отдельном сочинении. В «Итальянских
9. Примерами могут служить статья Э. Денисова «Вариации ор. 27
для фортепиано А. Веберна», позднее опубликованная в его авторском сборнике «Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники» (М., 1986), а также доклад А. Шнитке о композиторской технике К. Штокхаузена, прочитанный в Московской
консерватории 7 мая 1970 г.
песнях» таким индивидуализирующим моментом становится
серийный расчет временных интервалов вступлений голосов.
«Теперь не только серия избирается для произведения, но
и путь от серии до звуковой ткани», - заключают Ю. Холопов
и В. Ценова (9, 84).
А. Шнитке, активно работавший в сфере сериализма
в первой половине 60-х годов, также не копирует западные
образцы. Если в раннем опусе подобного рода - «Музыке для
камерного оркестра» (1964) Шнитке прямо использует технику «Структур» Булеза [см. авторский комментарий: 11, 38~39],
то довольно скоро он оказывается уже критиком этой системы,
ее действительно уязвимых мест - в первую очередь временной организации. Шнитке обращает внимание на то, что ортодоксальное применение булезовских ритмических структур, образуемых чередованием равновеликих циклов (сумма,
образуемая двенадцатью различными длительностями), неизбежно приводит к монотонии. «Если строго формализовать
музыку, то одной серии и одного цифрового ряда, выводимого из нее, оказывается недостаточно. Этот цифровой ряд
при переводе, скажем, в ритм начинает казаться чистым капризом... в нем не будет накопления или статики, а будет рваность и бессистемность» [11, 63]. Выходом для Шнитке стало
обращение к идее прогрессии, в частности - к ряду простых,
или Эратосфеновых, чисел как ее конкретному воплощению 10 .
Строгая система высотных и ритмических прогрессий формируется в эти годы и в музыке Арво Пярта. София Губайдулина
обращается к применению чисел Фибоначчи 11 , другой разновидности прогрессии, которая и позднее используется ею как
организующий принцип.
Идея прогрессии в то время витала в воздухе, поскольку позволяла внести элемент иерархии в «безвоздушное пространство» тотального сериализма, где все было равновесомо,
следовательно, в равной степени «неважно»12.
Витали в воздухе и другие композиторские идеи,
как, например, сонорное сверхмногоголосие, или микрополифония, как назвал это явление Д. Лигети, одним из первых
10. Эратосфенов ряд составляют числа, делящиеся только на самих
себя или на единицу.
11. Числа Фибоначчи - ряд, где каждое последующее число равно
сумме двух предыдущих.
12. В наиболее целостном и широкомасштабном варианте идея прогрессии была сформулирована Штокхаузеном в его теории формантных спектров, охватывающей все параметры звука на основе первичной единицы - акустического колебания.
разработавший данный вид письма. Его сочинения в этой
манере лишь с опозданием достигли советских композиторов:
информационная замкнутость продолжала давать знать о себе.
Микрополифоническое письмо Шнитке и Пярта возникло отнюдь не как освоение чужого успешного опыта, а как результат
самостоятельных поисков в некоем общем направлении.
В конечном итоге, вопросы приоритета здесь не столь важны,
однако Шнитке был несомненно прав, заметив тогда: «Наша
отрезанность от зарубежного авангардного рынка создает такое положение, при котором все, что у нас возникает, кажется
заимствованным оттуда» [11, 26].
Особо следует отметить возникшие в то время попытки связать серийный метод сочинения с национальным интонационным материалом. Одним из первых сочинений подобного рода стал законченный в 1965 году цикл пьес для
фортепиано «Шесть картин» Арно Бабаджаняна (1921-1983).
Как уже упоминалось, в середине 60-х годов начал применять
додекафонию также К. Караев, создавший один из самых интересных вариантов подобного синтеза. Весьма активно развивали эту сферу литовские композиторы, например Витаутас
Баркаускас(р. 1931), вообще склонный к соединению элементов авангарда и фольклора (в Литве сохранились древнейшие его формы). Русские композиторы также не остались
в стороне: здесь можно назвать, например, камерную кантату «Плачи» Денисова (1966), написанную на фольклорные
тексты 13 .
Период увлечения авангардными техниками длился
у советских композиторов недолго. Уже во второй половине
60-х годов обозначился отход от ортодоксального серийного
и сериального письма в пользу более свободных смешанных
вариантов. Однако и на Западе тотальный сериализм как триумф строгой технологии просуществовал не более десятилетия.
Его сменила алеаторика 14 , а затем - индивидуальные методы
композиции, основанные на симбиозе различных звуковых
элементов. Резкая критика авангарда, постепенно превратившегося в новый академизм, звучит в это время из уст самих
авангардистов. В отфильтрованный музыкальный материал,
каждый раз заново выстраиваемый композитором, проника-
13. См. также главу «Новая фольклорная волна».
14. Метод композиции, при котором элементы материала или формы
(либо и того и другого) не фиксируются автором. Алеаторика предполагает, в той или иной степени, исполнительскую импровизацию.
ют «предоформленные» (Штокхаузен) элементы. Так устанавливается связь с традицией в широком смысле слова.
Аналогичные процессы характерны и для сферы звучания как такового - области сонорики, то есть тембра и связанных с ним фактуры и динамики. В этой области советские
композиторы вообще оказались более сдержанны, чем западные. Движение в глубь музыкального звука, освоение спектра
шумов, новые способы звукоизвлечения и, шире, новая эстетика звука - все это советский авангард адаптировал лишь частично. Так, практически не появились чисто шумовые композиции, даже в тех случаях, когда использовались одни ударные
инструменты, - значительное число таких произведений создала в свое время Губайдулина, а также Вячеслав Артёмов
(р. 1940). Не нашла тогда широкого распространения и электронная музыка, прежде всего из-за отсутствия должного технического обеспечения. Единственная в 60-е годы в СССР студия, открытая в 1966 году при музее А . Н . С к р я б и н а ,
существовала вокруг синтезатора А Н С работы инженера
Е. Мурзина. Там были созданы отдельные яркие сочинения, как,
например, пьеса Губайдулиной «Vivente - поп vivente»
(«Живое - неживое», 1970), в основу которой положена тонко
реализованная идея перехода от электронных звучаний
к «натуральным», вокальным и инструментальным. Однако
подлинным приверженцем электронной музыки стал Эдуард
Николаевич Артемьев (р. 1937), который после завершения
академического образования (он закончил Московскую консерваторию как композитор в классе Ю. Шапорина и Н. Сидельникова) профессионально работал в сфере акустических исследований, посвятив себя исключительно этой сфере (позднее
Артемьев стал известным кинокомпозитором). В 1969 году
Артемьев создал на синтезаторе АНС свое самое значительное
произведение в жанре чистой (не прикладной) электронной
музыки - «Двенадцать взглядов на мир звука: вариации на
один тембр». Ее исходным материалом послужил тембр якутского инструментатемир-комуз, который подвергается различным электронным преобразованиям, — на их основе складывается вся пьеса. «Продолжать эти вариации можно
сколько угодно, ибо такое количество обертонов можно комбинировать бесконечно» [комментарий автора цит. по: 4, 189].
Хотя чистая электронная музыка и не развилась в советской музыке тех времен в самостоятельную сферу, сам характер ее звучания оказал заметное воздействие на трактовку
традиционных инструментов и человеческого голоса. Прежде
всего здесь необходимо отметить микроинтервалику — также
одно из «общих мест» авангардного композиторского письма.
Издавна существовавшая в вокальном и инструментальном исполнительстве, в X X веке микроинтервалика была осознана как
особое измерение звука, позволяющее раздвинуть жесткие
рамки темперации, - та область, где высота как бы перетекает
в тембр. Микроинтервалика стала важнейшим элементом сонорики - музыки тембров. Однако для советских композиторов наиболее актуальной оказались интонационные, мелодические возможности микротонов, их способность имитировать
речевую экспрессию, импровизационную «неотшлифованность» живого человеческого голоса.
Так же своеобразно преломилась в советской музыке
идея пространственности, одна из важнейших для сонорной
(темброфактурной) композиции. Ее воплощение отечественными композиторами довольно редко бывало связано с реальным физическим разделением планов по типу «Групп»
Штокхаузена для трех оркестров. Гораздо чаще встречались
пространственные эффекты в условиях обычного расположения инструментов, достигаемые специальными тембродинамическими и фактурными приемами 15 . Quasi-пространственная
артикуляция планов специально культивируется Гией Канчели,
Валентином Сильвестровым и Аветом Тертеряном; для второго
из,них характерны эффекты искусственной (темброфактурной)
реверберации, отчасти перекликающиеся с инструментальным
письмом Л. Берио зрелого периода16.
Совершенно очевидно, что и додекафония, и тотальный сериализм, и сонористика, и другие методы авангардного
письма были восприняты советскими композиторами с большой степенью самостоятельности. Именно в области интерпретации, истолкования решается в конечном итоге важнейший
вопрос, касающийся уже не хронологического приоритета и
прочих не столь существенных в искусстве вещей, но затрагивающий самую сердцевину творчества — проблему смысла высказывания, качественного своеобразия и глубины художественного решения.
Как уже говорилось, авангардный период в советской
музыке длился недолго, чуть больше десятилетия. Он не имел
и большого количественного размаха - сравнительно скромное число преимущественно молодых композиторов было затронуто поисками новых звучаний и новых техник. Стимулы
15. К тому же эти приемы не всегда были новыми; впрочем, и реальная пространственность, как известно, далеко не нова: здесь можно
вспомнить, например, барочную практику многохорности.
16. См. подробнее в монографической главе.
изобретений и открытий, очевидно, исчерпались во второй
половине 60-х годов, когда в музыку авангардных авторов
стали все сильнее проникать традиционные элементы самого
широкого спектра. Все это, по-видимому, должно свидетельствовать о слабости, «недопроявленное™» авангарда в советской музыке.
Однако и на Западе чистый авангард второй волны, то
есть послевоенный, просуществовал недолго, те же десятьпятнадцать лет (50-е - начало 60-х годов). Как и классического
авангарда начала века, его не хватило даже на одно композиторское поколение. Группа последовательных авангардистов
тоже не отличалась многочисленностью. Правда, западные
композиторы действовали в других социальных условиях.
Творческие поиски любого рода имели почти беспрепятственную возможность реализоваться, сочинения исполнялись и
издавались, сформировалась устойчивая инфраструктура,
включавшая необходимые учреждения, связанные с функционированием новой музыки, - электронные студии, исполнительские коллективы, фестивали, летние курсы, радиопередачи. Даже обычная концертная публика постепенно привыкала
к экспериментам. Советские композиторы нового направления
не только не имели подобных возможностей, но и были вынуждены существовать как бы на осадном положении. Зато на
их стороне находилась значительная часть образованного общества, интеллигенции, поддерживавшей любые проявления
духовной свободы, будь то литература, кино или новая, не всегда понятная музыка. В советских условиях такая поддержка в
немалой степени компенсировала недостаток официальных
институтов.
Очевидно, что авангард как творческое состояние не
только не бывает, но и не может быть длительным, как не может долго длиться взрыв. Дальше наступает период адаптации, «встраивания» авангардных изобретений и открытий
в существующий культурный опыт, то есть - в традицию.
При этом, естественно, смягчаются или вовсе уходят крайности авангарда.
Крайностью был тотальный сериализм, с его господством рационального начала. Но сама идея рациональной
организации в пределах некоей избранной шкалы продолжает
существовать, равно как и принцип серийной матрицы в звуковысотной организации, уже не обязательно двенадцатитоновой, допускающей повторения звуков. Недолго просуществовала и чистая сонористика, сводившая звуковысотные
связи к соотношениям регистров и плотностей сонорных кон-
фигураций. Постепенно из тембровых сгущений и разрежений
стала рождаться мелодическая интонация - линия из красочного «пятна». Но эта новая мелодика не повторяла старую она была по-особому чутка к тембру, из которого произошла.
Чистая электроника, создававшаяся и воспроизводившаяся исключительно с помощью «машины», тоже эволюционировала
в сторону контактов с «живыми» акустическими инструментами и голосом (так называемая live-электроника); кроме того,
она нашла широчайшее применение как прикладной жанр.
Таким образом, авангардный «взрыв» создал некий
резервуар средств и приемов, пригодных для дальнейшего
освоения. Процесс насыщения приема смыслом был повсеместным, но советским композиторам принадлежало в нем особое место. Стремление к осмыслению художественного высказывания, к его всеобщности, к обсуждению экзистенциально
важных, «последних» вопросов бытия - типологическая черта
русского искусства, восходящая к его давнему прошлому. Поэтому процесс смыслового наполнения авангардных изобретений, скрещивания их с традицией протекал у советских
композиторов настолько интенсивно, что скоро начал затмевать их собственно авангардные достижения — тем более,
что совпал со вступлением большинства из них в период
зрелости.
В этом аспекте становится понятной позднейшая переоценка авангарда, например, Софией Губайдулиной, недолюбливающей само это слово за политизированность: «С музыкальной точки зрения, - говорит она о своем поколении, - все мы
никакие не авангардисты» [интервью цит. по: 12, 38]. Но к началу 90-х годов, к которым относится это высказывание, авангардный опыт давно превратился в устойчивую традицию, и
поворот советских авангардистов оказался частью всеобщей
эволюции современной музыки, во многом независимой от государственных границ.
•••
Волна «оттепельного» обновления, охватившая музыку, как и все советское искусство в целом, затронула художников разных поколений и различной стилистической ориентации. Разнообразными оказались и формы проявления новизны.
Авангардные техники, о которых выше шла речь, были приняты далеко не всеми композиторами; некоторые предпочли
воспользоваться ими лишь отчасти, другие сильно их модифицировали, третьи вообще обошлись без них в своих новаторских поисках.
Например, Д. Шостакович в своих поздних сочинениях создал глубоко индивидуальный вариант двенадцатитоновое™ - несерийной додекафонии, естественно сформировавшейся на почве специфических модальных, то есть в первую
очередь мелодических структур 1 7 . Николай
Николаевич
Сидельников (1930-1992), крупный композитор ярко национального дарования, один из зачинателей «новой фольклорной волны»18, обратился к серийному методу лишь однажды в Концертной симфонии «Дуэли» (1974). Согласно авторскому комментарию, «начиная с главной партии первой части,
серия представляет собой своего рода звуковую "матрицу",
состоящую из 13 звуков, где 12 звуков неизменны, а 13-й "случаен" и вносит элемент свободного развития. В отличие от шёнберговского принципа, "матрица" эта не транспонируется,
а лишь тесситурно располагается в звуковом пространстве,
а также нарушается изнутри переменой тринадцатого звука»
[цит. по: 2, 87]. Очевидно, что серийный принцип трактуется
автором как своеобразный вариант лейтмотивного объединения цикла, части которого носят программно-философский характер 19 .
Более заметные следы оставил серийный метод в творчестве Романа Семеновича Леденёва (р. 1930), композитора,
в целом близкого русской отечественной, а не западной традиции. Питомец Московской консерватории 20 , Леденёв начинал свой творческий путь под влиянием С. Прокофьева, посвятив его памяти Сонату для фортепиано (1956). Другое
направление интересов Леденёва обозначили монументальные сочинения кантатного жанра, среди которых выделилась
оратория «Слово о полку Игореве» (1954, вторая редакция
1977). В начале 60-х годов наметившаяся плавная эволюционная линия была нарушена: молодой композитор включился
в активное изучение музыки нововенской школы, что не замедлило сказаться на его творческой манере. Больше всего Леденёва поразила чистота и лаконизм музыки Веберна: «Каждый
звук образный, содержательный, вмещающий в себя очень
17. Подробнее см. об этом в главе «Поздний период творчества
Д. Шостаковича».
18. См. о нем в главе под этим названием.
19. Их названия: «Соотношение неопределенностей», «Борьба гармонии и хаоса», «Поединок закономерности и случая».
20. Леденёв закончил ее в 195Б г. (в 1958 г. - аспирантуру) в классе
Ан. Александрова, тонкого лирика позднеромантического направления, автора изысканных «Александрийских песен» на стихи Михаила Кузмина.
многое» [цит. по: 10, 747]. Результатом этого увлечения стала
серия камерных инструментальных миниатюр, «залпом»
появившихся из-под пера Леденёва во второй половине
60-х годов: Шесть пьес для арфы и струнного квартета (1966),
Десять эскизов для камерного ансамбля (1967), «Семь настроений» для камерного ансамбля (1967), Три ноктюрна для
камерного оркестра (1967). Затем были написаны «Попевки»
для струнного квартета (1969) и «Четыре зарисовки» для камерного ансамбля (1972). Эти произведения связаны с новым
для композитора кругом художественных задач, для них характерна образная многоплановость, быстрота смен настроений.
Как и у Веберна, акцент сделан не на традиционном развитии,
а на изложении, как правило, афористически-кратком, «конспективном». Мелодический тематизм, сохраняя свое главенствующее значение (Леденёв всегда остается мелодистом),
превратившись в мотивы и микромотивы, становится по-новому гибким и концентрированным. Единство интервальной
структуры, характерное для Шести пьес для арфы и струнного
квартета, в «Десяти эскизах» естественно приводит к появлению додекафонии. Так, в шестой пьесе (Adagio) на остинатном фоне из трех звуков последовательно появляются две мелодические фразы, пятизвучная и четырехзвучная. В сумме
складывается додекафонная серия, примечательная своим
диатоническим характером: ges es f a d е h д des b as с.
Та же линия, но «с русским акцентом», сохраняется
в «Попевках», где, наряду с Веберном, в не меньшей степени
ощущается и Стравинский. Методы нового камерного письма
приложены здесь к фольклорному по характеру тематизму.
Леденёз постепенно выходит из «круга Веберна» (В. Холопова),
возвращаясь к основам собственного стиля. Сам композитор
позднее так комментировал свой поворот: «Для меня в определенный момент эскизная, условно говоря, манера как бы исчерпалась, я потерял к ней интерес. Как ни увлекательно было
работать с краткими мотивами, меня вновь потянуло к тому,
что, видимо, более близко моей природе, - к национальной
определенности, к широкому мелодическому дыханию» [цит.
по: 10, 744]. Центральными для Леденёва становятся вокальные жанры, стилистически ориентированные на традицию
Г. Свиридова, отныне сознательно им культивируемую. В последующие годы появляются два цикла на стихи Н. Некрасова кантата для солистки, хора и оркестра «Родная сторона»
и «Некрасовские тетради», двадцать песен, романсов, поэм для
баса и фортепиано (оба 1977), а также Три поэмы на стихи
Н. Рубцова для баса и оркестра. Леденёв обращается также
к жанрам православной литургии (Четыре духовных песнопения для смешанного хора, 1991, и Всенощное бдение, 1994).
Другая ветвь его творчества связана с жанром инструментального концерта, который он трактует в 80-е годы в духе русской
позднеромантической традиции. Характерны подзаголовки
этих сочинений, уточняющие их характер: Концерт-элегия для
виолончели с оркестром (1980), Концерт-романс для фортепиано с оркестром (1981), Концертная речитация для виолончели с оркестром (1990).
В творчестве композиторов старшего поколения моменты обновления, как правило, трудно отделить от традиции,
в русле которой формировался и эволюционировал художник.
Мечислав (Моисей) Самуилович Вайнберг (1919-1996) 2 1
испытал сильное влияние Шостаковича, восприняв в первую
очередь монологический, исповедальный тон музыки великого современника. Наряду с симфонией и оперой, Вайнберг
культивировал в своем творчестве камерно-инструментальный
жанр - им создано 17 квартетов, фортепианный квинтет и целый ряд сочинений для иных составов. В 60-е годы в его камерном стиле появляются новые черты: он начинает использовать додекафонные темы, экспериментирует со структурой
квартета, стремясь придать ей особую слитность, преодолеть
циклическую расчлененность. Во многом его поиски шли параллельно с эволюцией Шостаковича, однако некоторые новшества возникли у Вайнберга независимо и даже раньше, чем
у старшего мастера. Особого внимания заслуживает интерес
композитора к сольным произведениям для струнных инструментов: 24 прелюдии для виолончели соло (1968), три сонаты
для скрипки соло (1964,1967,1979), три для альта (1971,1978,
1982), четыре для виолончели (1960,1964,1971,1985), две для
контрабаса (1971, 1981).
24 прелюдии для виолончели соло, посвященные
Мстиславу Ростроповичу 22 , - «уникальное произведение, одно
из самых значительных сольных произведений для этого инструмента в X X веке» [5, 777]. Тональности пьес цикла расположены по хроматической гамме, сначала восходящей, затем
нисходящей. Тональность здесь трактована согласно хроматической системе Хиндемита: имеется в виду не мажор или минор, а расширенная система, ориентированная к центру, основному тону. Сам инструмент трактован в цикле во всеоружии
21. М. С. Вайнберг родился в Варшаве и там начал свое музыкальное
образование. В 1939-1941 гг. учился в Минской консерватории у Василия Золотарева. С 1943 г. жил в Москве.
22. М., 1976 (без посвящения).
своих возможностей, поистине универсально — и как кантиленный, и как характерный, поражающий разнообразием штриховой техники. В двадцатой и двадцать первой прелюдиях
Вайнберг цитирует два сочинения Шостаковича: Первый виолончельный концерт и Сонату для виолончели и фортепиано —
дань уважения почитаемому мастеру и другу.
Камерная утонченность письма, сформировавшаяся
в советской музыке 60-х годов как новое, непривычное поначалу качество, своеобразно проявилась в творчестве Бориса
Александровича Чайковского (1925—1996)23. Для него это было
естественное, от природы доставшееся свойство. Высоко ценимый слушателями и многими коллегами, Б. Чайковский занимал в советской музыкальной жизни обособленное положение:
в равной степени далекий от официального традиционализма
и от стилистических экспериментов, он тяготел к чистому лирическому самовыражению, отмеченному благородной сдержанностью и простотой. Б. Чайковский сочинял преимущественно в традиционных жанрах, не слишком стремясь к их
трансформации: очевидно, его композиторской мысли было
достаточно просторно в них. Его камерная музыка - Фортепианный квинтет (1962), струнные квартеты (общим числом
шесть, 1954-1976) - отличается тематическим богатством,
тонкой фактурной проработкой и редкой естественностью развертывания, как правило, устремленного к заключительному
разделу формы. По точному наблюдению М. Арановского,
«в изяществе конструктивного мышления, в процессе сложного поиска и отбора средств сказывается душевная тонкость, чистота художественной эмоции и высшая простота мысли. <...>
Это - если так можно выразиться - лирическое отношение
к самому музыкальному звуку, к самой музыке как высшей ценности духовной культуры человека, высшей степени его интеллигентности» [1, 63].
У Б. Чайковского, писавшего в основном инструментальную музыку, вокальных сочинений немного. Однако они
очень весомы, и не случайно один из этих опусов, Четыре стихотворения И. Бродского для сопрано и фортепиано (1965) 24 ,
23. Б. Чайковский родился и прожил всю свою жизнь в Москве. Учился
в Московской консерватории у В. Шебалина, Д. Шостаковича
и H. Мясковского (композиция), Л.Оборина (фортепиано). О симфоническом творчестве Б. Чайковского см. в главе «Отечественный
симфонизм после Д. Шостаковича и новый облик симфонии-драмы».
24. Это одно из первых обращений в музыке к поэзии опального
в то время поэта.
Б. Чайковский превратил затем в инструментальные Четыре
прелюдии для камерного оркестра (1984). К вершинным созданиям композитора относятся камерная кантата «Знаки Зодиака» на стихи Н. Заболоцкого для сопрано, клавесина и струнного оркестра (1974) и вокальный цикл «Лирика Пушкина» для
сопрано и фортепиано (1972).
Б. Чайковский избрал для своего цикла восемь стихотворений, большей частью посвященных темам творчества, назначения поэта, размышлениям о смысле жизни, о ее радостях
и скорбях. Стихотворение о любви только одно («В последний
раз твой образ милый»), и оно помещено на заметном месте,
в середине цикла. Этот номер, с его благородно-сдержанной
кантиленой, светлыми диатоническими гармониями и легкими фигурациями сопровождения, в наибольшей степени приближен к классическому романсу пушкинской поры, вызывая
в памяти пластичные глинкинские мелодии. Те же стилистические признаки заметны и в некоторых других пьесах цикла, например в «Талисмане» («Храни меня, мой талисман»), с его
хоральной фактурой, в романсе «Дар напрасный», где явственны признаки элегии. Психологически тонко интерпретировано
стихотворение «Если жизнь тебя обманет». Оно звучит дважды: первый раз в сумрачном ре миноре, со скупыми аккордовыми вертикалями фортепиано, «в ключе печали»; второй раз
те же два четверостишия переинтонированы в светлом Ля-бемоль мажоре в сопровождении звончатых аккордов в высоком
регистре: «Что пройдет, то будет мило». Завершается цикл одним из шедевров поздней лирики Пушкина, своего рода исповеданием веры: «Недорого ценю я громкие права» («Из Пиндемонти»). Противопоставление ложного и истинного смысла
творческой жизни воплощено композитором в контрасте иронически скандированных фанфарных интонаций и широкой
вольной кантилены (фанфара превращается в нейтральную
фигурацию в чистейшем «белоклавишном» До мажоре).
Полувековой промежуток времени, отделяющий новое столетие от рубежа 5 0 - 6 0 - х годов, позволяет взглянуть на
этот период в исторической перспективе. Можно сказать
с большой долей уверенности, что в это время на авансцену
выступила самая яркая после классиков генерация. Она достойно сменила Прокофьева и Шостаковича, напомнив
ослепительным взрывом новаторства об их молодости и собственном начале пути. Не утратив почвы традиции, новое
поколение сумело преодолеть ее ограниченность обращением
к открытиям зарубежной музыки. В кратчайший срок, буквально
за несколько лет, советские музыканты овладели целым
арсеналом авангардной композиторской техники, быстро
пройдя этап ученичества и превратившись в самостоятельно
мыслящих интерпретаторов авангардных идей. С этого времени можно говорить о равноправном положении советской
музыки на международной художественной арене, о ее «конкурентоспособности».
Соединение мощных отечественных традиций и западного художественного опыта дало беспримерные результаты,
не ограничившиеся пределами бывшего СССР. Содержательное, смысловое богатство советской музыкальной традиции послужило своеобразной лакмусовой бумажкой для авангардных
изобретений и открытий - в конечном итоге, ею усваивалось
лишь то, что было действительно жизнеспособно. Новая ситуация равноправия с западной музыкой, сложившаяся благодаря талантам нового поколения, укреплялась переосмыслением нового в русле традиционного, включением авангардного
опыта в систему устойчивых музыкальных и культурных
ценностей.
Литература
1. Арановский М. Симфонические искания. Л., 1979.
2. Гоигорьева Г. Истинно русский композитор: о музыке Н. Сидельникова / / Музыка из бывшего СССР / Сб. статей. Вып. 2. М., 1996.
3. Каретников Н. Темы с вариациями. М., 1990.
4. Катунян М. Эдуард Артемьев: архитектор и поэт звука / / Музыка из
бывшего СССР / Сб. статей. Вып. 2. М., 1996.
5. Никитина Л. Камерно-инструментальная музыка // История современной отечественной музыки. Вып. 3. 1960-1990. М., 2001.
6. Тараканов М. Драма непризнанного мастера. О творчестве Николая
Каретникова // Музыка из бывшего СССР / Сб. статей. Вып. 1. М., 1994.
7. Холопов Ю. Инициатор: о жизни и музыке Андрея Волконского //
Там же.
8. Холопов Ю. Аутсайдер советской музыки: Алемдар Караманов //
Там же.
9. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993.
10. Холопова В. Лабиринты творчества Романа Леденёва / / Музыка
из бывшего СССР. Сб. статей. Вып. 1. М., 1994.
11. Шульгин Д. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. М., 1993.
12. Neue Zeitschrift fur Musik. 1993. Mai.
Поздний период творчества
Д. Шостаковича
Д м и т р и й Д м и т р и е в и ч Шостакович (1906—1975)
принадлежит к крупнейшим фигурам в музыкальном мире
X X столетия. Особенно значительно его место в отечественной
культуре. После смерти Н. Я. Мясковского (1950) и С. С. Прокофьева (1953) он до конца своей жизни оставался безусловным
лидером советской композиторской школы. Его творчество
было ориентиром и для многих музыкантов последующих
поколений.
Поздний период творчества Шостаковича выделяется
как достаточно целостное явление, во многом определившее
облик отечественного искусства своего времени. По мнению
большинства исследователей, о феномене позднего Шостаковича можно говорить в связи с его произведениями 60-70-х годов,
то есть последних пятнадцати лет жизни композитора. Именно
этот период и будет центром нашего рассмотрения в предлагаемом очерке. В то же время совершенно очевидно, что адекватное понимание его особенностей невозможно без учета
творческих событий предыдущего десятилетия, в течение которого активно созревали те перемены, которыми отмечен последний период деятельности Шостаковича. Обращение
к 50-м годам поможет нам более наглядно оттенить специфику
позднего периода. Кроме того, некоторое раздвижение временных границ нашего повествования вполне соответствует хронологическим рамкам всего настоящего издания.
На сегодняшний день творчество Шостаковича в целом (и его поздний период в особенности) — область повышенной дискуссионности. Столкновения противоположных оценок
и разных истолкований отдельных его произведений постоянно сопровождали путь композитора. Не утихают эти споры
и после его смерти. Особую остроту полемика вокруг Шостаковича приобрела в 90-е годы прошлого столетия, продолжаясь
и в начале XXI века. Причины этого - в самом складе дарования художника, обращенного к больным и сложным проблемам его времени. «Видно, на роду ему было написано быть
центром полемики - как при жизни, так и за ее пределами», резюмировал эту ситуацию М. Арановский [4, 2]. Объектом
споров становятся и оценка гражданской позиции композитора, его отношений с официальной властью (как в условиях
тоталитарного режима, так и во время политической «оттепели»), и роль внемузыкальных стимулов его творчества, и понимание концепций его сочинений. Сомнениям подвергается
порой даже чисто художественная значимость его наследия1.
Естественно, что в предлагаемом обзоре нельзя не учитывать
эту разноголосицу суждений.
Несмотря на остроту полемики о Шостаковиче, кажется, ни у кого не вызывают сомнения некоторые определяющие
свойства его художественной индивидуальности: склонность
ктрагедийным концепциям, философской обобщенности мышления, соединение лирической исповедальности с проповедническим гражданским пафосом, огромный социальный темперамент, самобытность музыкального языка, смелость многих
творческих решений. Сохраняются эти качества и в тот период
деятельности композитора, о котором здесь пойдет речь.
В соответствии с выбранными временными ориентирами, очерк состоит из трех разделов. Первый освещает тенденции 50-х годов, подготовившие поздний период творчества
Шостаковича, два последующие соответственно — два этапа
последнего пятнадцатилетия: 1960-1966 и 1967-1975 годы.
1950 год, обозначивший хронологическую середину
столетия, отмечает и начало второй половины творческого пути
Шостаковича, разделив его симметрично на два 25-летия (если
считать творческим «стартом» премьеру Первой симфонии, состоявшуюся в 1925 году). К этому времени Шостакович - один
из самых известных и влиятельных советских композиторов
(наряду с Мясковским и Прокофьевым), имеющий высокий
престиж и в других странах (широкое признание за рубежом
принесла ему созданная в 1941 году знаменитая Седьмая
симфония).
Однако тогда же композитор переживает один из самых трудных периодов своей жизни. Это связано с поистине
1. Наиболее примечательной в этом отношении является позиция
Л. Акопяна, автора во многом спорной, но, несомненно, яркой и высоко профессионально выполненной монографии о Шостаковиче
[см.: 1].
шжт
катастрофическими последствиями «антиформалистической»
кампании, начало которой положило печально известное постановление ЦК КПСС 1948 года «Об опере Мурадели "Великая
дружба"». В нем Шостаковича, наряду с другими наиболее талантливыми советскими композиторами, обвинили в приверженности формализму, что в идеологических понятиях того времени означало «оторванность от народа», «субъективизм»,
«подверженность западным влияниям», «нарочитую усложненность музыкального языка». Это был уже второй удар, нанесенный мастеру всесильной тоталитарной властью (первым была
партийная критика в 1936 году). Он оставил глубокий трагический след в его душе и в его творчестве, определив многое в нем
на все последующие годы. Несмотря на эти обстоятельства,
творческая продуктивность композитора по-прежнему остается очень высокой.
Крупным достижением Шостаковича в начале 50-х годов стал цикл «24 прелюдии и фуги» соч. 87 (1951). Замысел
этого сочинения возник под впечатлением состоявшихся летом
1950 года торжеств по случаю 200-летия со дня смерти И. С. Баха.
Шостакович возглавлял делегацию советских музыкантов при
поездке в Лейпциг. Своеобразным приношением немецкому
мастеру и стал новый фортепианный цикл. Следуя в основном
модели баховского «Хорошо темперированного клавира»,
«24 прелюдии и фуги» представляют собой оригинальную художественную концепцию, ярко демонстрирующую отточенную
полифоническую технику и богатство образного мышления
композитора.
Атмосферу тех лет ярко характеризует тот факт, что, несмотря на неокпассицистскую ясность и строгость этого произведения, оно вызвало серьезные упреки блюстителей идеологической чистоты на состоявшемся тогда же в Союзе
композиторов обсуждении. В официальном отчете, в частности, отмечалось, что «не все прежние заблуждения до конца
преодолены Шостаковичем» [20, 55].
Обстановка вокруг творчества Шостаковича заметно
меняется с началом политической «оттепели» (как известно, толчком для нее послужили два события: смерть Сталина
в 1953 году и X X съезд КПСС в 1956-м). Еще при жизни «отца
народов» советские власти, подвергая жестокой критике
композитора, вместе с тем старались использовать его талант
и мировой авторитет для пропаганды достижений социалистической культуры. Теперь же, когда в системе жестких ограничений и запретов появились бреши и просветы, музыка
Шостаковича была почти полностью «реабилитирована».
исчезли многие барьеры, препятствовавшие росту ее влияния
и популярности. Шостакович приобретает статус официального лидера советской музыки, на него щедро сыплются награды
и должности (в частности, он занимает руководящие посты
в Союзе композиторов СССР и РСФСР). Но при этом сохраняется настороженность и недоверие властных инстанций к непокорному таланту Шостаковича.
В самой музыке композитора «оттепельные» тенденции почти не проявляются вплоть до 60-х годов. Косвенным свидетельством их влияния на творческие намерения музыканта
можно считать появившуюся сразу после смерти Сталина
Десятую симфонию ми минор соч. 93 (1953).
Это монументальное сочинение, продолжая линию
концепционного симфонизма Шостаковича (в первую очередь,
трагической Восьмой симфонии), несет в себе и некие принципиально новые черты. В Десятой симфонии впервые появляется мотив D - E s - C - H - «музыкальное имя» композитора.
В этом нельзя не увидеть предвосхищение ряда более поздних
произведений, что дало основание ученику Шостаковича
Б. Тищенко высказаться об истоках позднего периода так:
«Для меня данный период начинается с Десятой симфонии,
с D-Es-C-H, когда художник начал задумываться о своем месте... в системе мироздания» [40, 47].
Многочисленные унижения, которым подвергался
композитор в условиях тоталитарного режима, неизбежные
нравственные компромиссы, к которым вынуждал этот режим,
породили особый, горький взгляд на самого себя. Раскаяние и
самобичевание все чаще становятся объектом иносказаний в
музыке Шостаковича. Впервые это проявляется в Десятой симфонии, точнее - во второй теме III части, которая претендует
на роль одного из ключевых образов произведения и построена на мотиве D-Es-C-H:
[Allegretto J i s e ]
Симфония № 10. Ill часть
По словам М. Сабининой, «он звучит странно-механически, мертвенно, назойливо, словно композитор со страхом и
примесью гадливости видит себя марионеткой, "куклой на веревочке", которую властно дергают неумолимые руки Хозяина
Балагана» [34, 217\2.
Общая композиция симфонии включает четыре части.
I часть представляет собой типичное шостаковичевское
Moderato. В экспозиции сумрачно-сосредоточенное размышление главной партии сопоставляется с мягкой, словно призрачной танцевальностью побочной. Основной конфликт разворачивается в разработке. В кульминационных ее разделах
тематизм экспозиции претерпевает очень характерное для Шостаковича переосмысление: окрашенные субъективно-лирической выразительностью темы обретают агрессивное звучание.
II часть (Allegro) — это устрашающий натиск враждебных сил
(форму ее условно можно трактовать как трехчастную репризную) 3 . Особой многозначительностью автобиографических
подтекстов отмечена III часть (Allegretto). Две первые темы выдержаны в танцевальном движении (их можно рассматривать
как главную и побочную в рондо-сонате). О второй из них, использующей «музыкальное имя» композитора, уже шла речь.
Этой сфере противостоят «зовы валторны», образующие мотив
E-A-E-D-A — зашифрованное имя бывшей ученицы композитора Эльмиры Назировой E-L(a)-Mi-R(e)-A [см.: 22]. Этот эпизод обретает смысл тайного взывания к далекому другу. Финал
симфонии (Andante. Allegro) за внешней ясностью и безмятежностью тематизма скрывает трагические подтексты, которые
прорываются мощной кульминацией перед кодой, построенной на мотиве D - E s - C - H . В заключительном настойчивом
утверждении музыкального имени композитора можно услышать и «грозное предостережение» [29,278], и «злорадноеторжество» [1,322], и нечто противоположное - самоожесточение,
«кощунственную пляску на крышке собственного гроба» [13, 712].
Годы, последовавшие после окончания Десятой симфонии, многие исследователи считают кризисными, причем
сущность и протяженность кризиса оценивают по-разному.
Г. Орлов утверждает, что в творчестве Шостаковича все
2. В связи с этим психологическим комплексом возникает одна из
проблем позднего Шостаковича: проявление черт юродства в его личности и творчестве [см. об этом: 14].
3. В зарубежном музыкознании стало традицией усматривать в этой
части музыкальный «портрет Сталина». Эта интерпретация возникла
под влиянием нашумевших «Мемуаров Шостаковича», изданных
С. Волковым [см.: 42].
«последние два десятилетия <...> свидетельства растерянности», что «увидеть новую цель, найти себя в новых условиях ему
не удается» [28, 23]. Ф. Дружинин говорит о мучительном раздвоении, сопровождавшем творчество композитора с 1954 по
1964 год. Оно было вызвано потоком запоздалых наград и
прославлений. Это было раздвоение «между искренним желанием как-то отплатить своим творчеством за непрошенные
услуги и звания и реальным взглядом художника на все,
что творилось в стране...» [16, 178]. Л. Акопян называет годы
с 1954-го по 1958-й «наименее плодотворными», отразившими общий упадок советской музыки в «ситуации идеологической неопределенности» [1, 324].
«Мучительное раздвоение» проявлялось, в частности,
и в стремлении писать «на злобу дня», соответствовать требованиям официальной пропаганды. Шостакович и раньше
отдавал дань нуждам режима, но теперь (фактически после
1948 года) эта дань становится особенно весомой. «Официальная» линия творчества сохраняется вплоть до последних лет
жизни композитора. В ней условно можно выделить три направления. Первое составляют сочинения, непосредственно отражающие идеологические требования властей. Это удостоенная
Сталинской премии оратория «Песнь о лесах» соч. 81 (1949),
кантата «Над Родиной нашей солнце сияет» соч. 90 (1952),
Праздничная увертюра соч. 96 (1954), оперетта «Москва,
Черемушки» соч. 105 (1958), Двенадцатая симфония
«1917 год» соч. 112 (1961), симфоническая поэма «Октябрь»
соч. 131 (1967), Марш советской милиции соч. 139 (1970).
Второе направление образуют многие образцы киномузыки,
такие как музыка к кинофильмам «Падение Берлина» соч. 82
(1950), «Незабываемый 1919-й» соч. 89 (1952), «Первый
эшелон» («Целина») соч. 99 (1956) и др. Наконец, третью
разновидность здесь представляют опусы с явно упрощенной
творческой задачей (не связанные напрямую с каким-либо
социальным заказом, но отвечающие официальным требованиям «доступности» и «демократизма») - например, Два романса на слова Лермонтова соч. 84 (1950), два вокальных опуса на стихи Е. Долматовского (Четыре песни соч. 86 и Пять
романсов соч. 98, появившиеся соответственно в 1951 и
1954 годах), романс «Весна, весна...» на стихи Пушкина соч. 128
(1967). Намеренное нивелирование собственной художественной индивидуальности во всех «конъюнктурных» сочинениях
сочетается с безусловным музыкальным вкусом и композиторским мастерством. Некоторые из них обрели поистине все-
народную популярность (как, например. Романс из кинофильма «Овод»),
В связи с раздвоением творчества композитора на «художественно-концепционную» и «официальную» линии уместно, вслед за М. Сабининой, поставить вопрос: «Былолидва Шостаковича?» [см.: 33]. Наиболее убедительным представляется
ответ той же Сабининой: нет. Был реальный и цельный человек, творивший в чудовищных условиях тоталитарного
режима. Вопреки этим условиям и в значительной степени
благодаря вынужденным творческим компромиссам с властью
он сохранил жизнь своему дарованию и своей совести, суд
которой всегда оставался бескомпромиссным и суровым 4 .
На стыке «официального» и «подлинного» Шостаковича располагается Одиннадцатая симфония «1905 год» соч. 103
(1957). Восторженно оцененная соотечественниками в советский период, принесшая композитору высшую награду страны - Ленинскую премию, эта симфония в наше время все чаще
вызывает упреки в «конъюнктурное™» и даже художественной неполноценности. Однако музыка симфонии, взятая вне
программных истолкований, вряд ли может вызвать серьезные нарекания: ее искренность, яркость, композиционное
совершенство, кажется, должны говорить сами за себя. Вопросы вызывает соединение такой музыки с вполне официозным сюжетом, повествующим о событиях революции
1905 года. На эти вопросы убедительно отвечает Т. Левая:
« <...> Историческое прошлое страны, окруженное ореолом мученичества, имело, бесспорно, для Шостаковича и самостоятельную ценность. Бунтующий против сталинского мифа
о земном рае, он, подобно многим людям его поколения, не
был свободен от мифа революционного. Из этого источника многие цитаты-шифры в его творчестве, как бы знаменующие
собой крестный путь русской интеллигенции» [23 , 752]. Именно в этом ключе можно трактовать драму, разворачивающуюся в четырех частях симфонии. Используемые Шостаковичем многочисленные цитаты революционных песен и тем из
собственных Десяти поэм для хора на слова революционных
поэтов соч. 88 (1951) - те самые «шифры», о которых упоминает Т. Левая. Все образы здесь легко проецируются на современные для композитора реалии советского тоталитарного режима. I часть, «Дворцовая площадь» (Adagio), рисует
образ «страны-тюрьмы» (Г. Орлов); II часть, «Девятое января»
4. О диалектике раздвоения и цельности в творческой жизни композитора см. статью Д. Житомирского [17].
(Allegro), — нарастающее отчаяние и страшную сцену расстрела; III часть, «Вечная память» (Adagio), - скорбь о невинных
жертвах (тематическая основа части - цитата революционной
песни «Вы жертвою пали»); финальная IV часть, «Набат»
(Allegro поп troppo), - яростный протест, порыв к освобождению из-под гнета жестокой власти (главная тема части - мелодия песни «Беснуйтесь, тираны»).
Симптоматично, что примерно в это время Шостакович заканчивает свой ныне знаменитый «Антиформалистический раек» - злую пародию на идеологические штампы сталинской эстетики (разумеется, это сочинение оставалось
«засекреченным» при жизни его автора и зазвучало с концертной эстрады только в годы «перестройки»).
Значительное место в творчестве композитора 50-х годов занимают струнные квартеты: Пятый соч. 92 (1952),
Шестой соч. 101 (1959) и Седьмой соч. 108 (1960). В них
господствует тон сокровенно-лирического высказывания,
безмятежно-светлый (Шестой квартет) или с приглушенными отголосками тревог, сомнений и глубокой печали (Пятый
и Седьмой квартеты).
Последним крупным сочинением «предоттепельного»
периода в творчестве Шостаковича стал Первый концерт
для виолончели с оркестром Ми-бемоль мажор соч. 107 (1959).
Его четырехчастный цикл опирается на характерные для Шостаковича образные сферы: дерзкий вызов, сумрачную энергию
(I часть. Allegretto), возвышенную лирику (II часть, Moderato),
спонтанно разворачивающееся лирико-философское размышление (III часть, Cadenza) и бурлескный, полный горькой ожесточенности и иронических подтекстов финал (Allegro con
moto). По-видимому, из Антиформалистического райка перекочевала в последнюю часть концерта идея цитирования любимой песни Сталина «Сулико» (в концерте она представлена
в гротескно-искаженном виде).
1960 год - несомненный рубеж на пути композитора.
Здесь принято начинать отсчет поздним произведениям мастера, с этого года все настойчивее проявляются в его творчестве
новые черты. Среди них - углубляющаяся рефлексия, стремление осмыслить собственное прошлое, подвергнуть его суровому
суду совести, что, в частности, проявляется в обильном самоцитировании. Целый ряд произведений начинает объединяться так называемыми «междуопусными связями» (общностью
интонационно-смысловых формул) — свидетельство единого
истока глубоко личностного высказывания.
Особый этап представляет первое семилетие позднего периода в творчестве композитора 5 . Кроме уже отмеченных сдвигов, в это время явственно обозначается стремление откликнуться на новые тенденции в отечественном
искусстве: на смелые поиски полуразрешенного советского
«авангарда» и прежде всего — на возможность более открытого публицистического высказывания (самое яркое свидетельство этого - Тринадцатая симфония). Автор Одиннадцатой включается в «оттепельные» процессы, давно уже
идущие в советской культуре.
Начало 60-х было ознаменовано ростом общественного признания заслуг Шостаковича, многочисленными знаками особого доверия к нему властей (за которым, впрочем,
по-прежнему скрывалось и желание «приручить», поставить
на службу своим интересам талант композитора). Это принесло ему и радостные и травмирующие события. Среди радостных - состоявшаяся в 1961 году мировая премьера Четвертой
симфонии (написанной и снятой с исполнения после нескольких репетиций в 1936 году), первое исполнение в 1963 году
новой редакции оперы «Леди Макбет Мценского уезда», более 20 лет назад раскритикованной и запрещенной (теперь она
получила название «Катерина Измайлова»). Травмирующим
событием был вынужденный и позорный, с точки зрения самого Шостаковича, компромисс: вступление в Коммунистическую партию в 1961 году (о тяжелой душевной драме, пережитой композитором в связи с этим, много позже рассказал
И. Гликман [31, 160-161]).
В эти годы меняется и художественная ситуация в стране: появляется возможность знакомиться с новейшими тенденциями зарубежного искусства, композиторам молодого поколения — активно осваивать влияния западного авангарда,
обращаясь к новым техникам (додекафонии, алеаторике,
полистилистике). Все это ставило и Шостаковича перед необходимостью учитывать веяния времени.
Первым произведением, в котором сказалась «оттепельная» новая публицистичность, стал вокальный цикл «Сатиры» («Картинки прошлого») для сопрано и фортепиано
соч. 109 (июнь 1960). Многозначительным было по тому
5. Это семилетие было богато разнообразными событиями в личной
жизни: женитьба в 1960 г. на Ирине Антоновне Супинской, серьезные болезни (в конце мая 1966 г. он перенес инфаркт, в сентябре
1967 г. сломал ногу). Несмотря на ухудшившееся здоровье, он много
путешествовал, участвовал в общественно-политических и художественных мероприятиях, выполнял нелегкие обязанности на многочисленных ответственных постах.
времени само обращение к текстам Саши Черного - поэта,
чрезвычайно популярного в предреволюционной России,
впоследствии эмигрировавшего и запрещенного при Сталине. Первый «оттепельный» сборник стихов Саши Черного вышел в свет в том же 1960 году. Подзаголовок «Картинки прошлого» должен был отвлечь цензуру, отнеся к далекому
минувшему все актуальные политические намеки. Возможно,
благодаря этой уловке «Сатиры» были вскоре (в 1961 г.) обнародованы и имели заметный резонанс среди современников.
Правда, как свидетельствует И. Гликман, многие «...упрекали
Шостаковича в легкомыслии, непозволительном озорстве
и дурном вкусе» [31, 167]. Подобные упреки можно услышать
и в наше время.
Пять номеров цикла («Критику», «Пробуждение весны», «Потомки», «Недоразумение», «Крейцерова соната») дают
достаточно полное представление о типичных для Шостаковича объектах злой сатиры - в основном это проявления ненавистной композитору мещанской психологии и морали. За ними то
и дело проглядывают обороты мысли, знакомые по советским
партийным документам об искусстве. Идеологические намеки
особенно заметны в двух романсах. Это «Потомки», высмеивающие самоотречение во имя счастья потомков (вполне
прозрачный намек на ленинско-сталинско-хрущевские обещания «коммунистического рая» в будущем), и «Крейцерова
соната», где повествуется об «интеллигенте», в эротическом
экстазе братающемся с «народом» - прачкой Феклой, чему
предшествует музыкальная заставка-цитата из Крейцеровой
сонаты Бетховена. Пародийное цитирование популярной классики применено и в романсе «Пробуждение весны» («Весенние воды» Рахманинова, представленные упрощенной фактурой аккомпанемента). Подобные приемы в те годы звучали как
знак приобщения к полистилистическим тенденциям.
Важнейшей вехой в творчестве Шостаковича является
написанный в том же году (июль 1960 г.) Восьмой струнный
квартет до минор соч. 110. Произведение имеет официальное
посвящение: «Памяти жертв фашизма и войны». Советские биографы связывали возникновение этого посвящения и самого
квартета с поездкой композитора в Дрезден, где он участвовал
в работе над фильмом «Пять дней - пять ночей» и смог увидеть фашистские застенки. Однако музыка квартета сразу заставила наиболее проницательных слушателей подозревать
присутствие в ней «второго» смысла. Об этом говорило многое: обостренно-личностный тон высказывания, музыкальное
имя композитора (D-Es-C-H) как сквозная тема, обильные
автоцитаты (а ведь Шостакович не был прямой «жертвой войны и фашизма»), использование мелодии революционной
песни «Замучен тяжелой неволей», звучавшей как выстраданная авторская речь.
Позже благодаря публикации И. Гликмана стали известны подлинные обстоятельства создания этой музыкальной
исповеди и намерения ее автора. Как свидетельствует Гликман,
квартет отразил психологическое состояние автора, вынужденного вопреки своему желанию и совести стать кандидатом в члены КПСС. В письме Гликману Шостакович с горьким юмором
пишет: «Если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил
написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать:
"Посвящается памяти автора этого квартета"» [31, 160-161].
Восьмой квартет стал, по выражению Г. Орлова, первой «автоэпитафией» Шостаковича (надгробным словом самому себе),
нашедшей продолжение во многих сочинениях более поздних
лет. В то же время, открывая эту новую в творчестве мастера
страницу, Восьмой квартет своим отчаянно-покаянным пафосом как бы подхватывает линию, обозначившуюся гораздо
раньше - в автобиографической III части Десятой симфонии.
Восьмой квартет состоит из пяти частей: 1. Largo,
2. Allegro molto, 3. Allegretto, 4. Largo, 5. Largo. Все части следуют друг за другом без перерыва (attacca), во всех частях присутствует мотив D-Es-C-H. I часть - скорбно-сосредоточенное
введение в цикл. Ее открывает имитационное проведение темы
D-Es-C-H, в которой явственно просматривается риторическая
фигура креста (два тесных интервала, соединенные более широким интонационным «шагом»). Тут же возникает цитата из
Первой симфонии (начало ее I части). Позже появляется новая
(нецитатная) сквозная тема, также горестно-жалобная (5-й такт
после ц. 3) (пример 2), на фоне которой намеком проходит еще
одна автоцитата: побочная партия из I части Пятой симфонии.
Резким контрастом врывается II часть - это своего рода «сцена
бичевания». Роль главной партии в свободно трактованной сонатной форме выполняет тема, построенная на ритмах и интонациях Токкаты из Восьмой симфонии. Побочную партию образует еврейская по колориту тема из финала Трио соч. 67. Эту
тему обычно называют «пляской отчаяния», «пляской смерти».
В эпизоде появляется гротескно-переосмысленный мотив
D-Es-C-H. Основу III части составляет вальсообразная, с юродствующими интонациями тема, построенная на музыкальном
имени композитора. Иная модификация этого имени возникает в середине: мотив D-Es-C-H дается в грубом маршеобразном звучании. Начало IV части может вызвать в представлении
некий жестокий ритуал, «сцену казни»: резкие аккорды-удары
чередуются с тихими настороженными репликами. Словно итог
этой «сцены», скорбно звучит цитата песни «Замучен тяжелой
неволей». Автобиографический смысл подчеркивает и цитата
реплики Катерины («Сережа, хороший мой»; см. ц. 62) из запрещенной (и к тому времени еще так и не «реабилитированной») оперы «Леди Макбет Мценского уезда». V часть образует печальный эпилог цикла, возвращая тематизм I части.
Биографы Шостаковича до сих пор не могут убедительно объяснить мотивы, заставившие композитора написать
в 1961 году откровенно конъюнктурное сочинение - Двенадцатую симфонию «1917 год» ре минор соч. 112. В условиях «оттепели» никто уже не требовал от композитора такой
жертвы, такого отречения от собственного таланта. По всеобщему признанию, симфония стала явной неудачей большого
мастера. В программных заголовках четырех ее частей последовательно воплощен хрестоматийный советский миф о Великом Октябре: 1. «Революционный Петроград», 2. «Разлив»,
3. «Аврора», 4. «Заря человечества». Этот миф (в отличие
от мифа о 1905 годе) не смог вдохновить автора на создание
живой, впечатляющей музыки.
Созданная в следующем, 1962 году Тринадцатая
симфония ми-бемоль минор для баса, унисонного хора басов
и оркестра соч. 113 стала подлинной кульминацией «оттепельных» тенденций в творчестве Шостаковича. Впервые после
своих ранних опытов (во Второй и Третьей симфониях) он
обращается здесь к жанру вокальной симфонии. Поэтической
основой всех пяти частей стали злободневные, весьма дерзкие
по тем временам стихи Е. Евтушенко.
И стихи и симфония создавались в атмосфере,
когда любое свободное, идущее вразрез с официальной
идеологией высказывание в искусстве принималось современниками с горячим искренним энтузиазмом (именно так
была встречена публикой новая симфония Шостаковича 6 ).
Чисто художественная сторона таких выступлений нередко
отходила на второй план. В этих условиях подлинно героическое бескомпромиссное сопротивление властям могло соседствовать с разного рода спекуляциями на «полуразрешенных» темах - с желанием заработать на них скандальную
известность и обрести ореол мученика за правду. Подобные
цели многим виделись за пафосом стихов Евтушенко, художественный уровень которых, по их мнению, не соответствовал гению Шостаковича. Музыку симфонии также впоследствии упрекали в излишней подчиненности актуальным
политическим лозунгам, в своеобразном «самоумалении» во
имя актуальной идеи.
Поэтический текст I части («Бабий Яр», Adagio) - размышление о трагической судьбе еврейского народа, которое
автор ведет над местом массового убийства евреев во время
Второй мировой войны. Скорбное созерцание рефрена (он возвращается, варьируясь, трижды; см. пример 3) перемежается
тремя трагическими эпизодами: о Дрейфусе, мальчике из Белостока, и девочке Анне Франк. Тематизм «Бабьего Яра»
своими интонациями скрепляет весь цикл, возвращаясь в финале. Во II части («Юмор», Allegretto) господствует типичная
для Шостаковича сфера злого пересмешничества. Персонифицированный в стихах Евтушенко образ Юмора превращается
Симфония № 13.1 часть
6. В официальных инстанциях симфония вызвала недовольство.
Угроза запрета исполнения вынудила авторов внести некоторые изменения в поэтический текст I части. После премьеры (в декабре
1963 г.) в официальной прессе вокруг Тринадцатой симфонии три
года сохранялся «заговор молчания».
в символ любого свободомыслия и сопротивления «властителям всей земли». В музыке акцентируется важный для позднего Шостаковича мотив - мужество перед лицом самой смерти.
Чтобы подчеркнуть этот мотив, автор цитирует в одном из эпизодов (ц. 51) свой более ранний опус - романс «Макферсон
перед казнью» (из вокального цикла соч. 62). Ill часть («В магазине», Adagio) задумана как лирический центр цикла, как прославление повседневного героизма женщин России. Музыка
следующей, IV части («Страхи», Largo) воссоздает гнетущую атмосферу подавленности, страха, которая постепенно просветляется во второй половине формы. Начальная тема этой части один из первых в творчестве Шостаковича образцов построения темы с использованием додекафонного принципа: это хроматическое последование неповторяющихся звуков (в данном
случае их не 12, а только 11). Финал симфонии («Карьера»,
Allegretto) опирается на обаятельную светлую тему, образующую
рефрен ясной рондо-сонаты с фугато перед кульминацией.
Линию «новой публицистичности» в творчестве
60-х годов продолжает следующее крупное произведение —
вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»
соч. 119 (1964). Это сочинение симптоматично во многих
отношениях.
Прежде всего, оно, как и Тринадцатая симфония,
обращено к кругу злободневных проблем (показательно, что
в нем вновь используются стихи Е. Евтушенко). В данном
случае это двойной конфликт: героя-бунтаря - и власти, народного вождя - и предавшей его толпы.
Кроме того, здесь с редкой наглядностью представлен
комплекс важнейших для всего творчества композитора
сюжетно-смысловых мотивов. Их можно связать единым прототипом - евангельской историей страданий и смерти Христа,
сюжетом Голгофы. В литературной основе произведения
явственно проступают практически все событийные и смысловые компоненты этого сюжета: вход в Иерусалим (въезд
Разина в Москву), всеобщее глумление («под плевки со всех
сторон»), бичевание («дьяк мне бил с оттяжкой в зубы»), казнь
и даже посмертные чудеса (просветление в душах людей и
сами собой зазвонившие колокола - параллель евангельским
знамениям: удару грома и разорвавшейся завесе в храме). Есть
и чудо воскресения (хохот отрубленной головы), и идея жертвы за правду. В более разрозненном виде те же мотивы проступают и во многих других страницах музыки композитора
[см. об этом: 13].
Наконец, важно и то, что «Разин» концентрирует в себе
ряд важнейших новых свойств музыкального мышления Шостаковича, образуя центр небольшой группы произведений.
Ее, по наблюдению В. Бобровского, составляют (кроме самой
поэмы) Второй виолончельный концерт и Одиннадцатый квартет [см.: 7]. В них появляется установка на «междуопусные»
связи - наследие методов Восьмого квартета: общность тематизма упомянутой группы произведений очевидна. Эту
группу отличаеттакже ладовая многозначность, усиление роли
каждого отдельного мотива, «уход в интонационную
глубину», где важна «не широта и броскость интонаций,
а аскетическая простота их внешнего облика при усилении
создаваемого внутреннего подтекста» [7, 174].
Своеобразие художественного склада поэмы «Казнь
Степана Разина» составляют новый для композитора ровный,
спокойный, почти летописный эмоциональный тонус, а также
опора на интонации архаического русского фольклора с несомненной отсылкой к стилю Мусоргского, что особенно заметно
в начальной теме (пример 4).
Группу произведений, «возглавляемую» этим опусом,
можно расширить включением в нее музыки к кинофильму
«Гамлет» соч. 116 (1964). В ней используется тот же круг интонаций, ей свойствен тот же высокий трагический пафос. Кроме
того, она свидетельствует о новом отношении композитора к
этой сфере прикладной музыки: по самобытности, глубине
и силе выражения она приближается к лучшим образцам его
творчества.
«Оттепельная» публицистичность нашла косвенное
отражение и во Втором концерте для виолончели с оркестром
соль минор соч. 126 (1966). Масштаб воплощенной в произведении симфонической концепции позволяет определить его
жанр как концерт-симфонию. Многое, как уже говорилось, связывает концерт с двумя предыдущими крупными опусами. Сам
по себе этот факт бросает отсвет публицистической злободневности на глубоко личную (и во многом типичную для крупных
симфонических полотен композитора) драму, раскрываемую
в музыке концерта.
В сонатной форме I части концерта (Largo) сопоставляются два основных образа: сумрачная созерцательность главной партии и хрупкая, призрачная лирика побочной. Кульминация разработки предвосхищает драматические события
следующих частей. II часть (Allegretto) может быть истолкована как своеобразная сцена глумления, «бичевания». Оттенок
злой издевки, нарочитого примитива несет в себе главная тема,
в которой сам композитор отметил сходство с популярной одесской песенкой «Купите бублики» (пример 5).
Концерт для виолончели с оркестром N2 2. II часть
[Andante J=ioo]
V-c. solo
«
espr.
ш
т
Ob.
Fag.
>r
Fag.
C-fag. con 8m
I
i
I i f t j
j
r* r* т *r *
Тематическое развитие части опирается на пятичастную
структуру А-Б-А(1)-Б(1)-А(2) типа двойной трехчастной или
сокращенной рондо-сонаты. Среди побочных тематических элементов - мотив в объеме уменьшенной кварты (напоминающий монограмму D-Es-C-H) и глиссандирующие возгласы,
в которых В. Бобровский усматривает влияние мотива из «Разина», связанного с образом улюлюкающей толпы [см.: 7, 787].
Завершающая цикл III часть (Allegretto) открывается зловещими сигналами валторн на фоне тремоло малого барабана словно начало сцены казни. После этого, как пишет М. Тараканов, «скорее всего можно было бы ожидать последнего удара
роковой секиры, обрывающего человеческую жизнь» [38, 85].
Однако дальнейшие события в концерте развиваются сложнее.
Многообразные психологические перипетии приводят к не-
обычно решенной кульминации - вместо ожидаемого патетического взрыва эмоций здесь появляется в торжествующем звучании тема «Купите бублики» из II части.
Незадолго до окончания Второго виолончельного концерта в том же 1966 году Шостакович написал весьма специфический опус под названием «Предисловие к полному собранию моих сочинений и краткое размышление по поводу этого
предисловия» соч. 123 для баса и фортепиано. Это «Предисловие» дает психологический ключ к одному из постоянных мотивов его позднего творчества - мотиву самообвинения, суда
над собой. Напомним, что этот мотив уже был представлен в
более ранних композициях - в Десятой симфонии. Восьмом
квартете. Присутствует он и в поэме «Казнь Степана Разина»
(монолог Разина, размышляющего о своих ошибках, «сам себя
казня»), можно расслышать его и в подтекстах Второго виолончельного концерта. Опус 123 стал актом «публичного самоуничижения и самоистязания» [см.: 28, 25]. По словам А. Климовицкого, Шостакович продемонстрировал «собственное
представление о своей судьбе в исполненном горького ерничанья мучительно-ироническом и в полном смысле слова жутком "Предисловии..."» [18, 263].
Сатирическое направление в позднем творчестве
Шостаковича подхватывают Пять романсов соч. 121 (1965)
на слова из популярного в те годы юмористического журнала
«Крокодил». Сохраняя в основном те же объекты сатиры, что
и в цикле на стихи Саши Черного, этот опус словно приближает их к живой повседневности - это уже не «картинки прошлого», а «сырой», необработанный материал самой жизни
(такой эффект должно было создать использование в цикле
нехудожественных, нарочито примитивных в литературном отношении текстов).
Особую линию в творчестве этого периода образуют
струнные квартеты. Два из них, Девятый и Десятый, несут на себе
явный отблеск крупных драматических полотен мастера.
Пятичастный Девятый квартет Ми-бемоль мажор
соч. 117 (1964) устремлен к финалу - итогу и центру всей композиции. Части следуют друг за другом без перерыва, attacca.
Лаконичная I часть (Moderato con moto) погружает в сферу образов ускользающе многозначных, порой внешне непритязательных, но таящих в себе глубокие психологические подтексты. По структуре своей она опирается на контуры сонатной
формы без разработки с кодой, сочетая в двух основных темах
детскую бесхитростность со скрытой тревогой и сумрачной
призрачностью. В первой ее теме, как указывает К. Мейер,
«слышны отзвуки колыбельной Мари из "Воццека" Альбана
Берга» [26, 397]. II часть (Adagio) - свободно развертывающееся скорбно-сосредоточенное высказывание. В последних его
тактах рождаются новые интонации, плавно (attacca) перетекающие в плясовуютему III части (Allegretto). Тихий, слегка юродствующий перепляс в кульминациях прорывается резкими, откровенно глумливыми возгласами. Свободно трактованная
сонатная схема (с трансформированной побочной партией в зеркальной репризе) размыкается, как и во II части, рождающимися в последних тактах элементами тематизма следующей, IV части (Adagio). Плавное течение ее печально никнущих интонаций
дважды прерывается резкими аккордами pizzicato fortissimo.
Наиболее сложно организован и насыщен событиями
финал — V часть (Allegro), по своим масштабам соизмеримый
со всеми остальными частями, вместе взятыми. Основной его
образ, напоминающий своего рода пляску отчаяния, вовлекает
в свою орбиту трансформированную тему IV части (ц. 69).
Фугато (со свободным интервалом вступления голосов - ц. 80,
10-й такт), построенное на главной теме, приводит к первой
кульминации — патетическому монологу виолончели, в который вторгаются грозные аккорды pizzicato из IV части (ц. 89).
Новая волна развития первой темы завершается драматической кульминацией в коде, синтезирующей тематические элементы предыдущих частей.
Сходный круг образов воплощает и написанный в том
же 1964 году четырехчастный Десятый квартет Ля-бемоль
мажор соч. 118. Господствующий эмоциональный тонус его
I части (Andante), так же как и в начальной части Девятого
квартета, сочетает доверчивую мягкость со скрытой тревогой.
Основная тема (выполняющая роль рефрена в рондообразной форме) почти точно воспроизводит один из оборотов
I части Восьмого квартета - ассоциация, сгущающая сумрачные тени в этой музыке. II часть (Allegretto furioso) - один из
типичных для Шостаковича образцов «злого», агрессивного
скерцо. Главная (ц. 16) и побочная (ц. 18) партии в сонатной
форме этой части усиливают агрессивность своего звучания
в разработке. Ее материал - и в образном, и в интонационном
отношении - содержит множество очевидных перекличек
с тематизмом создававшихся в эти годы крупных произведений: поэмы «Казнь Степана Разина» и Второго виолончельного
концерта (что позволяет присоединить квартет к уже описанной
группе сочинений). Торжеством жестоких сил становится
генеральная кульминация, которая приходится на репризное
проведение обеих тем. Ill часть (Adagio) - пассакалья, в ко-
торой достаточно полно представлен комплекс выразительных
приемов, свойственных этому жанру у Шостаковича:
драматическое, словно протестующее начальное провозглашение темы, дальнейшее погружение в скорбную рефлексию
и хрупкое просветление в конце7. Танцевальная сфера финала (Allegretto, форма, близкая рондо-сонате), как это часто бывало у Шостаковича, постепенно драматизируется, приводя
к кульминации, воскрешающей тему пассакальи (ц. 74).
В главной теме этой части есть оттенок горькой пародии на
популярные образцы оптимистических финалов в музыке прошлого («слух безошибочно подсказывает аналогию с финалами скрипичных концертов Мендельсона и Чайковского», — пишет в этой связи Г. Григорьева: 15, 252). В коде возвращается
начальная тема I части.
Оригинальностью замысла и подчеркнутой близостью
к крупным сочинениям 1964-1966 годов отличается Одиннадцатый квартет соч. 122 (1966). По словам В. Бобровского, он
является «инобытием» интонационного мира «Разина» и Второго виолончельного концерта [7, 797]. Вместе с тем в этом произведении уже вызревают новые черты, свойственные
более поздним опусам композитора. Здесь, пожалуй, впервые
появляется болезненная сосредоточенность на зловещих образах небытия, на мыслях о неизбежности смерти.
В квартете семь миниатюрных частей, следующих друг
за другом без перерыва, attacca: 1. Вступление; 2. Скерцо; 3. Речитатив; 4. Этюд; 5. Юмореска; 6. Элегия; 7. Заключение.
Тенденция к объединению цикла сквозным тематизмом, отличающая многие квартетные опусы Шостаковича, здесь
проявляется в особенно радикальных формах. Интонационным
истоком всех тем квартета становится I часть. Вступление
(Andantino), построенная на двух темах:
Andantino J=io4
й ^
Гт
Р
г
—
Квартет №11 Насть
1-я тема
J
H
J
^
—
WrV
f\
7. О жанре пассакальи в творчестве Шостаковича см.: [9].
КМ
LN
JJ|
б)
V-C.
2-я тема
ten.
р
р
ttV1 ^
II часть. Скерцо (Allegretto), - это, по замечанию В. Бобровского, Danse macabre, «тихий, внешне неприметный»
[7, 194]. Ill часть. Речитатив (Adagio), состоит из двух миниатюрных разделов: первый образуют резкие «вскрикивающие» пассажи и квартовые возгласы, второй - траурный хорал.
Призрачный вихрь III части (Этюд, Allegro) и пугающие терцовые «кукования» V части (Юмореска, Allegro) могут быть истолкованы как разные лики одного зловещего персонажа. Похоронные звучания VI части, Элегии (Adagio), приводят к усталой
рефлексии Заключения (Moderato), возвращающего темы
Вступления и Скерцо.
Одиннадцатый квартет стал преддверием нового этапа в позднем творчестве Шостаковича. Связанный интонационно с группой предшествующих сочинений, он вместе с тем
предвещает существенные изменения, которыми отмечены опусы последних девяти лет (1967-1975). В них явно просматриваются новые черты: углубление рефлексии, большая субъективность высказывания и связанный с этим отход от событийности
драматургии, сосредоточенность на мыслях о смерти, новая
стилистика (использование принципов двенадцатитоновое™ в
организации материала - явное влияние актуализированной
авангардом 60-х годов шёнберговской додекафонии, подчеркнутый аскетизм в отборе выразительных средств). «Период
прощания», как пишетТ. Левая, становится свидетельством «той
совершенно особой мобилизации сил, которая происходит у
людей с повышенным нравственным чувством в преддверии
жизненного конца» [24, 295].
Показателем сдвигов в художественном мышлении
композитора является и очевидное тяготение к камерности концепций. Оно проявляется не только в предпочтении камерных
жанров (4 квартета, 2 сонаты, 4 вокальных цикла), но и в усилении субъективно-лирических тенденций в крупных произведениях (14-й и 15-й симфониях, Втором скрипичном концерте).
Музыка последних лет - это особый духовный мир,
настораживающий и пугающий своей интровертной замкнутостью, мрачной самоуглубленностью. «Странности» этого мира
могут спровоцировать мысли о творческом оскудении гения,
об ослаблении его связей сживой реальностью. «Поэмами умирания» назвал камерные сочинения позднего Шостаковича
Г. Орлов [28, 27]. Однако в них, несомненно, можно почувствовать и притягательную суровую красоту. Почти запредельная
субъективность прощальных опусов Шостаковича сродни до
сих пор нерасшифрованным загадкам позднего творчества
других гениев - Микеланджело, Бетховена, Брамса.
Одна из самых заметных особенностей наследия этих
лет - объединение ряда произведений в группы по жанровому
принципу. Очевидные «макроциклы» образуют вокальные опусы и камерные инструментальные ансамбли (сложнее соотносятся между собой две поздние симфонии).
«Период прощания» открывается вокальным циклом
«Семь стихотворений А. Блока» для сопрано, фортепиано, скрипки и виолончели соч. 127 (1967). Как начало новых поисков
оценил его В. Бобровский: «Цикл романсов на стихи Блока
показал, что композитор не думает замыкаться в кругу образов
и выразительных средств, идущих от "Разина"» [8, 37].
Блоковский цикл - это первое обращение композитора к серьезной поэзии Серебряного века. Части цикла (в каждой из которых меняется инструментальный состав) звучат
в следующем порядке: «Песня Офелии» (голос и виолончель),
«Гамаюн, птица вещая» (голос и фортепиано), «Мы были вместе» (голос и скрипка), «Город спит» (голос, виолончель и фортепиано), «Буря» (голос, скрипка и фортепиано), «Тайные знаки» (голос, скрипка и виолончель), «Музыка» (голос и все три
инструмента). В избранных композитором стихах господствуют характерные для поэзии А. Блока мотивы одиночества, внутреннего разлада, тревожных предчувствий, грозных предзнаменований. Музыкальное воплощение их подчеркнуто
сдержанно. Как пишет Г. Орджоникидзе, «цикл произнесен тихим и проникновенным голосом, что не только не исключает,
но, напротив, подчеркивает его внутренний драматизм» [27,27].
За каждым поэтическим образом скрываются у Шостаковича
глубоко личные, субъективные ассоциации и смыслы. Так, «Песня Офелии» — символ обреченности, почти детской беззащитности человека перед жестокостью внешнего мира, зловещее
пророчество «райской птицы» Гамаюн и «Буря» — воплощение
враждебных человеку сил и стихий, «Город спит» и «Тайные
знаки» - предвестия «дней тоскливых» и «близости предначертанного конца», «Мы были вместе» - образ призрачного,
недолговечного счастья и хрупкой нежности. Исключительно
многозначно и парадоксально музыкальное истолкование
последнего стихотворения - «Музыка», несущего мысль
о высокой миссии искусства. Блоковская восторженность здесь
«гасится» дыханием «суровой музы» самого Шостаковича.
«Сверхцикл» камерных вокальных произведений
продолжают «Шесть стихотворений Марины Цветаевой» для
контральто и фортепиано соч. 143 (1973). Вскоре композитор
осуществил редакцию цикла с камерным оркестром. Здесь
вновь используются очень разные по образам и настроениям
поэтические тексты, внешне как будто бы никак не связанные
между собой: 1. Мои стихи; 2. Откуда такая нежность; 3. Диалог
Гамлета с совестью; 4. Поэт и царь; 5. Нет, бил барабан;
б. Анне Ахматовой. Эту череду вокальных поэм объединяет,
по наблюдению Т. Левой, не только самый дух цветаевской
поэзии, но и последовательное воссоздание этапов жизни
художника. «Этапы духовной биографии человека, — пишет
исследователь, - становятся для поздних вокальных циклов
Шостаковича таким же фактором обобщения, как акт противления злу (вторжение - реакция протеста - резюме) - для его
симфоний-драм» [24, 299]. С предыдущим циклом это произведение связывает додекафонный принцип организации
материала в отдельных частях: двенадцатизвуковые «серии» появляются в романсах «Тайные знаки» (блоковский цикл), «Поэт
и царь» (цикл «Стихотворения Марины Цветаевой»),
Следующий вокальный цикл - Сюита на слова
Микеланджело Буонарроти для баса и фортепиано соч. 145
(1974), переработанная вскоре для баса и оркестра. Одиннадцать стихотворений итальянского поэта складываются в последовательность одиннадцати частей, лаконичные названия
которых принадлежат композитору: 1. Истина, 2. Утро, 3. Любовь, 4. Разлука, 5. Гнев, 6. Данте, 7. Изгнаннику, 8. Творчество, 9. Ночь, 10. Смерть, 11. Бессмертие. Сохраняя в целом тот
же подход к поэтическому тексту и смысловую «тональность»,
что и предыдущие два вокальных опуса, Сюита отличается от
них большей масштабностью замысла и разнообразием образов и идей. На роль одной из центральных тем выдвигается, как считает М. Арановский, «горациева» тема — бессмертие творца в «памятнике» себе [см.: 3] («Творчество»,
«Бессмертие»), Однако в соседстве со сгущенным трагизмом
других частей («Ночь», «Смерть») она звучит как «последняя
зыбкая надежда на художественное бессмертие» [28, 28]. Как
и в других «автоэпитафиях» (начало их череде положил, напомним, Восьмой квартет), в Сюите важное место отведено
цитатам. В музыкальную ткань финала включена мелодия,
сочиненная Шостаковичем-подростком. Это возвращение
к истокам в конце жизненного пути - многозначный символ
завершенности земного бытия, вновь обретаемой на его
пороге детской чистоты. В девятой части («Ночь») можно
услышать автоцитаты из Четвертой и Четырнадцатой симфоний, а также мотив из финала Трио Г. Уствольской, уже
использовавшийся в Пятом квартете.
Последний вокальный опус Шостаковича - «Четыре
стихотворения капитана Лебядкина» для баса и фортепиано
соч. 146 (1974) на тексты из романа Достоевского «Бесы». Он
состоит из следующих номеров: «Любовь капитана Лебядкина»,
«Таракан», «Бал в пользу гувернанток», «Светлая личность».
Есть несомненный парадокс в том, что именно гротескный образ юродствующего рифмоплета вдохновил Шостаковича на
единственное в его наследии прямое обращение к творчеству
одного из самых близких ему писателей прошлого. Этот опус
резко отличается от трех предыдущих вокальных циклов. Он
примыкает к ним разве что упрощением музыкального языка
и рискованным обнажением субъективно-ассоциативного восприятия литературного текста. Лебядкинский цикл ближе гротескно-сатирической линии, представленной «Сатирами» Саши
Черного, романсами на стихи из журнала «Крокодил» и, конечно, в первую очередь - «Предисловием к полному собранию
моих сочинений...».
Несколько особняком, в стороне от основных направлений позднего периода, стоит созданный в 1967 году Второй
концерт для скрипки с оркестром соч. 129. Свойственные ряду
крупных концепционных произведений 60-х годов образы и
языковые приемы здесь лишены событийно-драматического
накала и собраны в ясную уравновешенную композицию. Трехчастный цикл концерта опирается на традиционное соотношение темповых и образных противопоставлений: сонатная I часть
(Moderato), лирическая II (Adagio) и бурный финал (Adagio.
Allegro). В крайних частях очень заметны интонационные и
смысловые пересечения с поэмой «Казнь Степана Разина»
и Вторым виолончельным концертом.
Настроения и мысли «периода прощания» нашли наиболее масштабное и полное выражение в двух последних симфониях. Четырнадцатая симфония соч. 135 (1969) выделяется
в симфоническом наследии композитора яркой оригинальностью трактовки жанра. Она предназначена для необычного
исполнительского состава: сопрано, баса и камерного оркестра и использует тексты, принадлежащие поэтам разных эпох
и национальностей. Необычно выглядит и ее одиннадцатичастный цикл: 1. De profundis. Adagio (слова Ф. Г. Лорки);
2. Малагенья, Allegretto (слова его же); 3. Лорелея, Allegro molto
(слова Г. Аполлинера 8 ), 4. Самоубийца, Adagio (слова его же);
5. Начеку, Allegretto (слова его же); б. Мадам, посмотрите!
(Adagio) (слова его же); 7. В тюрьме Санте, Adagio (слова его
же); 8. Ответ запорожских казаков константинопольскому султану, Allegro (слова его же); 9. О Дельвиг, Дельвиг, Andante
(слова В. Кюхельбекера); 10. Смерть поэта, Largo (слова
Р. М. Рильке); 11. Заключение, Moderato (слова его же).
По признанию самого композитора, важнейшими прототипами его сочинения стали «Песни и пляски смерти» М. Мусоргского и «Песнь о земле» Г. Малера. С обоими источниками
симфонию связывает тема конца жизни, глубокий трагизм мироощущения, выдвинутое на первый план вокальное начало.
Шостакович соединяет идущую от Мусоргского жесткую подачу темы Смерти и глобальность симфонического обобщения,
свободу построения цикла, свойственные симфонии-кантате
Малера9. Вместе с тем в Четырнадцатой симфонии воплощена
абсолютно самобытная концепция. По словам Л. Акопяна, она
являет собой «жест, по-ницшеански беспощадный к самому
себе и аналогичный знаменитому карамазовскому акту "возврата билета"» [2, 797].
Исследователи предлагают различные варианты трактовки функций частей симфонии и их объединения в группы.
М. Сабинина разделяет их в соответствии с законами сонатносимфонического цикла. Ill часть (Лорелея) приравнивается
к сонатному аллегро, IV (Самоубийца) - к лирическому центру, V (Начеку) - к скерцо. VI часть (Мадам, посмотрите!) переход к общей разработке, которую составляют VII (В тюрьме Санте) и VIII (Ответ запорожских казаков...) части. IX часть
(О Дельвиг, Дельвиг!) образует новый, добавочный лирический центр, X (Смерть поэта) и XI (Заключение) выполняют роль
репризы и коды [35, 406]. Л. Акопян сопоставляет смысловые
мотивы некоторых частей симфонии с разделами заупокойной
мессы. Так, в «Лорелее» он видит черты Dies irae, в IX части
(О Дельвиг...) — Benedictus, VII часть (В тюрьме Санте) рассмат8. Стихотворение Г. Аполлинера не является подлинником. Оно
представляет собой перевод на французский язык баллады немецкого поэта-романтика Клеменса Брентано.
9. Еще на один источник влияний указывает Л. Акопян. Это четыре
новаторских произведения современных западных композиторов,
с которыми Шостакович имел возможность познакомиться в период
создания Четырнадцатой симфонии: «Военный реквием» Бриттена,
кантата «Вытканные слова» В. Лютославского, оратория К. Пендерецкого Dies irae и «Заупокойные песнопения» (Requiem canticles)
И. Стравинского [см.: 2].
ривается как трагическая пародия на Offertorium - молитву
о спасении умерших, «Письмо запорожских казаков...» — как
кощунственный эквивалент Sanctus [2, 192]. Сам композитор
предлагал группировать части следующим образом: M V , V - V I ,
VII-VIII, I X - XI [41].
Музыкальная драматургия симфонии построена
на заостренном контрасте двух образных сфер - скорбной
рефлексии и агрессивной энергии. Интонационный исток первой из них - мелодия скрипок, открывающая I часть (особенно
заметно ее родство с темой «трех лилий» из IV части) (пример 7).
Adagio
Симфония № 14.1 часть
V-no I
Г
р f j - |Г
г
к,
Г-Тi*P Г
^Г
рр
f r priiiVy г pir PEJ-Грг
IV часть
^ Adagio JWeo
Soprano
ррsolo
1П
7
Т
р IT р г Р IT р г Щ
Три
ли
_ ли _ и,
три
ли _ ли_и..
Вторая впервые представлена во II части и опирается на
резкие тембры, импульсивную ритмику, двенадцатитоновость.
К наиболее загадочным произведениям позднего
Шостаковича принадлежит его последняя. Пятнадцатая
симфония Ля мажор соч. 141 (1971). От предыдущей симфонии
ее отличают внешняя простота и традиционность строения. В симфонии четыре части: 1. Allegretto; 2. Adagio; 3. Allegretto;
4. Adagio - Allegretto.
Свойственный мышлению композитора «принцип
бинарных оппозиций» (сопоставления двух контрастных,
а часто полярно противоположных начал 1 0 ) проявляется
10. На эту особенность творчества Шостаковича указывает М. Арановский [см.: б].
и в противопоставлении двух темпов, и в выборе жанрового
характера частей: по существу, в них представлены только две
(из обычных четырех) составляющих симфонического цикла —
скерцо (I, III) и медленная часть (II, IV). К единству принципов
строения тяготеет и выбор структуры отдельных частей. Три из
них написаны в сонатной форме (I, III и IV), одна (II) - в свободно трактованной сложной трехчастной.
Однако за ясностью общего построения скрывается
чрезвычайно многозначная и сложная концепция. Основной
образ симфонии (развиваемый в I части и возвращающийся
в финале; пример 8) впервые заставил говорить об особой
«метафизике детского» в творчестве Шостаковича (более подробно об этом см.: 12).
8
Allegretto J=ise
Симфония № 15.1 часть
Тема главной партии
Fl.
На «детские» ассоциации в связи с первой частью указал, ссылаясь на слова самого автора, Максим Шостакович.
Упомянутая им ассоциация с «игрушечным магазином» вполне
соответствует нарочито «кукольному» характеру исходного материала первой части, что дало основание некоторым исследователям трактовать ее как непритязательную и безоблачно светлую. Вместе с тем такая интерпретация заметно противоречит
серьезности и образной сложности этой музыки. Детское здесь
явно претендует на роль философски трактованного символа.
Мысль о начале жизни, проходя через весь цикл Пятнадцатой,
по существу является одним из поворотов размышлений
о смерти. Смыкание представлений об исходном и конечном
пределах земного бытия выдвигается на одно из центральных
мест в позднем творчестве композитора (среди свидетельств
этого - цитата собственного детского опуса в финале Сюиты на
слова Микеланджело). Инфантильный мир симфонии окрашен
в неожиданные тона: в его рискованных играх звучит нешуточ-
ное смятение, они - знак тревог и страхов, что преследуют
человека с колыбели.
Камнем преткновения для интерпретаторов до сих пор
остается смысл использованных в симфонии цитат - темы
из «Вильгельма Телля» Россини (I часть) и мотива судьбы
из «Валькирии» Вагнера (финал). К ним примыкает и вполне узнаваемая автоцитата — несколько измененная «тема нашествия»
из Седьмой симфонии (она становится темой пассакальи, замещающей разработку в финале). Изменчивый и многозначный
контекст, в который погружены эти заимствования, разрушает
связанные с ними очевидные первичные ассоциации и заставляет искать в них некие тайные и глубинные значения. Однако,
несмотря на неоднократные и весьма интересные попытки музыковедов [см.: 5, 21, 30, 38], до сих пор не найдено скольконибудь определенного и достоверного их истолкования. Бесспорными остаются только притягивающая оригинальность
замысла и высочайшее мастерство его воплощения.
При всей значительности симфонического наследия
и самобытности вокальных циклов этого периода усиливается
доминирующая роль камерных инструментальных ансамблей.
В них «странный мир» позднего Шостаковича раскрывается наиболее адекватно.
Двенадцатый квартет Ре-бемоль мажор соч. 133
(1968), премьера которого прошла с несомненным успехом,
неоднозначно оценивался исследователями. В. Бобровский, отмечая, что в музыке позднего Шостаковича «взлеты соседствуют с "кавернами" пустоты, общих мест», считал одним из очевидных проявлений этого Двенадцатый квартет, в котором
«наряду с потрясающими страницами... возникает и какая-то деловитая нарочитость - следдушевной опустошенности» [10,25].
Л. Акопян определяет его как «самое интересное произведение
из тех, которые возникли в промежутке между Тринадцатой и
Четырнадцатой симфониями» [1, 368].
Оригинальный двухчастный цикл квартета (1. Moderato; 2. Allegretto) несет в себе тенденцию к одночастности,
объединяющей все развитие в соответствии с сонатностью высшего порядка. Эмоциональная атмосфера I части наполнена
мучительными неотвязными видениями, усталой апатией,
чувством обреченности. Комментаторы советского периода
писали о ней иначе: «Господство спокойного и светлого мироощущения» [8, 31], «состояние величавого покоя» [32, 52].
Начальная тема части (см. пример 9 на с. 66) соединяет два
элемента. Первый - это типичная для композитора скорбноповествовательная интонация (в ней можно увидеть очертания
Moderate J=92
Квартет № 12.1 часть
V-nol
i&E
о"
l/gigl
cresc.
барочного символа креста), второй - аллюзия на лейтмотив
Пимена из «Бориса Годунова» Мусоргского (в нем, впрочем,
есть и нечто, напоминающее упражнения из сборника Ганона
для начинающих пианистов, - знак детской неискушенности).
В сопоставлении этих двух элементов заявлена одна из сквозных конструктивных идей сочинения - столкновение двенадцатитоновое™ с традиционной тональностью. Хрупкие интонации побочной партии (ц. 4) «как-то по-детски простодушны и
доверительны» [8, 37]. На уровне всего цикла материал I части
выполняет роль главной партии.
I! часть квартета соединяет в себе функции разработки
и репризы всего произведения. Сама она, в свою очередь,
состоит из четырех слитых воедино фрагментов. Первый из них образ злого натиска - образует зону побочной партии цикла,
второй (ц. 45~59, Adagio - Moderato - Adagio) совмещает
функции эпизода и разработки. В кульминации второго раздела тема I части трансформируется в гротескный образ: нарочито механическое движение, стучащее пиццикато ассоциируются с неумолимым и грозным ходом времени — быть может, это
явление самой Смерти. Третий раздел части (ц. 6 0 - 6 4 ) служит
репризой главной партии всего цикла (здесь вновь появляются
темы I части). Четвертый раздел возвращает материал побочной
партии (начальная тема II части), который звучит теперь подчеркнуто мажорно и энергично. Исходя из контекста произведения, мы должны видеть в этом преображении темы скорее
утверждение агрессивного образа, чем «победу человеческого
духа» (В. Бобровский).
Соната для скрипки и фортепиано соч. 134 (1968) опирается на типичное для Шостаковича переосмысление традиционного трехчастного цикла: подвижная средняя часть
обрамляется двумя медленными (1. Andante; 2. Allegretto;
3. Largo. Andante. Largo). Так же, как во многих поздних опу-
сах, здесь активно используется принцип хроматической двенадцатитоновое™. Две темы I части - спокойная размеренность
первой и причудливая танцевальность второй - представляют
разные грани одной образной сферы: смутных и тревожных
видений, зыбких воспоминаний (пример 10а, б). II часть безотчетный всплеск сумрачной энергии, наполненный отголосками прежних «злых» скерцо. Четкая структура финала (вступление, 16 вариаций и заключение) воспроизводит драматургическую схему шостаковичевских пассакалий: кульминационное
провозглашение и следующая за ним длительная рефлексия.
В коде возвращаются тематические элементы I части (квартовые ходы с трелями). Общий эмоционально-смысловой колорит сонаты подобен некоему «вызыванию призраков» - из прошлого, из глубин собственной совести, из таинственных пластов
подсознания.
10
а)
ш
Andante J= 100
Соната для скрипки и фортепиано. I часть
Тема главной партии
V-no
~~Й
р
espr.
Иг г t f f 1
р
Ш
legato
f P ш^ e
£
Тема побочной партии
Тринадцатый квартет си-бемоль минор соч. 138 (1970)
во многом близок предыдущему квартетному опусу. Сам композитор перед исполнением нового произведения дал ему неожиданную характеристику: его общий тон он определил как
«элегически-шутливый». Эти слова, словно намеренно сбивающие с толку, заметно повлияли на первые музыковедческие
оценки квартета в прессе [см.: 36; 37]. Заметим, что многое
в прижизненных публикациях о позднем Шостаковиче было
продиктовано стремлением их авторов обезопасить композитора от упреков в пессимизме и «упадочных настроениях».
Такие упреки могли в то время повлечь за собой серьезные
осложнения - вплоть до запрета на исполнение произведений.
Упомянутое авторское высказывание, как и целый ряд других
подобных «автохарактеристик» Шостаковича, вряд ли можно
сегодня воспринимать с полным доверием. Безнадежный и беспросветный трагизм квартета вполне вписывается в контекст
большинства поздних сочинений.
Одночастная композиция четко разделена на три контрастных раздела. Обрамляющие форму медленные разделы
(Adagio) создают настроение скорбной покорности неизбежному. В первой теме, как и в начале Двенадцатого квартета,
вновь появляется символ креста. Подобно многим другим темам поздних произведений, она использует двенадцать неповторяющихся звуков (пример 11а):
11
а)
i
Adagio J=84
V-|a
m
,
u
Р
ча-гЦ,
j
Квартет №13
1' я Т е м а
-
y
espress
L I
цф
L _|
l>cJ
JjjJ-
*
-Ps-
Вторая тема (ц. 4) опирается на достаточно типизированный интонационный комплекс «шествия на Голгофу» 11 .
Средний раздел (Doppio movimento) открывается внешне
безобидным «чирикающим» мотивом (ц. 10, пример 116).
Инфантильная окраска этой темы в сочетании со сгущенной
11. Об истоках этого интонационного комплекса см.: [13].
б)
Квартет № 13
Средний раздел
®J=84
л
V-no I
трагической атмосферой должна, по-видимому, воплощать
в себе уже знакомый нам смысловой «лейтмотив» прощальных
сочинений композитора - мысль о роковом круге, в который
смыкаются начало и конец человеческой жизни. Из этой темы
вырастает новый образ — жуткий danse macabre со «стуком костей» (удары древком смычка по деке) и изломанными quasiджазовыми ритмами. Этот эпизод — еще один образец обращения позднего Шостаковича к форме вариаций; на этот раз
это своего рода «быстрая пассакалья» с остинатной темой
pizzicato в басу. Инфернальный танец постепенно растворяется во вновь возвратившемся призрачном звучании инфантильной темы. Третий раздел (Tempo primo) образует репризу, основанную на первых двух образах Adagio. В итоге
структура квартета складывается в свободно трактованную сонатную форму с эпизодом.
Иные грани позднего стиля Шостаковича обнаруживает Четырнадцатый квартет Фа-диез мажор соч. 142 (1973).
Он состоит из трех частей: 1. Allegretto; 2. Adagio; 3. Allegretto.
Тема смерти, несомненно, присутствует и в нем, но в ее подаче
уже нет того давящего ужаса, который звучал в некоторых предыдущих опусах. I часть, написанная в сонатной форме, открывается двусмысленно приплясывающим мотивчиком. Смыслы,
заключенные в этой музыке, ускользающе многозначны - то ли
опять тихий danse macabre, то ли слегка ироническая попытка
возродить былую энергию подобных тем:
12
Квартет № 14.1 часть
Тема главной партии
Allegretto J=н е
V-c.
Р
ш
" V J J J J J J j ^ i>J
№
Связующая (ц. 12,3 такт) и побочная (ц. 14) партии противопоставляют танцевальности главной мягкую певучесть.
В разработке интонации главной темы приобретают, как заметил Б. Тищенко [40, 44], более «металлический» характер, в них
становятся заметнее признаки «пляски смерти». Начальный тематизм в зеркальной репризе трансформируется довольно свободно (и в тональном, и в фактурно-интонационном отношении). Возвращение интонаций главной партии в репризе-коде
предваряется выразительнейшим монологом альта. II часть господство лирической кантилены. В ней преобладают откровенно романтические интонации. Секстовый зачин первой темы
содержит намек и на «тристановский» мотив, и на русскую романсовую стихию (сочетание, обыгранное в главной партии
финала Пятнадцатой симфонии). В одном из эпизодов (ц. 53)
возникают прямые параллели со «сладостным» итальянским
мелодизмом (Б. Тищенко справедливо указывает на малеровский оттенок этих аллюзий). Однако мягкость и чувствительность здесь скрываюттайную горечь и усталую рефлексию. Они
дают о себе знать зашифрованными в начальной теме очертаниями символа креста, жесткой, аскетической графичностью
письма. Финал открывают выросшие из заключительных тактов предыдущей части призрачно-инфантильные пиццикато,
превращающиеся в сопровождение широко распетой мелодии.
Начальный тематизм в дальнейшем драматизируется, вновь
обнажая скрытую изнанку образа. В партию виолончели здесь
вмонтирована цитата эпизода «Сережа, хороший мой» из оперы «Леди Макбет Мценского уезда». Она звучит дружеским
приветствием С. Ширинскому, которому посвящено сочинение.
Перед кодой возвращаются лирические темы II части. Завершается квартет очень редким у позднего Шостаковича почти безоблачным просветлением.
Трагические тени предельно сгущаются в последнем,
Пятнадцатом квартете ми-бемоль минор соч. 144 (1974). Сюитность его строения напоминаетОдиннадцатый квартет. Шесть
частей следуют друг за другом без перерыва, attacca, обнаруживая явную тенденцию целого к одночастности: 1. Элегия;
2. Серенада; 3. Интермеццо; 4. Ноктюрн; 5. Траурный марш;
б. Эпилог. Бросающаяся в глаза оригинальность замысла заключается также в тональном и темповом единообразии цикла
(ми-бемоль минор, темпы Adagio или Adagio molto во всех
частях). Сюитный принцип построения, как показывает И.Левина, сочетается с элементами сонатно-симфонического цикла: I - начальное модерато, II и III - своеобразное «медленное
скерцо», IV и V - собственно медленная часть, VI — финал
[см.: 25]. Масштабность концепции произведения вдохновила
А. Кнайфеля на последовательное истолкование его через призму образов «Божественной комедии» Данте [19].
I часть (по продолжительности звучания занимающая
более трети всего квартета) - это длительное погружение
в скорбное созерцание. В двух темах части заключены две грани господствующего состояния: в первой (образующей короткое фугато) - сосредоточенность и сдержанность, во второй —
хрупкое просветление.
13
Квартет № 15.1 часть
1-я тема
Adagio J=eo
V-noll
a)
Йй
£
о
Р
Ф
ЕЕ
б),
'V-noJ
I
qL
ш
•в
ф—0—^
2-я тема
РР
П
Начало II части — необычайно экспрессивный образ.
За ним закрепилась характеристика, которую дал ему в свое
время Б. Тищенко. Он сравнил крещендирующие и резко
обрывающиеся (в динамике фортиссимо) звуки со стремительно приближающимися разящими стрелами [39]. Интервалы
вступления голосов складываются здесь в фигуру креста.
Средний раздел части - обаятельная широкая кантилена. Ее сокращенное проведение вновь появляется в коде. Короткая
III часть - смятенное, словно захлебывающееся высказывание
скрипки, которому отвечают то резкие аккорды, то величественное и суровое звучание хорала (отдаленный намек на
знаменитую Чакону Баха), то обреченно никнущие интонации
виолончели и скрипки соло, почти сплошь построенные на
мотиве креста. Оригинальной красотой отличается основная
тема IV части. В скрещенных линиях ее сопровождения можно
услышать еще один вариант символа распятия. В последних
тактах Ноктюрна рождается ритм траурного марша следующей,
V части. Траурный марш - один из излюбленных жанровых
истоков многих тем Шостаковича - здесь звучит подчеркнуто
отстраненно и объективно, словно символ неумолимого закона, кладущего предел человеческой жизни. Обреченной попыткой протеста звучат в ответ ему интонации серединной темы из
Серенады (II часть). Эпилог (VI часть) «растворяет» в зыбком,
мерцающем движении рефрена тематические элементы предыдущих частей, возвращающиеся в эпизодах этого своеобразного
рондо. Завершают квартет тема траурного марша и материал
заключительных тактов из I части.
Последним произведением Шостаковича стала Соната для альта и фортепиано До мажор соч. 147, законченная
за месяц и два дня до смерти композитора. Художественное
решение цикла в ней опирается на иные, чем в предыдущих
камерных инструментальных ансамблях, принципы. Резко
уменьшается роль сквозных тематических связей между частями, нет переходов attacca между ними, нет и репризного возвращения их материала в финале. Три части сонаты образуют
самостоятельные, достаточно замкнутые «миры»: 1. Moderato;
2. Allegretto; 3. Adagio. Начальная тема I части - квинтовый
перебор открытых струн в штрихе pizzicato (пример 14а) - своеобразный символ возвращения к неким универсальным истокам, «образ рождающегося бытия» [11, 60], восходящий
к знаменитому началу Девятой симфонии Бетховена. Есть в этой
музыке и несомненный намек на фактуру I части Скрипичного
концерта А. Берга. Побочная партия несет в себе иные смыслы
(ц. 8). Дыхание «космического» холодного покоя сменяется
в ней человеческим, земным беспокойством, тревогой, «фаустовской неудовлетворенностью человеческого сознания» [11, 61]
(пример 146):
14
\
I
Moderato J = i o 4
.
a) v-la pizz.
Ш
ГеМ
Р
I
«
Соната для альта и фортепиано. I часть
J
Г Лг
r J иJ
i
Тема главной
я
партии
I»
а
б)
Именно эти интонации дают толчок динамичной,
устремленной к кульминации разработке. В сокращенной репризе звучание обеих тем смягчается, побочная партия становится истоком развернутой каденции альта и настороженно звучащего в ней бетховенского «ритма судьбы». II часть наполнена
скерцозными образами. Форму ее можно истолковать как свободно трактованную сонатную с контрастным тихим эпизодом
в разработке и зеркальной репризой. И главная и побочная
(ц. 32) партии сильно трансформированы в репризе (ц. 46, 52),
в интонации побочной здесь вплетается тема эпизода. Предвестниками следующей части звучат интонации первой темы
финала и многозначительный мотив, напоминающий тему
последней фуги ре минор из цикла «24 прелюдии и фуги».
Финал сонаты представляет собой единую линию медлительного разрастания и заключительного истаивания одного образа - темы-аллюзии на музыку I части Лунной сонаты Бетховена. Ее предваряют нисходящие квартовые ходы, постоянно
вплетающиеся в ее развитие. Напоминающая по форме свободные вариации, эта часть несет в себе отдаленные отзвуки шостаковичевских пассакалий — философскую сосредоточенность,
возвышенный «этический императив», текучесть граней формы. Даже в основной - «бетховенской» - теме есть нечто от
пассакальи: характерный строгий пунктирный ритм, почти постоянная опора на глубокие октавные басы у фортепиано.
Поздний период творчества Шостаковича завершает
не только трудный и противоречивый путь самого художника.
В некотором смысле это завершение целой эпохи - эпохи
советской
музыкальной
классики.
Шостакович был наиболее
ярким ее символом и в последних своих сочинениях отразил
и ее неизбежный закат, и вызревавшие в ней новые тенденции.
Литература
1. Акопян Л. Феномен Шостаковича: опыт феноменологии творчества.
СПб., 2004.
2. Акопян Л. «Художественные открытия» Четырнадцатой симфонии //
Музыкальная академия. 1997. № 4.
3. Арановский М. Века связующая нить (о сюите для баса и фортепиано
«Сонеты Микеланджело Буонарроти») // Новая жизнь традиций в советской музыке. Статьи. Интервью. М., 1989.
4. Арановский М. Инакомыслящий // Музыкальная академия. 1997. № 4.
5. Арановский М. Пятнадцатая симфония Шостаковича и некоторые
вопросы музыкальной семантики / / Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 15. Л., 1978.
6. Арановский М. Симфония и время // Русская музыка и XX век. М., 1997.
7. Бобровский В. О некоторых чертах стиля Шостаковича шестидесятых
годов. Статья первая // Музыка и современность. Вып. 8. М., 1974.
8. Бобровский В. Победа человеческого духа // Советская музыка. 1968.
№ 9.
9. Бобровский В. Претворение жанра пассакальи в сонатно-симфонических циклах Д. Шостаковича / / Музыка и современность. Вып. 5. М.,
1962. То же: Бобровский В. П. Статьи, исследования. М., 1990.
10. Бобровский В. Шостакович в моей жизни // Советская музыка. 1991.
№ 9.
11. Бобровский В. Последнее сочинение Шостаковича / / Проблемы
музыкальной науки. Вып. 6. М., 1985.
12. Валькова В. Метафизика детского в творчестве Д. Шостаковича //
Русская музыкальная культура. Современные исследования. М., 2004.
13. Валькова В. Сюжет Голгофы в творчестве Шостаковича // Шостакович: между мгновением и вечностью. СПб., 2000.
14. Валькова В. «Рыдать над смешным»: традиции русского юродства в
творчестве Шостаковича // Искусство X X века: парадоксы смеховой
культуры. Н. Новгород, 2001.
_ 15. Гоигорьева Г. Особенности тематизма и формы в сочинениях Шостаковича 60-х годов // О музыке. Проблемы анализа. М., 1974.
16. Дружинин ф. О Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче // Шостаковичу посвящается. Сб. статей к 90-летию композитора (1906-1996). М.,
1997.
17. Житомирский Д. Шостакович // Музыкальная академия. 1993. № 3.
18. Климовицкий А. Еще раз о теме-монограмме D-Es-C-H / / Д. Д.
Шостакович: Сборник статей к 90-летию со дня рождения. СПб., 1996.
19. Кнайфель А. «И правда, как звезда в ночи, открылась» // Советская
музыка. 1975. № 11.
20. К обсуждению 24 прелюдий и фуг Д. Шостаковича / / Советская
музыка. 1951. № 6.
21. Корее Ю. О Пятнадцатой симфонии Д. Шостаковича / / Советская
музыка. 1972. № 9.
22. Кравец Н. Новый взгляд на Десятую симфонию Шостаковича / /
Д. Д. Шостакович. Сб. статей к 90-летию со дня рождения. СПб., 1996.
23. Левая Т. Поэтика иносказаний // Музыкальная академия. 1999. № 1.
24. Левая Т. Тайна великого искусства (О поздних камерно-вокальных
циклах Д. Шостаковича) // Музыка России. Вып. 2. М., 1978.
25. Левина И. Об эволюции принципов циклической драматургии
в квартетах Д. Шостаковича // Проблемы музыкальной драматургии
XX века. М„ 1983.
26. Мейер К. Шостакович. Жизнь. Творчество. Время. СПб., 1998.
27. Орджоникидзе Г. Зарницы поэзии // Советская музыка. 1968. № 9.
28. Орлов Г. «При дворе торжествующей лжи». Размышления над биографией Шостаковича / / Д. Д. Шостакович. Сб. статей к 90-летию со
дня рождения. СПб., 1996.
29. Орлов Г. Симфонии Шостаковича. Л., 1961.
30. Паисов Ю. Пятнадцатая симфония Д. Д. Шостаковича // Музыкальный современник. Вып. 3. М., 1979.
31. Письма кдругу: письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликману. М.; СПб.,
1993.
32. Раабен Л. Образный мир последних камерно-инструментальных
сочинений Д. Шостаковича / / Вопросы теории и эстетики музыки.
Вып. 15. Л., 1977.
33. Сабинина М. Было ли два Шостаковича? // Музыкальная академия.
1997. № 4.
34. Сабинина М. Мозаика прошлого / / Шостаковичу посвящается.
Сборник статей к 90-летию композитора (1906-1996). М., 1997.
35. Сабинина М. Шостакович-симфонист. М., 1976.
36. Слонимский С. О благородстве человеческого духа / / Советская
музыка. 1971. № 7.
37. Тараканов М. Заметки о новом сочинении // Советская музыка. 1971.
№ 7.
38. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской
советской музыке. М., 1988.
39. Тищенко Б. Новый квартет Шостаковича // Советская культура. 1974.
19 ноября.
40. Тищенко Б. Размышления о 142-м и 143-м опусах // Советская музыка. 1974. № 9.
41. Шостакович Д. Предисловие к премьере // Правда. 1960. 25 апреля.
42. Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich, as related to and edited
by Solomon Volkov. New York, 1995.
«Новая
фольклорная волна»
Новый всплеск интереса отечественных композиторов
к фольклору пришелся на период, который хронологически определяется лишь условно. Яркие, дерзкие сочинения плотной
группой возникают в 60-х годах, захватывают половину 70-х;
почти ежегодно появляются новые опусы Э. Денисова, В. Гаврилина, С. Слонимского, Р. Щедрина, Б. Тищенко, Ш. Чалаева,
М. Скорика, многих других. Но и до того, с середины 50-х годов,
уже накапливалась потребность как бы заново вслушаться в богатство фольклорных пластов, не только давних, не только русских. И все же есть основания названные примерно полтора десятилетия выделить особо - не только потому, что именно они
вместили в себя большинство композиторских опытов, заставивших о себе жарко спорить. А главным образом - вследствие
их почти сразу признанной востребованности, мощного резонанса, позволяющего считать их «знаком времени», одним
из признаков музыкального и общедуховного обновления.
Острота споров, кипевших вокруг них, подтвердила это.
Само выражение «новая фольклорная волна» попало
на страницы музыковедческих трудов примерно в середине
6 0 - х и многими воспринималось тогда с недоумением.
В каком смысле «новая»? Что еще в фольклоре не познано, не
освоено? Не чрезмерная ли в этом самонадеянность группы
молодых композиторов, не форма ли молодежного бунтарства?
Речь действительно шла о композиторах молодых, некоторых - только что с консерваторской скамьи, жадных к новому
и полемически задорных, что проявлялось не только на фольклорной стезе. Они с ненасытным любопытством впитывали накопленное мировой культурой. Переставали пугать додекафонный и серийный методы композиции, алеаторика, сонористика;
раздвигалась звуковая ойкумена, влекли к себе урбанистические и техногенные шумовые реалии. Пробуждался запретный
ранее интерес к давним пластам русской (и не только русской)
музыкальной истории - и многое другое. «Для моего поколения, - вспоминает Г. Канчели, - конец 50-х — начало 60-х годов - время необычайно интересное. В нашу жизнь одновременно вошла музыка представителей разных направлений.
Мы испытывали плодотворное воздействие Стравинского,
Хиндемита, Бартока, Онеггера - с одной стороны, Шёнберга,
Веберна, Берга - с другой... Реакция же окружающих оказалась
почти одинаковой: музыка, которую мы писали, раздражала,
ее отвергали» [2, 357].
В изнанке каждого явления есть негатив. Освоение «новых техник» было неизбежностью и благом, но некоторые из
них таили опасность, которую М. Тараканов образно назвал
«выветриванием интонаций». Техническая изощренность уводила - иногда и далеко — от эмоционально-непосредственной
музыкальности. Это побуждало искать противовесы — достаточно мощные, чтобы равновесие вернуть. Не отсюда ли интенсивность поисков в живой интонационной среде, в музыке быта,
говоров, звуковых реалий повседневности?
И, конечно, - в фольклоре. Лишь на первый взгляд кажется случайным, что к «новым техникам» и к фольклору обращались нередко одни и те же авторы; совсем наглядно, если
это происходило в одном и том же произведении. Такова «Повторил» Р. Щедрина (1968) с ее сложнейшей интонационной,
особенно оркестровой тканью, все время прослаиваемой фольклорными в истоках оборотами; главным солистом в ней задуман, включен в партитуру сам А. Вознесенский, один из лидеров «поэтического бума» 60-х, — что тоже дерзость. Группа
«фольклорных» концертов, чей жанровый и композиционный
прототип - «все тот же барочный concerto grosso. Только в сравнении с "классической" группой жанровые традиции выступают здесь гораздо более опосредованно <...> в совершенно иных
стилистических условиях» [4, 777-772]; речь об «Андрее Рублёве»
О. Янченко, «Русских сказках» Н. Сидельникова, «Звонах»
Р. Щедрина, «Скоморохах» Ю. Фалика. Встречались сочинения
«фольклорно-додекафонные», как в гротескно-заостренной
«Народной» из «Шести картин» для фортепиано А. Бабаджанян а (1965), основанных на армянских национально-интонационных традициях. А двенадцатитоновая - и такая русская! песня «Не белы, белы снеги» из оперы Р. Щедрина «Мертвые
души» (1976)...
Причина композиторского радикализма в том, что и
в фольклоре они искали неизведанное, когда с рациональной
осознанностью, а чаще интуитивно они понимали, что
фольклорные ресурсы шире того, что попадало в слуховое
сознание композиторов прошлого (многих пластов те просто
не могли слышать и знать). Что успехи собирателей, теоретиков в XIX и особенно в X X веках весьма расширили наш слуховой багаж, в том числе за счет фольклора давнего, даже
архаического. Что сам фольклор в постоянном обновлении
и приращении с каждым поколением дает модификации
старых образований, а то и формирует новые. А также, что музыкальный мир в X X столетии окончательно становится полицентричным, снимая слуховые затворы с национально-интонационных богатств скандинавских, балканских, иберийских стран,
далее с фольклорной музыки обеих Америк, со спиричуэлс
афроамериканцев итемброво-ритмической изощренностью самой Африки. А М. Равель был очарован музыкой яванской...
Но, главное, вслушиваясь в фольклорные пласты,
доселе незнакомые, переосознавая вроде бы хорошо известное, — они понимали: многое из того, что справедливо ставится в заслугу исканиям композиторов X X века, на деле уже давно хранилось в толще фольклорных богатств. Микроладовая
динамика, столь много давшая музыке X X века, вскрыта Б. Бартоком и 3. Кодаем в ходе их балканских экспедиций; «мерцания терций», характерные для религиозных гимнов американских негров; гетерофонические сплетения голосов, что так
важны для современной сонористики; «дыхание ритма», с игрой акцентами, смещениями метрических долей, структурной
изменчивостью мотивов на микроуровнях и ритмодраматургией масштабной протяженности; находки фактурные, тембровые, расширение способов звукоизвлечения и самого инструментария - многое можно было бы еще назвать.
Уже в 1913 году в «Весне священной», затем в «Байке...»,
«Свадебке», «Прибаутках» И. Стравинский в полной мере реализует знаменитую мотивную технику - она схожа с мотивной игрой в иной его музыке, прямо с фольклором не связанной. И не об одной мотивной технике речь, не только о
технических приемах. Напомним, что И.Стравинский для наших композиторов в те годы был несомненным и почитаемым
авторитетом, его партитуры скрупулезно изучались. Следы
вдумчивого его освоения обнаруживаются, скажем, в «Свадебных песнях»,«Прибаутках» Ю. Буцко. «Плачи» Э. Денисова, основанные на обрядовом цикле, соединяют в себе давние фольклорные истоки с наисовременнейшей интонационной работой.
Это слышно в обостренности ладовых оборотов, с тонкими
переходами от диатоники к многосоставной полидиатонике,
на слух воспринимаемой как достаточно сложная хроматика;
в непривычности интервально-мелодических, метрических, фактурно-тембровых построений. А главное, Э. Денисов тоже пытался выстроить систему из набора разнообразных модификаций плачей, представить ее в виде целостной соотнесенности
всех частей - в свою очередь соотнесенной с народным мироощущением и миропониманием, такими вроде бы хронологически давними и, как выяснилось, отнюдь не устаревшими...
Важнейшая характеристика «новой фольклорной волны» — расширение ареала фольклорных жанров, попадающих
в зону интенсивного композиторского внимания. В этом тоже
сказалась установка на непредвзятость. Весенние хороводы
«яллы» вошли в музыку балета азербайджанца Ф. Караева
«Тени Кобыстана», фольклор балтов - в «Курземскую тетрадь»
П. Дамбиса, есть и другие примеры.
«Семь лакских песен» Ш. Чалаева уже при их появлении в 1967 году были приняты с восторгом. Суровый напор воинских танцев, шествий, объединяющая соплеменников мощь
обрядов даны в композиционном обрамлении пленительно
сдержанных «женских» жанров с их теплотой повседневного
обихода. Но заслуга Ш. Чалаева не в одной приверженности
к звукам родного края (что было бы естественно). Его «Песни»,
оставаясь именно лакскими, тесно связывались с общим для
современной культуры обновлением музыкального мышления,
с прихотливой динамикой интонационного строя, сложной изменчивостью фактуры. «Чалаев свободно соединяет разнородные средства современного и классического музыкального
письма, смело сопоставляет простейшие приемы сопровождения (например, голос и стучащий или гудящий фон) и весьма
сложные - политональные и полигармонические наложения.
Красочные фонические эффекты и жесткие линеарные сочетания применяются рядом со скромными последованиями трезвучий» [12, 507].
Раздвигались также пределы хронологические. Старинные плачи, причеты - давняя линия в отечественной музыке. А композиторы «новой фольклорной волны» пытаются расслышать (угадать?) совсем уж архаические зовы, кличи, стоны,
веете протожанровые звуковые ячейки, которые лишь позднее,
в ходе эволюции, начнут складываться в жанры привычного нам
строения. Надо полагать, и здесь не обошлось без влияния
И. Стравинского, без его «гулов земли» из начальных эпизодов
«Весны священной». Но также и Б. Барток, 3. Кодай показали
нам, как в фольклоре древнейших времен из простейших
мелодических оборотов складывались до-ладовые, первично-
ладовые построения, как отдельные интонации «стягивались»
в мотивные структуры.
Такой процесс явлен в группе сочинений В. Тормиса на
основе эстонских рун, особенно ярко, пожалуй, в «Заклятии железа» на адаптированный текст из «Калевалы», 1972 [подробнее об этом см.: 3, 107~115\. Свой подход у Б. Кутавичюса в оратории «Из камня ятвяг», созданной в середине 80-х годов.
А. Эшпай сказал: «В своих "Песнях горных и луговых мари" мне
хотелось передать атмосферу финно-угорского лада в его древнейшем виде. Разумеется, так, как я себе это представляю. Я воспользовался записями отца, так сказать, получил материал "из
первых рук"» [2, 286].
Однако и в тех случаях, когда фольклорные модели не
имели пугающей давности и датировались (примерно, конечно) вполне исторически обозримыми периодами, композиторов «новой фольклорной волны» влекло то, что не слишком
заиграно и запето. Песни калик перехожих, не избалованный
вниманием композиторов пласт, становится частью современного слухового опыта в кантате Г. Гонтаренко «Скоморохи».
Казачья старина оживает в «Тихом Доне», хоровом концерте
С. Слонимского, старинные напевы карпатских гуцулов не раз
возникают в музыке М. Скорика.
«"Разбойные песни" времен Алексея Михайловича
и Петра Алексеевича составляют одну из двух главных жанровых линий "Песен вольницы" С. Слонимского. Первоначально,
в 1959 году, создавался камерно-вокальный цикл - но
в его рамках «"вольнице" было явно тесно» (М. Рыцарева); произведение более известно в вокально-симфонической версии
1961 года. «Мотив разбойничьей удали, безудержной богатырской силы, силушки, не находящей себе применения и разворачивающейся от зелена вина - до ножа и грабежа» [б, 67] все это потребовало особого музыкального склада. Напористые интервальные ходы вокальной партии, по большей части
квартовые, квинтовые, лишенные, как правило, смягчающих
мелодических опеваний; жесткое скандирование ритмики,
часто ломаемой синкопами; подчеркнутая брутальность оркестрового колорита - все это явственно уже в первой из «мужских» песен цикла, «Хороша наша деревня» (II), и не раз проявит себя в дальнейшем.
Но С. Слонимский не пишет «в одну краску». Иной
пласт, условно говоря, «женский», лишь поначалу служит
оттеняющим контрастом. Основная идея цикла - их все большее взаимодействие, в итоге - синтез. Тонкие, непривычные
микроладовые смещения, «распетость» мелодических ходов,
Ш
Ш
гибкая подголосочная вязь фактуры чем дальше, тем сильнее
пронизывают «вольницу», исподволь меняют ее интонационный и, через это, эмоционально-образный склад, в «Зелено
вино» (IV), в «Седлайте коней!» («Разбойники в гостях», VI).
Пока в финале «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка!» пение разбойников не перестает быть только «разбойным» (и
поют здесь не только они). Жанр и склад - иные, с гибкостью
ладогармонических «мерцаний», с протяженностью скорбно
распетых мелодических линий, с многослойной подголосочной
фактурой. Вот уж воистину «слышится родное» — «и раздолье
удалое, и унылая тоска»...
Еще один своеобразный пласт: молились на Руси не
только в православных храмах, обиходные деревенские молитвы веками соединялись с фольклорным интонационным
опытом. Один из ярчайших в этом роде образцов - «Молитва
Мокеихи» из 2-й картины оперы С. Слонимского «Виринея»
(1-я редакция, 1967). Эта «Молитва», не только ключевая в характеристике самого персонажа, но и важная в общей интонационной панораме всего произведения, начинается с молитвенной сосредоточенностью, тихо и вроде бы неспешно, но
постепенно становится не просто эмоционально более раскованной - она приобретает черты истовости, потом исступленности; даже нечто кликушеское проступает в ней под конец.
Преобразуется ее интонационный облик: мелодически неразвитое псалмодирование начальных тактов все более усложняется ладово, разворачивается интервально, обостряется ритмически. И даже фактурно - фразы, в одноголосом изложении
разнесенные широкими, диссонантными интервальными
скачками в края вокальной тесситуры, обретают не только
свои тематические очертания, но и как бы право быть отдельным голосом.
Пример ярок, но не единичен в «новой фольклорной
волне». У Б. Тищенко, например, это «На пострижете немилой»
из сюиты «Суздаль», в двух вариантах на один текст — один из
них включен также в «Грустные песни»; «знаменная» начальная тема II действия его «Ярославны». В хоре Р. Щедрина«Казнь
Пугачева» М. Таракановым отмечен «специфический синтез... хорового причета, плача, полуречевой скороговорки и литургического песнопения» [8, 737]. Грузинское православное многоголосие, армянские шараканы в самой музыкальной истории
расходились широкими кругами в народной толще, бытовали
также и по нормам фольклора. Как знать, не грузинский ли хоровой склад подсказал медитативные страницы в более поздних
по времени создания симфониях Г. Канчели? Прямых цитат
чаще нет, связи не явны, не безусловны - но «память слуха»
настойчиво возвращает нас к такого рода ассоциациям...
Впрочем, одним только интересом к «истории фольклора», давней либо не очень, дело вовсе не ограничивалось.
Композиторы сознавали, угадывали и уж в любом случае творчески подтверждали, что развитие фольклора не прерывается,
как не прекращается возникновение все новых жанровых линий либо глубинная трансформация линий давно привычных.
Процесс этот, надо полагать, нескончаем, сколь бы ни отличался
наш обиход от старинного народного, как бы ни менялись формы бытования музыки.
Жанр частушки сравнительно молод, ее «родословные
записи» датируют обычно второй половиной - концом XIX века.
Нет нужды поминать, сколь многое в тот период менялось —
как круто! - в вековом укладе народной жизни; неудивительно, что новый жанр оказался смыслово многослойным. В волне «нового фольклора» сливаются столь разные частушки «Русской тетради» и «Припевок» для хора a cappella В. Гаврилина,
хоровой «Прощальной» и «Деревенского альбома» для фортепиано Г. Белова, кантаты «Вечерок» Ю. Буцко,«Виринеи» и «Песнохорки» С. Слонимского и многое еще.
Родовой признак частушки, ее стержень, пожалуй, вольный задор, выплеск свободной энергии, ощущение спадающих пут. Именно такой услышал ее Р. Щедрин в концерте для
оркестра, который и назван «Озорные частушки». М. Тараканов
выделяет «вариантность сжатых мелодических фраз, представляющих частушечные формулы... Сразу же вспоминается опыт
Стравинского, строившего сложную форму на элементарной основе простейшей попевки». Этот гибкий, многообещающий метод переходит с интонационно-попевочного микроуровня на
уровни следующие, на композиционное соотношение фраз,
куплетов, которые «нигде не повторяются с абсолютной точностью», далее на общий драматургический план, в котором «возникает сложное совмещение разных структурных принципов,
основанных на контрастно-вариационном развертывании».
И все это с подкупающей энергией, во всем «атмосфера живого состязания, где участники быстро перебивают друг друга, где
царит дух всеобщего возбужденного оживления» [9, 90~9Ц. Так
и чудится, вот взмоет над головой сочный, цветасто-узорчатый
кустодиевский плат!
Но редко лишь праздничны даже праздники на Руси...
Не оттого ли и частушка весьма быстро расслоилась на жанровые варианты - от лирических девичьих «страданий» до просто трагических, но таких, чтобы горе «завить веревочкой»,
не в жалобах изливать? Не потому ли столь соотносимы жанровые варианты частушек с песней, хороводом, а то и с причетом, если не голошением?
Тот же Р. Щедрин в опере «Не только любовь» (1961)
представляет не только россыпь вариантов - на всем протяжении оперы, но особенно в «Маленькой кантате» из начала
II действия. Здесь и мечтательные излияния девушек, и юмористически трактованная уверенность знающих себе цену парней,
и «ой, девки, беда - мой Ванюшка женится, а я-то куда?!». От
этого последнего - прямой путь к трагической экспрессии
в кульминации всей оперы, к частушке Варвары Васильевны,
где мелодические контуры в целом не разрушают привычного
архетипа, а метр величав, как в поступи хоровода. Вот только
голос не вьется мягкими изгибами, а забирается все выше, готов сорваться в предельном напряжении - и срывается плачевым глиссандо в самые низы регистра, в долгом падении не считаясь ни с метром, ни с композиционной гранью куплета: «Ой,
мамонька-мать, куда мне любовь девать, то ли по полю развеять, то ли в землю закопать!» И почти тут же в пляс, лихой (от
слова «лихо»), не обманывающий никого: «Ой, чок-чок-чок,
каблучок чок-чок!» Да уж, праздник!
Еще один фольклорный пласт оказался очень важным
для композиторов «новой фольклорной волны» — городской
фольклор. Сама по себе это традиция в русской музыке давняя.
Уже с XVIII века собирателями фиксировались образцы городского музыкального быта, когда исконного, когда заимствованного у тогдашней Европы и прижившегося у нас; дань им отдали авторы первых русских комических опер «на голоса». А уж
о русской музыкальной классике, о значении для нее городского
романса во всех разновидностях, иных «городских» жанров не
приходится говорить. Но стоит помнить, что музыка города не
оставалась неизменной. При сохранении важнейших жанров
возникали новые, модифицировались старые, шел постоянный
обмен между городом и деревней.
Как раз именно эта, динамическая сторона оказалась
для «новой фольклорной волны» весьма интересной. Песни
фабричного люда, вся атмосфера угрюмого гулянья, «праздника без праздника», легли в основу целой картины «На чугунке» в «Виринее», не говоря уже о Павле, Инженере, заезжих
городских гостях, характеристика которых вне привычного им
городского интонационного склада невозможна. Не только
с юмором, но и с сарказмом выписывает Р. Щедрин в опере
«Не только любовь» Володю, местного уроженца на учебе в городе, не скрывающего, сколь высок его «цивилизационный
ранг» в сравнении с деревенским. А «Репетиция духового оркестра» (не в деревне же зародилась эта форма коллективного
музицирования!) из II действия! Это же просто самостоятельный концертный номер - так виртуозно выписана в нотном
тексте спонтанно возникающая фальшь!
Уже в X X столетии частью зародились, частью широко
распространились многообразные разновидности молодежного, позднее туристского, альпинистского фольклора. Да и «авторские песни» бардов, при всей духовной самостоятельности
и мощи лучших ее представителей, немыслимы вне широко
бытующего интонационного фонда. «Я совершенно убежден, —
говорил А. Николаев, - находки наших сегодняшних бардов —
тоже интереснейший, живой пласт... Их песни - своеобразная
ветвь ныне здравствующего городского фольклора» [2, 373].
Откликнулся на эти веяния, например, Б. Тищенко
в «Рождественскомромансе» из «Грустных песен» - редком обращении к поэзии опального в те годы И. Бродского. А как
интересны его «Три песни на стихи Марины Цветаевой»\ Фортепианное сопровождение имитирует гитарный аккомпанемент,
интонации голоса просты, непритязательны, полупение-полуречь. Нет изысков в гармонии, привычно устойчивы грани
куплетов; такое не «сочиняется» - тихонько поется, просто проборматывается «для себя». Но при этой безыскусности с тем
большим вниманием вслушиваешься в стихотворные строчки,
в которых тоном обыденным говорится о том, что - болит. «Вот
опять окно, где опять не спят...» Что ж удивляться, если в завершении короткой песни голос дрогнет, просто остановится на
монотонной речитации, выговаривая почти нехотя: «Помолись,
дружок, за бессонный дом, за окно с огнем».
Упоминая о Цветаевой, стоит, пожалуй, сказать, что несколько по-иному, в сравнении с устоявшейся традицией, слышат композиторы «новой фольклорной волны» поэзию
Серебряного века. Интеллектуализированная, психологически
сложная и острая, насыщенная парадоксальными сопоставлениями и оксюморонами, она поворачивается еще одной
гранью - слышится песенной, а в песенности явно проступают
корни давние, в основе крестьянские. М. Шагинян о поэзии
А. Ахматовой пишет: «Ритм, казавшийся изломанным, обнаружил глубочайшее сродство с русской народной песней. Образы, простота которых казалась в ту пору изысканной (именно
изысканной, задуманной), нынче воистину становятся простотою, рисунком верным и вечным по своей абсолютной правде»
[11, 757]. Отнести такое можно не только к Б. Тищенко, но
и к ахматовским романсам С. Слонимского, к блоковским «Петербургским песням», «Ночным облакам» Г. Свиридова...
И еще одна тенденция - ее можно назвать «реабилитацией семантики» так называемых «низких жанров» уличной
песенки, детской считалки, иных.
«Жестокий романс», скомпрометированный банальностью многих повторений, неспособный, казалось бы, к образности высокого плана, В. Гаврилин как бы очищает от многолетних напластований. «Жестокие интонации», вплоть до
фермат-замираний на мелодической вершине, когда-то были
нащупаны, угаданы для выражения эмоционального всплеска,
особо напряженного - и подлинного. Потом, правда, в невзыскательном обиходе они оказались удобными для
имитации
подлинного;
но тогда и сарказм наш дблжно относить к этим
тривиализованным повторам.
А героиня «Русской тетради» ничего не имитирует, ее
горе искренне, неизбывно, иное дело, что для выражения его
она использует привычные ее слуху «интонационные речения»;
«жестокий романс» для нее вправду жесток. Сам В. Гаврилин
обмолвился, что музыка не должна бояться «быть чернорабочей», ибо тогда не исключена опасность, что какие-то музыкальные ценности окажутся несправедливо полузабытыми, отданными на откуп невзыскательному вкусу. И. Земцовский
добавляет: «Гаврилин не боится самых ходовых (чтобы не сказать "расхожих") интонаций: он их не выдумывает заново, не
конструирует, он их по-своему произносит и проясняет, вкладывает в них глубокую поэтичность своего мироощущения... Дар
поэтизации обыденного - особый дар, и Гаврилин владеет им
удивительно» [1, 27].
Наконец, богатейшая россыпь интонаций речевых,
«музыка говора человеческого», о которой говорил М. Мусоргский. «Отпечаток аскетической суровости» (Ю. Паисов) лежит
на «Былине о Борисе и Глебе» Ю. Буцко, сказе о кровавом миге
нашей древней истории. В оратории Л. Пригожина «Слово
о полку Игореве» сказовое, говорное, возгласное в разнообразнейших сочетаниях сплетается со сложно-рафинированными
«современными» интонациями, врастает в виртуозно разработанную оркестровую ткань, со всеми ее приметами «авангардного» по тому времени письма. Оратория Р. Щедрина «Ленин
в сердце народном» вобрала в себя «речевые жанры» нашего
времени: бытовой склад вперемежку с воинским скандированием слов красногвардейца, говорок фабричной работницы вплоть до венчающего произведение сказа X X века (М. Крюкова), «Lacrimosa в русском стиле», напутствия ушедшему, но
почти без слез, светло и вроде бы спокойно: «Ты спокойно спи...»
(написано специально для Л. Зыкиной).
Как бы ни расширялась фольклорная база композиторских сочинений, от древней заклички до современной
уличной песенки, от северных сказов до суровых шараканов
прокаленной солнцем Армении, - фольклор «в чистом виде»
встречается разве что при специальных творческих задачах.
Куда чаще он личностно интерпретирован, многослойно
опосредован, преломлен призмой концепции, всякий раз конкретно-особой. Практически все, анализировавшие «новую
фольклорную волну», отмечали усиление субъективно-личностного в многозначных трактовках фольклора, сложные взаимодействия, глубокие, неожиданные синтезы.
О «Русской тетради» В. Гаврилина (1964) писали
многие, писали вдумчиво и ярко. Например, единодушно
отмечается широчайшая панорама фольклорных, бытовых
демократических жанров, от старинных плачей, причетов
до сравнительно новых частушек, от наигрышей давней
крестьянской традиции до гармошечных фактур, до городских
напевов и формул позднего инструментального вида, до обиходно-джазовых реминисценций. Все это прослаивается
многообразием интонаций речевых, тоже в широком диапазоне. Пожалуй, «Русская тетрадь» — сложное сплетение многих
линий, каждая из которых способна изменяться весьма значительно. А вместе они образуют «магнитное поле» с мощным
уровнем экспрессии.
Это относится к подслушанному в реальной жизни
сплаву, где интонации, жанры городской музыки слиты с деревенскими речениями, где нет границы, но есть пространство,
которое естественно заполняется переходными формами, расширяя тем самым эмоционально-образный и интонационножанровый фонд. Например, «Зима» содержит напряженные
смысловые контрасты. «Эпизод голошения» («Ой, зима...», т. 2~
17) почти соседствует с разделом, где удаль слишком наиграна,
чтобы быть искренней («Домой возвратилась с гулянки...», т. 8 2 132). Раздел строится на размашистых интонациях с подчеркиванием ритмической и метрической регулярности, нарочито просты композиционные квадраты куплетов, гармония, вне всякого
движения, представлена только тоникой, в гитарных переборах
повторяемой на сильных долях тактов. В этом своя энергия, но
еще больше — внутреннего лицедейства, горького самопародирования; есть удаль крестьянской вольницы - но явственней казенная маршевость подневольных солдат или выходы-
гуляния мастеровых. Тем острее для нас интонации голошения
и, особенно, в завершении части отчаянное: «Ой, зима-а!»
Это относится к глубине внутреннего преобразования
первичных жанров, в крайнем виде - едва ли не опровержения исходного их смысла. Сохраняя родовые признаки жанра,
композитор выделяет, приподнимает особо действенную деталь, превращает ее из контекстуальной в контекстообразующую — и возникает «жанр наизнанку», с особой внутренней конфликтностью, с парадоксальной «семантикой от противного».
В частушечных возгласах 1-й «Страдальной» опорный звук сдвигается на секунду вниз, лишая типовую терцию лада тоникальности, а возникший тритон раздвинут до увеличенной кварты
через октаву; в реальном исполнении такой перепад тесситуры
невозможен без глиссандо с оттенком больного выклика.
И это не отдельные приемы, родство частей с разной
жанровой основой несомненно, особенно при сопоставлении
их наиболее взрывчатых разделов. «Локальные экспрессии», укрупняясь, многократно умножаясь, прослаивают весь интонационный строй цикла. Композитор не нарушает распевности, но
«раздвигает» привычные интервалы, меняя их на широкие, часто диссонантно жесткие. Постоянно тревожит слух утрированность частушечной скороговорки, без всякого перехода сменяемая горестными, хотя также несколько наигранными возгласами
(«Дело было...»); нарочиты сопоставления резко контрастных
оборотов и целых разделов (2-я «Страдальная», «Зима»),
При такой доминанте просто неизбежен выход на голошения, они - собирательная призма, органичная кульминация всего интонационно-жанрового строя. Нетрудно видеть, что
«Русская тетрадь» — с ее трагедийным подчеркиванием открытых эмоций, с наглядно-почвенной конкретностью обиходных
жанров, репрезентантов целого слоя чувствований - это драма, как скрытая внутри, так и со сценической рельефностью
выступающая наружу.
Тем более неожиданным воспринимается финал, прямой логикой не объяснимый, — пасторальный пейзаж с оттенком буколичности; он назван «В прекраснейшем месяце мае».
На деле же верхний слой образа только скрывает подводное
течение, а безмятежность его - иносказание, даже не поданное всерьез, вводя в обман, а воспринимаемое скорее как дань
принятым в деревне устоявшимся формам любовной речи.
Майская теплынь, безоблачность любви окажутся позднее даже
не воспоминанием, а мечтой о них, прощанием с ними.
Но это уводит образ вглубь, принципиально его не меняя, - он и при первом появлении в финале не безмятежен.
Вначале двойственность образа как бы не слышна. Фортепианное вступление напоминает пастуший наигрыш. Мелодика
вокальной партии прочно привязана к аккордовым опорам.
Спокойна симметричная ритмика, уравновешено композиционное строение мотивов, фраз. Правда, в основном напеве временами проглядывает внутриладовая нестабильность, как бы
соперничество двух устоев, особенно при их непосредственном
соприкосновении (в т. 35-39). И неизменное, едва ли не ритуальное постоянство парного дробления долей прерывается
спонтанной асимметрией обыденного говорка. Равномерность
метрики надолго прерывается ферматами, между фразами повисает тоскливая пустота... Все эти мелкие, не сразу сознаваемые детали исподволь размывают исходное настроение. Точнее, настроение, которое подается нам как исходное.
И тогда обращаешь внимание не на пасторальность образа, а на ее невсамделишность. Эта квазипастораль не успокаивает, а тревожно завораживает, слишком резко она противопоставлена всей предшествовавшей атмосфере цикла, где
преобладали эмоции сочные, густые, часто недобрые. Теперь
за, казалось бы, невозмутимой ясностью финала встает иное —
онемелость чувств, невозможность и дальше бушевать в своем горе. Был бунт крови и яростное отторжение незаслуженной беды, героиня голосила, молила: «Холодно, холодно мне!»
Теперь душа омертвела, холод привычен.
Фольклорные искания и «собственные» стилевые свойства симфоний и концертов, ораторий, опер, балетов,
театральной и киномузыки соединялись между собой, взаимно друг в друга проникали. Лишь два года разделяют «Песни
вольницы» С. Слонимского (вокально-симфонический вариант)
и его Фортепианную сонату - но как много роднит эти произведения в стилевом отношении! О «Гимнах» для разных инструментальных составов (1974-1976), столь впитавших новации современного инструментализма, сам А. Шнитке сказал: «Это был
опыт вживания в архаическую интонационную логику, как я ее
себе - может быть, ошибочно - представляю» [2, 333].
В Третьей симфонии (1966) Б. Тищенко, ничего впрямую не цитируя, выводит исходный тематизм из интонации задумчивой, сдержанно распетой, но с широким мелодическим
ходом, которая, достигнув вершины, медитативно замирает,
будто вслушивается в только что пережитое эмоциональное
усилие, чтобы далее, в длинной цепи интонационных вариантов, обострять их интервально, ритмически, темброво, накапливать экспрессию выражения, формировать свой ритм развер-
тывания. И не в одном, а в группе голосов; темы, все выросшие
из начальной интонации, соединяются в прихотливую подголосочную вязь. Асимметричные, вроде бы спонтанные вступления
голосов ведут к объединению по вертикали медитативного дления начальной фазы в одном голосе с обострением, стреттным
сжатием интонаций в развивающей фазе другого, с внутритематической кульминацией, с жестким напором возгласов в третьем... И так волна за волной, сближая во времени напряженно-разработочные и кульминационные фазы, вплоть до
кульминации генеральной. Нет привычных композиционных
граней, сквозная пронизанность от интонации начальной к драматургическому плану всей части, всей симфонии — своя интонационно-мелодическая, вроде бы непредсказуемая, волновая
драматургия.
В балете«Ярославна» Б. Тищенко многообразие исходных жанров, «синтез фолькпоров» сложно соотнесены с достижениями современной балетной драматургии, с инновациями
оркестровой и всей музыкально-интонационной речи. И. Земцовский отмечает «своего рода полистилевой синтез самых неожиданных истоков в рамках мощной композиторской индивидуальности» [1, 27].
В «Виринее» С. Слонимского мощные фрески хоровых
антрактов между картинами подобны оркестровым антрактам
«Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича, Интерлюдиям «Питера Граймса» Б. Бриттена. «Метелицу февральскую»,
антракт между первыми двумя картинами, завершает «припев,
созвучный удалым разбойничьим песням из "Песен вольницы"»
[6,20]; метель не в погоде, а в жизни народной. «Трепак» между
картинами второй и третьей недобро отчаян, как у людей, что
в беде себя не щадят; конечно, вспоминается М. Мусоргский,
оперный и вокальный. Есть и антракт симфонический, полная
драматизма фуга на 4 темы, интонационно вытекающая из
предыдущей и предваряющая последующую, пятую картину «На
распутье».
«Перезвоны» В. Гаврилина, «фольклорный собор», купола которого венчают пространство, главное гаврилинское
произведение, впервые исполнено в начале 1984 года. В «Перезвонах» не только богатейшая россыпь говоров, декламационно распетых фраз-высказываний, трудных монологов и острых диалогов. И не просто энциклопедия фольклорных
жанров, деревенских и городских, давних и новых, песен и наигрышей; включая «частушки, прибаутки, считалки - пронзительный своей первозданностью праздничный мир детской
игры и народной смеховой культуры, а рядом - боль, горе,
вечные поиски добра и справедливости» [10, 239]. Это, несомненно, симфония со сквозным проведением тем, сквозной же
интонационной драматургией, с непрестанным накоплением
образной многослойности и эмоциональной напряженности. Не
в последнюю очередь, по наблюдению Н. Мещеряковой, благодаря «примененной им жанровой диффузии, поиску межжанровых связей, жанровой трансплантации характерных элементов в условиях иного жанра... Так, причетные интонации
описывают в "Перезвонах" своеобразную жанровую траекторию, переходя из потешек в страдание, колыбельную и, наконец, протяжную песню "Белы-белы снеги". Здесь накопленная
боль прорвется с небывалой возвышенной силой» [5, 115]. Но
это и «хоровая симфония-действо, [которая] с одной стороны,
восходит к древним синкретическим истокам искусства, с другой - вбирает, прежде всего, черты вокально-хоровых жанров,
причем на том их уровне, которого они достигли в современной музыкальной культуре, тяготеющей к взаимопроникновению академического и фольклорного направлений, диалогу
концертных и театральных форм... В такой ситуации составное
обозначение жанра неизбежно». Но еще, дополняет А. Тевосян, это «анфиладный принцип» древнерусской литературы,
когда масштабная форма образуется присоединением отдельных законченных частей-произведений, затем сливающихся
в «общий эпос»» [10, 242-243, 244]. А кроме того, добавляет
Н. Мещерякова, «это адский, бесовский театр, рожденный в религиозных и суеверных представлениях, связанных с традициями фольклорных театральных форм, вертепа, масленичных
игр и т. д.» [5, 112]. О «Перезвонах» В. Гаврилина, тогда и позднее, писали много, развернуто, глубоко; несомненно, будут
к ним обращаться и впредь.
При анализе понадобилось хронологически обозначить период «новой фольклорной волны» самым концом
50-х - первой половиной 70-х годов. Но и позднее тенденция
не угасает, подтверждение тому — уже более поздние Пятая симфония Ю. Юзелюнаса «Песнопения равнин», «Сказание
про бабу Катерину и сына ее Георгия» В. Рубина, сочинения
Н. Сидельникова, Ю. Буцко, В. Тормиса, Р. Габичвадзе, А. Тертеряна, многих других.
Условна не только локализация во времени. Есть композиторы, которых вроде бы не принято называть в «молодежном» по тем временам ряду, но без завоеваний которых панорама «фольклорных исканий» просто немыслима. Вполне
зрелый В. Салманов с его хоровым концертом «Лебедушка»
(1967), «Добрым молодцем», Тремя хорами на стихи С. Есенина; Г. Свиридов, практически во всех есенинских и многих блоковских опусах тех лет, в «Пушкинском венке» и Хоровом концерте памяти А. Юрлова и уж тем более с отнюдь не
тривиальным прочтением даже подлинных «Курских песен»
(1963) - список сочинений куда как широк.
А главное, сколь ни парадоксально это звучит,
дерзкие опыты молодых композиторов по меньшей мере неосмотрительно было бы противопоставлять классическим традициям отечественной музыки. Что, признаем, в те годы
случалось и что последующее развитие нашей музыки вполне
опровергло. «Если, - по наблюдению И. Земцовского, - разобраться в нотах и внимательно "разложить" все мелодии
"Виринеи", то окажется, что многие из них состоят из отдельных оборотов, попевок, интонаций, очень близких самым различным народным песням. И в этом Слонимский также следует
по пути великих русских классиков. Разве не так строятся, например, мелодии Римского-Корсакова? Известно, что РимскийКорсаков сознательно стремился к такому творческому использованию фольклора» [1, 744]. И это лишь отдельный штрих.
А дьячок в «Сорочинской ярмарке» М. Мусоргского, забавно
мешающий молитвенную скороговорку с типично фольклорными оборотами; скоморохи в «Князе Игоре» А. Бородина и
в «Садко» Н. Римского-Корсакова; постоянно присутствующая
интонационная аура духовных стихов в «Китеже» и «Духовный
стих» А. Лядова из «Восьми русских народных песен»...
Об И. Стравинском уже говорилось; впрочем, его в ту пору еще
не перевели из класса ниспровергателей в класс корифеев.
Быть может, еще одна заслуга «новой фольклорной
волны» в том, что молодых и дерзких композиторов она позволила, пусть не сразу, воспринять как преемников. Даже если
сами они в задоре обновления сознавали это не всегда.
Но проблема шире, чем и без того объемная сфера
жанров, драматургии, языка. При всей «полемичности исканий»
сохранялось, творчески преломлялось главное - этос нашего общения с фольклором, со всей национальной традицией.
Именно об этом писал Г. Свиридов в недавно опубликованных записях: «...традиция не есть нечто застывшее, окостеневшее, отсталое (от кого, от чего?), исчерпавшее себя, как
пытаются иной раз представить... Сердцевина... подобна цельному ядру, излучающему грандиозную энергию.
Это ядро — суть нравственная идея жизни нации, смысл
ее существования. Однако традиция есть то же, что и жизнь,
оттеняющаяся ежесекундно, она должна постоянно обновлять-
ся, обогащаться, двигаться вместе с жизнью, постоянно на нее
откликаясь» [7, 104].
И сами «молодые», взрослея, многое для себя определяли, как, например, А. Шнитке: «Есть некая нить, которая
тянется десятки тысяч лет от прошлого к нам, она меняет облик»;
«Многое выросло из нового подхода к фольклору и старинной
русской традиционной музыки» [2, 341, 345].
При таком подходе «новая ф о л ь к л о р н а я волна», несмотря на радикализм поисков, в глубинном смысле ничего не
опровергала (разве что л о ж н ы й академизм) - она обновляла.
Именно поэтому волна с ходом лет не спала. Она растворилась
многими потоками, струями, каплями в морях музыки, питаясь
от этих струй и питая сама, меняясь и меняя.
Фольклор вечен; возникнут новые волны его осознания.
Литература
1. Земцовский И. Фольклор и композитор. Теоретические этюды. Л.;
М„ 1978.
2. Интервью... с Гией Канчели... с Алексеем Николаевым... с Альфредом
Шнитке... с Андреем Эшпаем / / Новая жизнь традиций в советской
музыке. Статьи, интервью. М., 1989.
3. Клотынь А. Особенности современного этапа освоения фольклора
в творчестве прибалтийских композиторов (1965-1975) // Советская
музыка на современном этапе. Статьи, интервью. М., 1981.
4. Левая Т. Возрождение традиции (Жанр concerto grosso в современной советской музыке) // Музыка России. Вып. б. М., 1986.
5. Мещерякова Н. Религиозно-нравственные традиции в отечественной
хоровой музыке («Иоанн Дамаскин» С.Танеева и «Перезвоны» В. Гаврилина) // Стилевые искания в музыке 70-80-х годов XX века. Ростов
н/Д., 1994.
6. Рыцарева М. Композитор Сергей Слонимский. Л., 1991.
7. Свиридов Г. Разные записи. Тетрадь № 2 (1977-1979). Публикация,
вступительная статья А. С. Белоненко // Наш современник. 2000. № 12.
8. Тараканов М. Новая жизнь национальной традиции в современной
советской музыке (опыт постановки вопроса) // Новая жизнь традиций в советской музыке. Статьи, интервью. М., 1989.
9. Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. М., 1980.
10. Тевосян А. По прочтении Шукшина (хоровая симфония-действо
«Перезвоны» В. Гаврилина) / / Музыка России. Вып. 7. М., 1988.
11. Шагинян М. Анна Ахматова / / Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1971.
12. [Якубов М.] Дагестанская АССР // История музыки народов СССР.
Т. 5. Часть I. М„ 1974.
Георгий Свиридов
О Свиридове (1915-1998) было написано и сказано
немало - музыковедами, композиторами, исполнителями его
музыки; исследованы жанры его творчества и стиль [см., например: 12, 13, 7]. Многое из написанного не потеряло своей
актуальности по сей день. Однако теперь, когда весь творческий путь мастера с его грандиозным финалом - «Песнопениями и молитвами» - перед нами, попытаемся взглянуть на него
в ретроспективе. Но «историческая дистанция» еще мала: уже
не «лицом к лицу», но еще и не то расстоянье, которое позволяет оценить «большое» во всей его полноте1. И все же очевидно,
что какая-то часть наследия композитора воспринимается иначе, чем раньше. Это касается и монументальных творений (таких, как «Патетическая оратория»), и даже музыки из кинофильма «Время, вперед!», которую знает в нашей стране каждый.
Одним в упругих ритмах и властном взлете мелодии слышится
победное утверждение, энергия современной жизни. Другие
могли бы присоединиться к мнению, что эта музыка «ужасом
своей неотвратимой... механичности, холодно ликующей... сравнима разве что с Восьмой симфонией Шостаковича или со скерцо из Шестой Чайковского... маршем смерти» [14, 252]. Такая
1. Серьезной помехой выступает и трудно преодолимая пока недостаточность сведений: из задуманного Свиридовским фондом
30-томного Полного собрания сочинений 15 томов должны будут составить неизвестные произведения композитора. Недавно вышедший Полный список произведений Свиридова [17], который уже сейчас многое прояснил, а то и открыл заново, будет еще дополняться и
уточняться. В 2002 г. были опубликованы дневники композитора, составившие книгу «Музыка как судьба» [15]. Она вызвала неоднозначное к себе отношение. Не обсуждая достоинства и недостатки
такого рода публикаций, отметим, что в книге содержится много глубоких и ценных мыслей о творчестве, поэтому ее материалы будут
использованы в очерке.
•.
V P
аберрация восприятия, стимулированная изменившейся исторической ситуацией, не редкость, когда речь идет о подлинном
искусстве, не предполагающем однозначности толкований.
И наша точка зрения - лишь одна из возможных.
Творческая натура Свиридова удивляет редкой для искусства X X века цельностью, устойчивостью образных, жанровых и стилевых констант, однако за ними - сопряжение контрастных начал. Официальное признание, высокое общественное
положение (в 60-70-е годы) - и внутренняя свобода от общественного мнения и моды. Благожелательная пресса — и резкое
неприятие его творческих принципов некоторыми коллегамимузыкантами. Верность традициям - и яркость индивидуального почерка, новаторство жанровое и языковое. Эпос и камерная лирика; высокий трагизм и живая разноголосая жизнь;
неслыханная простота музыки и космизм выраженных в ней
идей - только некоторые из антиномий, действительных или
мнимых. Откуда же ощущение цельности? Ответ - в музыке
композитора, а также в рельефах его творческого пути и исторического ландшафта, по которому он пролегал.
Свиридов был очевидцем почти всех главных событий
российской истории X X века — «...художник, то есть свидетель»
(А. Блок), но отнюдь не сторонний наблюдатель.
Раннее детство отмечено трагедией Гражданской войны. Одно из первых впечатлений - гибель отца. Самый страшный для семьи год - 1919-й («...половина нашего рода сгинула
в Гражданской войне. Брат отца и брат матери погибли на стороне белых, а отец - на стороне красных» [11]). Гражданская
война стала важной темой творчества; в ораториальных произведениях и хорах Свиридов пытался осмыслить трагедию братоубийства («Повстречался сын с отцом» из Пяти хоров на стихи русских поэтов), разглядеть путь, по которому «роксобытий»
повлек Россию. Одна из самых трагических страниц его музыки
так и называется: «1919...» («Поэма памяти Сергея Есенина»).
Из впечатлений иного рода - природа Курского края,
атмосфера церковной службы и разнообразный музыкальный
быт: «Бытовая интонационная среда русской провинциальной
жизни начала... века была на редкость богатой и сложносоставной: <...> крестьянская песня, сохранившая еще старые
ладовые образования, более поздние народные песни разночинного слоя, дворянский романс, "цыганское" пение, разнообразный гитарно-мандолинный репертуар, пение церковных
и любительских хоров, творения русских классиков, отрывки
европейской оперной музыки...» [13, 148]). Выделим в воспо-
минаниях композитора два момента: интонационное разноголосье и приоритет вокальных жанров.
Дальше, в Курске, круг музыкальных впечатлений
расширяется: в жизнь будущего композитора входит высокое
искусство. Наиболее заметный след оставили романтики (Шуберт, Шуман, Григ) и русские композиторы, особенно Мусоргский. И, наконец, хоровое пение: «Хор и церковное пение произвели на меня... громаднейшее в жизни впечатление... Эта
форма музыки с детства впиталась в меня. Отсюда, наверное,
моя любовь к ораториальному» [13, 153]. Первые «тайные»
композиторские опыты опирались на родовые жанры: танец,
марш, песню [см.: 13, 750]. Итог «курского периода» жизни в творческий актив композитора попадают в виде впечатлений и собственных проб первоосновы его жанровой и стилевой системы 2 .
Первые годы в Ленинграде отмечены стремительным
творческим ростом: приехав в 1932 году неопытным новичком,
уже через три года 19-летний Свиридов становится известным
композитором благодаря Шести романсам на слова А. Пушкина (1935). Об этом зрелом для юного автора сочинении писали, вероятно, больше, чем о других. Его нельзя миновать и
в нашем обзоре. «Пушкинские романсы» - в определенной степени «конспект» будущего творчества.
Символично обращение к Пушкину, выбор жанра и
композиция. Подобно Метнеру, родившемуся, по словам
Танеева, «с сонатной формой», Свиридов «родился» с сюитноцикпической. Вокальный цикл, составленный из разных частейстихотворений, волей композитора обретающих контуры скрытого сюжета, тип композиции с тяготением к симметрической
закругленности и открытым финалом - все это станет для
Свиридова главным, как и сам «сюжет», где проходят чередой времена года (здесь от осенней элегии через зимние картины к предчувствию весны), где впервые появляется почти
неизбежный в свиридовских циклах и кантатах мотив дороги 3
и где намечается тоже ставший затем традиционным
катарсис в финале. Пушкинский цикл явил уже вполне оригинальные черты стилистического облика, предоставив главную
2. В «свернутом» виде это путь русской музыки: от фольклора и церковного пения через усвоение простейших жанров западноевропейской музыки к индивидуальным композиторским стилям.
3. Птица-тройка (сродни гоголевскому символу Руси) пронесется от
пушкинских романсов через музыкальные иллюстрации к «Метели»,
свяжет начало и завершение «Пушкинского венка» и лебедем взлетит в небеса в «Отчалившей Руси».
роль мелодии, в которой сплетаются песенные и романсовые
интонации (см., например, «Зимнюю дорогу» с ее плавным
переходом от романсовых интонаций в гармоническом миноре в песенный мелодический рисунок в натуральном). Все сочинение пронизано общими стилистическими приметами: обилием кварто-квинтовых оборотов (своего рода лейтинтонаций
всего свиридовского творчества, вплоть до последнего цикла
«Песнопения и молитвы» 4 ), плагальными гармоническими связями. Чистота пентатонных звучаний, звенящий фон в ослепительно-солнечном финале - тоже яркие приметы свиридовского стиля5. Эта зимняя дорога приведет к песне «Сани» (цикл
«У меня отец-крестьянин»), но расстояние до него окажется долгим - более 20 лет...
Свиридов в одной из заметок называет свой путь
«зигзагообразным». Это определение справедливо, главным
образом, для того временного отрезка, который начинается
с поступления в консерваторию (1936) и заканчивается в начале 50-х годов. Полтора десятилетия отличаются огромным
разнообразием жанров. В консерваторские годы это диктовалось учебным процессом. Но не только. Общение с Шостаковичем, сила и обаяние его личности и музыки, атмосфера консерваторской жизни — все влекло к другим берегам. Этот
период поисков, пробы сил, выработки мастерства не прошел
даром. Появляются пьесы и соната для фортепиано, фортепианный концерт, две симфонии: одна для большого (1937, незавершенная) и другая для струнного оркестра (1940).
Некоторые из них были с успехом исполнены6.
С1939 года начинается и продолжается в течение всей
жизни работа на заказ: музыка для кино и театра (последняя в 1995 году к спектаклю Малого театра «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого).!Исследователи не проявляли большого
интереса к этой области свиридовского творчества^, считая ее
побочной. Разнообразная по сюжетам, она пестра по стилю
4. См., например, второй хор и соло в третьем хоре из «Неизреченного чуда»; начало первой из «Трех стихир» (монастырских); хор
«Тайная вечеря» и т. д. [16].
5 . Уже на склоне лет, в 1989 г., Свиридов написал о пушкинском цикле: «Одна из лучших моих вещей. Его бы надо назвать "Бедная
юность". Именно такой была моя юность... "Зимний вечер" надо
сделать заново, по смыслу... буря жизни окружает человека со всех
сторон» [15, 678].
6. К сожалению, многие из сочинений этих лет неизвестны, как и немало написанного гораздо позже. Суровая требовательность к себе
не позволяла выносить на суд публики произведения, которые автор считал несовершенными.
(спектакли «Отелло» и «Рюи Блаз», «Дон Сезарде Базан» и «На
бойком месте», кинофильм «Поднятая целина»). Однако
эти работы сыграли свою роль, развивая образное мышление,
обогатив стиль. Й совсем на периферии творчества оказались
оперетты и музыкальные комедии, первая из которых - «Настоящий жених» — появилась еще в консерваторские годы. Из
четырех спектаклей известна только музыкальная комедия
«Огоньки» (1951). И можно было не останавливаться на этих
опытах, которые не принадлежат к удачам автора, когда бы не
интересная деталь: состав оркестра, характерный для зрелого
оркестрового стиля композитора (в него, как правило, входят
барабаны, тарелки, ксилофон, колокольчики, треугольник, бубенцы, тамтам, арфа).
Хоровые сочинения занимали столь незначительное
место, что трудно тогда было предположить, какую роль предстоит этому жанру сыграть впоследствии в свиридовском творчестве.
Параллельно продолжалась работа над камерными во :
кальными циклами: романсами на слова А. Блока и М. Лермонтова (1938). Обращение к Блоку знаменательно: из этих первых
брошенных зерен вырастет большое «собрание сочинений»
на его стихи, включающее более 80 произведений. Лермонтов
же остался эпизодом в творческой биографии композитора.
А Песни на слова А. Прокофьева (1938), много позже составившие цикл «Слободская лирика», оказались весьма примечательными на пути становления стиля Свиридова. Слобода как
перекресток разных влияний - крестьянский и городской фольклор, романс, лирические песни тех лет - определяет характер
музыкальной речи. Молодой композитор приводит в свою музыку пестроту бытующих интонаций, ищет характерность современного живого музыкального языка на основе сплава в одной
мелодии интонаций крестьянской, городской, советской массовой песенности, включая инструментальные наигрыши, особенно гармошечные. Средством развертывания образа становится вариантность, интонационная и ритмическая впоследствии главный прием развития в свиридовских произведениях. Песни на слова А. Прокофьева - опыт ярко оригинальный. Однако ему суждено было сыграть драматическую
роль: «Шостаковичу не понравилось сочинение целиком, он
считал, что в нем Свиридов... впадает в мещанство... и молодой
Свиридов, человек самолюбивый и вспыльчивый... ушел
с урока и в класс уже не вернулся. В годы войны Свиридов вновь
сблизился с Шостаковичем... Инструментальные сочинения
середины сороковых годов создавались под сильным обаянием стиля Шостаковича» [15, 27]7.
Камерные инструментальные сочинения 40-х годов фортепианная Соната памяти Соллертинского, две Партиты,
фортепианное Трио, удостоенное в 1946 году Государственной
премии I степени, - исполняются и в наши дни. Но по жанрам,
формам, языку они, пожалуй, наиболее удалены от того, что
ассоциируется со стилем Свиридова. Самыми близкими типу
мышления композитора оказались фортепианные циклы, начиная с доконсерваторских Семи маленьких пьес. Партиты
(1946) и Альбом пьес для детей (1948), выдержавший бесчисленное количество изданий, - лучшее в этом жанре. Много
позже, в конце 70-х, Свиридов дал краткий комментарий этому периоду: «...уход в сферу инструментализма (камерного),
к неоклассическому стилю, изучение Стравинского, Риети,
Берга, влияние Шостаковича, попытки в области симфонизма
(неудачные). Начало 50-х годов, возвращение к вокальной
музыке, к эпическому! ("Страна отцов")» [15, 226]. Радостный
возглас (через столько лет!) - как возвращение домой.
Не будем гадать, почему «симфонические искания»
в достаточно стройной драматургии свиридовского творчества
оказались столь долгими. Ясно одно: Свиридов освоил все
сколько-нибудь ценное для себя из арсенала современной
западной и отечественной музыки и ответил, в рамках данной
эстетики, произведениями талантливыми и совершенными по
мастерству. Опыт был исчерпан, и творческий «маятник» резко
качнулся с «запада» на «восток» - свойство, необычайно характерное для русской ментальное™ (и для русской истории).
Отныне ни симфонии, ни сонатной формы у Свиридова не найти. С годами будет все более расти неприятие симфонии как
жанра и симфонизма как метода.
Теперь, когда ушли из жизни учитель и ученик, интересно было бы поставить проблему «Шостакович и Свиридов»
в мировоззренческом и стилевом аспектах. Но уже сейчас
можно сказать, что, совершенно разные по типу творческой личности, сближаясь и'отталкиваясь, они пришли к близким результатам, но с разных сторон. Вспоминается рассуждение
Г. Гессе: «Наше назначение - правильно понять противоположности, то есть сперва как противоположности, а потом как полюса некоего единства» [8, 62]. Именно «полюса некоего единства» определяют разность толкований важной для обоих
7. Об отношениях Шостаковича и Свиридова см. подробнее:
[15, 27-37\.
вечной темы, условно обозначенной как «жизнь - смерть бессмертие». Неожиданно сближается и сам тип композиции - сюитный (широко представленный в последних произведениях Шостаковича).
Рубежом, знаменующим начало зрелости творчества,
стала поэма на слова А. Исаакяна «Страна отцов» для тенора,
баса и фп. (1950). Но особый успех выпал на долю Песен на слова Роберта Бернса для баса и фортепиано (1955). До сих пор
музыканты, которым посчастливилось присутствовать на авторском исполнении Песен, помнят впечатление ошеломившей новизны и яркой талантливости; словно весенний ветер - вестник «оттепели» ворвался в атмосферу еще не рассеявшихся
страхов. Главная мысль, которая постепенно росла и крепла в
уверенных остинатных ритмах, в бодрых восходящих интонациях простых песенных мелодий и прозвучала в полный голос
в финале - о человеческом достоинстве, - была более чем своевременна. Теперь в амбивалентности значений слышится одна
из самых драматических песен - 7-я («Всю землю тьмой заволокло»). По внешним признакам застольная, она и по содержанию, и по ясно выраженному чувству протеста, доходящему
до неистовства, выходит за рамки камерности. Второй план открывается и в 1-й песне («Осень») с ее внезапным переходом от
осенней мглы к светлой надежде: «Но снова май придет в наш
край...» Говоря о песнях на слова Роберта Бернса, можно было
бы упомянуть о стройности драматургии, о таланте музыкального портретиста, об интонационных и жанровых связях. Но
анализировать эту музыку - все равно что «отнимать аромат у
живого цветка» (А. Блок).
В феврале 1956 года X X съезд КПСС открыл краткую,
но яркую эпоху «оттепели», однако ее благотворные последствия для отечественного искусства сказались не сразу. «Поэма
памяти Сергея Есенина» создавалась в конце 1955-го, но это уже
было произведение нового времени - и не только по содержанию. Новаторским был сам жанр. Вдохновенно, за короткий
срок созданная 10-частная Поэма первоначально предназначалась для голоса с фортепиано. Однако масштабы ее требовали
иных средств, и в своем окончательном варианте - для солистатенора, хора и оркестра - Поэма стала началом новой традиции в отечественной музыке X X века. Но какой традиции?
Судьбу кантатно-ораториального жанра в истории
русской музыки трудно назвать счастливой. Лишь во второй
половине XIX - начале X X века появился ряд выдающихся
достижений (кантаты Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, особенно — Танеева). Богатейшая русская хоровая
культура жила в народном многоголосии, церковном пении,
русской опере. Советская музыка, проигнорировав опытлирико-философской кантаты, культивировала, главным образом,
ветвь юбилейных, «официальных» хоровых сочинений (среди
них были замечательные по музыке «Здравица» и «К ХХ-летию
Октября» С. Прокофьева). К концу сталинской эпохи этот род
музыки дискредитировал себя переизбытком парадности и потерял для композиторов привлекательность. Однако в историю
жанра вошли и интересные опыты. В 20-е годы это коллективная оратория «Путь Октября» — памятник театрально-массовых действ революционной эпохи, а в 30-е — кантата «Александр Невский» Прокофьева и симфония-оратория «На поле
Куликовом» Шапорина. Общие приметы этих сочинений конкретность исторических событий, реальные исторические
персонажи, хронологическое движение сюжета, приоритет
законов драмы в композиции целого: везде есть экспозиция,
кульминация - картина битвы, развязка и конечное торжество
патриотической идеи.
«Поэма памяти Сергея Есенина» далека от сочинений
подобного типа. В ней нет конкретного сюжета, нет исторических героев. Поэт — образ собирательный и символический.
Здесь иной характер драматургии: не последовательное развитие событий, устремленное к финалу, а, скорее, широкая панорама. Такой тип композиции восходит к фольклорной и литературной эпике. При этом автор пользуется приемом монтажа,
проникшим в X X веке почти во все искусства, особенно театр и
кино. Неторопливо развертывается каждая часть сочинения, но
остро контрастное, «монтажное» сцепление частей, без связок
и переходов, создает картину многогранную и предельно насыщенную. Свиридов представляет ораториальный жанр не статическим монументом, но гибким организмом, способным соединить в себе и драматизм театрального действия, и лиризм
камерного сочинения, и повествовательность эпики. Поэма стала «вершиной-источником», пробудившим инициативу композиторов в России и республиках СССР. Одно за другим появляются оригинальные сочинения С. Слонимского, Э. Бальсиса,
В. Салманова, Р. Щедрина, В. Тормиса, О. Тактакишвили,
В. Рубина...
Итак, в есенинской «Поэме» скрестились разные пути
национальной культуры, но отчетливо видна и еще одна традиция ^ немецких пассионов. «Мой поэт - евангелист, страстный рассказчик» 8 , - сказал однажды композитор. Эпиграф
8. Из беседы с автором.
к сочинению: «...более всего любовь к родному краю меня
томила, мучила и жгла» (С. Есенин. «Стансы») готовит к «страдательному» восприятию. Это не радостная любовь, а любовьмука, сродни выражению «нести свой крест». 1-я часть («Край
ты мой заброшенный») подтверждает слова эпиграфа и текстом
и музыкой. А в близкой по настроению 3-й части («В том
краю...») крестный путь обозначен со всей определенностью:
«И меня ль по ветряному свею, по тому ль песку поведут с веревкою на шее полюбить тоску...» - в ритме траурного марша.
Закончится он в 9-й части («Я последний поэт деревни») с двенадцатым ударом часов. Таких настроений советская оратория
еще не знала. «Поэт-евангелист» может восприниматься и подругому: как центральная фигура житийной иконы с клеймами. Действительно, здесь говорится о рождении Поэта и о его
смерти, об увиденном и пережитом им. Возможна и «хронологическая» трактовка сюжета: 7-я часть («1919...») - резкая
граница между «Русью уходящей» и «Русью советской» (по аналогии с циклами Есенина). И все эти толкования могут быть одинаково убедительными - свойство современного искусства, допускающего разные, иногда противоположные интерпретации.
10 частей «Поэмы» — микрокосмос крестьянской жизни и «узел» русской истории не только в революционное, но во
всякое «смутное» время: пейзаж, обряд, картина мирного крестьянского труда и разоренной страны - все вместилось в эту
хоровую эпопею. Лирические стихотворения и отрывки из поэм
Есенина, написанные в разные годы9, в параллелях и перекличках обретают дополнительный смысл. 1-я часть - портрет «деревянной Руси» - отзывается в предфинальной 9-й, где оплакивается ее гибель. Стихотворение «Поет зима...», написанное
15-летним Есениным и опубликованное в детском журнале, не
могло содержать никакого социального подтекста. Однако во
2-й части (с тем же названием) свиридовской «Поэмы» в грозной музыке зимних вьюг сразу же всеми были услышаны параллели с 7-й и 8-й частями. И если «1919...» и тогда и сейчас
звучит плачем по разоренной земле, то в «Крестьянских ребятах» теперь уже вряд ли кто-нибудь услышит «праздничную
революционную героику», особенно на словах: «Офицерика да
голубчика прикокошили вчера в Губчека». За прошедшие годы
отношение к нашей истории резко изменилось, и в музыке большого художника зазвучали другие «ноты», напомнившие
9. В то время само обращение к Есенину было необычно. Он только
начал возвращаться из забвения. Свиридов первым ввел поэзию Есенина в серьезное искусство и тем самым способствовал ее распространению.
i t ' l l
«беспощадный» русский бунт в сцене под Кромами из «Бориса
Годунова» Мусоргского. Также неоднозначен финал - «Небо как колокол». Для одних он был «полон ослепительного блеска», другие уже тогда слышали в нем глубокий трагизм. Для
самого композитора «финал "Есенина" - это пламя пожара до
небес... "вознесение"»10. Ясно, что такое сочинение никак не могло быть продиктовано «социальным заказом»; сама трактовка
темы Гражданской войны была смелой и необычной. Даже при
условии оптимистического толкования финала и «Крестьянских
ребят» вполне достаточно было «1919...» и 9-й части («Я последний поэт деревни»), чтобы увидеть данное событие русской
истории как трагедию. И для этого даже не надо было пользоваться эзоповым языком.
События «Поэмы» чередуются свободно. Метод
монтажа позволяет переключать внимание с одной картины
на другую. Крупные планы и «наплывы» обозначают главные
вехи жизни Поэта: рождение и смерть. От русской оперы, от
эпических полотен Римского-Корсакова идет традиция обрядовых сцен: в центре «Поэмы» - лаконичная сценка «Ночь под
Ивана Купала» как символ народных обычаев и верований.
Каждая часть, вмещая в себя важную грань бытия (рождение,
смерть, труд, обряд, война), становится своего рода символом
благодаря самостоятельному положению в композиционном
пространстве произведения.
«Поэма памяти Сергея Есенина» - «"солнечное сплетение" сквозных поэтических мотивов и тем, вариациями которых
пронизано творчество композитора» [7, 67]. Это наблюдение
можно дополнить вариациями подобного типа композиции,
принципов драматургии, стиля... Уже сложившийся стиль музыки Свиридова впервые наиболее полно выразил себя именно в «Поэме». Здесь сконцентрировались достижения прошлых
лет. Оттолкнувшись от есенинской поэзии, в которой естественно сосуществуют «деревенская» и «городская» традиции, Свиридов создает такой тип мелодики, в которой трудно, а порой
невозможно их разделить. В 3-й части, например, городское
романсовое начало в процессе распевания подчиняется
приемам развития протяжной песни. В 7-й части неожиданное
сочетание частушки, причитания и протяжной придает напеву
образную емкость, словно каждый жанр приносит свою «долю»
в многоплановую картину. Самый сложносоставной образ в финале: здесь и интонации знаменного распева, колокольного звона, гимна, древних заклинаний; с другой стороны 10. Из беседы с автором.
«близость к романтическим темам рока» [б, 50]. Такая ассоциативная емкость - знак не только индивидуального стиля, но
музыки X X века, наполненной аллюзиями, отзвуками самых
разнообразных традиций.
Несмотря на многосоставность, интонационный мир
«Поэмы» производит впечатление цельности, и одно из условий этого - появление в разных частях родственных интонаций,
особенно кварто-квинтовых, приобретающих лейтмотивное
значение. Исследователи отмечают и ладогармоническое единство: в качестве лейтгармонии выступает септаккорд,
образованный наложением двух трезвучий - минорного и его
параллели. Не случайно на позиции лейтинтонации оказывается кварта, интонация древняя, «испытанная временем». В одних частях она дается в самом начале, определенно и рельефно, как тезис, и здесь она близка своей изначальной семантике:
возглас, клич, призыв («Поет зима», «Ночь под Ивана Купала»,
«1919...», «Небо - как колокол»), в других рождается лишь
в процессе движения мысли, постепенно выводится на первый
план (наиболее наглядно это в 3-й части, где каждая следующая строфа дает все более определенное положение квартовой интонации).
Песенность диктует свои условия. Самая естественная
форма ее жизни - вариантные преобразования с возвращением к основному интонационному зерну. У Свиридова вариантность пронизывает всю его музыку. В «Поэме» она впервые проявляет себя последовательно и полно. Лишь один пример: в 3-й
части ни одна из семи строф не повторяется точно, интенсивность вариантных преобразований увеличивается с каждой
строфой. Вариантность у Свиридова носит «всеобщий» характер, влияя на все компоненты его музыкального языка, в том
числе на гармонию: поскольку композитор выводит гармонию
из мелодии, переводя в одновременное звучание опорные ее
звуки, следовательно, она становится еще одним, «вертикальным» вариантом мелодического образа.
На рубеже 7 0 - 8 0 - х годов Свиридов сделал такую запись: «Следующий период "патетики" (открытой!) был связан
с эпохой 1955-1962 годов. Подъем, реабилитация, воскрешение, "оттаивание" многих явлений искусства и, вообще, духовной жизни. <...> Полет в космос. Любопытен космизм двух
финалов моих ораторий (видно, это было в воздухе!)»
[15, 213]. И на самом пике этой «патетической» эпохи в советское искусство вошла «Патетическая оратория» (для солистов,
смешанного хора и большого симфонического оркестра на ело-
1Ш
; ва В. Маяковского - 1959). «Музыка такого рода возникает
без всяких конкретных причин и рациональных поводов...
спонтанно, по вдохновению» [15, 33]. И это прежде всего
почувствовала широкая публика. Судьба оратории удивительна: поистине всенародный успех, постановки на сценах
оперных театров, исполнение на площадях, певческих праздниках, в концертных залах по всей стране и за рубежом.
В постсоветскую эпоху она практически перестала звучать.
А жаль. «Патетическая оратория» - не просто памятник
эпохи, но великолепная музыка, в чем легко убедиться, прослушав запись этого сочинения. Попытаемся разобраться,
по возможности объективно, в этом художественном и историческом феномене.
«Русские революции начала X X века он [Свиридов] считал ключевым событием мировой истории. Он рассматривал революцию как стихийное явление... воспел идеалы революции...
не видел в этих идеалах противоречия Евангелию, наоборот,
считал, что революция в России произошла под сильным воздействием идей христианского социализма. Так он воспринял
революцию у своих любимых поэтов...» [15, 49~50]. Мы сталкиваемся здесь с удивительным противоречием в сознании
художника, где странно уживались мифическое представление
о революции и беспощадная правда Гражданской войны, так,
как будто эти события не были связаны между собой. Удивительно и другое. Почти все писавшие о Свиридове (в том числе
и автор этого очерка) не прошли мимо темы «Россия и революция» как одной из главных у композитора. Однако если вдуматься, окажется, что именно революции как темы творчества
у Свиридова нет. Отзвуком ее стал, пожалуй, лишь «Марш» 1-я часть «Патетической оратории». (В «Поэме памяти Сергея Есенина» есть Гражданская война, но нет революции.)
В приведенной выше цитате выделим несколько ключевых понятий: идеалы, миф, стихия, христианство, которые
в совокупности дают нетрадиционное для советского искусства
толкование революционной темы.
В заметках Свиридова читаем: «Смерть у Мусоргского
незло и недобро. Она — стихия, как и жизнь» [15 , 702]; «народ ни добрый, ни злой... он - стихия» [15, 123]. По этим записям
можно судить, какое значение композитор придавал понятию
«стихия» (итворчество - «по наитию», по вдохновению - тоже,
по существу, стихийно). И вот эта стихия врывается с первых
звуков оратории, ошеломляя вселенским масштабом музыкальных и поэтических образов, а когда организуется ритмом
марша, оказывается все тем же мотивом пути. Но есть в этой
уверенной поступи момент, который можно услышать только
в ретроспективе творчества композитора. Повтором, звуковысотной вершиной, а главное - последовательностью, которая
образует характерную для Свиридова колокольную гармонию
неба, он выделяет слова: «Радуга, дай лет коням», неожиданно
напоминающие о похожих образах в «Отчалившей Руси», и это
не единственный случай.
О «Патетической оратории» писали много. Что-то безнадежно устарело, но читатель легко отделит «зерна от плевел»
и найдет в разных публикациях много верных и интересных наблюдений, особенно касающихся музыкальной стороны сочинения11. Поэтому остановимся лишь на отдельных моментах.
2-я часть («Бегство генерала Врангеля») сразу обратила на себя внимание нетрадиционным для искусства тех лет «образом врага». Поверженный полководец, прощающийся
с родиной (просветление в музыке: «Трижды город перекрестил» дано лаконично - сменой минорной терции на мажорную), - фигура трагическая. И он тоже совершает свой путь,
сопровождаемый ровными ударами барабана и отпеванием знаком обреченности. Впервые в произведении Свиридова
звучит молитва - «Ныне отпущаеши». Театральность этой части,
ее почти афористическое сопряжение разных образных, жанровых и стилевых планов - чтение, музыкальный речитатив, фонпеснопение, хорал струнных, фанфара, маршевая остинатность, мощные акценты оркестра, подобные выстрелам, была одним из стимулов постановки оратории как театрального действа.
Не меньше поводов для такой трактовки давала и
5-я часть («Здесь будет город-сад») с ее контрастом реальности
и мечты. Этот идеальный образ (кода части, где голос солистки,
распевающей строки Маяковского: «Я знаю, город будет...»,
радостно парит над хором, оркестр расцветает фигурациями деревянных, переливами арфы, всплесками челесты, и видение
безоблачного города-рая постепенно истаивает) - начало
свиридовского града Китежа (недаром самая близкая ассоциация — с чудесным преображением Китежа у Римского-Корсакова). Среди поздних записей Свиридова есть такая: «Я хочу
создать миф "Россия"» [15, 350]. Но начал он его творить гораздо раньше. Уже в «Поэме», в сценах «молотьбы» и купальского
обряда, была эта идеальная, ничем не замутненная символика, но впервые так ясно она прозвучала именно здесь.
11. См. статьи С. Савенко и Ю. Евдокимовой [7].
I K M
Финал «Солнце и поэт», ослепляющий светом и колокольным звоном, - тоже миф. Солнечные финалы в русской
музыке (в «Руслане», корсаковских операх, «Скифской сюите»
Прокофьева), апеллируя к древним языческим верованиям,
по существу были мифологическими. Эту традицию продолжил
и Свиридов. В полном соответствии с поэтическим образом музыкальный: языческая первозданность, свежесть архаики
пентатонных звучаний. Композитор уходит от мучительных
раздумий к другой вечной теме — предназначения художника
и искусства. Орфическая в своих античных истоках, она всегда
была актуальна для русского искусства (Боян, Садко, Лель).
Так из недр одной темы вырастает другая, парадоксальным
образом сближая Свиридова с поздним Шостаковичем, категорически не принявшим именно этого сочинения своего бывшего ученика: «жизнь - творчество - смерть - бессмертие»
как творческий акт. Сложное родство связывает финал «Патетической» и с последним в свиридовском творчестве «солнечным» колокольным финалом - в «Отчалившей Руси».
Если от финала с его идеей искусства, равного стихиям, и образными гиперболами вернуться к началу, то станет ясным, что и «Марш» — по первому впечатлению лозунг,
плакат, политическая декларация — на самом деле тоже миф,
где кроме «товарища маузера» нет ни одной реальной приметы времени. «Свиридов первым распел Маяковского» - этоттезис подробно обсуждался исследователями, хотя чудо превращения угловатой поэтической лесенки в широкий песенный
распев поражает до сих пор. Позже композитор резко критиковал Маяковского (правда, задолго до того, как это стало модой), но сумел услышать у него и песенную лирику, и эпику.
Все темы оратории оказываются вечными для русской истории
и культуры. Кроме уже упомянутых в «Городе-саде» и финале,
это тема битвы с врагом — одна из главных со времен расцвета
русского героического эпоса (ода и lamento «Героям Перекопской битвы») — и патриотическая тема.
Бушующая стихия «Патетической» заключена в каркас
стройной симметрической формы, и «Наша земля» (4-я часть) ее центр. Затертое от неумеренного и неуклюжего употребления, это естественное и ключевое для любой национальной
культуры понятие - Родина - превратилось у нас в штамп,
в создании которого повинно и советское искусство. Свиридов
в этой части не только далек от официального патриотизма и
официального оптимизма (начинаясь одиноким наигрышем,
часть заканчивается траурным маршем), но словно предчувствует получившее хождение гораздо позже, в постперестро-
ечное время, сравнение (чаще всего не в свою пользу): «у них»
и «у нас». Композитор «собрал» текст этой части из 3-х глав поэмы «Хорошо», трижды подчеркнув момент контраста «чужое свое», который, наконец, выливается в знаменитый марш-вывод. Через 20 лет он повторит в центральном из трех «Гимнов
Родине» на слова Ф. Сологуба это сравнение: «За далью, за синею далью / Земля весела и красна. / Печалью, бессмертной
печалью / Родимая дышит страна», - отметив свойственное
русскому характеру приятие печали как своей судьбы.
«Патетическая оратория», сочинение, наиболее жанрово и стилистически разноплановое, оказывается в контексте
свиридовского творчества не менее национально «укорененным», чем «Поэма» или появившиеся позже хоровые циклы на
стихи Блока, Пастернака, Пушкина. Композитор объединяет совершенно разных поэтов индивидуальностью собственного стиля, сохраняя при этом поэтический облик каждого. «Патетическая», пронизанная поступью марша, этого «лейтритма
оратории» (Свиридов), возгласами фанфар, интонациями массовых и революционных песен, в не меньшей степени опирается на хоровую профессиональную культуру разных эпох, романсовую стилистику и даже фольклор. И музыкальный язык
в основе тот же, что и в «Поэме»: с обилием излюбленных кварто-квинтовых интонаций, «лейтгармонией» малого минорного
септаккорда, часто единством горизонтали и вертикали, вариантными изменениями исходного мелодического образа.
Итак, во второй половине 50-х годов появляются сочинения, каждое из которых становится событием музыкальной жизни. Интенсивность творчества не снижается и в 60-е,
особенно в первое пятилетие. Почти каждый год приносит новое сочинение, !а то и несколько: «Петербургские песни» на слова А. Блока (1961-1963), маленькая кантата для женского хора
и симфонического оркестра «Грустные песни» на слова А. Блока
(1962), «Голос из хора» на словаА.Блока (1963), «ДеревяннаяРусь»
на слова Есенина, «Курские песни», Маленький триптих, Музыка
для камерного оркестра (1964), «Снег идет» на слова Б. Пастернака, музыка к кинофильму «Метель» (1965), два хора на слова
Есенина и музыка к кинофильму «Время, вперед!» (1967), песни и
романсы. И лишь недавно стало известно, что за этой впечатляющей и вполне благополучной картиной творчества конца
50—60-х годов скрывался «второй план».
Конец 50-х - время активных поисков новых путей
в искусстве, знакомства с новыми композиторскими техниками, рождения отечественного авангарда. Свиридов тоже
«внимательно слушает новую... европейскую музыку... пыта-
gr»>J
ется освоить технику двенадцатитоновой композиции, экспериментирует с тональностью, пытаясь использовать ее более
свободно. Но все это его не удовлетворяет. Композитор осознает, что оказался в кризисной ситуации, он понимает, что необходимо искать новое слово» [15, 37]. Суждения Свиридова
о многих зарубежных композиторах X X века (Хиндемите, Орфе,
Бриттене, Шёнберге, Берге, особенно - Веберне, к которому
он относился с большим интересом, Мессиане, современных
польских композиторах), встречающиеся на страницах его дневников, свидетельствуют о том, что он хорошо знал западную
музыку. Кризисная ситуация нашла разрешение в творчестве в «Патетической оратории», а позже в сочинениях 60-х годов.
В начале 60-х в творчество Свиридова входит новая
жанровая разновидность - маленькая кантата. Как уже бывало, он одним из первых почувствовал новые веяния в художественной жизни: в искусстве тех лет обозначилась тенденция
к камерности. Но важнее другое: Свиридов оказался у истоков так называемой «новой фольклорной волны» - движения,
которое не ограничилось лишь областью музыки, а позже
охватило и литературу, где почти одновременно выступила
целая плеяда талантливых русских писателей, объединенных
узкой и неточной рубрикой «деревенская литература» или «деревенщики»: Ф. Абрамов, В. Белов, В. Распутин, В. Астафьев.
В «новую фольклорную волну» влились разные, преимущественно молодые композиторы (С. Слонимский, Р. Щедрин,
В. Гаврилин, Ю. Буцко), в том числе те, кто энергично осваивал
новые музыкальные просторы - не только в России, но и в других республиках (М. Скорик, О. Тактакишвили, В. Тормис,
Г. Канчели и др.). Это была естественная реакция на слишком
поспешные пдпытки интернационализации музыкального
языка в полемике с бескрылым традиционализмом предшествующих лет.
Бурный всплеск интереса к своим национальным корням был в известной степени подготовлен произведениями Свиридова 50-х годов, прежде всего «Поэмой». Но особую роль
в этом художественном процессе суждено было сыграть «Курским песням», которые «свежим ветром» (А. Руднева) ворвались в современную музыку, доказав жизнеспособность, казалось бы, исчерпанных традиций. Свиридов вдохнул новую
жизнь в сам принцип обработки народной песни. Вслед за «Курскими песнями» появились «Лакские песни» Ш. Чалаева,
«Гурийские» и «Мингрельские» О. Тактакишвили, «Свадебные
песни» Ю. Буцко, «Мужские песни» В. Тормиса.
В 1963 году Свиридов записывает: «Настало время
искусства духовного, символичного, статичного и простого. Песня - вот основа нового, качественно нового в искусстве. Песня
и обедня» [15,32]. Эта запись примечательна как программа его
дальнейшей творческой жизни. Особое внимание обращают на
себя заключительные слова: «Песня и обедня». Они определяют credo художника в единстве светского и духовного начал,
явившее в конце жизни уникальный феномен литургической
музыки «Песнопений и молитв». А также видение Свиридовым
путей отечественного музыкального искусства. Создается впечатление, что сочинениями 60-х годов композитор вступает
в дискуссию о современном творческом процессе. После
большого перерыва появляется сочинение для симфонического оркестра «Маленький триптих» с его принципиальным антисимфонизмом, самостоятельностью и замкнутостью в себе каждой части и статичностью. Работа с фольклорными источниками
также включается в эту дискуссию, как и маленькие кантаты,
создание которых совпадает по времени с приведенной выше
записью.
«Снег идет» - маленькая кантата на слова Б. Пастернака для женского хора, хора мальчиков и симфонического
оркестра - сочинение, необычное во всех отношениях. Прежде всего, казалось неожиданным обращение к Пастернаку.
(Мало кто знал тогда, что оно — не первое. В 1935 году появились два романса на слова Пастернака, которые так и не были
изданы.) Сама трактовка его поэзии была дискуссионной, особенно в 3-й части («Ночь»), где заключена главная мысль кантаты. Однако Свиридов почувствовал в творчестве Пастернака
«тоску» его лирики «по эпосу» (Д. Лихачев) и настойчивое
стремление к простоте, доведя ее в 1-й части до степени
«неслыханной». Эта часть («Снег идет») говорит о многом.
Ее рождение может быть иллюстрацией «взаимоотношений»
Свиридова с поэзией. В одном из последних интервью на вопрос, пытается ли он подчеркнуть отличие разных поэтических
стилей или найти в них общее, композитор отвечает: «Нет, я никогда не думаю, чьи это слова. Ведь это же не так происходит —
прочел и написал. Я знаю стихи на память, иногда ношу их
в себе много лет, и вдруг получается из этого музыка» [11]. Именно так, в завораживающей монотонности падающих хлопьев,
в синкретизме поэтического и музыкального сами собой начинают выпеваться слова: «Снег идет, снег идет...»
«Одни композиторы вдохновляются... внешними стимулами: сюжет, картина... поэтический текст, пережитое чувство
и т. д. Для других стимулом является чисто музыкальная идея,
родившаяся изнутри самой системы музыкального мышления...»
[2, 706]. Свиридов может быть отнесен к первому типу. Сам композитор это сознавал и не однажды говорил о тех или иных жизненных впечатлениях, перелившихся в художественный образ.
Так случилось и с 1-й частью кантаты. Лаконизм средств поразителен: проще речитации на одном звуке у альтов, а потом терцией выше - у сопрано трудно себе что-либо вообразить, и,
однако, художественный результат неоспорим. За поэтической
картиной падающего снега встает символ уходящего времени.
В кантате всего три части, однако в них — абрис уже сложившейся у Свиридова композиции циклического сочинения, где в движении от 1-й части через глубокую печаль 2-й («Душа»), разрешившейся в катарсис «звездного» финала, очерчивается идея,
уже звучавшая в финале «Патетической оратории». В высоких
и чистых тембрах детских голосов, в простейших интонациях
детской песенки она не могла не обратить на себя внимание.
(Не стала ли ее отзвуком детская песенка в финале «Сонетов
Микеланджело» Шостаковича?) Свиридов не стремился к заранее рассчитанным эффектам: так он услышал эти стихи и так
они легли на музыку, вопреки мнениям о несоответствии песенной темы глубокому философскому содержанию стихов
Пастернака. Однако оно было услышано. Заключительные слова: «Не спи, не спи, художник, / Не предавайся сну, / Ты — вечности заложник, / У времени в плену» - стали «крылатыми»
в значительной степени благодаря музыке. Тема, актуальная
для русского искусства со времен «Пророка» Пушкина, остро
встала и в эти годы. Искусство в крайних своих проявлениях
грозило порвать со слушателем (и опасения оказались небезосновательными). Свиридов занял в этом вопросе вполне определенную позицию — раз и навсегда. Ее можно разделять
или отвергать. Но слушателя должна в первую очередь интересовать ценность художественного результата. Кантата
«Снег идет» с ее почти дидактическим наставлением в конце это прежде всего художественный феномен, факт искусства,
а не музыкальная иллюстрация своих убеждений.
«Новая простота», которая стала аксиомой почти во
всех работах о Свиридове, наиболее явно выступила именно
в сочинениях 60-х годов. И так же открыто проявился другой
постулат: о слиянности в его стиле фольклорного и профессионального. Для самого композитора он был, правда, отнюдь
не бесспорным: «Во мне всегда боролись две тенденции:
1) народная, усвоенная с детства и 2) академическая ("серьезная" музыка, консерватория). Совместить их всегда было очень
трудно» [15, 726]. Тем не менее мало у кого из композиторов
X X века можно найти такую естественную «совместимость»
разных языков, принципиально отличную от явления полистилистики. Эти качества (простота и «народность» языка) особенно ясно, почти в «чистом виде» слышны в маленькой кантате
«Деревянная Русь» на слова Есенина.
В 60-е годы в музыку Свиридова входит поэзия А. Блока. После незавершенного вокального цикла (1938) композитор не обращался к его стихам более двадцати лет. И вдруг сразу несколько произведений разных жанров: вокальный цикл
«Петербургские песни», кантата «Грустные песни», незавершенная оратория «Пять песен о России» (1967) и камерные вокальные произведения.
Среди последних выделяется монолог «Голос из хора»,
который звучит своего рода эпитафией романтической,
полной надежд эпохе «оттепели» и одновременно — пророчеством мировых катастроф. Эта «миниатюра» не уступает по своей значительности и эпическому размаху иным крупным полотнам. Неудивительно, что в рукописи она существует и в виде
кантаты для баса и симфонического оркестра. Песенное начало (простой 8-тактовый период из двух предложений) в процессе неуклонного подъема интонационно усложняется, мелодическая линия рвется, реагируя на текст, и в момент
наивысшего напряжения масштабы звучания становятся поистине вселенскими. Все пространство заполняет колокольный
набат, вырастающий из мерного траурного шага, который не
позволяет этой мощной звуковой лавине выйти из берегов.
Судя по «Полному списку» [17], на стихи Блока Свиридовым создано больше всего музыки. Составитель свидетельствует о замысле грандиозного сверхцикла под условным названием «Большой Блок». Замысел остался неосуществленным,
но и того, что известно, достаточно, чтобы составить полное
представление о «Блоке Свиридова». И опять мы сталкиваемся
с феноменом, который объяснить и проанализировать почти
невозможно, но можно без труда услышать и почувствовать:
Свиридов все тот же и совсем иной, нежели в музыке, рожденной поэзией Есенина или Пушкина. Отчасти это можно
объяснить другими жанровыми и стилевыми ориентирами, но
только отчасти.
Антология блоковской лирики у Свиридова в 60-е и
особенно в 70-е годы разнообразна: психологические портреты, любовная лирика (редкая у композитора), сценки. Разнообразны стилевые опоры, которые словно подтверждают наблюдения исследователя о поэзии Блока, «пафос творческой
работы которого... в свободной конгломерации элементов
разных стилей - от романсово-элегического до частушечного»
[5, 36\. Блок привносит в музыку Свиридова стихию городской
песенно-романсовой культуры. «Жестокий» романс, цыганская
песня, шарманочные мелодии - далеко не безопасная для художника интонационная среда, многими серьезными музыкантами презираемая. Свиридов бесстрашно погружается в нее,
как раньше в пестрый звуковой мир «Слободской лирики».
Совсем на склоне лет он жалел, что уже не мог услышать
«схваченного» В. Гаврилиным: «Послевоенную музыку России, песни уже не только народные, но и лагерный фольклор.
Эту как будто "низкую" музыку он [Гаврилин] возвел в перл
создания» [11]. И у самого Свиридова произошло подобное.
Из городского музыкального «сора» он вырастил создания высокого художественного достоинства. Не все они равноценны,
но есть настоящие маленькие шедевры, например «Невеста»
(для меццо-сопрано и фортепиано) - загадочная, неуловимо
преображающая бытовое в идеальное, с пленительно простой,
бесконечной в вариантных плетениях мелодией и приглушенной (как бы исполненной на челесте) звуковой атмосферой
сопровождения. Или «Петербургская песенка» (для баса и фортепиано), жизненная философия которой заключена в контрасте почти утрированно элементарного шарманочного вальсового
напева и свежего бесполутонного, словно воспарившего над
«тусклым житьем» фортепианного ритурнеля. На этих, с первого
взгляда, простых примерах хорошо виден главный принцип творчества Свиридова: одухотворение земного, привычного, всем понятного, преображение «первоначально видимой сущности» в
непривычное, в явление духовного порядка. В камерной вокальной лирике, кантатах, оратории нашли свое место почти
все основные темы блоковской поэзии. И венцом здесь стала
кантата «Ночные облака»12. Но отвлечемся ненадолго от Блока.
В начале 70-х годов появляется сочинение, которое как
будто стоит особняком, но в то же время наполнено эхом многих голосов — «Весенняя кантата» для смешанного хора
и симфонического оркестра на словаН.Некрасова (1972), посвященная памяти А. Твардовского. Но за двумя поэтическими фигурами видится и третья - Блок, с его любимыми символами
весны и колоколов («Слышу колокол. В поле весна»). Та же символика - одна из составляющих миросозерцания Рахманинова,
и действительно, в «Весенней кантате» оживает атмосфера
12. В 1995 г. появилась поэма «Петербург» для баритона и фортепиано. Но в нее вошла большая часть написанного раньше, в том числе
«Невеста» и «Петербургская песенка».
и м
рахманиновской «Весны». Если же продолжить эти параллели,
то окажется, что темы, образы, символы (санная дорога, человеческая жизнь на ее разных стадиях, колокольный звон - от бубенцов до набата и погребальных ударов) рахманиновских «Колоколов» раскинуты по всему творчеству Свиридова - вплоть
до «Пушкинского венка».
Голос некрасовской музы яснее всего звучит в финале
кантаты («Ты и убогая, ты и обильная... Матушка-Русь»), соединившем противоположные «столпы эпики» (Г. Орджоникидзе) - славу и плач. Своей скрытой внутренней силой финал
напоминает еще об одном дорогом для композитора имени Мусоргском.
В 1-й части («Весенний зачин») использованы почти минималистские приемы: многократный, лишь слегка варьированный повтор простейшего двузвучного мотива. Но эта часть
замечательна не только своим безостановочным пятидольным
движением, но и ощущением кругового парения над землей,
с включением в обзор все новых деталей картины. Это одно из
самых радостно-восторженных, праздничных созданий композитора. Свиридов в своем творчестве ответил одной из наиболее глубоких национальных традиций, которая Д. Лихачевым
(и другими исследователями) названа «пейзажным мышлением». Созерцание природы становится умозрением. И здесь возникает еще одна параллель - Левитан, и даже конкретная аналогия с его последним эпическим пейзажем «Озеро», где «вся
русская земля стоит <...> перед глазами... с ее беспредельным
простором, сверкающим солнцем, небом, водой, землей, настоящим и прошлым» [1, 151~152].
3-я часть, «Колокола и рожки» (единственное в хоровых сочинениях Свиридова оркестровое интермеццо), - символика сакрального и мирского. Для Свиридова колокольный
звон - такая же необходимая принадлежность стиля и миросозерцания, как для Мусоргского и Бородина, Римского-Корсакова и Рахманинова. Он был последним из композиторов
X X века, кто помнил колокольный звон как естественную звуковую среду. Колокольность, которая как бы растворилась
в его мелодике, в огромной степени определяет характер гармонической вертикали, вибрирует в хоровой фактуре. Без колокольное™ невозможно представить его оркестр. (Оркестровое мышление Свиридова - отдельная тема; [см. об этом: 13]. Заметим
лишь, что, говоря о влиянии Орфа на Свиридова в области оркестра, следует помнить: увлечение Орфом началось у нас
в стране в конце 50-х годов, а оригинальный состав оркестра
у Свиридова обращает на себя внимание уже в его музыкаль-
Н И
ных комедиях 40-х.) В сочинениях 60—70-х годов оркестр (или
инструментальный ансамбль) отличается лаконизмом, прозрачностью, самоценностью каждого тембра, особенно ударных, арфы, челесты. А главное - совершенно особым отношением к колоколам. «Колокольный звон <...> это символ; звуки,
наполненные... глубочайшим духовным смыслом» [15, 128].
Именно с такой символикой колокольности сталкиваешься
в «Колоколах и рожках».
После появления кантаты «Ночные облака» и хорового концерта «Пушкинский венок» можно говорить о сложной
диалектике хорового и инструментального планов, о контрастах и взаимопроникновении. Скажем, в Маленьком триптихе
или «Венчании» из оркестровой сюиты «Метель» явно слышится вокальная, хоровая природа звучания. В произведениях
70-х годов, где хор a cappella доведен до совершенства и ему
становятся доступны новаторские, дотоле неизвестные приемы
и оттенки, он берет на себя функции оркестра, главным образом колористические.
В 1973 году Малый театр поставил трагедию А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» с музыкой Свиридова. «Молитва», «Покаянный стих» и особенно «Любовь святая» - душа
спектакля и его атмосфера. От этих хоров и Концерта памяти
А. А. Юрлова для смешанного хора без сопровождения (1973) прямой путь к «Песнопениям и молитвам», но вместе с тем они начало новой мощной волны в отечественной музыкальной
культуре, энергия которой не иссякла по сей день.
На рубеже 70-х - начала 80-х годов, когда страна еще
переживала так называемую эпоху «застоя», Свиридов создает
кантату на слова Блока с красноречивым названием «Песни
безвременья» (1980). Однако именно в эти годы появляются сочинения, не только отразившие духовные искания автора и
очертившие новые горизонты образности, стилистических
находок и художественного мастерства, но и ставшие завершением важных сквозных линий творчества: условно - блоковской, есенинской и пушкинской. Даже скромная «прокофьевская»тема, начатая «Слободской лирикой», нашла завершение
в маленькой хоровой поэме «Ладога» на его слова (1980).
А в совокупности (разумеется, вместе с ранее созданным) они
представили главную тему творчества композитора - «Россию
как целое, как художественную идею» (слова Свиридова о Глинке): Россию земную, но опоэтизированную в «Ладоге»; Россию
как миф — у Есенина; в напряженных антиномиях, поисках
духовного смысла - у Блока; в единстве природного и культурного космоса - у Пушкина.
Две редакции кантаты «Ночные облака» (1-я под названием «Несказанный свет», 1972) отличаются диаметрально противоположной трактовкой финала. В окончательной редакции
1979 года новый финал - «Балаганчик» - кардинально изменил общую концепцию. Вместо вознесения («Мы помчимся
к бездорожью в несказанный свет»), близкого «Отчалившей
Руси», - балаган жизни, «адская музыка», провал в преисподнюю (крик ужаса в общем хоровом glissando по всему диапазону голосов, оборвавшийся грохотом тамтама).
Возможность такого полярного завершения словно
предопределена антитезой первых 4-х частей: взлет ввысь
в 1-й части («Ночные облака» - хрупкая, ускользающая, лишенная тональной опоры музыка в нежном звучании парящих в вышине женских голосов) - и бездна, в которую часто погружалось сознание Блока (3-я часть, «Часовая стрелка близится
к полночи», с прямо противоположными знаками: почти постоянная h-тоН'ная тоническая опора, тесные аккордовые
вертикали мужских голосов, мерный ритм движения). Смерть
( 2 - я часть, «У берега зеленого», - похоронный обряд
с библейской цитатой в стихах и унисонным псалмодированием в музыке, с отголосками православной панихиды) и ее
вечная антитеза - «Любовь» (название 4-й части). Полярность
образов определила замкнутость и самостоятельность музыкального мира каждой части. Здесь нет связующих в целоелейтинтонаций. Связи тоньше и сложнее.
С появления «Ночных облаков» особенно ясной становится свиридовская ладово-интонационная символика.
В представлении композитора пентатоника - символ земли, не
имеющей ни начала, ни конца. И если диатоника вообще - это
устойчивое, вечное, то хроматика - временное, смертное,
смятенность человеческой души (1-я часть - редкое у композитора царство хроматики). Есть еще обертоновая колокольная гармония неба'(малый минорный ундецимаккорд).
Конечно, это - предельно упрощенная схема, каждый раз преобразующаяся в иной музыкальный организм. В творчестве
Свиридова немало трагических страниц. Но (если еще раз решиться на схематизм сравнений) основа его музыкального миросозерцания - консонанс, диатоника, плагальность. Тогда как,
например, у Шостаковича на первый план выступает противоположное - диссонанс, хроматика, доминантовость. Любопытно сравнить похожий интонационный рисунок на одних и тех
же словах в романсах на стихи Р. Бернса: «В полях под снегом и
дождем». У Шостаковича в основе доминантовый нонаккорд,
и м
у Свиридова - типичная для него последовательность трезвучия и его параллели. У Шостаковича движение мелодии
устремлено к слову «я», у Свиридова подчеркивается и распевается слово «укрыл». В одном такте можно увидеть контраст
двух типов мировосприятия: личностного, лирико-драматического и лирико-эпического.
1а
Д. ШС>стакович
10 1
J1
те . бя
J
~
J
'
N =
«
^
- f f -
у.крыл бы я
-9-1
8
<
С, fU"
пла _ щом
^
^
в
от
1
-V•
6
9
б
у
^
Г. (Свиридов
" 7-щ—fr-f
У "
- — б
•Р Р
•
•
те . бя
N
[/
. крыл
. бы
й
/
/
я пг а.ш ом от
г>пр
в1
«Каждое стихотворение — покрывало, растянутое
на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды»
[4, 436]. Свиридов распространяет этот принцип блоковской поэтики на разные части кантаты, связывая их в единое музыкально-поэтическое целое повторяющимися словами-символами
(сердце, жизнь, любовь, слезы, песни, небо), которые слух невольно отмечает как некие вехи скрытого сюжета.
И в поэме для голоса и фортепиано «Отчалившая Русь»
на слова Есенина (1977) Свиридов, строя драматургию цикла
из стихотворений и отрывков из поэм 1917-1920 годов, пронизывает части словами-символами (синий-голубой, золотой.
Щ
И
ШШШшШШ
осень, звезды, ветер, Русь). Связывает целое и интонационная символика - как принадлежность свиридовского стиля
(особенно многозначная трактовка кварты). «Отчалившая
Русь» - последнее крупное сочинение на стихи Есенина,
и здесь встречаются образы, знакомые по другим есенинским
произведениям: мотив странничества, природа, пророчество о
«железном госте»; появляются и новые - библейские («Симоне, Петр...»), апокалиптические («Трубит, трубит погибельный
рог»), В «Отчалившей Руси» во всей сложности проявилось
«пейзажное мышление» Свиридова. Это не просто «музыка поющих сил природы» (Б. Асафьев), а целая система мировидения. За разными ликами осени встает разная символика: страдания (1-я часть), «светлого храма» (5-я часть), апокалипсиса
(9-я часть), прощания и ухода (10-я часть). В «Отчалившей Руси»
Свиридов завершил свой миф о России, в котором сложно сплелось фольклорное и сакральное. Это и град Китеж 1 3 ,
и древняя звездная мифология [10], где земля и небо, реальная
и неземная жизнь как бы опрокинуты навстречу друг другу,
отражаясь одна в другой (см., например, 8-ю часть). Об этих
древних традициях писал Есенин в статье «Ключи Марии»:
«Звезды и круг - знаки той грамоты, которая ведет читающего
ее...» [9, 29]. Неизвестно, обратил ли Свиридов внимание
на это замечание Есенина, но он ответил на него «звездной»
символикой и круговой драматургией. 1-я и 10-я части замыкают круг, а две финальные устремлены вдаль и ввысь. О теме
грандиозного колокольного финала, которую композитор
мыслил похожей на'древние гимны, можно сказать его же
словами: «В элементарном, простом, изначальном заключена
потрясающая сила» [15, 129].
Глубоко символично явление хорового концерта «Пушкинский венок» (1978), где в контексте творчества Свиридова
обретают гармонию и разрешение и стихийные есенинские порывы, и трагизм «темных дум» Блока. Здесь день и год совершают свой круг, и жизнь человеческая проходит разные стадии.
В центре стрбйной композиции - «Греческий пир» (5-я часть),
атри вершины концерта - т р и его драматургических узла: «Эхо»
(4-я часть), «Зорю бьют» (7-я часть) и «Восстань, боязливый!»
(9-я часть). В концерте Свиридов, идя за Пушкиным, раздвигает границы национального, вместившего отголоски мировых
13. Именно так трактует М. Аркадьев сюжет «Отчалившей Руси» [3].
Об этом сочинении см. также: Ручьввская Е , Кузьмина Н. Поэма
«Отчалившая Русь» в контексте авторского стиля Свиридова [13].
1 I M
культур. Музыкальная стилистика концерта - полифония традиций: знаки эстетики и жанров пушкинской эпохи - полонеза
(«Зимнее утро»), баркаролы («Мэри» и «Наташа»); орнаментальные мотивы, русский эллинизм («Эхо», «Греческий пир»),
народная песня («Колечушко, сердечушко») и даже фуга
(«Восстань, боязливый») - кажется, единственный случай
у Свиридова. В концерте не реставрируется стиль «"усадебнодворянской культуры", но создается художественно-обобщенный образ этого стиля, благодаря использованию некоторых
его узнаваемых деталей и черт» [О. Сокурова, А. Белоненко 13, 62].
«Пушкинский венок», включивший и самые ранние,
и одно из последних стихотворений поэта, удивительным образом отразил путь композитора, где первый пушкинский цикл
и хоровой концерт гармонизуют «драматургию» свиридовского творчества — грандиозного «макроцикла» со сквозным вариантным развитием лейтидей, лейтобразов, лейтинтонаций,
с контрастом частей - произведений, с объединяющим все мотивом пути, с катарсисом и вынесенным в пространство финалом «Песнопений и молитв».
В начале пути творчество композитора питали три
источника: народная (и бытовая) музыкальная среда, церковное пение, европейская и русская музыкальная классика.
Случилось так, что он возглавил движение за возрождение светского профессионального хорового искусства и хорового дела
в стране, оказался у истоков «новой фольклорной волны»,
и, наконец, с его сочинений началось одно из самых мощных
и плодотворных направлений в современной отечественной
музыке — духовное возрождение.
Литература
1. Алпатов М. Этюды по истории русского искусства. Т. 11. М., 1967.
2. Арановский М. От внемузыкального к музыкальному (к изучению
творческого процесса М. И. Глинки) // Процессы музыкального творчества. Вып. 5 / Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. № 160. М., 2002.
3. Аркадьев М. Лирическая вселенная Свиридова // Русская музыка
и XX век. М„ 1997.
4. БлокА. Записные книжки //Александр Блок об искусстве. М.; Л., 1980.
5. БлокА. Полн. собр. соч. Т. 1. М.; Л., 1960.
6. Георгий Свиридов: Сб. статей. М., 1971.
7. Георгий Свиридов: Сб. статей и исследований. М., 1979.
8. Гессе Г. Игра в бисер. Новосибирск, 1991.
9. Есенин С. Собр. соч. Т. 5. М., 1962.
10. Кедров К. Звездная книга // Новый мир. 1982. № 9.
11. Кирнарская Д. Из города Китежа. Беседа с Г. В. Свиридовым // Московские новости. № 85.10-17 декабря 1995 г.
12. Книга о Свиридове: Размышления. Выступления. Статьи. Заметки.
М„ 1983.
13. Музыкальный мир Георгия Свиридова: Сб. статей. М., 1990.
14. Непомнящий В. Вне суеты. Музыкальный мир Георгия Свиридова //
Новый мир. 1991. № 2.
15. Свиридов Г. Музыка как судьба / Вступ. статья А. Белоненко. М., 2002.
16. Свиридов Г. Полн. собр. соч. / Вступ. статья А. Белоненко. М.; СПб.,
2001.
17. Свиридов Г. Полный список произведений / Вступ. статья А. Белоненко. М.; СПб., 2001.
Фольклор и театр
Родион Щедрин
Художественная позиция Родиона Щедрина выделяется ярким своеобразием на фоне поисков композиторов его
поколения. Его творчество, будучи современным и новаторским, обладает глубокой национальной почвенностью, обусловленной воздействием великого русского классического
искусства и отечественного фольклора. А. Пушкин, Н. Гоголь,
А. Чехов, Л. Толстой, Н. Лесков, по словам композитора, - вот
те боги, в которых он неизбывно верует. На произведения этих
писателей и поэтов, а также П. Ершова, В. Набокова, А. Твардовского, А. Вознесенского написаны оперы и хоры Щедрина. Ему
больше созвучны Гоголь или Лесков, чем Достоевский: «Взгляд
на мир с лукавинкой ближе мне, чем гениальный психоанализ,
метания и страсти» [17, 16]. В русской музыке он продолжает
глинкинское начало, идущее от «Камаринской».
Важнейший стержень творчества Щедрина - установка на слушателя. Композитор признавался: «Какие существуют
ныне современные открытия - все их перевариваю, и аудитория хорошо это понимает. И все-таки помню, что пишу-то для
слушателей. Не хочу рвать с ними, не хочу уходить, чтоб не заблудиться... Можно произнести как девиз: большое искусство
должно иметь большую аудиторию, музыка должна всегда
оставаться музыкой» [цит. по: 11, 14].
Русский фольклор сказался во всем творческом сознании Родиона Щедрина. Здесь коренится и ощущение русской
почвенности его творчества - любовь ко всем жанрам и слоям
народной национальной культуры, тяготение к естественности
языка, преломление новой инструментальной техники X X века
в характере национальной фольклорной традиции, выведение
на сцену народных персонажей, художественное воплощение
русского ландшафта с его необъятным пространством, а так-
же - выбор тем и сюжетов, в которых звучит боль за судьбу
России. Щедрин говорит о себе: «...Я всегда любил и сейчас
люблю подлинно народное музицирование. Смело могу
утверждать, что образцы истинно народного творчества воздействовали на меня не меньше, чем первое знакомство с такими
шедеврами, как баховские "Страсти по Матфею", "Франческа"
Чайковского, "Песнь о земле" Малера или "Петрушка" Стравинского» [15, 7]. В музыку второй половины X X века Щедрин впервые ввел целые пласты русского фольклора: частушку, народный речитатив, голошения плакальщиц, хороводные напевы,
народную манеру женского и мужского пения, стереофонические пастушьи свирельные переклички, треньканье балалайки,
наигрыши гармошки, звон бубенцов, игру на ложках и т. д. Композитор воссоздал при этом особые виды мелодий, горизонтальную народную гармонию, специфические пропорции ритма. Свою роль сыграли и темы народных сказок (как в Третьей
симфонии, названной «Лица русских сказок»).
Фольклорные истоки слились для Щедрина с другой
глубокой национальной традицией - церковной. Колокольные
звоны стали столь же излюбленными, как для Мусоргского
и Рахманинова; знаменный распев послужил стилевой основой
для оркестровой «Стихиры», русской литургии «Запечатленный
ангел», отчасти - оперы «Очарованный странник»; живопись
фресок Ферапонтова монастыря отразилась во «Фресках Дионисия» для камерного ансамбля и т. д. При несомненном
глубоком влиянии фольклора музыкальный язык Щедрина
обладает всеми ведущими атрибутами стиля X X века: хроматической 12-тоновостью, гемитоникой, скачковой мелодической линией, асимметричными структурами ритмики,
полифонизированными музыкальными формами, сверхмногоголосными фактурами, алеаторикой, стереофонией, полистилистикой. Технику серий и рядов композитор применял во Второй
симфонии, Втором фортепианном концерте, полифонических
циклах для фортепиано. При этом Щедрин не принял структуралистской, экспериментаторской эстетики авангарда, ему
остались чуждыми и обескровленный пуантилизм, и тотальный
в своем рационализме сериализм, и додекафония Шёнберга.
Авангардное творчество для него - как музей мадам Тюссо,
в котором есть все, кроме кровообращения. При появлении же
на Западе стиля «новой простоты» Щедрину не было необходимости делать к нему поворот - у него было достаточно своих
сочинений такого рода.
Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря
1932 года в Москве. Дед его был православным священником
1 ИИ
в г. Алексин Тульской губернии, отец, Константин Михайлович
Щедрин, - профессиональным музыкантом, окончившим Московскую консерваторию, ставшим одним из основателей Союза
композиторов. Начавшиеся музыкальные занятия Родиона были
прерваны Великой Отечественной войной в 1941 году, когда семья Щедриных была вывезена в Самару (тогда Куйбышев). Туда
же был эвакуирован и Д. Шостакович, чью Седьмую симфонию
там впервые смог услышать юный Щедрин. Когда по возвращении в Москву мальчик был отдан в Центральную музыкальную школу, он дважды убегал на фронт. Его творческую судьбу
решило открытие в 1944 году Московского хорового училища
(мальчиков), где будущего композитора больше всего захватило пение в хоре. В1950 году Щедрин поступил в Московскую
консерваторию на два факультета — фортепианный (класс
Я. Флиера) и теоретико-композиторский (класс Ю. Шапорина).
Этапным сочинением Щедрина-студента стал Первый
фортепианный концерт (1954, орк. версия 1974), в который
он впервые дерзко ввел напев частушки и который всю жизнь
исполнял как пианист.
В1955 году Щедрин оканчивает консерваторию по обеим специальностям и поступает в аспирантуру по композиции,
где учится до 1959-го. В 1958-м женится на балерине Майе
Михайловне Плисецкой, впоследствии ставшей всемирно
знаменитой. Группа балетов, написанных композитором
для супруги, составила целый пласт в отечественной культуре.
Балет «Конек-Горбунок» по сказке П. Ершова в 4-х актах
(1955, поставлен в 1960, новая редакция - 1 9 9 9 ) соединил в себе
игровую комедийность, сочность фантастических образов, неожиданность сюжетных поворотов, а также типично сказочную
поучительность. В связи с присутствием русских народных персонажей музыкальный язык был в значительной мере ориентирован на фольклорные жанры - песни протяжные, хороводные,
плясовые, колыбельные, величальные и др. При этом в ряде
номеров сказались новшества, которые внесли в русскую музыку Стравинский и Прокофьев [см. подробнее: 6; 10].
В инструментальном творчестве Щедрина появилось
трагедийное произведение - Первая симфония (1958), навеянная переживаниями войны. Параллельно развивалась линия
пьес характерных («Юмореска» для фортепиано) и активноритмических (Basso ostinato, 1961; Первая соната для фортепиано, 1962).
В 60-е годы, во время «хрущевской оттепели», когда
ярко заявило о себе целое поколение «шестидесятников», Щедрин создал группу значительных новаторских произведений.
Параллельно выступал как пианист, преподавал в Московской
консерватории. В те же годы композитор твердо сформулировал кредо всего своего творчества: в искусстве надо непременно идти своим собственным путем. В 1962 году Щедрин начинает активную организационную деятельность в Союзе
композиторов, а в дальнейшем (по предложению Д. Шостаковича) он возглавляет Союз композиторов Российской Федерации - с 1973 по 1990 годы, до отъезда за границу.
Первая опера Щедрина «Не только любовь» (1961-1971),
как и первый балет («Конек-Горбунок»), была органически
связана с русским фольклором. Подзаголовок «лирическая
опера» перекликается с обозначением «лирические сцены»,
предпосланным опере «Евгений Онегин» Чайковского. Однако
с музыкальной позиции, по роли частушки - текстовой, мелодической, сценически-игровой — «Не только любовь» вправе
быть названной скорее «оперой-частушкой», и в этом отношении она являет собой уникальный жанровый случай во всей мировой оперной литературе [подробнее об опере см.: 10; 12].
В «Озорных частушках» (Первом концерте для оркестра, 1963) симфоническими средствами воспроизведена манера частушечных «припевок» с поочередным вступлением каждого нового исполнителя на фоне непрерывного гармошечного
наигрыша. Щедрин нашел здесь оригинальную новую форму,
считал ее «по существу токкатой, тематизм которой складывается из множества мотивов — не одного-двух, а, может быть,
семидесяти, когда тематическую функцию приобретает и тембр,
и регистр, и т. п.» [цит. по: 3, 79].
В цикле 24 прелюдии и фуги (1-й том - 1964, 2-й том 1970) академический жанр был соединен с современной фортепианной виртуозностью. Пьесы расположены в порядке
квинтового круга, в 1-м томе в диезных, во 2-м - в бемольных
тональностях. Последняя Прелюдия и фуга № 24 d-moll дана
в точном зеркально обратимом контрапункте по отношению
к Прелюдии и фуге № 1 C-dur. Темы фуг продолжительны и необязательно точно имитируются. В двойной фуге Des-dur
используются 4 модуса темы (О, I, R, IR1), в фуге B-dur цитируется тема фуги Баха в той же тональности из 2-го тома Хорошо
темперированного клавира.
Второй концерт для фортепиано с оркестром (1966)
явился первым произведением российского автора с применением приема коллажа, причем контрастная «вставка» музыки
была сделана в джазовом стиле. Использовалась также и до1. Основной вид, инверсия (обращение), ракоход, инверсия ракохода.
ш
т
ш
декафонная серия. Три части концерта имеют наименования:
«Диалоги», «Импровизации», «Контрасты». I часть исполнена
серьезной патетики, в ней действует додекафонная серия.
II часть содержит алеаторику. В III части как стилевые контрасты
проходят «звоны» оркестра, имитация настройки рояля, экспрессивная «драма оркестра», автоматизированный этюд,
наконец - музыка джазовой установки с соло фортепиано.
В коде многозвучные диссонантные аккорды словно пускаются
в богатырский русский пляс.
«Кармен-сюита» (1967), транскрипция тем оперы Визе
«Кармен» для струнных с 47 ударными, была создана
по просьбе М. Плисецкой для балетной постановки в Москве
(осуществленной совместно с кубинским балетмейстером
А. Алонсо). Несимфонический состав, оригинальное обращение с мелодиями, колорит ударных придали известной музыке
такую свежесть и современность, что она стала звучать постоянно во всем мире. Одна лишь Плисецкая станцевала Кармен
около 350 раз.
«Поэтория» (1968) — Концерт для поэта (в трех частях)
в сопровождении женского голоса, смешанного хора и симфонического оркестра с предполагаемым синтезатором света
(Luce) на тексты А. Вознесенского, где сам поэт выступал в качестве чтеца. Тексты заимствованы из многих стихотворений и
поэм книги Вознесенского «Ахиллесово сердце» — «Гойя», «Потерянная баллада», «Латышский эскиз», «Кроны и корни»,
«Оза», «Лонжюмо», «Из ташкентского репортажа», «Тишины!»
и др. Отобранные стихи говорят о Жизни, Смерти и «Третьем» надежде на Возрождение России («Единственная Россия, единственная моя»), В исполнительском составе есть партия контральто, рассчитанная на богатейший голос широко известной
певицы в народном стиле - Л. Зыкиной. Включение в ораторию фольклорного тембра явилось не менее экстравагантным
коллажем, чем частушка в Первом фортепианном концерте.
Народная манера выступает у Щедрина и как авангардная: вне
диатоники, тональности, метра, с нетемперированными «сбросами» звука. Применены сверхмногоголосие хора, алеаторика
разных партий, вой сирены в кульминации (III часть).
Творчество Щедрина в 7 0 - 8 0 - е годы было отмечено
постоянным для него оригинальным синтезом авангардной
изысканности и народной естественности, без какого-либо подстраивания под меняющиеся вкусы на Западе.
Продолжается его сотрудничество с М. Плисецкой:
ей посвящаются балеты «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама
с собачкой».
В «Анне Карениной» по Л. Толстому (1971) была отобрана только любовная линия и дан подзаголовок: «Лирические
сцены» - вновь, как и в опере «Не только любовь», по образцу «Евгения Онегина» Чайковского. Мысль о Чайковском сказалась и в музыкальной стилистике балета, вплоть до аппликаций его сочинений, написанных в то самое время, когда
Толстой работал над своим романом: вторая тема из III части
Второго квартета (в № 1, б, 9 из I акта, в № 18 из III акта), побочная партия I части Третьей симфонии (в № 4 из I акта), главная партия финала той же симфонии (№ 17 из III акта). Для
обрисовки конфликта между трепетным внутренним миром
Анны и холодным бездушием «высшего света» Щедрин прибегает к стилевым контрастам, когда глубинный пласт характеризуется напряженными гармониями с накоплением полутонов, темами на 12-тоновой основе (как «тема любви» в № 1,
4, 9, 10, 13 и др.), а внешний - стилями популярной музыки
(отрывок из оперы Беллини «Монтекки и Капулети» в № 19
из III акта) и жанрами (котильон в N2 2 из I акта, полонез
в № 17 из II акта).
На основе музыки «Анны Карениной», но с исключением сферы «внешнего мира», была написана «Романтическая
музыка» для оркестра (1972), наделенная симфонической
цельностью.
В законченной в 1976 году опере «Мертвые души»
Щедрин снова вернулся к теме народа, его судьбы, к новаторскому использованию русского фольклора. Оперные сцены по
поэме Н. В. Гоголя в трех действиях (подзаголовок, данный
опере самим композитором), были поставлены в 1977 году труппой Большого театра. Либретто составил сам композитор
на основе 1-го тома поэмы Гоголя с включением строк из 2-го
тома, а также других произведений Гоголя и текстов русских народных песен. Оттолкнувшись от заветных мыслей Гоголя о
судьбе России, Щедрин вывел всю народную линию сюжета в
отдельный сценический ярус, создав на оперной сцене новаторскую параллельную драматургию двух миров русской жизни. При постановке сцена реально делилась на два этажа: на
нижнем — помещики, дворяне и Чичиков, на верхнем - народ
русский, с персонажами побочными, но важными для идеи произведения, - кучер Селифан, лакей Петрушка, мужики (и катящаяся тройка). Естественно, что музыкальное воплощение
народных образов опирается на фольклор, причем трактованный здесь своеобразно - используются только подлинные тексты ряда песен и народные тембры, без цитирования фольклорных мелодий.
lilil
В параллелизме двух миров был заключен глубокий
философский и психологический смысл. В «народной опере»
тембровый колорит привносится многими способами. В оркестре вместо первых и вторых скрипок размещен камерный хор
из 28 человек (приближение к акапельности русского народного пения). Кроме того, в театре достигается эффект реальной
пространственности, когда в общий ансамбль соединяются
голоса из оркестровой «ямы» и верхнего этажа сцены. Воспроизводится акустика пения на широких российских просторах.
Уже начальный запев на текст народной песни «Не белы снеги» (№ 1. Вступление) показывает музыкальную стилистику
Щедрина в подаче народного материала в этой опере: музыка насыщается хроматикой и диссонансами:
Lento assai
«Мертвые души», № 1
solo (mezzo-soprano)
Запев
(In Orchestra)
i
В русской народной
манере пения
solo (contralto)
q u a s i / J^
(V)(=0
/tN
f
i
Lento assai
Р
бе . лы
сне . ги...
о
о
mf
iHe бе_лы,
P
^
°
о
рр
Эе
р
в
"чьГ
о
7 РР
Jv(^)
р
т.
Запев
(In Orchestra)
Ох, не
бе . лы сне.ги во
т
.
чис.том по.ле,
РР
(Р)
с.
(Vi/)
ttffl
«Вторая опера» в «Мертвых душах» Щедрина - классическая, с чертами итальянской оперы buffa. Идя от русской
прозы Гоголя, композитор стремился сделать свой спектакль
максимально музыкальным, без каких-либо разговорных диалогов. Для этого он использовал композиционные формы,
веками сложившиеся в этом жанре: арии, ариозо, различные
ансамбли - дуэт, терцет, квартет, квинтет, секстет, септет, децимет, общий ансамбль, а также хоры. Арию, представляющую
типаж того или иного помещика, сам композитор называет
«ария-портрет». Персонажи обрисовываются также при помощи закрепленных за ними солирующих инструментов:
Манилов - флейта, Коробочка - фагот, Ноздрев - валторна,
Плюшкин - гобой, Собакевич - 2 контрабаса. Чичиков не имеет своего сопровождающего тембра, поскольку в разговоре с
разными персонажами он подстраивается под их лад. Например, в арии-портрете Коробочки быстрая деловитая скороговорка наполнена интонациями жалоб на жизнь (№ 6).
[Andantino moderato J W e ]
1
а
че_ло_век
JftТJ J——Ьт~
JJ 1
по _ у.ми.ра.ло,
«Мертвые души», № 6
0
mf\
и
ooco espr.
_
ЙР im U-hS3
|"ЦГ )|J q »J
у_мер все т а . кой
j i J U t J * 1 «п у J J ^
слав _ ный на.род,
все ра _ бот.ни.ки.
Гротеск в обрисовке Плюшкина начинается с поручения его партии меццо-сопрано. В мелодии его каватиныпортрета (№ 11) комически сочетаются как бы старчески срывающийся начальный скачок с твержением на одном звуке.
(Moderato J=?6)
171
Плюшкин
(росо allarg.)
8
Я
"
дав.нень.коне ви . и _ и _ и_жу гос . тей
(a tempo)
Р
m f
я . -|
да,
s
«Мертвые души», № 11
. .
(a tempo)
(pocont.)
s
(росо allarg.)
s
(a tempo)
(росо rjt)
при.знать.ся ска.зать, ма.ло в и . ж у в н и х про _ ку.
Партия Чичикова (виртуозный баритон), в соответствии с изощренностью намерений главного персонажа оперы,
полна особо изобретательной композиторской выдумки.
В обществе он, преисполненный светской галантности, поет блестящую колоратуру, с применением нежного легато и изящного стаккато (ц. 9).
Идея мертвых душ сценически заострена в опере тем,
что в ней оживают висящие на стенах портреты давно ушедших
людей - добавляется элемент фантасмагории, идущий от повести Гоголя «Портрет». В опере применен еще один экстравагантный прием развития сценического действия - переход
музыки в чистый жест: сцены «Торг» (в I д.), «Любовь» (во II д.),
«Крушение» (в III д.).
В контрасте «двух опер» воплощена идея противопоставления миров суетного и вечного, л и ч н о с т н о г о
и всеобщего.
В балете «Чайка» (1979, в двух актах) Щедрин вступил
в изысканный лирический мир чеховского творчества. Либретто Щедрин написал сам (в соавторстве с В. Левенталем), а Плисецкая выступила как балетмейстер и исполнительница ролей
Нины Заречной и Чайки. Загадочности и недоговоренности
пьесы Чехова соответствует и характер музыки, выдержанной
в символико-импрессионистической манере. Трагедийный
ореол балету придан лейттемой «крика чайки» (открывающей
собой спектакль), в которой угадываются как бы «подстреленные судьбы» героев - Нины Заречной и Треплева. Композитор
нашел для этого балета уникальную форму - цикл из 24 Прелюдий, трех Интерлюдий и одной Постлюдии (всего 28 ми-
ниатюр), напомнив о типе номерного спектакля. В своей
циклической композиции автор усматривает современный
принцип монтажности, информирующий только о самом
главном. Щедрин допускает исполнение Прелюдий из «Чайки» отдельными блоками в концерте.
Начало 80-х годов ознаменовалось сочинением хоровых произведений, ставших весьма репертуарными, — сказалось органическое чувство хора, воспитанное в композиторе
Хоровым училищем.
«Строфы "Евгения Онегина"» (шесть хоров на стихи
Пушкина, 1981) написаны на такие отрывки из романа
в стихах, в которых не действуют главные герои (Татьяна, Онегин), а передаются мысли и ощущения людей в странствиях
по России: 1. «В тот год осенняя погода», 2. «Вот по Тверской»,
3. «Теперь у нас дороги», 4. «Мои богини», 5. «Зачем же так
неблагосклонно», 6. «Блажен, кто смолоду». И повествование
идет не от «я», а от «мы». На пушкинском материале продолжаются типично русские «мысли во время дороги», проходящие
и у Гоголя, Некрасова, Тургенева, Чайковского.
«Казнь Пугачева», поэма для хора a cappella на слова из
«Истории Пугачева» Пушкина (1981), основывается на историческом труде великого поэта с использованием документов и
рассказов очевидцев. Народно-коллективистская позиция композитора здесь также представлена со всей очевидностью.
В одночастном произведении о мученической смерти человекалегенды применяется та многоплановость, которая присуща пассионам: чистое повествование, драматически-событийный план
и обрисовка колорита эпохи. Бесстрастная повествовательность
отличает пролог и эпилог: «Казнь Пугачева свершилась в Москве десятого января тысяча семьсот семьдесят пятого года».
Событийный план действует в основной части поэмы («Был воздвигнут высокий намост...»). Центр произведения занимает
молитва на подлинные слова Пугачева: «Прости, народ православный». В кульминации звучит глиссандирующий крик-плач
хора. Колористический план - изображение в звучании хора
мрачного колокольного звона.
Замыслы Щедрина 1983-1984 годов выделились особой масштабностью и серьезностью, что было связано с посвящением ряда опусов святому для него имени И. С. Баха,
к 300-летию со дня рождения великого композитора. В 1983-м
Щедрин создал свое самое монументальное инструментальное произведение - «Музыкальное приношение» для органа,
3 флейт, 3 фаготов и 3 тромбонов (первоначальная длительность - 2 ч. 12 мин, имеется редакция на полтора часа). Оно
было задумано как музыкальная медитация: предполагалось не
только слушать музыку, но и коллективно поклоняться гению
Баха. По названию щедринское произведение намеренно ассоциировалось с баховским «Музыкальным приношением»
(«Musikalisches Opfer»), которое тот сделал прусскому
королю и композитору Фридриху II в 1747 году. У Щедрина
почтение к Баху было выражено во множестве аналогий с его
музыкой и его эпохой: прямое цитирование двух органных
прелюдий мастера на тему «Wer nur den lieben Gott lasst walten»
(«Кого лишь любимый Господь направляет», № 52 и 53
из \/тома 9-томного органного издания), фактура, напоминающая прелюдии Баха, различные полифонические приемы,
с добавлением свободной «ракоходной» формы (ц. 63), мотив-монограмма BACH. В духе эпохи барокко «Приношение»
пронизано символами: помимо монограммы BACH (ц. 4), зашифрованы имена Berg (ц. 2,10 и др.), Shchedrin (ц. 4), даже
дата рождения и рост композитора (ц. 48, у флейт), цитируется
мелодия хорала Р. Але «Es ist genug» («Довольно, Господи»),
использованная Бахом и Бергом (ц. 10), перед ц. 63 указано «поцеловать инструмент» (для фаготов и тромбонов). Идущие
через все произведение soli органа создают общий воспоминально-молитвенный настрой, а три трио духовых ( 3 x 3 сакральные числа) могут быть соотнесены с картинами религиозного сюжета.
Другим сочинением Щедрина к 300-летию Баха стала
оЭхо-соната» для скрипки соло (1984). Реальное эхо здесь
выразилось в виде приема игры на скрипке, с отслоением от
музыкальной «речи» скрипача его тихой звуковой «тени».
Символическим эхом из гармонично-прекрасного прошлого
предстали краткие аппликации известных произведений Баха
(Andante C-dur 2-й сонаты и Гавота E-dur Третьей партиты).
Форма сонаты нетипична: тема, 9 вариаций и эпилог.
В 1984 году (последний год перед началом «перестройки») появился «Автопортрет» для оркестра, по поводу которого композитор (в аннотации) говорит про «имитацию тоскливых звуков одинокой балалайки... бормотанье "во хмелю"
фагота (словно напевающего старинное песнопение калик перехожих), бесконечный, ровный и печальный ландшафт моей
страны».
Созданный в 1985 году балет «Дама с собачкой» по одноименному рассказу А. Чехова был вдохновлен 60-летним
юбилеем М. Плисецкой (либретто Р. Щедрина и В. Левенталя,
балетмейстер-постановщик и исполнительница главной роли
Анны Сергеевны - М. Плисецкая). Лирика сюжета была
реализована как одноактный балет на 45~50 минут из пяти
развернутых танцевальных дуэтов - па-де-де: 1. Дуэт-пролог, 2. Прогулки, 3. Любовь, 4. Видение, 5. Встречи. Музыка
проникнута захватывающей мелодичностью, воплощающей
движение лирических чувств героев; прозрачен оркестр - только струнная группа с добавлением двух гобоев, двух валторн и
челесты, стройна музыкальная форма целого - концентрически-рефренная. У Щедрина - это самый поэтически-лирический балет.
С наступлением еще одной крупной даты - 1000-летия принятия христианства на Руси - Щедрин создал сочинения, показавшие все глубинное значение этой темы для него,
крещеного в детстве внука священника: «Стихира на тысячелетие крещения Руси» и «Запечатленный ангел».
Оркестровая«Стихира на тысячелетие крещения Руси»
(1987) сочинена на основе записанной крюками (и изложенной в расшифровке и трактовке Щедрина) стихиры на праздник Владимирской иконы царя Ивана Грозного. Композитор
воссоздал мир древнерусского пения - его тихость, неспешность и умиротворенность, отражение в нем русского равнинного ландшафта. В некоторых моментах оркестранты голосом
подпевают своим партиям. Особенностью мелодики стала плавность и избегание пауз — в противоположность «авангардной»
стилистике X X века с ее мелодическими скачками, системой
пауз и сонорикой.
Русская литургия «Запечатленный ангел», или хоровая
музыка по одноименной повести Н. Лескова на канонические
церковнославянские тексты для смешанного хора a cappella
со свирелью (флейтой) в девяти частях (1988), стала выдающимся произведением духовной музыки X X века, сравнимым
с «Всенощным бдением» С. Рахманинова. Заветное желание написать литургию на подлинные православные церковные тексты композитор осуществил в начале «перестройки», когда так
сильно ощущалось стремление к всеобщему очищению от несвободы и неправды. Повесть Лескова не служила программой
произведения Щедрина, от нее были взяты отдельные элементы: название, текст для I и IX частей. («Ангел Господень», с заменой слова «стопы» на «слезы»), образ свирелиста, сюжетный
«круговорот очищения» - икона чистая, икона, сожженная
печатью и снова чистая. И по отношению к литургии композитор не ставил цели воспроизвести всю ее последовательность,
а отобрал лишь ряд текстов, с сокращениями и перестановками: для II части - «Богосподь и явися нам» (из Обихода или
Октоиха), для III части — «Ангелы Успение» (из Минеи празд-
ничной), для IV части - «Егда славны учбницы» (из Триоди
постной), (V часть — соло свирели, без текста), для VI части «Покояние отверзи ми» (из Триоди постной), для VII части «Да исправится молитва моя», «Душе моя, вбстани» (из Триоди постной), для VIII части - «Да святится Имя Твое» («Отче наш»
из Обихода) [см.: 1, 54].
Драматургия текстов описывает как бы годовой круг,
с приходом в последней IX части к музыке I части. В следовании
частей происходит нарастание, постепенно выявляющее драматизм образов: в IV части речь идет об Иуде, в VI части о покаянии, в VII - о приближении конца («Конец приближается и имаши смутитися»). После молитвы в VIII части (слова
из «Отче наш») в IX возвращается благостное умиротворение «Ангел Господень». Композитор переводит на русский язык
слово «аминь» - как «истинно» — и дает его в качестве ключевого в I, III, VIII частях. Начало I части таково.
Композиционно девять частей группируются в три
тройки (1-3, 4~б, 7 - 9 ) и связываются рефреном свирели (он
звучит в I, III, IV, V, VII и IX частях).
«Запечатленный ангел» Щедрина составляет своего
рода энциклопедию русского хорового письма. В нем органично сплавлены и древние традиции пения (церковного и
народного), и новшества X X века, в том числе созданные
самим автором.
Русское направление в синтезе с композиторской техникой X X века сказывается и в произведениях конца 80-х годов:
«Три пастуха» (инструментальный театр для флейты, гобоя
и кларнета, 1988), «Старинная музыка российских провинциальных цирков» (или Третий концерт для оркестра - виртуозная пьеса с аллюзиями на «Петрушку» Стравинского, цирковые
фанфары, балетные представления и parade-all6e, с пением альтистами оркестра целого куплета романса «Очи черные», 1989),
«Хороводы» (или Четвертый концерт для оркестра с соло блокфлейты, кларнета-пикколо, трубы-пикколо и использованием
деревянных ложек и бубенцов русской тройки, 1989), «Русские
наигрыши» для виолончели соло (1990) с применением всех
способов звукоизвлечения, известных в мире к этому времени.
В период распада СССР и рождения нового государства, Российской Федерации, ослабевшая экономика и материальные трудности вынудили Щедрина уехать за границу,
где он обосновался в Германии (Мюнхен) (1991-1992) вместе
с М. Плисецкой; оба сохранили российское гражданство. Находясь на Западе, Щедрин не только не принял музыки авангарда, но занял активную позицию против этой эстетики как
ограничивающей сферу действия композитора в культуре.
Композитор удержал и укрепил важнейшие свойства своего
индивидуального стиля — демократическую широту и русскую
направленность тематики: подавляющее число его произведений было связано с русской темой, повысилось значение лирического начала. Иным стал состав жанров: не возникали новые балеты (кроме сборной музыки), стали редки оперы
(«Лолита», «Очарованный странник»), зато необычайно расцвели концерты для солистов с оркестром (для фортепиано,
скрипки, альта, виолончели, трубы) как результат контактов с
крупнейшими музыкантами мира.
Опера «Лолита» по одноименному роману В. Набокова на либретто самого композитора в трех действиях (1994)
была поставлена в Стокгольме (1994) и Перми (2003). Щедрин
и в либретто, и в музыке постарался углубить моральную сторону романа. В Прологе Гумберт Гумберт уже сидит в тюремной камере, и через всю оперу проходит хор Судей, обвиняющих его, а в противовес хор Мальчиков в церкви поет
просветляющую молитву. Для разрядки трагического напряжения драмы сделаны вставки оживленных дуэтов Рекламы. Высокий дух оперы царит в длительных, медленных любовных
сценах двух главных героев. Щедриным созданы яркие вокальные партии - юной Лолиты, с ее пением в высоком регистре,
стареющего соблазнителя Куильти с его фальцетом или животным криком. Опера завершается Эпилогом-катарсисом, углубляющим набоковский финал. Как сказал сын писателя Д. Набоков, «увидь это отец - он был бы счастлив».
Тревога и боль за тяготы России вызвали кжизни струнную музыку «Российские фотографии» (1994). Структура произведения такова: I часть — «Старинный город Алексин» (в память
о деде и детстве), II часть - «Тараканы по Москве» (вопреки
названию, музыка не изобразительна), III часть - «Сталин-коктейль» (с изображением звуков барабанов, стонов жертв, эхо
расстрелов, с цитатами кантаты о Сталине А. Александрова и
«Марша энтузиастов» И. Дунаевского), IV часть — «Вечерний
звон» (с настроением запустения, смуты на сердце, с подпеванием оркестрантами слов «Вечная память»),
В центре 90-х годов стоят три значительных концерта для виолончели, скрипки и альта. Концерт для виолончели
с оркестром, Sotto voce concerto в 4-х частях (1994, посвящен
М. Ростроповичу) по концепции принадлежит к произведениям с вечной темой жизни и смерти. Подзаголовок указывает на
любимую Щедриным идею — драмы, услышанной сквозь
стену, а также на особое звучание pianissimo в исполнении
Ростроповича. В музыке выписаны яркие трагические эпизоды, но дано новаторское преодоление земной трагедии - как
выход во внечеловеческий мир (отрешенно-пленэрное звучание блокфлейт, напоминающее звук тростника или русской свирели). Концерт для скрипки и струнного оркестра, Concerto
cantabile в 3-х частях (1997) - неоромантическое произведение,
по стилистике не похожее на «раннего» и «среднего» Щедрина. Оно сравнимо лишь с лирикой его «Дамы с собачкой». «Под
словом "cantabile" я подразумеваю в первую очередь тонус состояния души, отчасти - манеру звука. А также и переплетения, перекрещивания, слияние, согласие, спор, контрдвижение
поющих линий солиста и оркестра» (из авторской аннотации).
«Мой дневник чувств» - так охарактеризовал этот концерт
композитор. Concerto dolce, одночастный концерт для альта,
струнного оркестра и арфы (1997), несмотря на название, с dolce
не начинается и на нем не заканчивается. Большой эпизод dolce
расположен в центре формы, и еще более значительный прибережен для репризы. В музыку инкрустированы чисто русские
элементы - специфические приемы игры, обозначенные «как
балалайка» и «как бубенцы» (то и другое вошло в произведение для альта впервые). Характерно, что концерты Dolce и
Cantabile Щедрин завершает энергичной волевой кодой.
Камерные произведения середины 90-х годов отмечены изобретениями Щедрина в области характера музыкального звука: «Музыка издалека» для двух блокфлейт и Вторая фортепианная соната (1996), «Балалайка» для скрипки соло
без смычка (1997).
На грани тысячелетий по заказу из Германии Щедрин
написал Прелюдию к Девятой симфонии Бетховена (1999).
В том же году в США прозвучал Пятый концерт для фортепиа-
Г . -V * ->'
но. К юбилею Баварского оркестра Радио композитор создал
Symphonie concertante (Третью симфонию) «Лица русских
сказок» (2000) с отражением образов «Дудки-самогудки»,
«Сестрицы Аленушки да братца Иванушки», «Царевны-лягушки» и др.
В Линкольн-центре в Нью-Йорке 19 декабря 2002 года
состоялась мировая премьера оперы Щедрина для концертной
сцены «Очарованный странник» (три солиста, хор и оркестр) по
повести Н. Лескова. Пласты русской церковной и народной музыки находятся здесь в высшем синтезе. Строго-величественное песнопение «Богосподь и явися нам» окаймляет оперу
и напоминается в середине - как символ святости земли
и спасения грешных человеческих душ. Этот текст из Обихода
и Октоиха Щедрин! раньше использовал в «Запечатленном
ангеле», но в оп&ре сопровождает его подлинными оборотами
знаменного ления. Вводится текст из Триоди «Покояния отверзи ми двери» (также был в «Запечатленном ангеле»). Неоднократно появляются слова молений: «Пресвятая мать владычица», «Свят, свят», «Святый Боже» и т. д. Облик России
композитор дорисовывает имитациями пастушьих наигрышей.
Так, в оркестровой Интерлюдии N51 «Российские пастухи» колоритно воспроизводится игра на пастушьих рожках :
«Очарованный странник».
Интерлюдия 1
[3 \Doppio movimento
J са. 69-78)
[3 Oboi soli]
j,Vf#
о
rfrEflricrfrTT
Р
ш
т
•в
J
*w
-.-Ша-
\f-rn. k f g - t l f -
1
ЁЗ
. SJd ЕВ ^ '
Отдельный слой составляют русские песни: трагически гибнущей цыганки Груши - «Люди добрые, вы послушайте про печаль мою» (текст из Лескова), игровые припевки
«Джала, гара», «Тина, тина», а также - протяжная «Пролегала путь-дорожка широкая». Символична введенная композитором песня «Ах, да не вечерняя заря» (фольклорный текст
с мелодией самого Щедрина):
«Очарованный странник». № 9. «Цыганка Груша»
Sostenuto
рр
dolce, sempre
-Jf
Mezzosoprano:
Ax,
rubato
.
—
^
m—«J— r да
не
e
ве
чер
ня(а)
- а -
т
В у с т а х Г р у ш и о н а п р е д в е щ а е т з а к а т ее ж и з н и , а
в ф и н а л е оперы, вместе со словами «пресвятая», «молится»,
дает надежду на просветление.
^
«Я русский человек, все мои корни здесь. Д а ж е окажись
я где-нибудь на Огненной Земле - остался бы таковым», - говорит о себе Щ е д р и н [14].
Основные сочинения
Оперы
«Нетолько любовь», по рассказам С.Антонова. Либр. В. Катаняна (19611971); «Мертвые души», по поэме Н. Гоголя. Либр. Р. Щедрина (1976); «Лолита»,
по роману В. Набокова. Либр. Р. Щедрина (1994); «Очарованный странник», по
повести Н. Лескова. Либр. Р. Щедрина (2002).
Балеты
«Конек-Горбунок», по сказке П. Ершова. Либр. В. Вайнонена и П. Маляревского (1955); «Кармен-сюита», транскрипция фрагментов оперы Ж. Визе для
струнных и ударных инструментов. Либр. А. Алонсо (1967); «Анна Каренина»,
по роману Л. Толстого. Либр. Б. Львова-Анохина (1971); «Чайка», по пьесе А. Чехова. Либр. В. Левенталя и Р. Щедрина (1979); «Дама с собачкой», по рассказу
А. Чехова. Либр. Р. Щедрина и В. Левенталя (1985).
Произведения для оркестра
Первая симфония (1958); «Озорные частушки». Первый концерт для
оркестра (1963); Вторая симфония (25 прелюдий) (1965); «Кармен-сюита» для
струнных и ударных инструментов (1967); «Звоны». Второй концерт для оркестра
(1968); «Анна Каренина». Романтическая музыка (1972); «Автопортрет» (1984);
«Геометрия звука» для камерного оркестра (1987); «Стихира»(1988); «Старинная
музыка российских провинциальных цирков». Третий концерт для оркестра (1989);
«Хороводы». Четвертый концерт для оркестра (1989); «Российские фотографии»
для струнного оркестра (1984); «Вологодские свирели» («В честь Бартока») для
гобоя, английского рожка, валторны и струнных (1995); «Два танго Альбениса»,
симфоническая транскридция_(1996); «Четыре русские песни». Пятый концерт для
оркестра (1997); ПреЛюдия к Девятой симфонии Бетховена (1999); Symphonie
concertante (Третья симфония). «Лица русских сказок» (2000); «Диалоги с Шостаковичем». Симфонические этюды для оркестра (2001).
Концерты для солирующих инструментов с оркестром
Первый концерт для фортепиано (1954-1974); Второй концерт для
фортепиано (1966); Третий концерт для фортепиано (Вариации и тема) (1973);
Четвертый концерт для фортепиано (Диезные тональности) (1991); Концерт для
виолончели. Sotto voce concerto (1994); Концерт для скрипки. Concerto cantabile
(1997); Концерт для альта. Concerto dolce (1997); Пятый концерт для фортепиано
(1999); Parabola concertante (или Концертная притча) для виолончели соло, струнного оркестра и литавр (2001); Concerto lontano, Шестой концерт для фортепиано
и струнного оркестра (2003).
Произведения для хора
«Бюрократиада», курортная кантата на тексты инструкции для отдыхающих (1963); «Поэтория», концерт для поэта, женского голоса, хора, оркестра
на стихи А. Вознесенского (1968); «Ленин в сердце народном» для солистов, хора
и оркестра на народные слова (1969); «Строфы "Евгения Онегина"» для хора
a cappella, по А. Пушкину (1981); «Казнь Пугачева» для хора a cappella на слова
А. Пушкина из «Истории Пугачева» (1981); «Запечатленный ангел», русская литургия для хора a cappella со свирелью (флейтой), по Н. Лескову (1988); «ВекXXI»,
диптих для хора a cappella на слова А. Вознесенского (2003); Serenade для хора
a cappella (2003); «Век мой, зверь мой», вокальный цикл для тенора, рассказчицы и фортепиано на слова О. Мандельштама (2003).
Камерно-инструментальные сочинения
«Музыкальное приношение» для органа, 3 флейт, 3 фаготов и 3 тромбонов (1983); «Эхо-соната» для скрипки соло (1984); «Три пастуха» для флейты,
гобоя и кларнета (1988); «Русские наигрыши» для виолончели соло (1990); «Эхо
шшш
на cantus firmus Орландо ди Лассо» для органа и блокфлейты сопранино (1994);
Соната для виолончели и фортепиано in е (1996); «Музыка издалека» для двух
басовых блокфлейт (1996); «Балалайка» для скрипки соло без смычка (1997); «Менухин-соната» для скрипки и фортепиано (1999).
Произведения для фортепиано
«Юмореска», «Тройка», «В подражание Альбенису», «Basso ostinato»
(1957-1961); Первая соната (1962); 24 прелюдии и фуги (1964-1970); «Полифоническая тетрадь» (1972); «Тетрадь для юношества» (15 пьес, 1981); Вторая соната
(1999); «Частушки», концерт для фортепиано соло (1999); «Дневник», семь пьес
для фортепиано (2002); «Вопросы», 11 пьес для фортепиано (2003).
Литература
1. Гуляницкая Н. С. «Запечатленный ангел» Р. Щедрина — музыкальнопоэтическое высказывание // Поэтика музыкальной композиции. ГМПИ
им. Гнесиных. Вып. 113. М., 1990.
2. Земцовский И. Народное в современном // Советская музыка. 1971.
№ 8.
3. Комиссинский В. О драматургических принципах Р. Щедрина. М.,1978.
4. Косачева Р. Заметки о новаторстве и традициях оперного жанра (опера
Р. Щедрина «Мертвые души») // Советская музыкальная культура.
История. Традиции. Современность. М., 1980.
5. Лихачева И. 24 прелюдии и фуги Р. Щедрина. М., 1975.
6. Лихачева И. Музыкальный театр Родиона Щедрина. М., 1977.
7. Обсуждаем «Поэторию» Р. Щедрина // Советская музыка. 1969. № 11.
8. Паисов Ю. Хор в творчестве Родиона Щедрина. М., 1992.
9. Симфонические произведения Родиона Щедрина. ВААП. М., 1976.
10. Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. M 1= J[980 i
11. Холопова В. Неизвестный Щедрин / / Музыкальная академия.
1998. № 2.
12. Холопова В. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. М., 2000.
13. Черкашина М. «Мертвые души» - в партитуре и на сцене // Музыка
России. М., 1980. № 3.
14. Щедрин Р. Беседа с С. Бирюковым / / Труд. 22.12.95.
15. Щедрин Р. Беседа с Л. Григорьевым и Я. Платеком // Музыкальная
жизнь. 1975. № 2.
16. Щедрин Р. Монологи разных лет / Сост. Я. Платек. Комментарии
Е. Власовой. М„ 2002.
17. Щедрин Р. Музыка идет к слушателю. Беседа с Л. Григорьевым и
Я. Платеком // Советская музыка. 1983. № 1.
18. Щедрин Р. Мысли и пожелания молодого музыканта // Советская
музыка. 1959. № 12.
19. Щедрин Р. Народная песня в жизни и в консерватории // Советская
музыка. 1954. № 2.
Борис Тищенко
Настоящая музыка всегда
производит впечатление,
точно она появилась на свет сама,
без посторонней помощи.
Она должна была появиться.
Б. Тищенко (19Б8)
Задача данного очерка - раскрыть в музыке Б. Тищенко то, что по прошествии десятилеттлйтроцолжает притягивать
и волновать слушателя. Мы часто задумываемся о долговечности композиторского творения. В чем секрет этой долговечности? Почему многое из того, что совсем недавно волновало и
восхищало, сегодня кануло в Лету? Не претендуя на полный
ответ, скажем только, что свойство настоящей музыки - ее гибкость, способность меняться в изменяющемся мире. В этой способности соответствовать новому времени и заложена жизненная сила любой музыки. Попадая в культурный контекст разных
эпох и национальных традиций, она высвечивается разными
гранями, раскрывает в себе новые, неизведанные пласты.
Сколько должно пройти времени, чтобы убедиться в том, что
перед нами истинный шедевр? 10, 20, 50 или 100 лет? И какие
глубины потаенных смыслов он способен за это время нам открыть? До какой степени эти новые смыслы противоречат прежним, устоявшимся? Что стремительно изменяется со временем,
а что остается неизменным?
Сегодня происходит кардинальная переоценка художественных ценностей прошлых эпох. Пересмотру подвергается и сам X X век, ставший, по словам Василия Кандинского,
«эпохой великого анализа», пересматриваются и его отдельные
достижения. Если говорить об отечественной музыке, то особый интерес представляет время, совпавшее с эпохой «оттепели». Мы пристально и придирчиво всматриваемся в те годы
с высоты нового столетия и тысячелетия, судим о путях, которыми шло тогда наше музыкальное искусство. Что-то кажется
сегодня безнадежно устарелым, на чем-то лежит отпечаток вторичности. Не все открытия авангардного толка получили в будущем достойное развитие, между тем как вполне жизнеспособными оказались явления, апеллирующие к традиции
(Георгий Свиридов, Борис Чайковский, Валерий Гаврилин). Поразному складывались и сами судьбы композиторов-«шестидесятников»: для кого-то «оттепель» оказалась лишь предысторией, импульсом к последующему росту и «взрослению», для
кого-то же стала своего рода вершиной-источником, уже в те
и ближайшие последующие годы отозвавшись безусловными
творческими достижениями.
Среди последних выделяется фигура Бориса Ивановича Тищенко, одного из лидеров ленинградско-петербургской
композиторской школы вот уже на протяжении четырех десятилетий, композитора, творчество которого в гармоничной
форме представляет новаторство и традицию, злободневное и
вневременное, всемирное и русское национальное.
Музыка Бориса Тищенко прошла испытание временем
и живет как классика второй половины X X столетия. Композитор активен и сегодня, о чем свидетельствуюттакие неординарные творческие проекты, как мегацикл из пяти симфоний по
«Божественной комедии» Данте. Но наше внимание будет
в основном обращено на тот период его композиторской биографии, когда в интенсивных духовных и художественных
исканиях зарождались очертания индивидуального стиля Тищенко. В этом смысле особенно примечательны 60-е - начало
70-х годов - время, отмеченное наибольшей активностью
поисков и увенчанное созданием балета«Ярославна», одного из
ярчайших образцов неофольклоризма на театральной сцене.
В созвездии выдающихся композиторов и художников,
писателей и актеров, поэтов и режиссеров тех лет Тищенко выделяется яркой индивидуальностью. Более того, многое в его
творчестве со временем в своей значимости лишь возрастает.
Тищенко в целом не был радикальным новатором, последовательным приверженцем крайних форм языкового эксперимента. «Если некоторые композиторы того же поколения, что и Тищенко, легко и естественно смыкались с поисками западных
коллег, — пишет В. Холопова, - то для Тищенко здесь пролегла
невидимая граница, сделавшая его творчество более русским,
чем типично общеевропейским, западным» [20, 6Ц. Поэтому,
когда вектор поисков развернулся от авангарда к неоромантизму, от рационализма к интуитивизму, от Запада к Востоку, от
экстравертного к интровертному, поворот этот не^астал композитора врасплох. Практически он уже давно разрабатывал
свой «интуитивный» и «медитативный» стиль1. Тищенко приблизительно на десятилетие опередил своих сверстников, пришедших к медитативным формам в 70-е годы (Сильвестров, ГубайдулинаДертерян, Пярт, Канчели и др.). Интересно и другое:
когда медитация вместе с неоромантизмом утверждается на
1. Усиление «медитативного» начала, связанное с увлечением Востоком, в частности японской музыкой гагаку, проявилось в его музыке своеобразно по-русски, восходя к традиции русских «размышлений» и «дум».
* - г.»
правах новой реальности 2 , Тищенко как будто бы поворачивает к большей объективности выражения и создает Sinfonia
robusta, Второй виолончельный и Арфовый концерты, а также
гигантскую 100-минутную Четвертую симфонию.
Еще одна перекличка — «минимализм», который в отечественной музыке утвердился в 80-е годы. У Тищенко 60-х годов предпосылки минимализма выглядят органично в контексте
исканий «новой фольклорной волны». Примерами могут послужить некоторые номера вокального цикла «Грустные песни»,
«Постскриптум» Третьей симфонии, инструментальные сюиты
«Суздаль», «Северные этюды», позже - балет «Ярославна»3.
Обратимся к тому времени, когда композитор формировался как художественная личность. Интерес представляют
первые отклики на музыку Тищенко. Многое в них несет на себе
печать характерных для эпохи идеологических клише, но многое сохраняет актуальность и по сей день.
Материалы съездовских отчетов и пленумов пестрят
разноречивыми высказываниями о молодом авторе. Спектр их
широк: от искренней заинтересованности и восхищения новым
талантом до сомнений и резкого неприятия. Один из самых
ранних откликов — достаточно дифференцированное высказывание А. Эшпая о Второй фортепианной сонате, в музыке которой его привлекают «внутренняя убежденность, напористость,
динамичность», хотя вместе с тем и настораживает «внутреннее противоречие между тяготением к ясности тематизма и
догмами пуантилистических схем, в угоду которым автор дробит музыкальные образы, разрывает форму» [22, 78].
В. Богданов-Березовский говорит об «интенсивности
творческого процесса, искренности, непосредственном,
сердечном характере музыки», а в связи с вокальным циклом
«Белый аист» отмечает «свежие ростки, живые побеги незаурядного творческого дарования» [4, 23]. Близок к этой мысли
и М. Бялик, который подчеркнул в музыке Тищенко «интенсивность мысли и чувства, горячность тона, всегда наполненный
пульс» [2, 16]. В связи с «Грустными песнями» рецензент отмечает, что, «несмотря на гармоническую необычность отдельных
романсов, все средства выражения настолько точно бьют
в цель, образы настолько выпуклы, что сложности языка не замечаешь» [3, 80]. С. Слонимский, говоря о Первой симфонии,
видит в ней органичный сплав эпоса и лирики, отмечая то, что
2. См. об этом в статье Т. Левой «Диалог десятилетий» [11].
3. Одна только сцена «Степи» из «Ярославны» стоит многих минималистских опусов.
«Тищенко по складу дарования - чистейший мелодист» [16,26].
Вместе с тем, звучали и другие оценки. Например, Т. Хренников, рассуждая о концертах Б. Тищенко и Я. Ряэтса, критикует
их за «узость взглядов... на мир, ограниченный запас живых,
непосредственных впечатлений от действительности» [21, 30].
В обсуждении Фортепианного концерта, прозвучавшего на одном из пленумских концертов в 1963 году, противоположные мнения столкнулись с особой остротой. Музыка концерта многих возмущала и даже шокировала, что сегодня
выглядит забавно - настолько Концерт стал хрестоматийным и
репертуарным. По мнению А. Лемана, лучшие приметы таланта композитора «занимают далеко не главное место в сочинении. Потоки "энергии вообще" досадно оттеняют чудесный тематизм, которым так богато начало Концерта» [12, 30].
Некоторые критики высказываются более жестко: «демонстративный "эстетический эгоизм"», «абсолютный произвол»,
«эклектизм» [б, 28], а кто-то произнес фразу о «мотоциклетном
пианизме».
Словом, атмосфера обсуждений была накаленной и во
многом напоминала времена «Скифской сюиты» и «Весны священной», когда возмущенные слушатели «выходили из себя и
из зала»4. Объяснить эту разноголосицу можно лишь атмосферой начала 60-х годов, когда прокладывались новые пути и
рождались новые композиторские имена, которым вскоре было
суждено стать классиками отечественной музыки. Естественно,
в то время их новаторство воспринималось очень болезненно как покушение на сам статус традиции.
В 70-е годы началось научное осмысление творчества
Тищенко в трудах М. Тараканова, М. Арановского, И. Земцовского, Б. Каца, М. Нестьевой и других авторов [1,8,10,17,19,20].
В целом музыке Тищенко в 60-е годы повезло на доброжелательное отношение. Она не подвергалась огульной критике, исполнения не запрещали. Да, были сочинения, которые
пробивались с трудом, чаще по идеологическим соображениям (вокальный цикл «Грустные песни» с «Рождественским романсом» на стихи Иосифа Бродского), были и замыслы трудно
реализуемые и даже фантастические, например Второй концерт
для виолончели, 48 виолончелей, 12 контрабасов и ударных.
Случаи же, когда партитура создавалась «в стол», как это было
с «Реквиемом» на стихи А. Ахматовой, - исключительные.
4. Вспоминается премьера Третьей фортепианной сонаты в Нижегородской (тогда Горьковской) консерватории в 1967 г., когда во время ее исполнения Валерием Старыниным ректор консерватории, профессор Г. С. Домбаев, демонстративно покинул зал.
15- Г V 3
Тищенковское творчество удостаивалось высоких наград, сам
композитор — ученых и почетных званий (народный артист России, лауреат Государственной премии им М. И. Глинки, профессор
Ленинградской
консерватории,
секретарь
СК РСФСР). Но диалог с властью не складывался. Почему?
Может быть, причина этого - независимый характер Бориса
Ивановича, не заискивавшего пред «сильными мира сего»?
Итак, рубеж 50-60-х - важный этап формирования будущего композитора5. Тищенко — самый молодой из «шестидесятников», но судьба его показательна для всего поколения,
хотя во многом особенна и даже парадоксальна. Его нельзя
отнести к счастливчикам, быстро нашедшим свое место «под
солнцем», однако не принадлежит он и к тем, чьи имена в съездовских отчетах фигурировали лишь в ругательном контексте.
Он не был обласкан «в верхах», но и о непризнании говорить
нельзя. Путь, по которому шла к слушателю эта музыка, не был
устлан розами. С трудом пробивались к слушателю Первый
скрипичный концерт. Вторая симфония, более двадцати лет
ждал своего исполнения «Реквием». Тем не менее многое стало репертуарным, получило общественное признание и высокую оценку: упомянутые Фортепианный концерт и балет «Ярославна», созданный по «Слову о полку Игореве», Пятая симфония,
цветаевский цикл, фортепианные сонаты, струнные квартеты.
Как уже говорилось, творчество Тищенко - характерное явление своей эпохи, с ее раскрепощенностью выражения
и расширением художественных и языковых горизонтов. С другой стороны, он выделяется среди сверстников тем, что одним
из первых «предсказал» конец этой эпохи, поворот от либерализма к «реакции», к двум десятилетиям «застоя», по-своему
отразив это в трагедийных концепциях Концерта для виолончели,
17 духовых, ударных и фисгармонии, Второй и Третьей симфонии, Реквиема и др.
Творческая эволюция произошла не без влияния Шостаковича, органично наложившегося на мироощущение того
времени. Именно тогда, а может, и чуть раньше началось возрождение и реабилитация «поруганных шедевров» великого
композитора (как и возрождение многих художественных ценностей прошлых десятилетий). Были открыты новые страницы
в его творчестве, например Четвертая симфония, премьера которой состоялась в 1962 году. В том же году прошел горьков5. Первые учителя его - Г. Уствольская, В. Салманов, В. Волошинов,
О. Евлахов. Многих Тищенко вспоминает с благодарностью, им посвящены сочинения молодого автора.
r - r y i
ский фестиваль «Современная музыка», посвященный музыке
Шостаковича. Зазвучали и новые сочинения композитора:
Восьмой струнный квартет. Тринадцатая симфония, «Казнь Степана Разина», музыка к козинцевскому «Гамлету» и др. Все они
имели огромное влияние на молодое поколение6.
Говоря о предчувствии Тищенко эпохи «испытаний»,
мы вовсе не собираемся объяснять его эволюцию, исходя лишь
из общественно-политической атмосферы. Несомненно, для
столь решительного поворота были и причины, лежавшие в
сфере художественных и языковых поисков.
В творческой эволюции молодого автора 1962-1964
годы становятся переломными. Именно тогда происходит смена лирико-эпического мировосприятия, характерного для юношеских сочинений (Первый скрипичный концерт. Первая симфония), на лирико-драматическое. Эта модуляция проходит
через «игровые интермеццо» - Фортепианный концерт и Басню для фортепиано «Погонщик ослов». Последовавшие за ними
Первый виолончельный концерт, Вторая и Третья симфонии,
Третья соната и «Реквием» не оставляют никаких сомнений - открыта новая страница в творчестве, связанная
с осмыслением трагедийных сторон бытия и разработкой
медитативных форм симфонизма. Формировался новый
«драматургический» стиль, который отражал окружающий и
внутренний мир в напряженном становлении и конфликтном
столкновении противоборствующих сил.
В это время Тищенко окончательно расстается с ученичеством, активно экспериментирует, в результате чего появляются жесткие по техникеДвенадцать инвенций для органа, упомянутая Третья фортепианная соната, пьеса «Октавы» для
симфонического оркестра (для балета Л. Якобаэйа). Проходя
увлечения новыми методами композиции (дс^цёкафонией, в частности), он все больше раскрывается как самобытная художественная личность. Обнаруживается тяготение к Шостаковичу,
общение с которым в годы обучения в аспирантуре дает огромный импульс к самоосознанию и совершенствованию. Влияние
великого мастера огромно и всеохватно: оно не только музыкальное, но, прежде всего, духовно-этическое, и оно стало для
композитора путеводной звездой в последующие десятилетия.
Известны слова Шостаковича: «Первый виолончельный концерт
Тищенко я знаю наизусть. Я люблю все его сочинения, но хотелось бы выделить Третью симфонию, в которой привлекают
насыщенная эмоциональность, ясность мысли, конструктивная
6. Подробно об этом - в других главах учебника.
Щ
- '
-
логика. Радует, что Тищенко в своем творчестве антидогматичен: он не идет в "плен" ни к хроматике, ни к диатонике, ни
к додекафонии, но свободно пользуется теми средствами, которые ему крайне необходимы в каждом конкретном случае».
Особенно важен смысл второй половины цитаты. Тем не менее,
если судить по опубликованным письмам, учитель обращает
внимание своего ученика на уязвимые стороны его музыки:
«многонотие», «перегруженность оркестровки» и др. [14,13,21,27].
Сам Тищенко напишет позже весьма живой «Этюд
к портрету», где личность Шостаковича предстает в необыкновенно человечном освещении [18]. Появятся опусы-посвящения:
Третья, Пятая
симфонии, последняя - своеобразный симфонический мемориал, возведенный на интонационных «опорах»
музыки мастера, в частности мрнограмме D-Es-C-H. Симфония
подытожит «шостаковичевежий» период в творчестве
ленинградского композитора, открывая период «постшостаковичевский». Остановимся на сходстве в творческом облике двух
мастеров.
Общность этих двух фигур никогда и ни у кого не вызывала сомнений и всегда казалась чем-то естественным: общая духовно-этическая тема, концепционный симфонизм,конфликтная драматургия, исповедальный тон, жанры и интонации
бытовой музыки (танцевальной и песенной), спонтанность выражения и многое другое. Свое же, самобытно
тищенковское
было расслышано не сразу и не всеми, тем не менее оно проявляется в большей гармоничности, меньшем «нерве» и «наэлектризованное™», в большей постепенности эволюции и монологизме (в отличие от многоракурсного, «саламандровского»
у Шостаковича), более суровом облике музыки, возможно, идущем от Г. Уствольской, в умеренных темпах, эпической неспешности мелодического развертывания. Кроме того, бытовой
пласт у Тищенко выражен несколько иначе, он тяготеет к трехдольным романсовым или вальсовым моделям ( | или |),
в отличие от шостаковичевских двух- или четырехдольных (галоп, полька или марш) 7 .
Развивая последнее наблюдение, заметим, что романсовость и вальсовость у Тищенко часто опосредованы настолько сильно, что требуется чуткий слух для их обнаружения. Если
в симфонии «Хроника блокады» вальс звучит почти как жанровая цитата (и это бывает гораздо реже), то опосредованное
7. Интересно, что старший сверстник Тищенко - А. Шнитке также
склоняется к двух- и четырехдольным жанровым моделям (танго,
румба, твист, джазовые реминисценции), что само по себе уже дает
повод для параллелей и сопоставлений.
преломление вальсовости, чаще в умеренном или медленном
движении, слышится в финале Первого скрипичного концерта,
в главных темах Второго виолончельного концерта и Четвертой симфонии, совершенно не похожих на вальсы, а также что совсем уж неожиданно - в музыке Ярославны из одноименного балета, которая звучит как своеобразная песняроманс-вальс 8 .
1
«Ярославна». I действие
5lj Andante J « 8 8
Ob.l Solo
?? Г Г 1Г Г г IT
й
ш
РР
ci:
РР
frf»fr>|4«»
4 1
I 14
131J
I
[
З
Г г Г
-W^t
г ^
М
^
4
Э рВ вfj>
гJ-
1
f
f
и
= ц
Щ
т
*
а
РРР
dim.
Sal I
Ш
t
ppV
В стилистическую ткань музыки Тищенко вплетаются и
другие жанровые компоненты, например гавот. Так, гавотная
тема финала Седьмой сонаты, как и близкая ей по духу тема
Второго скрипичного концерта, говорят о прокофьевском присутствии. В это время, то есть в 80-е годы, у Тищенко нередко
воспроизводятся и маршевые модели (Concerto alia Marcia
8. Говоря о стилистических особенностях этой удивительной музыки, И. Земцовский находит в ней сплав различных песенных истоков, вплоть до блантеровской «Землянки» [8].
1989 года, созданный по заказу Дрезденского Центра современной музыки). Впрочем, маршевые ритмы встречаются и в разработках более ранних сочинений, рядом с ними естественно
смотрятся эстрадные жанры: танго и фокстрот. Некоторые из них
в контексте симфонической драматургии наделяются негативной, инфернальной или же гротесково-амбивалентной семантикой (3 и 4 части Первой симфонии, 2 часть Седьмой симфонии, 3 часть Флейтового концерта). В этом смысле Тищенко
продолжает линию «злой» образности, идущую от Шостаковича. Однако приоритеты двух композиторов не во всем совпадают, о чем свидетельствует эпизод, когда в одном из писем
Дмитрий Дмитриевич горячо ^комендует своему ученику послушать пластинку с записью цыганской певицы Волшаниновой [14, 30-37]9.
\
Влияние Шостаковича больЫе всего отразилось в симфонической и квартетной музыке. В области музыки фортепианной образцом стал, несомненно, Прокофьев. Это проявляется в «покадровом» показе событий, жанрово-танцевальном
тематизме, гомофонном складе трезвучной гармонической вертикали, светлом мажорном колорите. В этом смысле показательны Вторая, Шестая, Седьмая сонаты, Фортепианный концерт, который открывается квазицитатой из Пятой симфонии
советского классика. Если говорить о других влияниях, то отметим фактурные рельефы музыки Уствольской (главная партия
Четвертой сонаты), баховскую полифонию (II часть Второй
сонаты), нерегулярно-акцентную ритмику Стравинского (финал Четвертой сонаты, разработка Третьей симфонии, «Начало похода Игоря» в «Ярославне»).
Может показаться, что творческий стиль Тищенко
дуалистичен и разрывается между объективным и субъективным высказыванием. На деле же существует глубоко синкретичное единство лирики, эпоса и драмы. Присутствует также,
пусть и в меньшем объеме, комическое начало, оно проявляется по преимуществу в «детских» спектаклях по сказкам
К. Чуковского (опера «Краденое солнце», балет «Муха-Цокотуха»
и оперетта «Тараканище»), вокальном цикле «Дорога» на стихи
О. Дриза.
Значительное место в галерее тищенковских образов
занимают женские образы: Катька (балет «Двенадцать»),
Марина (Вторая симфония), скорбящая Мать («Реквием»),
9. Благорасположенность к музыке быта характерна не только для
Тищенко, но и для его коллег-сверстников: Слонимского и Щедрина, Канчели и Шнитке, Сильвестрова и Денисова. А некоторые вещи
приобретают концептуальный характер, например танго у Шнитке.
Ярославна (балет «Ярославна»), Жанна д'Арк («Жаворонок»
по Аную), Беатриче («Данте-симфонии»), В партитурах инструментальных произведений нередко звучат женские голоса,
выступая не только как яркая звуковая краска, но и как важная
смысловая деталь симфонической драматургии (Первая и
Третья симфонии, Арфовый концерт). Инструментальная
трактовка женского вокала восходит к замечательной традиции
русской музыки: к вокализам Р. Глиэра, С. Рахманинова,
Н. Метнера, М. Глинки.
На традициях отечественной музыки у Тищенко следует остановиться подробнее. Сегодня, с большой временной дистанции, спектр их кажется гораздо шире, нежели казалось
тогда, 40 лет назад. Современному слушателю тищенковское
творчество открывается неожиданно новыми гранями. Его духовной и творческой почвой была, прежде всего, русская музыка X X века. И если значение Шостаковича и Прокофьева для
формирования композиторской личности Тищенко было ясно
давно, то «присутствие» Стравинского заметили не сразу. Между тем ритмоинтонации «Свадебки», «Истории солдата» или
«Весны священной» в тонко перефразированных вариантах занимают в его интонационно-лексической системе видное место. Также невозможно не расслышать и некоторые переклички
с музыкой Свиридова, о чем свидетельствуют опусы, отмеченные более очевидной связью с фольклором, - «Суздаль», «Северные этюды». Возможно, именно здесь состоялся выход композитора на «новую фольклорную волну».
Богат и спектр ассимилированных явлений русской
музыки XIX века. Это, прежде всего, петербургская школа:
Мусоргский, Бородин («Ярославна» перекликается с «Князем
Игорем», а «Грустные песни» - с «Детской» й\«Песнями и плясками смерти»), Римский-Корсаков (начало Третьей симфонии
напоминает весенние зовы и наигрыши из Прожога «Снегурочки», правда, адаптированные через СтравинскоГо и его «Весну
священную»). Если послушать Арфовый концерт, полный тонкой звукописи и тембровых деталей, то вспоминается Лядов
с его «Волшебным озером». При более тщательном вживании
в вокальную лирику Тищенко петербургская традиция открывается в своих более далеких горизонтах, восходя к Даргомыжскому и Глинке.
В целом уже в 60-е годы стиль Тищенко тяготеет к особого рода синтезу. Главная черта этого стиля - гармоничное
равновесие интеллектуальности и задушевности, природного
и психологического, эпического и лирического. Широта охвата
истоков и многообразие влияний придает ему неповторимую
самобытность. Стиль этот ассимилирует огромный диапазон
музыкальных и стилистических явлений и контактов, от русского
фольклора до восточной музыки, от мадригального стиля
Монтеверди (оркестровка «Коронации Поппеи») до серийной
техники, от японской музыки гагаку до пуантилизма Веберна.
Русские корни его несомненны. Все творчество и стиль Тищенко - явление глубоко русское и по внешней фор^е, и по внутреннему содержанию.
/
Тищенко вовсе не «монологист», как иногда полагали
первые слушатели Третьей симфонии и Первого виолончельного концерта (в том числе и автор этих строк), он и не «моностилист», в отличие от Уствольской, Сильвестрова, Губайдулиной или Пярта. Синтез эпического и драматического, с явной
эволюцией от первого ко второму, прослеживается в самых
разных жанровых сферах: симфонии (Первая - Третья —
Четвертая — Пятая - Шестая - Седьмая), концерте (Первый
скрипичный - Первый виолончельный - Второй виолончельный - Флейтовый - Арфовый) и даже в фортепианных сонатах (Вторая - Третья - Четвертая - Пятая). Как это отражается
на музыкальной драматургии сочинений? Ведь одно предполагает чередование состояний, контрасты-сопоставления и сам
тип составной композиции, другое - процессуальность, «производный контраст», сквозную драматургию и монотематическую форму, выращиваемую из «зерна». У Шостаковича аналогичный дуализм объективного и субъективного преодолевается
через иронию и гротеск, у Тищенко - через лирико-патетическую интонацию.
Начиная с 60-х годов неотъемлемой чертой произведений Тищенко была их подчеркнутая драматургичность.
Драматургия, конфликт, катарсис и, через катарсис, - медитация (которая, в трактовке композитора, и есть озарение-катарсис) - вот территория, на которой работал музыкант. Именно
медитация становится связующим звеном между драматическим и созерцательным. У Тищенко она понимается специфично, совсем не по-восточному. Приблизительно так же, не повосточному, медитация предстает в «Игре в бисер» Германа
Гессе. С другой стороны, традиция «meditations» - русская,
идущая от «созерцательности» русской музыки и русского искусства, а восточные влияния (гагаку и другая экзотика) лишь
усиливают мощную ментальность русской души.
Основная тематика тищенковского творчества - Человек и мир. Концепция Человека воспринята композитором через традицию, которая от Шостаковича ретроспективно ведет
к Малеру, Мусоргскому, Баху, Монтеверди, - всё это имена
художников, почитаемых Тищенко. В этом человекеглавенствует природное начало, он предстает как существо натуральное
и естественное.
Выражение природного здесь очень сильно и в итоге
заслоняет интеллектуально-рационалистическую традицию
X X века. Метафора В. Холоповой - «рельефы спонтанности на
фоне рационализма» - в названии статьи о композиторе может быть понята не столько как внутренняя, сколько контекстная характеристика, выражающая его глубокую самобытность
в окружении современников, в частности представителей советского авангарда. Но было бы неверным переоценивать этот
антирационализм, ведь Тищенко пользовался серийной техникой, которая преломилось на свой лад в Пятой сонате и «Инвенциях» для органа. И хотя впоследствии композитор не стал
адептом додекафонно-серийной догмы, тем не менее он понимает серийность очень широко, как «свойство всякой хорошей музыки»10.
Музыка Тищенко и тишина - еще один выход на проблему природного. Композитор возвращает музыке ценность
молчащей природы. Известно, что в современной музыке произошло существенное изменение семантики тишины и молчания. Возможно, это связано с информативной перенасыщенностью наших дней, возрастанием звуковой энтропии,
в частности загрязнением звуковой среды. В этих условиях
молчание и тишина - непременные атрибуты внутренней жизни, полноты мыслей и чувств. Тишина появляется как отзвук,
иногда как проявление внутренней музыки. У Тищенко тишина
выступает чаще всего как образ, отображение этой внутренней
музыки. Это может быть последейственный катарсис, осмысление происшедших драматических событий, как в Первом виолончельном концерте; иногда это преддействие, начальная
стадия некой медитации или глубокого раздумья (зачины Первого виолончельного и Флейтового концертов. Третьей и Пятой симфоний и др.); а иногда - интермедия, «передышка»
в цепи драматургических событий (медленные части Первой и
Пятой симфоний. Intermezzo из Арфового концерта). Во всех
этих случаях образы «тишины» имеют ярко выраженную драматургическую окраску, какую имели и в партитурах Шостаковича (коды Четвертой, Пятнадцатой симфоний). То есть это не
состояния вообще, что наблюдается в медитативной практике
других композиторов, а именно переходы, сцепления разных
состояний.
10. Из письма к автору этих строк от 25 января 1979 г.
Говоря о «новом фольклорном движении», ставшем
ярким событием в музыкальной культуре «оттепели», мы,
конечно же, видим Тищенко в окружении столь разных композиторских имен, как Р. Щедрин, С. Слонимский, В. Гаврилин,
Ю. Буцко, Н. Сидельников и др. Тищенко и здесь сумел сказать
свое слово. Его творчество нельзя, строго говоря, назвать
«фольклорным». Фольклорное начало опосредовано, тесно
связано с началом песенным, которое пронизывает все творчество и делает его столь русским по духу. Кроме собственно
вокальных произведений (циклы «Белый аист», «Грустные песни», Три песни на стихи М. Цветаевой), песенность проникает
и в инструментальные жанры. Примерами могут послужить
побочная партия из 1 части Второй фортепианной сонаты, напоминающая начало мелодии «Прощай, любимый город»,
Largo из Первой виолончельной сонаты, в которой распевается
мелодия, близкая «Коробейникам», финал Третьей сонаты
с развертыванием малотерцовой попевки, напоминающей песню из телефильма «Тени исчезают в полдень» - «Гляжу в озера
синие» и т. д. Примеров громадное множество, несомненно,
большинство являются непроизвольными «цитатами» или,
точнее, музыкальными ассоциациями. Этими ассоциациями
музыка Тищенко очень богата.
Для «новой фольклорной волны» характерен интерес
к прошлому, к истории. Интерес этот побудил Тищенко к созданию его главного шедевра - балета «Ярославна», в котором отразились характерные тенденции отечественной музыки рубежа 60-70-х и, в частности, ее «фольклорное» движение. Но
какое индивидуальное решение получилось в результате!
Балет возник из музыки к несостоявшемуся фильму
«Слово о полку Игореве» (ор. 50) и во многом продолжает предшествующие эпические полотна - Второй виолончельный концерт и «Sinfonia Robusta», с другой стороны - древнерусские
зарисовки «Суздаля», «Палеха» и «Северных этюдов». Творческими «спутниками» «Ярославны» стали Пятая фортепианная
соната и Четвертая симфония. Создавая балет на эпический
сюжет, композитор усилил его лирическое звучание. Оно у Тищенко - не только в образах (прежде всего, музыка, связанная
с Ярославной), но и в пейзажных сценах («Степи»), Главными
концептуальными сценами тищенковского «Слова о полку Игореве» стали «Затмение» (первоначальное название балета)
и «Плач Ярославны», а главным героем - не честолюбивый
князь Игорь Святославович (композитор наделяет его нейтральной интонационной характеристикой), а верная и преданная
Ярославна.
Балетмейстер определяет жанр балета как «хореографические размышления», что также усиливает лирическую сторону музыки. В партитуру введен хор, что сближает балет с ораторией-кантатой (до Тищенко ораторию на сюжет «Слова»
создал ленинградский композитор Л. Пригожин), а развитые
батальные сцены - с лучшими тищенковскими симфониями.
Возникает необычный жанровый «микст», который в новом
варианте - «симфония-балет-оратория» - разрабатывается
сегодня, о чем свидетельствует мегазамысел «Данте-симфонии», подразумевающий театральную, хореографическую
интерпретацию. Не придет ли в итоге композитор к интегральному жанру, где инструментальное, вокальное, сценическое
и пластическое будут неразрывно слиты?
Тищенко подходит к фольклору не как стилизатор, его
интересует в нем глубинный пласт. К композитору в полной
мере применимы слова, сказанные о значении фольклора «не
только как непосредственного источника для творчества, но и
как мощного и животворного стимулятора современных художественных идей» [10, 388]. Во многих отношениях «Ярославна» продолжает то, что уже было заложено в работах 60-х годов: «Грустных песнях» или вокально-инструментальной сюите
«Суздаль». Русское национальное проявляется не во внешней
атрибутике, не в цитировании народных мелодий, а в самом
характере музыкального высказывания, неспешно-эпичного и
одновременно полного внутренней экспрессии. Такой подход
к национальному был характерен для советского искусства того
времени, отразившись в симфонических произведениях Бориса Чайковского, пррзе Василия Шукшина, фильмах Андрея Тарковского, «Андрей Рублев» которого обнаруживает много точек соприкосновения с «Ярославной»11.
Каков же музыкальный язык, воплощающий эти новые
идеи, близкие «фольклорной волне» настолько, что позволило многим исследователям отнести к ней и нашего композитора? Прежде всего, это новый тематизм с его принципом мелодического прорастания, сходный с развертыванием народного
песенного напева. Но композитор не довольствуется формальным воспроизведением фольклорного источника. Главное открытие Тищенко в этой области - соединение постепенных
вариантных изменений и конфликтного тематического результата. У Тищенко это соединение очень органично: во-первых,
конфликт всегда «производен», каким бы острым он ни был,
11. Прежде всего, это общий поиск и обретение духовно-этических
ценностей.
во-вторых, он всегда растворяется в заключительном катарсисе. Открытие Тищенко восходит к Шостаковичу и, может быть,
к Чайковскому, прорастающие конфликты которого оказались
созвучны симфонической драматургии X X века, и эти удивительные созвучия далеких эпох еще раз подтверждают мысль о
глубокой почвенности тищенковского искусства.
Итак, в с е вырастает из зерна. Точный повтор отсутствует, тотальное обновление при сохранении основы создает
впечатление «цветения» тематизма .
Симфония № 3.1 часть
Sostenuto molto J=96-io«
Corno
Ш
t
„„
pp
S
j ^ J 'P
^— p
Ш
dim. al tace
№
*
6
Ш
Ob.
mp
pp
J, Ob.
P
dim. al tace
I Д Р
й4"»
4
PP
£
JЬ
HF
Это в чем-то сближает подобную вариантную технику
с серийным методом «тотальных вариаций». Но подлинные
истоки вариантно-вариационного мышления у Тищенко народная песенность, а также «концентрированное развертывание» у Шостаковича, прорастающие структуры Чайковского.
Кроме того, существует еще один важный исток — попевочная
техника Стравинского, чьи сочинения «русского» периода «История солдата», «Свадебка», «Народные песни» - оставили заметные отголоски в творчестве Тищенко.
Впоследствии, когда композитор стал вновь склоняться к прокофьевской модели творчества с ее большей «объективностью» выражения и составным формообразованием (то,
что демонстрировали юношеские Фортепианный концерт и Вторая соната), изменились и тематические методы. Вновь большое значение приобрели стройные периоды, контрасты-сопоставления. В Арфовом концерте, законченном в 1977 году,
логика музыкального развития - не прорастание из единого
«зерна», как было ранее, а преодоление изначальной мотивной дискретности (вступительные реплики кларнета и фортепиано) с их последующим преобразованием и интегрированием в заключительный катарсис финала. Этот метод дает
составную, несколько «мозаичную» форму, необычную для
автора Первого виолончельного концерта и Третьей симфонии,
с их сквозной драматургией и принципом «производного контраста»12. Как и близкие ему по времени создания Четвертая и
Пятая симфонии, Арфовый концерт исторически отдаляется от
«фольклорного» направления, свидетельствуя о том, что композитором пройден существенный рубеж - 60-е годы остались
далеко позади.
Основные сочинения
Произведения для сцены
«Двенадцать», балет по поэме А. Блока ор. 25 (1963); Театральный триптих по сказкам К. Чуковского: «Муха-цокотуха», одноактный балет ор. 39; «Краденое солнце», одноактная опера ор. 40; «Тараканище», мюзикл ор. 41 (1968);
«Ярославна» («Затмение»), балет по «Слову о полку Игореве» ор. 58 (1974).
Симфонии, вокально-симфонические
и инструментальные концерты
произведения
Первый концерт для скрипки с оркестром в трех частях ор.9 (1958). Вторая редакция - 1964 г.; Первая симфония для большого оркестра ор. 20 (1961);
Концерт для фортепиано с оркестром в трех частях ор. 21 (1962); Концерт № 1
для виолончели, 17 духовых, ударных и фисгармонии ор. 23 (1963); Вторая симфония «Марина» для большого оркестра и смешанного хора на стихи М. Цвета-
12. Впрочем, до Арфового концерта Тищенко удачно соединяет оба
подхода (сквозной и дискретный) в контексте драматургии Флейтового концерта.
евой ор. 28 (1965); «Реквием» для сопрано, тенора и симфонического оркестра
на стихи А. Ахматовой ор. 35 (1966); Третья симфония для камерного оркестра
ор. 36 (1966); Концерт № 2 для виолончели, 48 виолончелей, 12 контрабасов и
ударных в трех частях ор. 44 (1969); Sinfonia Robusta для симфонического оркестра ор. 46 (1970); Концерт для флейты, фортепиано и струнного оркестра ор. 54
(1972); Четвертая симфония для большого оркестра ор. 61 (1974); Пятая симфония для большого оркестра ор. 67 (1976); Концерт для арфы с оркестром в пяти
частях ор. 69 (1977); Второй концерт для скрипки с оркестром («Скрипичная симфония») в четырех частях ор. 84 (1981); Симфония «Хроника блокады» для большого симфонического оркестра ор. 92 (1984); Шестая симфония для сопрано, контральто и симфонического оркестра ор. 105 (1988); Концерт для кларнета и
фортепианного трио ор. 109 (1990); «Французская симфония» ор. 116 (1993, первая версия ор. 12); Седьмая симфония ор. 119 (1994); «Беатриче», цикл из пяти
симфоний по «Божественной комедии» Данте ор. 123 (в работе); «Пушкинская
симфония» ор. 125, по музыке к фильму «Гибель Пушкина» ор. 38 (1098).
Камерная музыка
'
Десять фортепианных сонат (ор. 3, 1957; ор. 17, 1960; ор. 32, 1965;
ор. 53, 1972; ор. 56, 1973; ор. 64, 1976; ор. 85, с колоколами, 1982; ор. 99, 1986;
ор. 114, 1992; ор. 124, 1997); «Белый аист», вокальный цикл на стихи О. Шестинского ор. 10 (1958); «Грустные песни», вокальный цикл ор. 22 (1962); «Двенадцать
инвенций» для органа ор. 27 (1964); Три песни на стихи М. Цветаевой ор. 48 (1970);
«Собачье сердце», новеллы по М. Булгакову для камерного ансамбля ор. 104
(1988); «Двенадцать портретов» для органа ор. 113 (1992), а также пять струнных
квартетов, две скрипичные сонаты, три виолончельные сонаты, фортепианный
квинтет; «Дорога», вокальный цикл на стихи О. Дриза ор. 57 (1996).
Музыка к театральным постановкам и к кинофильмам
«Суздаль» (1964), «Палех» (1965), «Гибель Пушкина» (1967), «Северные этюды» (1968), «Пристань на том берегу» (1971), «Дети как дети» (1978), «Огни»
(1984), «Свет в окне» (1989), а также к драматическим спектаклям.
Литература
1. Арановский М. Симфонические искания. Л., 1979.
2. Бялик М. Борис Тищенко // Музыкальная жизнь. 1965. № 22.
3. Бялик М. Концерт Н. Юреневой и А. Аронова // Советская музыка.
1965. № 2.
4. Богданов-Березовский В. Секрет молодости // Советская музыка.
1963. № 4.
5. Гаврилин В. Выступление на «Редакционных беседах» / / Советская
музыка. 1968. № 1.
6. Генина Л. Высокое право, высокий долг / / Советская музыка. 1963.
№ 7.
7. Земцовский И. О народном у Свиридова / / Георгий Свиридов. М.,
1971.
8. Земцовский И. О музыке «Ярославны» Б. Тищенко // Земцовский И.
Фольклор и композитор. П.; М., 1978.
9. Иконников А. О герое нашего времени / / Советская музыка. 1973.
№ 3.
10. Кац Б. О музыке Бориса Тищенко. Л., 1986.
11. Левая Т. Советская музыка: диалог десятилетий // Советская музыка
70-80-х годов. Стиль и стилевые диалоги. М., 1986.
12. Леман А. Слышать время // Советская музыка. 1963. № 6.
13. Нестьева М. Эволюция Бориса Тищенко в связи с музыкально-театральным жанром / / Композиторы Российской Федерации. Вып. 1. М.,
1981.
14. Письма Д. Д. Шостаковича к Б. Тищенко. СПб., 1997.
15. Сергеев М., Холодилин А. В преддверии генерального смотра //
Советская музыка. 1967. № 10.
16. Слонимский С. За творческую дружбу // Советская музыка. 1963. № 11.
17. Сыров В. О стиле Бориса Тищенко / / Проблемы музыки
XX века. Горький, 1977.
18. Тищенко Б. Этюд к портрету / / Д. Шостакович. Статьи и материалы.
М., 1976.
19. Тараканов М. Возрождение жанра (о Концерте для флейты, фортепиано и камерного оркестра Б. Тищенко) // Музыка России. Вып. 1. М.,
1976.
20. Холопова В. Борис Тищенко: рельефы спонтанности на фоне рационализма // Музыка из бывшего СССР. Вып. 1. М., 1994.
21. Хренников Т. С трибуны молодежного пленума // Советская музыка. 1963. № 6.
22. ЭШпай А. На Ленинградском смотре / / Советская музыка. 1961.
№ 6.
I
Сергей Слонимский
Среди поколения «шестидесятников» Сергей Слонимский - одна из «центральных натур» (И. С. Тургенев). Ибо
творчество композитора постоянно находится в авангарде
развития отечественной музыки. Отличительная черта Слонимского - универсальность. Он делает своим буквально любой язык, необходимый ему для сотворения той или иной воображаемой реальности, а вместе с тем - остается самим собой.
Чуткость к зовам времени позволяла и позволяет Слонимскому
многое находить первым и создавать определенную современную тенденцию - будь то включение четвертитоновых интервалов или возрол^дение стиля ретро (до А. Пярта), обращение
к «Песням вольницы», давшим толчок новой фольклорной волне, или творческое прочтение «Мастера и Маргариты» М. Булгакова, опередившее другие сценические и симфонические
версии романа. В сущности, эта линия новаторства указывает
на принадлежность творчества Слонимского большой русской
традиции, идущей от Глинки. В ее русле - связь творческих позиций петербуржца-шестидесятника X X века с заветами кучкистов — петербуржцев-шестидесятников века XIX, которые
в поисках нового стиля опирались как на вершинные достижения западноевропейского искусства, так и на открытия в области фольклора.
Выдающийся композитор, педагог, пианист и музыкально-общественный деятель, Слонимский во многом определяет
современную культуру северной столицы. В свою очередь,
Петербург — город судьбы Слонимского. Это его родина1 и Дом,
откуда все берет начало и куда возвращается.
Композитор рос в литературной среде: его отец,
Михаил Леонидович Слонимский, — известный писатель, член
содружества «Серапионовы братья», в доме которого бывали
Зощенко, Каверин, Федин, Всеволод Иванов, Лунц. Слонимские оказались в родстве с семейством Пушкиных, Мандельштамом [14, 2, 23]. Но Сергей, как и его дядя - легендарный
американский музыковед Николай Леонидович Слонимский, —
избрал путь музыканта. Унаследованный же композитором
литературный дар нашел выход в его блестящих исследованиях о Прокофьеве 2 , Балакиреве, Малере, Шумане и др.
Систематическое обучение Сергея началось с 8-ми лет
в музыкальной школе у пианистки А . Д . А р т о б о л е в с к о й
1. С. M. Слонимский родился 12 августа 1932 года.
2. Слонимский С. Симфонии Прокофьева. М., 1961.
и композитора В. Я. Вольфензона. Детство совпало с трудными
годами войны, которые не прервали занятий музыкой, сначала в эвакуации в Перми под руководством дирижера
Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова
И. Э. Шермана, затем - в классе композиции Е. О. Месснера
и В. Я. Шебалина в Центральной музыкальной школе в Москве
и, наконец, в школе-десятилетке при Ленинградской консерватории у С. И. Савшинского по фортепиано, Б. А. Арапова
и Ю. А. Балкашина по композиции.
Испытанием стало Постановление ВКП(б) 1946 года,
где отец Слонимского был осужден вместе с Ахматовой и Зощенко. Постановление 1948 года фактически запрещало
следовать по пути Прокофьева и Шостаковича. Их музыка
направляла Сергея в творчестве, теперь же поиски своего композиторского «я» были затруднены. Но Слонимский выстоял как и позднее, когда по цензурным причинам не исполнялись
и не издавались опера «Мастер и Маргарита», фортепианная
Соната, «Монологи» по Псалмам Давида.
С 1950 года Слонимский - студент Ленинградской
консерватории, которую он окончил по двум факультетам как композитор и как пианист (1955). Из педагогов особый след
оставили композитор О. А. Евлахов (ученик Д. Д. Шостаковича), крупный специалист в области древнерусского певческого искусства Н . Д . У с п е н с к и й , тонкий знаток фольклора
Ф . А . Р у б ц о в , И. Б. Финкельштейн, замечательный пианист
В. В. Нильсен.
В студенческую — ленинградскую - пору освоение Слонимским разных сфер музыки шло стремительно. «Из первых
рук» композитор знакомился с русским фольклором. В течение
1954-1958 годов он постоянно выезжал в деревню Воронич близ
Пушкинских Гор - заповедную глухомань, где изучал народное
искусство в единстве творчества и исполнительства, как неотъемлемую часть бытия его создателей. В 60-е годы Слонимский
совершал фольклорные экспедиции на Боткинскую ГЭС,
в Псковскую и Новгородскую области. Постижение тайн древнерусской монодии и полифонического письма открывало пути
в глубь веков, изучение «сомнительных» (сточки зрения советской официальной эстетики) Брамса, Малера, Рихарда Штрауса, а также новой музыки X X столетия подводило к пониманию
путей развития современного западноевропейского искусства.
В результате родился художник со «всемирной отзывчивостью», с максимально широкой стилевой амплитудой.
Если попытаться подвергнуть его творческий путь периодизации, то он ассоциируется с сонатной формой. 50~60-е годы —
бурная экспозиция, где закладывались характерные для Слонимского темы, стилистические направления, опробовались
разные жанры. 70-80-е годы - многоплановая их разработка
с внезапными эпизодами. Наконец, 1990-2000-е годы - начало динамической репризы.
Обратимей к «экспозиции». Годы учебы подытожила
оКарнавальная увертюра», сразу обозначившая театральную
природу дарования автора. Это улыбчивое произведение, связанное с миреш шутки и розыгрыша, обнаружило и ряд других,
принципиальных для Слонимского черт - вариантно-мелодическое развитие тематизма, тематическую насыщенность фактуры, в области ладогармонического языка - использование
расщепленной терции. И тем не менее обретение композитором своей стилистики было еще впереди. Важным шагом на
этом пути стала Первая симфония. И здесь окажется немало
особенностей, которые обнаружатся в будущих вершинных сочинениях Слонимского: противоборство высокого и низкого
в качестве основы драматургической концепции, интимное
сольное начало, кульминация-катастрофа, свободная лепка
формы. Характерна для Слонимского и трагическая окраска
содержания. Вот как истолковал его автор: «Одинокая личность
и чертово колесо толпы. Поиск идеала и веселое преуспевание.
Индивидуальное и банальное... Словом, целая Фантастическая
Симфония нашего времени! Высмеянная корифеями, обруганная в печати, эта концепция стала моей главной жизненной темой» [14, 128].
Обретение сеоейдраматургической модели — вот главное достоинство симфонии. Резкая критика сочинения лишь закалила личность, послужила катализатором в стремлении доказать верность избранного пути. Не случайно уже следующий
опус,«Песни вольницы»для меццо-сопрано, баритона и фортепиано (позднее была сделана их оркестровая версия), принес
Слонимскому широкую известность. И сегодня об этом произведении хочется сказать словами, которыми М. П. Мусоргский
приветствовал появление в среде кучкистов А. К. Лядова: «Воистину талант!.. Бойко, свежо и с СИЛОЙ\»3 Едва ли не впервые
«Песни вольницы» столь ярко обнажили своеобразие интонационного, ритмического, ладового языка Слонимского. Знаменательно, что это произошло при обращении к народным словам и образам. «Музыкальный витамин» — так окрестил
композитор фольклор [8, 12]. Подчеркнем: темы песен сочине3. Мусоргский М. П. Письма. М., 1981. С. 128.
ны автором, но в них очевидна связь со стилистикои народного искусства и музыки XX века .
Lento Л=104 (J=52)
Fl. I solo
ДРУ
р
«Песни вольницы». № 1
«Жалоба девушки»
cant.
- ttjpitoi
Воз _ дохли _ ко
жок мой
лю - без
ты,
еду
ныи.
В итоге за Слонимским — наряду с Р. Щедриным утвердилась репутация одного из лидеров неофольклоризма.
Однако вскоре возникли Соната для скрипки соло, эпатирующая
Пастораль и токката для органа с их додекафонной стилистикой, отразившие другой спектр исканий композитора. Эту линию по-своему продолжила Соната для фортепиано, где едва
ли не впервые органично переплелись два начала - фольклорное и авангардное. Характерен выбор жанра «большой» сонаты: именно он получил наиболее широкое распространение
на русской почве. И соната Слонимского, которую пркее появлении Шостакович охарактеризовал: «прекрасная музыка» [14,
133], а на рубеже XXI века американская пресса объйвила лучшей сонатой века XX, достойно продолжила славный ряд, представленный «большими» сонатами Балакирева, Чайковского,
Глазунова, Рахманинова, Метнера, Прокофьева.
май,
Авангардная стилистика 5 0 - 6 0 - х годов нашла свое
концентрированное выражение в одночастном квартете «Антифоны» с нетемпериро^анным строем - ярком образце инструментального театра в русский музыке. Уже в названии обозначена наиболее характерная особенность этого сочинения,
построенного на антифонной перекличке инструментов. Артисты квартета перемещаются по сцене, и линии их перемещений
обозначены автором в партитуре. Воспринималось это в свое
время как эпатирующая «левизна». Между тем фантазию композитора явно питала практика народного музицирования, которое естественно вбирало перекличку ансамбля или хора со
звуками природы. Теперь бесценный опыт, почерпнутый Слонимским в фольклорных экспедициях, помогал в его новаторских поисках.
«Антифоны».
Кода
68
кг- ^
/
#
^
^
С { с flp»j
m^Jfm \>т I>t
кг"
JzCi
©—
\ft
/
f
\>A \>A \>Л
-\>A \>A \>A
t
—
1/4 тона вверх, f — 3/4 тона вверх,
{>—1/4 тона вниз,
$> — 3 / 4 тона вниз
о — долгая нота, ® — полудолгая нота, • — короткая нота
В начале 60-х годов разгорелась жаркая дискуссия по
поводу судеб отечественной оперы: вызывали тревогу явные
признаки ее упадка. Примерно тогда к этому жанру впервые
обратился Слонимский. По совету Шостаковича молодому
наш
композитору была заказана «Виринея» по повести Л. Сейфуллиной. Слонимский как раз собирался писать оперу «Матренин
двор». Сюжет из жизни русской деревни оказался ему близок.
Все благоприятствовало работе: увлеченность темой; обретенные к тому времени зрелость и мастерство; сотрудничество
с талантливым единомышленником - либреттистом С. А. Цениным; искренняя заинтересованность ходом дел творческих
коллективов театров, где должны были состояться премьеры.
В результате родилась опера, которая стала одной из лучших
в русском оперном театре второй половины X X века.
Впервые обращаясь к истории Руси-России, Слонимский запечатлел ее переломный момент - трагическое крушение всего жизненного уклада старой российской деревни.
«Конец власти», «Конец семьи», «Конец веры» - таковы символические названия трех картин первой части оперы. При этом
в центре внимания автора - горькая судьбина простой русской
женщины-крестьянки.
Опера написана в духе пассионов. «Ораториальное»
наклонение жанра подчеркнуто драматургической важностью
хора-комментатора. Хоровой зачин открывает «Виринею». Вместе с хором впервые является и главная героиня.
а
'
Andante
р
«Виринея». I часть, 1 картина
Вступление (Песня Виринеи с хором)
J=60
cantabile
j[»]p Р IP р р р: р- М * Q
Ах ты,
к
ри
—
. чем
су . да.руш.ка
мо _ я,
В : я- h h h—^
—
ме . ня
вре . мя,
О
ма _ туш _ ка,
—
J
1 = 1
смут
Л л;i
не - наст
ты
m
=i
кра _ си _ ву ро . ди _ ла,
вре . мя
смут . но . е,
J
И
*
JI—«u—
да
3 J' J
но . %
но _ е.
за _
во
J> Л
вре _ мя
рл г . . .
,
^ I
т
Ь> [Allegro moderate J = H
nvp cantabile
А
I
вес . на
. лыи
«Вирйнея». I часть, 1 картина, Б сцена
Ария Виринеи
на по. ро . ге,
да
су.ма.тош.ныи
ве . тер ве.се
с по . ля ле_тит.
Значительна обобщающая роль хоровых антрактов.
Хор и завершает музыкальную драму, интонационно корреспондируясь с зачином.
Ярок, щедр и изыскан мелодический язык оперы, выросший из интонаций крестьянского и городского фольклора.
При этом фольклористы подчеркивали удивительное постижение композитором природы народных песен-плачей. Опираясь на широкую традицию культуры, автор вводит здесь церковный напев «Се жених грядет» - тот самый, который
собирался использовать Балакирев в Es-dur'HOM фортепианном концерте и который сыграл важную роль в «Сказании
о невидимом граде Китеже и деве Февронии» РимскогоКорсакова.
Много сокровенного вложил композитор в кантату <<Голос из хора»на стихи любимого им петербуржца А. Блока. Творческое сближение композитора и поэта произошло преимущественно на почве трагического. То, что в кантату вошли такие
жизнелюбиво-пьянящие строки, как «О, весна, без конца и без
краю...», «Сотри случайные черты...», только сгущает остроту дра матической коллизии. Многосоставен язык кантаты, включивший народно-песенные интонации и додекафонную технику,
диатонику и хроматику.
Стремясь к максимальному расширению стилевых
ориентиров, Слонимский находит в «экспозиционном» периоде и очень дорогую для него — античную - тематику, к которой в середине X X века обращались редко. С ней связан балет «Икар». Античный миф, который лег в основу либретто
Ю. Слонимского, оказался удивительно созвучен современности с ее ошеломляющими первыми полетами человека
в космос. Не менее актуальны были сопутствующие «вечные»
сюжеты: творец и власть, мечта и реальность, жизнь, смерть
и бессмертие.
Примета времени - синтез искусств в балетном театре.
У Слонимского введение в балет хора как будто диктовалось
обращением к эпохе античности, традициям древнегреческого
театра, а вместе с тем — служило сгущению трагедийного начала, что характерно для прочтения мифа композитором.
Примечательна тематическая насыщенность музыки: в балете
более 30 тем, что связано с использованием Слонимским излюбленного им принципа цепной формы. Еще одна принципиальная для композитора черта: он не стремится к стилизации,
а создает воображаемую античность, сгущая приметы архаики
в интонационной и ладовой сферах, вводя четвертитоновые,
кварто-квинтовые обороты, фригийские секунды и др.
Путь, который ведет от «Икара», связан не только
с рядом последовавших опусов - «Песнью песней» Соломона
для сопрано, тенора, камерного хора, гобоя, валторны и арфы,
монодийным «Solo espressivo» для гобоя и других сочинений.
«У меня уже давно сложилось представление о том, - признался Слонимский, - что вероятен и очень желателен новый
Ренессанс античной музыки, античной культуры, античного
духовного мира в целом - ренессанс глобального сопряжения
музыки со всем человеческим через этику...» [15, 77]
Рубежным сочинением стала опера «Мастер и Маргарита» по М. Булгакову: композитор просто не мог ее не написать. Булгаковский роман — о тернистом пути художника,
о самоотверженности и непонимании, о внутреннем одиночестве творца - резонировал самому сокровенному. Это определило жанр камерной оперы, монодийную основу музыкальной речи, чутко вибрирующей в унисон булгаковскому
тексту, многосоставный изысканно-тонкий ладогармонический язык. Здесь переплелись лирика и гротеск, античная
и остро современная образность, выраженные в самых разных стилевых манерах - от додекафонного письма до джазроковой музыки.
Особо влечет в ту пору композитора жанр симфонии:
он пишет их восемь, со Второй по Девятую. В своей совокупности они предстают единым развивающимся миром, порожденным непрестанным творческим поиском мастера. Эта масштабная ф о р м а , наряду с оперной и балетной, стала для
Слонимского ключевой в отношении его стиля. При этом важны и плодотворны взаимосвязи симфоний стеатральными произведениями, что обнаруживается в области тематизма, стиле-
1 И 1
вого «многоязычия», многомерной драматургии. Среди «механизмов» театрализации - характерная для Слонимского идея
тембров-персонажей, которая наряду с обращением к сюжетно-игровым коллизиям служит созданию его симфонического
театра.
Особенность современного искусства — многоликий
показ образов зла. С ними связана жанровая специфика симфонического цикла (например, в первых двух симфониях композитора вместо скерцо введены фокстрот, марш, частушка,
рок-музыка).
Одно из центральных мест в творчестве Слонимского
7 0 - 8 0 - х годов принадлежит опере «Мария Стюарт» (либретто Я. Гордина по мотивам документальной повести Цвейга,
с включением стихов Ронсара, Марии Стюарт). В ней сочетаются карнавальное и трагическое, исповедальное и гротесковое
начала. Слонимский назвал этот опус оперой-балладой не ориентируясь ли отчасти на английскую балладную оперу
XVIII века? Отсюда - номерная структура, главенство жанра
песни, которая в данном случае и открывает оперу. Если
в «Виринее» увертюру заменил хор a cappella, то здесь - Песня
Грустного Скальда (в «Мастере» увертюра отсутствует вообще).
И как в первой опере, от пролога перекидывается интонационная арка к эпилогу.
Своеобразна драматургия оперы, строящаяся на развитии двух пластов: события, происходящие в эпизодах, комментируются в интерлюдиях.
Стремясь к достоверности в воплощении эпохи и места действия, Слонимский обратился к шотландскому фольклору. Возрождению духа старины служит и «каданс Ландини»,
органично входящий в интонационную сферу Марии. При этом
композитор трактует этот сюжет в духе современности. А потому - включает в стилистику оперы и элементы додекафонного
письма. В результате возникает одно из самых романтичных и
волнующих созданий Слонимского.
Новый период открывает Девятая
симфония.
Ее скрытая программность связана с широко разрабатываемой
Слонимским темой исторических судеб России, которая
в 90-е годы у композитора получает бйлыиую обобщенность
при сохранении трагедийной интонации. Эта симфония связана с фольклорным направлением в творчестве Слонимского. Каждая из двух ее частей символизирует свой мир. В первой — живописуются красота и гармоничность Древней Руси.
Но уже здесь зреют злые силы, характеризуемые короткими
|
Щ
полевками в басовом регистре. Во второй части они главенствуют. Разгулявшаяся в скерцо стихия разрушения приводит
к кульминации-катастрофе, за которой следует литургическое
отпевание.
Симфония с солирующей флейтой и арфой «Аполлон
и Марсий» обнаруживает нечто новое в творчестве Слонимского 90-х годов: преимущественное смещение авангардной
стилистики из камерной сферы в область крупных симфонических форм. В этом отношении «Аполлон и Марсий», «Петербургские видения», Десятая симфония органически вытекают
из квартета «Антифоны» - крайне «левого» сочинения
1968 года. Такой поворот отчасти обусловлен программностью
новых опусов Слонимского: ведь и программный симфонизм
у Листа родился как «авангардное» для своего времени
явление.
Десятая симфония по Данте («Круги Ада») с посвящением «Всем живущим и умирающим в России» — одна из вершин в творчестве Слонимского, синтезировавшая его достижения в разных жанрах. Симфония врастает некоей кульминацией
в симфонический макроцикл композитора. Немало позаимствовала она и от предшествовавшей ей оперы «Гамлет», написанной примерно в то же время. Оба сочинения роднит обращение к сюжетам мировой классики, обретающим здесь
современное звучание. Общи монодийная основа тематизма,
многостильность языка.
Сгущенная трагедийность, ад при жизни живописуются самыми разными средствами. Античные лады, ренессансная
и обостренно экспрессивная романтическая мелодика, гйньольно преображенные тени бытовой музыки (чуть ли не родственные той, что композитор написал к кинофильму «Республика
Шкид»), интонации григорианского хорала и православного
пения, характеризующие торговцев верой и ханжей, сменяются разнообразными формами строгой, широко разработанной
серийной техники в двух последних частях. Транспозиции
рядов поступенно нисходят по мере движения в низшие круги
ада... (см. пример 4 на с. 167).
Между тем не только структурно, но и стилистически
это - цельное произведение, вырастающее из трансформации
двух тем - певучей и гротесковой. Объединению разнородных
языков способствуют связующие стилевые, фактурные компоненты, переходящие из круга в круг. Таковы, например,
квинтовые бурдоны, из античного первого круга перешедшие
во второй.
И г *
1*
Симфони! № 10 («Круги Ада»). Kpyri
Largo «f=8o (J==40)
ihf
1 JJ IHJ hJJ TH3 -- :
p
~
—
-
f
J'CJ \ J \
5>—I i—
н
~
у
Vri
—S
-
MrjrjL;
JJ-J
mf
№
no
w
2Cl!
№
lu
—
It
1
'
•
=
2
agmf
Симфония в известной мере может быть названа
dramma per musica, как и «Гамлет», которому дано это жанровое определение. Ведь композитор последовал не классическим нормам четырехчастного симфонического цикла, а «Аду»
Данте с его девятью кругами: каждая часть - круг, отсюда и девять частей в симфонии. Исполнение же nxattacca отчасти сближает симфонию с одночастными программными композициями романтиков. Не связью ли с музыкальной драмой
обусловлено использование выкриков оркестрантов в финале,
световых эффектов — окончание симфонии в полной темноте?
При этом автор следует традиции моцартовского «Дон-Жуана»:
даже самое страшное по-своему прекрасно.
Выделим примечательное: в течение 1990-х - начала
2000-х годов написаны четыре из семи опер Слонимского.
«Гамлет» Шекспира привлекал композитора с юных лет. Но он
обратился к этой трагедии только в поздний период. Выбор жанрового наклонения - dramma per musica - подчеркнул стремление Слонимского подчинить музыку шекспировскому сюжету (как и в созданной позднее по шекспировской трагедии опере
«Король Лир»), Однако прочитан он Слонимским-драматургом
заново. Не случайно композитор в соавторстве с Я. Гординым
написали либретто оперы по пьесе Шекспира в переводе
Б. Пастернака. В чем суть интерпретации шекспировской трагедии Слонимским? Две сценические линии зеркально отражают
друг друга. С одной стороны - Дух отца Гамлета, убийца Клавдий, Гертруда и мститель - Гамлет-сын. С другой - несчастный
Полоний, Гамлет как его убийца, обезумевшая Офелия и мстительный Лаэрт - дочь и сын, обездоленные Гамлетом. То есть
по отношению к Полонию, Лаэрту и Офелии Гамлет выступает
=Г f
S
в той же роли, что и Клавдий по отношению к Гамлету. Выразителями этих противоположных мнений выступают в одном
случае могильщики, осуждающие Гамлета в лихих куплетах
Пролога и интермедии, в другом - бессловесный оркестр в
Увертюре и Антракте. Игра разных точек зрения на правоту
героев положена в основу драматургии оперы. Такой ракурс
помогает музыканту сблизить «вечный» сюжет с современностью: разве не часто в окружающей нас действительности все
складывается шиворот-навыворот?..
Dramma per musica давала и творческую свободу, и возможность сочетать в рамках одного спектакля разные сценические жанры - симфоническую увертюру, балетный дивертисмент (второй антракт, убийство Гонзаго), простонародные
речевые диалоги в сопровождении клавесинных сонатин и бурлесок, солирующих реплик инструментов в роли персонажей
на сцене, бравурного оркестрового марша (финал второго
акта). В свою очередь контрастное столкновение жанров и стилевых слоев послужило выявлению двух полярных точек зрения на самих героев.
Традиции многосоставной оперной стилистики, где переплетаются трагедийная, гротесковая, фарсовая, авангардная
и фольклорная линии творчества Слонимского, развивают «Видения Иоанна Грозного». Путь к этой опере пролег через всю творческую судьбу Слонимского, обозначив новый виток особенно
близкой композитору темы исторических судеб Руси-России.
Связанные с ней сочинения (Девятая симфония, Симфониетта
и др.), при всем разнообразии их сюжетов и жанров, объединяет одна общая идея: светлому миру древней Руси противостоят губящие ее злые силы. Эта концепция получает дальнейшее углубление в «Видениях Иоанна Грозного». Перечитать
«Историю государства Российского» Н. Карамзина, представить
не венценосный лик, а трагическую личность Иоанна - этой
труднейшей задаче подчинил себя автор «Видений».
Оригинальна драматургия оперы (либреттист Я. Гордин). В ее основе лежит противопоставление мирной жизни
добросердечных новгородцев и страшных нравов властелина
с его окружением. Их столкновение во втором акте приводит
к гибели вольного Новгорода и чистых душой юных героев оперы. Сколько-нибудь полного жизнеописания грозного царя
Ивана здесь нет.
Композиция спектакля сложна. Действие открывает...
эпилог - завещание Иоанна, где он характеризует себя и окружающих, якобы отплативших ему изменой за любовь. Затем
звучит увертюра, а после нее - второй эпилог, в котором про-
i f
исходит главное злодеяние Иоанна - убийство сына. Отсюда,
как из вершины-источника, начинается череда видений, симфонически перетекающих из одного в другое. Разворачивается
«кровавый пир тиранства», перемежающийся с царскими «прохладами» (терминология Карамзина).
Четко разграничены в опере два стилистически разных
пласта — мотивы видений, связанных с использованием таинственных ирреальных звучаний, сопровождающих появление
каждого призрака, и стихия русской песенности, где Слонимский находит свои ритмические и ладовые особенности.
Первозданность музыкальной речи композитора естественно
сочетается с опорой и на русскую классику («Хованщину»
Мусоргского, «Китеж» Римского-Корсакова), и на стилистику
предшествующих сочинений Слонимского («Виринея»,
«Мастер и Маргарита», «Гамлет», Десятая симфония). Это обнаруживает уже Увертюра, в которой ритмически жесткие своеобразные мотивы опричников соседствуют с певучей лирической темой Руси.
Резко контрастны такие оркестровые антракты, как симфонический эпизод нашествия опричников, где хрупкая мелодия Вешнянки превращается в жуткие интонации струнных и колоколов, ассоциирующиеся с ударами бича. Выразителен
оркестровый плач по Новгороду. Зловещ и страшен фрагмент
оргии из последнего видения.
Многоплановы характеристики большинства персонажей, хоровые сцены - то одноголосные, в духе средневековой
русской музыки, то предельно заостренные ритмически, асимметричные, резко акцентированные (например, сцена убийства
Федькой Басмановым своего отца, завершающаяся казнью фаворита).
В своей выразительности с вокалистами соперничают
оркестровые инструменты, выступающие в роли солистов-комментаторов. Нежны и воздушны звучания арфы - своеобразный резонатор мистериальной мелодики Анастасии. Красноречив бас-кларнет в диалоге с царем, подобный его тени или,
точнее, темному внутреннему голосу. Трагедийные краски сгущает плач инструментов, солирующих на сцене, о погубленном
опричниками вольном Новгороде. Глубокое впечатление оставляет финал - печально-светлый солнечный восход над Россией, сопровождаемый поющими голосами убиенных.
Подведем итоги: все отмеченные многочисленные взаимосвязи между отдельными оперными сочинениями позволяют говорить о том, что оперы, подобно симфониям Слонимского, составляют грандиозный макроцикл. Более того - эти
(
макроциклы корреспондируются благодаря тому, что каждая из
их составляющих опирается, в сущности, на одну драматургическую модель: от экспозиции конфликта к его разрастанию и
кульминации-катастрофе. При этом прозрачно-тихие просветленные окончания, к примеру «Виринеи», «Видений Иоанна
Грозного», - не более чем «неопределенность исхода» [14, 37],
которая позволяет каждому по-своему домысливать «последействие» музыки. Здесь видятся связи с концепцией открытых
форм, создающих психологический эффект незавершенности,
многоточия.
В 2001 году Слонимский вернулся к балету. Идею нового сочинения предложил известный художник М. Шемякин,
который и стал автором либретто. В его основу легла история
из первой части гофмановских каприччио, где юный Дроссельмейер, спасший от уродства принцессу Пирлипат, сам превратился в Щелкунчика, а потому - был изгнан из дворца. В балете композитор предложил свою концепцию сказки Гофмана и
ее проекцию на современность.
Композитор включил сюда немало тем и эпизодов из
своих фортепианных сборников «От пяти до пятидесяти», что
усилило доходчивость балета, адресованного (как и сборники) и детям и взрослым. В балете каждая группа образов наделена определенной стилевой стихией. Мир сердечных людей,
добрых чувств связан с певучими мелодиями оркестра. Властное звучание органа характеризует магию Дроссельмейера.
В оркестровых эпизодах живописуются всевозможные сказочные персонажи. Наконец, особая звуковая сфера рисует царство крыс. Многое здесь - обращение к ретро- и минимузыке,
джазовым интонациям — типично для воплощения тем зла
у Слонимского. Но есть и нечто новое: в характеристике крыс
важную роль играет компьютерная музыка, как бы подчеркивая запрограммированность, неприглядную суть этих существ.
Гофмановская история с ее отнюдь не счастливым концом, где сквозь фантасмагорию вымышленного проглядывает
до боли знакомая реальность, близка драматургии многих сочинений Слонимского. И это не случайно. Ибо, по мнению композитора, «сказка Гофмана остается абсолютно современной,
как это, в сущности, ни печально...» [2, 580].
Есть своя закономерность в том, что на рубеже X X
и XXI веков Слонимский пишет подряд не только несколько
опер, но и один концерт за другим (Еврейская рапсодия,
Концерт для виолончели и камерного оркестра, Концерт для
фортепиано с оркестром № 2). Его влечет музыкальный театр.
Поэтому особо востребованным оказывается и концерт - как
с V
n j
наиболее «театральный» жанр чистой музыки, связанный с поэтикой игры. Композитор играет и с жанром, и с особенностями музицирования, и с составом участников, и с распределением ролей между ними, сочиняя, фантазируя все новые
комбинации. При этом линия развития жанра у Слонимского
идет от острых, включающих элементы джаз- и рок-музыки
Концерта-буфф, Концерта для симфонического оркестра, трех
электрогитар и солирующих инструментов к более привычным,
казалось бы, типам концертов - для гобоя, скрипки, фортепиано. В ряду последних - исповедальный Концерт для виолончели с камерным оркестром.
Камерно-вокальная сфера - третья область, к которой
композитор особенно пристрастен на рубеже X X и XXI веков.
Интерес к ней проистекает из того же корня, что и увлеченность
оперой, концертом, к которым добавился балет. Это все та же
театральная природа дарования.
Приметы проявления театральности в его вокальной
лирике множественны. Едва ли не главная - способность
проникать в сущность характера другого человека. Отсюда множество персонажей Слонимского и их разноликость. И все
это - герои нашего времени, которым внятны и мудрость
древних, и «соленый» язык фольклора, и свет и тени сегодняшнего дня.
Слонимский очень чуток к стихам. Его познания в литературе, поэзии столь же необъятны, как и в музыке. Круг поэтов обширен - от Лермонтова, Державина, Тютчева, Блока до
современников - Рейна, Бродского, Кушнера, Городницкого.
Композитором отобрано немало фольклорных текстов разных
времен и народов. Здесь и современная частушка «Песнохорка», и японская народная поэзия в раннем цикле «Весна пришла». Поразительна художественная чуткость, благодаря которой Слонимский обращался к Мандельштаму, Ахматовой,
Цветаевой, Хармсу, Рейну, когда их стихи были не только не
оценены, но и гонимы. Своей музыкой композитор помогал этой
замечательной поэзии прозвучать на концертной эстраде.
В вокальном творчестве Слонимского первоначальный
импульс зачастую исходит от стихов. Значимость слова, его
влияние на музыкальную стилистику и форму подчеркнуты и
жанровым наклонением. Наряду с привычными романсами и
песнями «на стихи» у Слонимского много «стихотворений»,
включающих и «Газели Надиры», и «Рубай».
Еще одно проявление театральности связано с повышенным интересом Слонимского к тембровой драматургии.
Отсюда - составление им разных, зачастую нетрадиционных
*
Г Г'
ансамблей, сопровождающих голос. Такова, например, недавно сочиненная вокальная сюита для баса, саксофона и фортепиано «Человек из бара» на стихи Рейна.
Среди камерно-инструментальных сочинений Слонимского рубежа веков выделяется цикл «24 прелюдии и фуги»
для фортепиано. Замысел цикла возник на первый взгляд внезапно — в новогодний вечер 1993 года после прослушивания
фуг Баха во вдохновенном исполнении Гленна Гулда. Однако
в действительности появление этого опуса именно в «репризный» период творчества глубоко символично: цикл в известной мере увенчал полифонические устремления мастера,
виртуозно владеющего контрапунктической техникой. От включения полифонических эпизодов в ткань произведений более
ранних лет (таковы, например, тройная фуга в финале Первой
симфонии, четверная фуга в опере «Виринея», мотет в кантате
«Голос из хора», семитемный ричеркар в финале Второй симфонии) композитор в 90-е годы перешел к жанрам чистой полифонической музыки.
В своих 24-х прелюдиях и фугах Слонимский сохраняет тональный план баховского цикла. При этом его гармонический язык необычен и свеж, связан с модальной трактовкой
тональности. Используя современную сложноладовую гармонию, композитор приближается порой к складу музыки XVI —
начала XVII века.
В фугах у Слонимского, как правило, получают развитие несколько тем-мелодий, которые то сплетаются в венок, то
разрываются из-за вторжения контрастного тематического материала, живописуя своеобразное театральное действо.
Индивидуальна трактовка цикла с двумя перекликающимися кульминациями (прелюдии и фуги fis-moll и h-moll):
диатонические фуги в русском стиле (e-moll, f-moll, g-moll,
a-moll), в чем-то близкие опере «Виринея», чередуются с хроматическими (es-moll, h-moll).
В определенной мере цикл можно рассматривать как
продолжение Десятой симфонии. Пары из прелюдий и фуг составляют круги, ведущие все ниже и ниже. Все движется от света к мраку, и в конце пути — «крест», запечатленный в двенадцатиступенной теме, единой для последней прелюдии и фуги...
Еще не время подводить итоги. Прошел юбилейный
для композитора 2002 год, насыщенный концертами, едва ли
не каждый из которых включал премьеру. Но уже осенью
2003 года Слонимский завершил Реквием, а вслед за ним Одиннадцатую симфонию, в августе 2004 года - Двенадцатую,
а в сентябре - Тринадцатую... Для музыканта все как будто еще
только начинается. Темы и образы, к которым обращается Слонимский, остро современны. Язык многогранен, изящен и свеж.
Творческая «материя» динамично развивается, а не академизируется. «Каждый раз, когда до меня доносится музыкальный
голос С е р г е я С л о н и м с к о г о , - признается С о ф и я Г у б а й д у л и на, - я испытываю почти детское чувство: "Пока что все в порядке, мы еще не заблудились"» [1, 85]. В самом деле, постигая
музыкальную «галактику» Слонимского, веришь, что нам, возможно, открываются очертания одного из будущих путей развития музыки - путей, у х о д я щ и х в туманные дали X X I века...
Основные сочинения
Оперы
«Виринея» (1967), либретто С, Ценина по мотивам повести Л. Сейфуллиной; «Мастер и Маргарита» (1972), либретто Ю. Димитрина; «Мария Стюарт»
(1980), либретто Я. Гордина; «Гамлет» (1991) по трагедии В. Шекспира в переводе
Б. Пастернака, либретто Я. Гордина и С. Слонимского; «Видения Иоанна Грозного» (1995), либретто Я. Гордина по историческим документам XVI века; «Царь
Иксион» (1995) по античному мифу и трагедии И. Анненского, либретто С. Слонимского; «Король Лир» (2001) по трагедии В. Шекспира, либретто С. Слонимского.
Балеты
«Икар» (1970), либретто Ю. Слонимского; «Принцесса Пирлипат, или
Наказанное благородство» (2001) по «Сказке о крепком орехе» из «Серапионовых братьев» Э. Т. А. Гофмана, либретто М. Шемякина.
Вокально-симфонические
и хоровые сочинения
«Песни вольницы» (вокально-симфонический цикл для меццо-сопрано, баритона и симфонического оркестра, слова народные, 1961), «Голос из хора»
(кантата для солистов, хора, органа и камерного оркестра, на стихи А. Блока, 1965),
«Виринея» (ораториальная сюита из одноименной оперы, 1974), «Мария Стюарт»
(вокально-симфоническая сюита из одноименной оперы, 1981), «Видения Иоанна Грозного» (ораториальная сюита по одноименной опере для солистов, хора и
симфонического оркестра, 1999), «Тихий Дон» (концерт для смешанного хора без
сопровождения на слова старинных казачьих песен по роману М. Шолохова, 1977),
«Четыре стасима из трагедии Софокла "Эдип в Колоне"» (для смешанного хора
без сопровождения, 1983), Реквием (2003).
Симфонические
произведения
«Карнавальная увертюра» (1957), «Юмористические картинки» (сюита
для малого симфонического оркестра, 1957), Первая симфония (1958), Концерт-
ная сюита (для скрипки с оркестром, 1958), Концерт-буфф (для камерного оркестра, 1964), Концерт для симфонического оркестра, трех электрогитар и солирующих инструментов (1973), Праздничная музыка для балалайки, ложек и симфонического оркестра (1975), Симфонический мотет (1978), Вторая симфония (1978),
Тихая музыка (1981), Третья симфония (1982), Четвертая симфония (1982), Весенний концерт (для скрипки и струнного оркестра, 1983), Пятая симфония (1983),
Шестая симфония (1984), Седьмая симфония (1984), Восьмая симфония (1985),
Концерт для гобоя и камерного ансамбля (1987), Девятая симфония (1987), Славянский концерт для органа и струнного оркестра (1988), «Аполлон и Марсий»
(симфония с солирующей флейтой и арфой, 1991), Десятая симфония «Круги Ада»
по Данте (1992), «Петербургские видения» (1994), Симфониетта (1996), Еврейская рапсодия (концерт для фортепиано, струнных, флейты и ударных, 1997), Концерт для виолончели и камерного оркестра (1998), Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (2000), Одиннадцатая симфония (2003), Двенадцатая симфония
(2004) и Тринадцатая симфония (2004).
Камерно-вокальные
сочинения
«Весна пришла!» (сюита на стихи японских поэтов и народные слова для
среднего голоса и фортепиано, 1959), «Польские строфы» (вокальный цикл на
стихи А. Слонимского для меццо-сопрано и флейты, 1963), «Лирические строфы» (цикл на стихи Е. Рейна для голоса и фортепиано, 1964), «Прощание с другом» (из шумерского эпоса о Гильгамеше, вокальная сцена для высокого голоса
и фортепиано, 1966), «Псалмы Давида» (монологи для высокого голоса, гобоя,
валторны и арфы, 1967), Шесть романсов на стихи А. Ахматовой (для голоса и
фортепиано, 1969), Веселые песни (вокальный цикл на слова Д. Хармса, 1971),
«Четыре стихотворения О. Мандельштама» (для голоса и фортепиано, 1974), «Десять стихотворений А. Ахматовой» (для голоса и фортепиано, 1974), Четыре романса на стихи А. Блока (для меццо-сопрано и фортепиано, 1974), Песни трубадуров (на тексты старонемецкой и старопровансальской поэзии для сопрано,
тенора, 4 блокфлейт и лютни, 1975), Песнохорка (на народные слова для контральто, флейты, гобоя, трубы, балалайки, баяна, ложек, вибрафона и 3 электрогитар,
1975), Строфы «Дхаммапады» (из древнеиндийской литературы для сопрано,
флейты, арфы и ударных, 1983), «Рубай» (пять стихотворений Абдуррахмана Джами для тенора и фортепиано, 1987), «Газели Надиры» (для сопрано и фортепиано, 1988), Шесть романсов на стихи О. Мандельштама (для голоса и фортепиано, 1990), Три песни на стихи О. Мандельштама (для меццо-сопрано, скрипки,
виолончели и фортепиано, 1994), «На смерть Г. Жукова» (баллада на стихи
И. Бродского для баритона, флейты, виолончели, фортепиано и ударных, 1995),
Песни неудачника (пять жестоких романсов на стихи Е. Рейна для баса, гитары,
фортепиано и ударных, 1995), «Три стихотворения А. Кушнера» (для голоса, флейты и фортепиано, 1997), Шесть романсов на стихи М. Лермонтова и Г. Державина
(для меццо-сопрано, баритона и фортепиано, 1998), «Человек из бара» (сюита
на стихи Е. Рейна для баса, саксофона и фортепиано, 2001) и др.
Камерно-инструментальные сочинения
«Диалоги» (инвенции для флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны,
1964), «Антифоны» (для струнного квартета, 1968), Экзотическая сюита
(для 2 скрипок, 2 электрогитар, саксофона и ударных, 1976), Соната (для
скрипки и фортепиано; для виолончели и фортепиано, 1986), Lamento
furioso (для кларнета, скрипки и фортепиано, 1997), Трио (для скрипки,
виолончели и фортепиано, 2000);
Произведения для фортепиано
Соната (1962), «От пяти до пятидесяти» (пьесы в 5-ти тетрадях), Колористическая фантазия (1972), Альбом для детей и юношества (изд. 1983),
24 прелюдии и фуги (1994) и др.
Произведения для скрипки
Соната (для скрипки соло, 1960), Монодия по прочтении Еврипида (для
скрипки соло, 1984) и др.; сочинения для арфы, скрипки, альта, виолончели, гобоя,
флейты, кларнета, валторны, трубы, домры, гитары, русского народного оркестра; музыка к кинофильмам и спектаклям.
Литература
1. Вольные мысли. К юбилею Сергея Слонимского / Ред.-сост. Т. Зайцева, Р. Слонимская. СПб., 2003.
2. Гончаренко Т. «Сказка Гофмана остается абсолютно современной» //
Театр и литература / Отв. ред. В. Старк. СПб., 2003.
3. Девятова О. Художественный универсум композитора Сергея Слонимского. Екатеринбург, 2003.
4. Долинская Е. Русская музыка последней трети XX века. Магнитогорск;
М „ 2001.
5. Зайцева Т. Динамическая реприза: О творчестве С. Слонимского
1990-х годов // Музыкальная академия. 1998. № 2.
6. Кириллина Л. Идея развития в музыке XX века // Западное искусство. XX век / Отв. ред. Б. Зингерман. СПб., 2001.
7. Климовицкий А. Вторая симфония С. Слонимского в свете новых
тенденций в современном музыкальном творчестве / / Современные
проблемы советской музыки. Л., 1983.
8. Милка А. Сергей Слонимский. Монографический очерк. Л., 1976.
9. Раабен Л. О духовном ренессансе в русской музыке 19601980-х годов. СПб., 1998.
10. Ручьевская Е. О методе претворения и выразительном значении
речевой интонации: На примере творчества С. Слонимского, В. Гаврилина и Л. Пригожина / / Поэзия и музыка. Л., 1973.
11. Рыцарева М. Композитор Сергей Слонимский. Л., 1991.
12. Сергей Слонимский. Юбилей музыки / Сост. Р. Слонимская.
СПб., 2002.
13. Серебрякова Л. О претворении народных черт в мелодике С. Слонимского // Вопросы музыкального образования. М., 1980.
14. Слонимский С. Бурлески, элегии, дифирамбы в презренной прозе.
СПб., 2000.
15. Слонимский С. Монолог после фестиваля. О прошлом, настоящем
и будущем // Музыкальное обозрение. 1994. № 12.
16. Умнова Н. Симфоническое творчество С. Слонимского. Автореф.
дис. ... канд. иск. Новосибирск, 1995.
Раздел
70-80-е ГОДЫ
Приметы новой эпохи,
или Диалог с 60-ми годами
В 70-е годы культурная жизнь советского государства
вступила в новую фазу, впрочем, не сразу распознаваемую —
в силу отсутствия резкой границы с предыдущей. С точки зрения политических реалий, время, сменившее собою «оттепель»,
вошло в историю под названием «застоя», хотя и осенило себя
лозунгом «развитого социализма». Точности ради следует заметить, что «оттепель» как культурная эпоха, а не только как
время правления Н. С. Хрущева, завершившееся уже к середине 60-х годов, рассредоточила свои флюиды на все это десятилетие 1 . А потому и упомянутая граница отодвинулась
к 70-м годам. Здесь сказывалась также причастность мировым
процессам: как мы увидим далее, сдвиги на рубеже десятилетий происходили не только в отечественном масштабе.
Но обратимся все же к отечественной истории и посмотрим, чем чреват был «застой» для жизни искусства. Прежде всего, он означал реакцию власти на открывшиеся было
свободы: происходило аннулирование социально-критического пафоса «оттепели», возобновлялись преследования инакомыслящих, набирало силу партийно-номенклатурное диктаторство. Собственно, это наблюдалось еще при Хрущеве - как
признак продолжающегося, несмотря на «потепление», господства тоталитарной идеологии. Разница с эпохой сталинского
террора заключалась лишь в том, что расправа над неугодными производилась не столько путем прямого физического
уничтожения, сколько путем организованной травли и коллективного предательства, по-своему не менее губительным.
1. Начало же ее связано, как известно, с 1956-м г. и XX съездом партии.
Тем не менее в данном обзоре мы будем ассоциировать эту эпоху
прежде всего с 60-ми гг. - центральным и кульминационным моментом выражения ее духа.
Иллюстрацией может служить хотя бы судьба Б. Пастернака,
подвергшегося на исходе жизни репрессиям из-за опубликованного на Западе романа «Доктор Живаго» («Как гордимся мы,
современники, что он умер в своей постели!» - этот рефрен из
известной песни А. Галича очень точно выразил и лицемерную
атмосферу похорон поэта, и весь дух тогдашнего официоза).
Впрочем, жертвой оказался не только Пастернак.
Художественная выставка, пущенная под бульдозер; суд над
И. Бродским, обвиненным в «тунеядстве»; процессы над диссидентами - все свидетельствовало о наступившем «похолодании». В 70-е годы логическим продолжением подобных тенденций стал демарш против А. Твардовского и возглавляемого
им «Нового мира» - этого оплота новой реалистической прозы. А вскоре из страны был выслан А. Солженицын (описавший
эту историю в автобиографической повести «Бодался
теленок с дубом»). Тогда же Д. Шостакович создал музыкальную версию сонетов Микеланджело, один из которых —
«Изгнаннику» - недвусмысленно адресовался Солженицыну.
Репрессии не прекращались вплоть до середины 80-х, когда
был наконец-то возвращен из горьковской ссылки академик
А. Сахаров.
В искусстве ужесточилась практика цензурных запретов. Больше всего она коснулась в те годы кино и литературы с их понятийной образностью и непосредственным «выходом
в жизнь». Неудивительно, что среди пострадавших и эмигрировавших в 70-е годы преобладали литераторы. Но описанные
акции имели последствия не только для индивидуальных человеческих судеб. Последствия коснулись духовного состояния
общества, над которым нависла тень застойной деградации. По
наблюдениям Н. Эйдельмана, в эти годы у нас в стране «образовалось немало лишних людей, независимо оттого, понимали ли они это свое качество или нет. От живого дела были отторгнуты многие полезные государству и обществу люди.
Огромная человеческая энергия потеряна, растрачена. Это несчастье, пусть в малой степени, думаю, коснулось всех... Речь
идет об огромных личных и общественных потерях, связанных
с пьянством, наркоманией, бездельем, ранней усталостью
и другими "странностями"... История, статистика - русская и мировая - свидетельствуют: тысячи, миллионы рассуждающих
и не очень покорных безусловно лучше, чем то же число не рассуждающих, только исполняющих...» [27]
Вот почему столь важным для страны оказалось «перестроечное» пробуждение. Не вдаваясь здесь в политическую
оценку тех сложных и неоднозначных процессов, которые про-
исходили с середины 80-х годов, подчеркнем их несомненную
благотворность для духовной жизни. Публицистический бум,
нараставший к концу этого десятилетия и ознаменованный
миллионными тиражами литературных журналов, дал повод
увидеть здесь симптомы «второй оттепели». Параллели действительно имели место: о них свидетельствовал выход в свет
залежавшейся подзапретной продукции - будь то роман
А. Рыбакова «Дети Арбата» или галерея так называемых «полковых» (то есть положенных на полку до лучших времен) кинофильмов. Но были и отличия: перестройка побудила к более
последовательному критическому анализу собственной истории. И если «дети X X съезда», осуждавшие культ личности Сталина, были одновременно «внуками 1917-го года», а героем
пьес М. Шатрова выступал освобожденный от позолоты, но все
же романтизированный Ленин, то в новые времена дело не ограничивалось антисталинизмом: критические взоры устремились именно к 1917 году. Приметой эпохи стала в этом смысле
публикация эпопеи А. Солженицына «Красное колесо».
В собственно же художественной сфере шли процессы
реабилитации и возрождения. Наконец-то возвращался из забвения Серебряный век - теперь уже полностью: серийные издания знакомили читателей с наследием выдающихся русских
поэтов и философов, снятие «железного занавеса» открыло
целый материк - культуру русского зарубежья. Все это стремительно поднимало планку художественного мастерства2.
Соответствующие примеры демонстрировала и музыка: лишь теперь оказалось возможным исполнить «Реквием»
Б. Тищенко по знаменитой поэме А. Ахматовой, созданный композитором еще в 60-е годы; вышла из андеграунда опера
С. Слонимского «Мастер и Маргарита», в «застойное» время
подвергшаяся идеологическому разносу. Вместе с тем реабилитационный бум в сфере композиторского творчества не был
столь уж значительным. Не был значительным постольку,
поскольку меньше здесь было и потерь - сравнительно с литературой. Спасительная абстрактность и автономность языка
музыки делали ее менее подверженной влиянию спорадических смен политического курса. Отсюда и сравнительная цельность описываемого периода, несмотря на все бури и коллизии «перестройки». Таким, во всяком случае, он видится сквозь
«музыкальную оптику». Давала о себе знать и перманентность
опыта «шестидесятников»: в сфере музыкального творчества
2. О процессах, связанных с перестройкой, см. также в главах,
посвященных постсоветскому периоду.
идеологические заслоны не слишком воспрепятствовали его
дальнейшему развитию.
Вообще период «застоя», если рассматривать его
в более широком ракурсе, отнюдь не сводился к этому понятию. Культурные характеристики эпох далеко не всегда соответствуют их политическому статусу. Это касается и описываемого времени, при всех его духовно-нравственных потерях.
К. Кедров в некрологе, посвященном Ю. М. Лотману, говоря
о выдающихся достижениях тартуской филологической школы,
резонно заметил, что застой царил тогда разве что в головах
правящих чиновников. А И. Иртеньев написал и вовсе скептические строки: «Не говори мне про застой, / Про то, что Брежнев в нем виновен, / А я-то думал, что Бетховен / Иль в крайнем
случае - Толстой»...
Как бы то ни было, и в жизни искусства, и в разных
областях гуманитарного знания 7 0 - 8 0 - е годы явили весьма
плодотворный период. Это стало особенно ясно в последующее
время, принесшее с собой, наряду с приобретениями,
чувство утраты. Как писал в середине 90-х годов А. Шпагин,
«мы, несмотря ни на что, имели в 70-80-е годы уникальную
российскую культуру (курсив мой. - Т. Л.), породившую едва
ли не лучшие произведения советского искусства X X века произведения, освобожденные от искренней "совковости", присущей ему в предыдущие десятилетия, и уже преисполненные
той духовной свободы, что будет определять десятилетия
последующие. Именно в годы "застоя" создали лучшие свои
произведения А. Тарковский, А. Шнитке, М. Жванецкий,
В. Шукшин, А. Битов, А. Эфрос, Н. Михалков, Ю. Любимов,
М. Захаров, Э. Рязанов, А. Вознесенский, В. Мережко, Ф. Искандер, Ю. Норштейн и многие-многие другие» [26].
Тот же автор утверждает, что в 80-е годы создавались
лучшие музыкальные произведения века; с ним солидарен
Г. Померанц, полагающий, что именно в области музыки
отечественная культура продемонстрировала тогда свои самые
высокие достижения. В этих оценках немало справедливого.
Возможно, сказалась упомянутая автономия данного вида искусства, а кроме того - его предрасположенность к сублимирующему, интуитивно-обобщающему модусу мышления, чрезвычайно востребованному в те годы. При этом относительная
стабильность внешнего бытия скорее способствовала адекватному выражению глубинных тенденций музыкального творчества. Нарушить эту органику смогли лишь геополитические потрясения 1991 года - распад СССР, новая волна эмиграции. Но
об этом - в других разделах книги.
Рассмотрим же внимательнее названный период
и выясним, в чем заключались его типологические особенности. Думается, они проявятся ярче, если соотнести это время
с предыдущим, а именно — с 60-ми годами 3 .
С одной стороны, очевидной была преемственность
десятилетий — тем более что, как уже указывалось, резкой границы между ними не возникло. Взаимосвязи эпох способствовала и принадлежность их биографии одного композиторского поколения: кроме того, что в 70-е годы продолжали творить
Д. Шостакович и Г. Свиридов, Б. Чайковский и А. Эшпай, зенита зрелости достигают в это время А. Шнитке и Р. Щедрин,
Э. Денисов и С. Губайдулина, Ю. Буцко и Н. Сидельников,
Б. Тищенко и С. Слонимский, Г. Банщиков и А. Кнайфель,
А. Петров и В. Гаврилин, Г. Канчели и А. Тертерян, В. Сильвестров и А. Пярт - все те, чья творческая молодость совпала
с 60-ми годами. Импульсы обновления, заданные «оттепелью»,
сохранили и дальше свою силу. Если «материальным» наследием 60-х годов явился расширившийся языковой фонд искусства, то духовным наследием стала свобода.самовыражения,
с трудом завоеванный внедогматический подход к проблемам
творчества. Неудивительно поэтому, что даже и в позднейших
исследованиях 60-е годы еще долго расценивались как живая,
неуходящая современность 4 .
Однако преемственность эпох все же не могла заслонить ощущения возникшего рубежа. Можно по-разному называть происходившее в 70-е годы - сменой культурной парадигмы, колебанием эстетического маятника. Но как бы то ни
было, изменения оказались достаточно глубокими. Диалог десятилетий звучал, правда, не на столь «высоких нотах», как это
было в 50-е годы, с наступлением «оттепели». Но многие принципы и художественные установки сменились в итоге на прямо
противоположные, явив коренной пересмотр эстетики предыдущего периода. Изменения произошли не только в музыке, но
и в культуре в целом. Соответственно и мы в последующем
рассмотрении будем апеллировать к тенденциям более широкого порядка, не ограничиваясь рамками композиторского
творчества.
3. Нам уже приходилось проводить это сравнение в 80-е гг., «изнутри» рассматриваемой эпохи [4]; полагаем, что многие наблюдения,
сделанные тогда, сохраняют свою силу и сейчас, когда есть возможность взглянуть на нее «извне». См. также на эту тему статьи Е. Долинской [2], Н. Шантырь [23] и др. авторов.
4. См., например, статьи В. Холоповой и М. Тараканова в кн. «Проблемы традиций и новаторства в современной музыке» [14].
К
% р
Если представить себе диалог 60-х и 70-х годов в виде
схемы, то получится выразительный ряд антитез. 60-е годы, как
социально активная эпоха, демонстрировали острое чувство настоящего момента, дух публицистичности, сиюминутность отклика, «фотографическую» конкретность факта. 70-е же, как
эпоха рефлектирующая, вызвали к жизни чувство памяти, потребность в связи времен. Аналогичным образом дух познания
мира, экстравертный характер художественных интересов сменился духом самопознания, интровертностью мышления. Установка на авангард была скорректирована пиететом к традиции,
а культ рацио уступил место возрожденному авторитету интуитивного начала.
Надо заметить, что эти антитезы отражали смену культурной ситуации в мировом масштабе. Не только у нас, но и на
Западе 70-е годы несли с собой похмелье после пика социальной активности (выраженной, в частности, молодежным движением 1968 года). Это сказалось в существенных изменениях
общественной психологии. Ее приметой стала реакция на недавнюю свободу общественных норм, угрожающую распадом
семьи; реакция выразилась в стремлении к почве, к традициям, к корням. Точно так же бунт против академизма стал вытесняться культом незыблемых ценностей. Новое время принесло
с собой сознание угрозы индустриального бума и разрушения
природной среды (движение «зеленых»). На смену прежним
настроениям пришло стремление погрузиться в патриархальную неподвижность. Эти тенденции означали наступление неоконсерватизма, который утвердился в 80-е годы, став предметом социокультурных наблюдений и обобщений.
Но вернемся к отечественным реалиям и попытаемся подробнее описать происходивший диалог десятилетий.
В 60-е годы большой успех выпал на долю «искусства факта»,
произведений, отмеченных открытой публицистичностью и документальностью. Искусство же 70-х, сохранив в общем эти
черты, делало акцент на «вечных вопросах», его интересовало
общечеловеческое, надвременное. Соответственно «хроникальная» конкретность уступала место более емкому, многомерному высказыванию, порой с элементами притчи или мифа.
Иллюстрацией может служить отечественный роман тех лет,
в котором заметно стремление расценивать конкретный
жизненный факт в свете исторического и даже космического
времени, используя поэтику легенды5. Это стремление к уни5. Наиболее характерный пример - роман 4. Айтматова «И дольше
века длится день», само название которого предельно точно фикси-
ш
ш
версальности, к раздвижению пространственно-временных
границ повествования заметно было и в музыке. Аналогом
романа здесь оказалась симфония с ее наибольшей предрасположенностью к смысловым обобщениям. Весьма примечательным в этом плане может быть сравнение Первой и Второй
симфоний А. Шнитке.
Первая создавалась на исходе 60-х годов и явилась
своего рода документом времени. Симфония возникла на материале музыки к фильму М. Ромма «Мир сегодня», и этот сегодняшний мир она отразила с достоверностью кинохроники.
Потому-то так много в ней цитат, квазицитат, хорошо известных или неуловимо знакомых мелодий, сталкивающихся по
методу коллажа и производящих впечатление «необработанных», как бы непосредственно схваченных кинокамерой жизненных реалий. Советские массовые песни, джаз, обрывки классической музыки, неотвратимо вовлекаемой в водоворот
всеобщей коммуникации и стереотипизации, — все это сплетается здесь, имитируя атмосферу «сегодняшнего мира», хаотически пеструю и парадоксальную. Стилистический, точнее, полистилистический радикализм Первой симфонии Шнитке
явился, по-видимому, главной причиной споров вокруг нее6.
Совсем иначе, в сравнении с Первой, задумана Вторая симфония, созданная десять лет спустя (напомним, что
симфония была написана в 1980 году; ее название - «Сан-Флориан» - отсылает к А. Брукнеру: произведение навеяно посещением Шнитке знаменитого монастыря, где в течение десяти
лет жил и работал Брукнер). Ничего от документальности и
хроникальное™ предыдущего симфонического опуса здесь нет.
Это симфония-месса, где композитор использовал освященный
вековой традицией канонический текст старинной литургии. Тема
добра и зла, сквозная в творчестве Шнитке, приобретает от этого максимально обобщенный, надвременной смысл, выражаясь
в символах распятия, шествия на Голгофу, воскресения. В симфонии использованы подлинные напевы григорианских хоралов, но они выступают в совершенно иной роли, нежели
рует отношение автора к художественному времени своего произведения. Острые нравственные проблемы, поставленные в романе
на материале современной - начиная с 1950-х гг. - советской действительности, с одной стороны, уходят корнями в далекое прошлое,
в народные легенды и мифы, а с другой - восходят к столь же отдаленному будущему, к эпохе межпланетных контактов и открытия внеземных цивилизаций. Отсюда — жанровая трехмерность романа,
в условиях которой приобретает особую объемность его главная
идея — идея братства людей перед лицом мировой катастрофы.
6. См.: Обсуждаем симфонию А. Шнитке [9].
пестрый цитатный материал Первой симфонии. Не сумятица
сегодняшнего дня, а дыхание вечного слышится в этом произведении. При всем том образный строй симфонии-мессы, особенно ее оркестровой части, вполне современен (как и в «Симфонии псалмов» И. Стравинского, импульсивное звучание
оркестра дает ощущение «здесь и сейчас», хор же словно выступает от лица Вечности). И целью автора была не реставрация прошлого, но сближение отдаленных эпох под знаком
общих этических проблем. Вспоминается стихотворение Г. Гессе в романе «Игра в бисер», вложенное в уста главного героя:
Удел наш - музыке людских творений
И музыке миров внимать безмолвно,
Сзывать умы далеких поколений
Для братской трапезы духовной.
Как видим, две симфонии Шнитке весьма несхожи
между собой. В несходстве этих сочинений, обрамляющих
70-е годы, — симптом тех изменений, которые произошли в искусстве за этот участок времени. Забегая вперед, отметим, что
последующие симфонические, а также хоровые сочинения
Шнитке, вновь возвращающие нас к мифу и к «музыке людских
творений», подтверждают факт такой эволюции.
Вообще же традиция обращения к древнему жанру
и древнему ритуальному тексту дала о себе знать в творчестве
разных авторов. Во многом она была стимулирована новой
сакральностью — движением, набравшим силу в конце 80-х 90-е годы. Празднование 1000-летия Крещения Руси и снятие
официальных запретов на религию спровоцировало целый
религиозный бум. Отсюда - всплеск хорового творчества
и прямое введение в сочинения сакрального слова. Однако
и в 70-е годы жажда абсолютных критериев и поиски истинных, не предписанных сверху духовных устоев подспудно
приводили к сакрализации творческих замыслов. Нередко это
проявлялось в скрытых программах и подзаголовках инструментальных сочинений, которые, как правило, опускались
в официальных нотных изданиях. Так, «Семь слое» С. Губайдулиной фигурировали как Партита для виолончели, баяна и камерного оркестра, а Три композиции Г. Уствольской, снабженные эпиграфами Dona nobispacem, Dies irae и Benedictus qui venit,
сохраняли в своих названиях лишь соответствующую нумерацию. Впрочем, в этих и подобных случаях вынужденная иносказательность оборачивалась плюсом: кроме того, что сам
программный замысел рождался тогда из сугубо внутренних,
далеких от всякого официоза побуждений, его воплощение
отличалось повышенной метафоричностью и образной многомерностью.
Что же касается озвученного религиозного слова,
то оно нуждалось в определенных эвфемизмах, запрятанное,
в частности, в формы театрально-прикладной музыки. Таковы,
например, знаменитые хоры Г. Свиридова к драме А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» или «Реквием» А. Шнитке, анонсированный как музыка к спектаклю «Дон Карлос»,
О жанре реквиема стоит сказать особо. Соединяя
в себе культовое и мемориальное начала, этот жанр обладает
наибольшей глубиной музыкальной памяти. Неслучаен интерес к нему композиторов тех лет, который вряд ли можно объяснить исключительно модой. Не только в музыке, но и в поэзии
того времени «лирическое соло» зачастую сопровождает, как
писала И. Роднянская, «неслышный хор отошедших... Уж так
складывалась в нашем веке отечественная история, что фактически мы имеем дело с первым поколением поэтов, в чьей судьбе естественный порядок взял свое: они чаще провожают и
оплакивают старших, чем старшие их. Им дано столкнуться не
с внезапной катастрофой, а с неизбежной тайной смерти» [15].
Также и композиторы: попытка осознать смерть как неизбежность (она отмечалась уже у «позднего» Шостаковича с его квартетами и Четырнадцатой симфонией) побуждала обращаться
к древней, наиболее емкой и универсальной модели жанра.
Отсюда - использование канонических латинских текстов
в реквиемах А. Караманова, А. Шнитке, С. Беринского,
Э. Денисова, В. Артёмова и других авторов (в отличие, например, от созданного ранее Реквиема Д. Кабалевского, выдержанного, вслед за стихами Р. Рождественского, в духе антивоенной
публицистики).
Неслучайным было и увлечение собственно жанром
мемориала. Этот жанр стал весьма актуальным во второй половине X X столетия, что отчасти было вызвано событиями недавней войны. Но, как и в случае с реквиемом, общечеловеческие мотивы здесь все больше теснили собой мотивы
социальные. Согласно «естественному порядку», импульсом
служила просто скорбь по близкому человеку, любовь к «ушедшим старшим». Такова, например. Пятая симфония Г. Канчели,
посвященная памяти родителей. С другой стороны, композиторов вдохновляли образы великих художников, чей уход
из жизни воспринимался как некое духовное завещание.
Неслучайно столь востребованным оказывается поздний
И. Стравинский с его склонностью к сочинениям in memoriam.
А позже уже сам Стравинский становится героем мемориалов -
как, например, в «Канонах» А. Шнитке и Э. Денисова. Упомянем,
кроме того, мемориальные опусы С. Слонимского, А. Вустина,
Ф. Караева, С. Беринского и др. С середины 70-х годов создавался коллективный музыкальный «венок» Шостаковичу,
в котором выделялась масштабная Пятая симфония Б. Тищенко.
Такая распространенность жанра отчасти была связана с интересом к теме творчества и творческой личности - интересом, который сам по себе весьма показателен для описываемого времени. Тема художника становится для многих
приоритетной — будь то знаменитые живописцы, скульпторы
или поэты (назовем оперы «Письма Ван Гога» Г. Фрида и «Из писем
художника» Ю. Буцко; «ФрескиДионисия» Р. Щедрина, «Пиросмани» С. Насидзе; «Сюиту-Микеланджело» Шостаковича, *Романсеро о любви и смерти» на слова Г. Лорки Н. Сидельникова).
Естественны и акты поклонения музыкантам. На этом пути возникает еще один примечательный жанр — музыкального приношения.
Идею музыкальных приношений композиторы непосредственно восприняли от И. С. Баха, от его знаменитого
Musikalisches Opfer, где использована тема короля Фридриха II
Великого. Прямое свидетельство тому - Концерт для скрипки
с оркестром С. Губайдулиной, написанный на ту же самую тему.
Тема эта, однако, обрастает здесь новыми историческими смыслами: она выступает не только символом баховского изощренного конструктивизма, но и носителем пуантилистической техники А. Веберна, создавшего в свое время оркестровую
транскрипцию Ричеркара из названного опуса. Сочинение
названо Offertorium, и такое уподобление инструментального
произведения части мессы усиливает сакральный слой его содержания: музыкальное приношение становится жертвоприношением - в том глубинном религиозно-философском
смысле, какое придавали ему отечественные художники 7 0 80-х годов (например, А. Тарковский).
К Баху обращался и Р. Щедрин, причем в разных ипостасях великого мастера. Если «Музыка для города Кётена»
воспроизводила оживленную атмосферу Бранденбургских
концертов, то «Музыкальное приношение» для органа и ансамбля
духовых, с его внушительной протяженностью и символической многоплановостью, призвано было воплотить более сокровенную приверженность автора Баху и баховскому наследию.
Акт приношения или посвящения не всегда выносился
авторами в заглавие произведений: о нем могла свидетельствовать просто цитата или скрытая программа. При этом спектр
адресатов явно расширялся. Хотя фигура Баха сохраняла
г" v '
лидирующие позиции — как воплощение некоего универсума
(отсюда — всепроникающая символика баховского имени, монограммы ВАСИ), интересы композиторов охватывали все
больший временной диапазон. С одной стороны, их влекли
к себе Моцарт, Брамс, Малер, с другой - добарочные стили.
Последнее показательно, например, для А. Пярта. Если раньше
он предпочитал барочную модель, а взаимодействие с ней носило напряженно-конфликтный характер (как в «Коллаже на
тему ВАСН» или Концерте «Pro et contra»), то в 70-е годы предметом его внимания становится полифония Ars nova. При этом
зарождающийся новый стиль, названный Пяртом tintinnabuli,
исключал какую-либо конфликтность; его статически-созерцательный дух свидетельствовал о полном вживании в новую
звуковую реальность.
Впрочем, о стилистических процессах, происходивших
в композиторском творчестве 7 0 - 8 0 - х годов, будет сказано
позже. Здесь же еще раз подчеркнем ключевое для тех лет чувство памяти, значительно расширившее жанровые и языковые
ресурсы музыкального высказывания: реквиемы, мемориалы,
многообразные «приношения» и «посвящения» это лишний раз
подтверждают. Конечно, ретроспекции не были новостью
в искусстве X X столетия, диалог с прошлым уже не раз становился основой так называемых «рефлексивных стилей» (по
В. Медушевскому), многочисленных «нео...». Идея диалога
сохранялась и теперь, подчас переплетаясь с постмодернистской версией стилевой игры. Но тон его отнюдь не обязательно
предполагал ироническую дистанцию между сегодняшним и
вчерашним. Напротив, прошедшему воздавалась благодарная
дань памяти, оно становилось предметом скрытой или явной
ностальгии. Отсюда элегический строй многих опусов. Конечно, он не исключал драматизма и конфликтов, как это имеет
место во многих сочинениях Шнитке или в упомянутой Пятой
симфонии Канчели: здесь сказался опыт коллажных композиций 60-х годов, где в резких столкновениях классических цитат
с современной стилистикой рождалась концепция утраченной
гармонии. Однако с годами тон высказывания становился
все более личностным, интроспективным; контрасты словно
переплавлялись в единую авторскую речь, и это вносило коррективы в диалог времен, устраняя прежний барьер между
новым и старым.
Такого рода процесс заслуживает внимания и сам по
себе: в нем сказывался интровертный дух нового времени, потребность в самоуглублении. Еще в 60-е годы А. Вознесенский
воззвал: «Тишины хочу, тишины!» И если воззвание это прозвучало тогда слишком громко, чтобы до конца ему поверить
(так воспринимается экспрессивная декламация Вознесенского в исполнении последней части «Поэтории» Щедрина), то все
же оно оказалось симптоматичным: в 70-е годы на смену «громкой» поэзии пришла поэзия «тихая». Эта поэзия не рвалась на
большую эстраду, она не демонстрировала своей актуальности или языковой экстраординарности (ибо «громогласно заявляемая приверженность к своему цеховому знамени давно
уже стала одним из признаков авангардного стиля» - 15, 237).
Ее характерной приметой была способность жить сразу во многих временах, стягивать мир «в один пучок связей со своим особенным личным центром» [15, 229]. Как писали критики, в ней
«жажда абсолютных мерок, стремление ввысь преобладает над
чувством пути» [15, 237].
Эти характеристики приложимы к довольно широкому кругу явлений. Самопогруженность, смещение акцентов
с «вовне» на «вовнутрь» формировали новый модус чувствования. Правда, такой «уход в себя» был чреват известными
потерями. Например, утрачивался, уходил в прошлое компанейский, общенческий дух бардовской песни 60-х годов, выраженный призывом Б. Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья!». В 70-е годы ответом на него звучала сентенция другого
барда, А. Дольского: «Но одиночество прекрасней». Однако
в таком повороте к индивидуально-личностному заключалась
и некая позитивная сторона: он нес с собой ресурсы углубленного, по-новому детализированного и психологически обогащенного высказывания.
В композиторском творчестве указанную эволюцию
можно проследить на примере жанра concerto grosso. Этот
жанр, заимствованный из эпохи барокко, приобрел в годы «оттепели» беспрецедентную популярность. Очевидно, духу того
времени весьма созвучны были его коренные признаки — радость коллективного музицирования, «дружная совместность
интересов» (Б. Асафьев). Неслучаен обильный урожай концертов для оркестра, демонстрированный сочинениями Р. Щедрина, С. Слонимского, А. Эшпая, М. Скорика, Я. Ряэтса, Э. Тамберга и других авторов. Однако довольно скоро упомянутые
установки перестали быть самодостаточными. В 70-е годы появляются Концерт для флейты, фортепиано и камерного оркестра Б. Тищенко и Первый concerto grosso А. Шнитке, явившие опыт
психологизации жанра. Оба сочинения вполне концертны,
но концертность несет здесь некий глубинный философский
подтекст; игра подчинена драме, азарт состязания перекрыва-
ется авторским монологом. Разумеется, такие примеры не означали, что самодовлеющее «игровое» музицирование уже
ничего не может дать современному слушателю. Но все же оно
испытывало определенный кризис, а потому появление на свет
упомянутых сочинений оказалось весьма симптоматичным.
Монологизация форм высказывания вообще стала характерной приметой времени - касалось ли дело концерта,
симфонии или камерного ансамбля. Потребность в лирическом самовыражении издавна отличала музыку как вид искусства. Однако в авангардные периоды монополия лирики
оказывалась слегка поколебленной. 70-е годы сигнализировали ее возвращение. Обозреватели композиторских пленумов и
фестивалей резонно отмечали возросшую роль в новых сочинениях «прямой речи» от автора, а также роль тихих прологов,
тихих окончаний и даже тихих кульминаций7. Все это свидетельствовало о повороте к интроспекции, к романтической
Innerlichkeit. Если добавить к этому соответствующие жанровые
и стилистические ориентиры, то мы получим достаточно
убедительную картину отечественного музыкального неоромантизма.
О неоромантической тенденции в новой музыке начали писать уже с середины 70-х годов 8 . Практика последующих
лет умножила случаи обращения композиторов в романтическую веру, о чем говорят уже сами названия опусов: «Романтическая музыка» Р. Щедрина, «Exanimo» и «Романтические послания» В. Шутя, «Musica lyrica» С. Слонимского, «Час души»
С. Губайдулиной... Трудно с точностью определить границы действия этой тенденции. Интровертный характер художественных
интересов, свойственный описываемой эпохе в целом, по-видимому, в нее не укладывался 9 . И все же степень ее распространенности, а также многообразие форм проявлений были
7. М. Скребкова-Филатова в статье «Поиски нового синтеза» называет в этой связи ряд сочинений, исполнявшихся на Втором фестивале «Московская осень»: Вторую симфонию Р. Габичвадзе, Концерт
для фагота с оркестром Б. Чайковского, Сонату для скрипки соло
М. Вайнберга [19]; перечень таких сочинений, безусловно, можно
было бы продолжить, обратившись к программам других фестивалей.
8. См., например, статью С. Слонимского «Заметки композитора о
современной советской музыке» [20].
9. В этом смысле представляются чрезмерно расширительными толкования нового романтизма (и романтизма вообще), предложенные
Л. Никитиной [7] и некоторыми авторами сборника «Музыкальный
мир романтизма: от прошлого к будущему» [6].
таковы, что имелись все основания говорить о чем-то большем,
нежели просто очередной «изм», — о своего рода художественном умонастроении.
К романтизму повернули тогда многие композиторы,
в том числе и те, кто до сих пор исповедовал совершенно иные
эстетико-стилистические принципы. Так, Р. Щедрин от эксцентриады и юмора «Озорных частушек», от рационализма полифонических циклов, от плакатной публицистики «Поэтории»
пришел к лиризму «Анны Карениной», Третьего фортепианного
концерта, «Чайки» и «Дамы с собачкой». В двух из названных
сочинений использована музыка Чайковского. Критики с полным основанием отмечали серьезность, глубину, драматический накал написанных в новом стиле произведений. Правда,
это не означало, что в свете новой содержательности померкла
дерзкая эксцентрика и живописность щедринских опусов
50-60-х годов. К тому же новый романтизм не исчерпывал всех
композиторских склонностей Щедрина, среди которых продолжала давать о себе знать сфера острохарактерного и метод
работы с моделью. И все же лирико-экспрессивная, психологизирующая струя оказалась принципиально важной для ряда сочинений Щедрина 70~80-х годов, прежде всего - «Анны Карениной» и двух «чеховских» балетов.
Но альянс «Щедрин - Чайковский» был далеко не
единственным в своем роде примером. Дух великих романтиков воскресал в творчестве самых разных авторов, материализуясь в разного рода цитатах, аллюзиях и посвящениях (здесь
мы вновь возвращаемся к затронутой выше теме памяти). Если
в одних случаях образ романтической музыки представал
в обобщенном виде (например, через «скрипичную идиллию
XIX века» - как в пьесе В. Мартынова «Войдите!» для скрипки,
струнного оркестра и челесты, 1985 10 ), то в других отсылки
к ней несли на себе печать «избирательного сродства». Таково,
в частности, «шубертианство» Э. Денисова. Явно тяготевший
к Шуберту, совершивший реконструкцию его неоконченной
оперы («Лазарь, или Торжество Воскрешения»), композитор неоднократно вводил шубертовские цитаты в окончание своих
произведений (таков Скрипичный концерт, с его, по словам
автора, «большим и непрерывным адажио», а также Альтовый,
где цитируется Экспромт Шуберта As-dur, ор. 142).
К Брамсу и Вагнеру, в созвучии со своей германской
генетикой, обращался А. Шнитке. Первый угадывается в характере и интонационном строе Трио-сонаты, в зовах валторн
10. См. о ней в статье М. Катунян [3].
Четвертого скрипичного концерта (где почти цитатно воспроизводится фрагмент медленной части брамсовской Четвертой
симфонии). Величественная тень второго оживает в Третьей
симфонии, сотканной из множества монограмм австро-немецких композиторов и одновременно как бы воссоздающей концепцию «Кольца Нибелунгов» - одну из значительнейших музыкально-философских концепций позднего романтизма.
Но подлинным кумиром и властителем дум новых романтиков был, безусловно, Малер с его остротой жизневосприятия и стилевой квазиэклектикой, близко подводящей к современной полистилистике. Наряду с другими композиторами
(среди различных образцов «малерьянства» назовем Первую
симфонию И. Барданашвили с цитатой из Пятой симфонии),
активную дань Малеру отдавал тот же Шнитке. В его Третьем
скрипичном концерте чисто романтическим символом утраченных иллюзий звучит финальная тема «золотого хода» - ностальгический дуэт двух кларнетов. Тема эта будит в сознании
слушателей целый спой ассоциаций, от венских классиков до
Малера. Собственно же «малеровским посланием» Шнитке явилась его Пятая симфония, где процитирован неоконченный
юношеский опус австрийского музыканта — его Фортепианный
квинтет. При этом тема Малера трактуется как «разгадываемая
энигма» [11]: до своего прямого появления в конце
II части она скрыта в недрах оркестровой фактуры, вступая
в сложные отношения с контекстом.
Очевидна трагическая окрашенность подобных реминисценций романтической музыки. Чувство ностальгии,
присущее подчас самому оригиналу, у современных авторов
усиливается, приобретая едва ли не вселенский масштаб. Как
пишет Г. Григорьева, «извечный романтический мотив тоски,
томления, рассеявшихся иллюзий теперь спроецирован не
столько на личные мотивы, сколько на осознание невозвратимости вечных ценностей, утраченных в трагических
коллизиях X X века» [1].
Однако новый романтизм не сводился к реминисценциям музыки конкретных авторов. Сам образ мира, каким он
сложился в 7 0 - 8 0 - е годы, вызывал определенные аналогии
с той эпохой (включая ее позднюю, символистскую фазу).
Общим явилось отношение к искусству как к своего рода религиозному акту, отказ от апологии настоящего момента и выход
во вневременное, уход в бесконечность сферы (вместо векторного ощущения пространства), возрождение эстетики «звучащей ауры». Последнее особенно характерно для В. Сильвестрова с его принципом «иконной композиции», близкой
скрябинскому пониманию формы как шара, а также оркестровыми эффектами колышущихся теней, вибраций, фактурнотембровых отзвуков-«дуновений».
В творчестве Сильвестрова новый романтизм вообще
проявил себя на редкость органично и разносторонне - очевидно, совпав с его композиторской природой. Здесь сказалась,
среди прочего, полярность романтического чувствования,
интерес к микро- и макрокосмосу человеческой души. С одной
стороны, слушателю открывался простой, «домашний» романтизм «Тихих песен», с другой - бездны «космических пасторалей» (как сам автор называл свои оркестровые опусы), внушающие мысль о безграничности мироздания и отсылающие нас
к романтической утопии Всеединства.
Неоромантизм привнес в музыку некоторые общие
эстетико-стилевые приметы и ориентиры. Так, исчезала,
уходила в прошлое идиосинкразия к программности, спровоцированная в 60-е годы отторжением от соцреалистических
программных установок: подзаголовки, эпиграфы, озвученные
или неозвученные слова, вставленные в нотный текст, вновь
становятся «хорошим тоном», а точнее - намекают на тот
внемузыкальный слой содержания, который еще недавно
отрицался блюстителями «самодостаточности» музыкального
высказывания. У целого ряда композиторов обнаружился
интерес к поэмной одночастности, к сквозной форме монологического типа. В такой форме писалось в 70-80-е годы большинство сочинений симфонического жанра: симфонии Сильвестрова, Канчели, Тертеряна, Эшпая, Б. Чайковского и др.
Романтизируется и интонационный строй: возрождается принцип «бесконечной мелодии», принцип плавности и непрерывности; полутоновые опевания, характерные «лирические
сексты» окрашиваются семантикой томления, lamento, романтического Sehnsucht (примеры находим в Третьем фортепианном концерте Щедрина, Пятой симфонии Канчели, «Саде радости и печали» Губайдулиной, Китч-музыке Сильвестрова
и во многих других сочинениях).
Впрочем, не все из описанных стилевых явлений
сводились к романтической традиции. Не исчерпывалось ею
и такое качество новой лирики, как ее медитативный характер.
Сочинения подобного рода отличались повышенной самоконцентрацией, глубокой опосредованностью событийного
ряда (если слово «событийность» вообще применимо в данном случае). Им не свойственны были эмоциональные взрывы, резкие контрасты состояний. Эта музыка не возбуждала
каких-либо моторно-зрительных ассоциаций, она предполагала предельную степень сосредоточения на микродеталях звукового процесса. Такой способ самовыражения отчасти присущ
был уже позднему квартетному стилю Шостаковича; особенно
показателен в этом плане Пятнадцатый квартет, квартетмедитация, состоящий из шести следующих друг за другом
адажио. Думается, здесь дал о себе знать не только феномен
позднего периода творчества: способность чутко реагировать
на флюиды времени всегда была присуща этому композитору.
Природа новой медитативной лирики, в чем-то соприкасаясь с романтической традицией, обнаруживала вместе
с тем и другие истоки. Так, уже шла речь о стиле tintinnabuli
А. Пярта, чей религиозно-созерцательный характер во многом
определялся его генезисом - музыкой Ars nova. В противоположность староевропейским корням стиля Пярта, симфоническое творчество А. Тертеряна демонстрировало восточную
разновидность музыкального медитирования. Композитор использовал в своих рассуждениях понятие нулевого времени,
времени, отрешающего от суеты. «Нулевое время» он связывал
с «армянским взглядом на мир», который формируется
в окружении горных иссушенных солнцем скал, возвышающихся над человеком. Это невольно поднимающийся, устремляющийся вверх - вертикальный взгляд. Своеобразной проекцией такого взгляда композитор считал характер звукоизвлечения
на восточных народных инструментах, в частности искусство
выдерживания непрерывного звука на дудуке: лучшие мастера
игры на нем способны протягивать звук «до бесконечности».
Именно в подобном роде использован дудук в медленной части Третьей симфонии А.Тертеряна. В этой симфонии,
в отличие от Пятой, принцип медитации не является всеобъемлющим, но бесспорна его роль в лирических эпизодах, а также
участие в общей драматургической концепции сочинения
(в финале одинокому дудуку противостоит «толпа» - неистовая оргия ударных с зурной и глиссандирующими медными
инструментами).
Несколько отлично от «нулевого времени» Тертеряна
застывание времени у В. Сильвестрова. Феномен «застывающего времени» связан у него с техникой постлюдирования
(увлечение композитора жанром постлюдии говорит само за
себя). Для этой техники характерны статическое последействие,
особый тип «бесконечной мелодии», логика торможенияdecrescendo, кодовая семантика интонационного строя.
Все это - признаки отказа от «активизма», от дублирования
драмы жизни - отказа вполне сознательного. По убеждению
автора (высказываемому им в беседах и интервью), активизм
в X X веке принес с собой немало разрушительного. Иконоборческие тенденции авангарда 5 0 - 6 0 - х годов, слишком
акцентировавшие расщепленность, атомизированность современного сознания, были исторически объяснимы (как пример
таковых в собственном творчестве композитор приводил свою
Третью симфонию, носящую название «Эсхатофония»), но таили в себе опасность. Этой опасности и должны противостоять
поиски новой целостности, единства. Сам Сильвестров особые
надежды в этом плане связывал с возрождением в музыке мелодического начала. Непрерывность песенно-мелодического
тока как способ обрести внутреннюю душевную цельность
дала о себе знать не только в его песенных циклах, но и в масштабных оркестровых композициях - таких, например, как
Пятая симфония11.
Итак, в отечественной музыке 7 0 - 8 0 - х годов происходило значительное смещение акцентов, связанное с углубившимся чувством памяти, усиливающейся интроспекцией, новым
ощущением музыкального времени. Эти изменения не могли
не повлечь за собой пересмотра некоторых важнейших категорий творчества - имеем в виду прежде всего категорию новизны и соотношение рационального начала с интуитивным.
Такой пересмотр состоялся, и он оказался довольно серьезным - несмотря на «мирный» характер смены эпох. В музыке
60-х годов, особенно той, что репрезентировала собой новые
направления, многое определялось культом объективного,
логически обусловленного начала. Точный расчет, строгая
техника (напомним о сугубом интересе к нововенской школе
и о широком обращении композиторов к додекафонии) были
во многом реакцией на бездумную музыку романтических эпигонов, в пору господства соцреалистической эстетики наводнявшую собой эфир и концертные залы. Имел значение и авторитет
композиторов-неоклассиков (И. Стравинский, П. Хиндемит).
Рационализм в искусстве 60-х годов был неотделим от общей
атмосферы тех лет, от пиетета к точному знанию, к людям
науки, к «физикам».
Позже очевидными стали издержки этого научного
позитивизма, равно как и бессмысленность известного спора
между «физиками» и «лириками». Возродилось уважение
к интуиции, о чем свидетельствовали различные публикации
11. О Пярте, Тертеряне, Сильвестрове и др. композиторах подробнее
см. в соответствующих монографических главах книги.
тех лет. Симптоматично, что о великой роли интуиции в научном знании и в искусстве первыми заговорили «физики»12. «Лирики» же, художники, склонны стали напоминать о подсознательных аспектах творческого замысла, не сводимого ни
к технологии, ни к одной лишь «рациональной концепции общепоэтического, общефилософского порядка» (об этом писал
А. Шнитке в статье «На пути к воплощению новой идеи» - 14).
Аналогичным образом оказался развенчанным еще
один фетиш - безотносительная ценность нового художественного приема как такового. В 60-е годы, характеризующиеся
активностью поисков и духом экспериментаторства, потребность в обновлении языка искусства была приоритетной. В результате применение композитором какого-либо необычного,
экстраординарного средства порой рассматривалось как гарантия художественной ценности произведения. Иные критерии
вступили в силу в последующие десятилетия. В это время
слушателя уже трудно было удивить ультрановым способом
звукоизвлечения или каким-либо фактурно-гармоническим
приемом. Завершился ли, на определенном этапе развития,
процесс накопления языковых ресурсов, или сказались изменения в творческой и слушательской психологии, но собственно технические проблемы все больше стали осознаваться как
зторичные. Дух первопроходства уступил место чувству цели
.' смысла.
Исчерпанность принципа языкового новаторства не
завала строить в этом плане оптимистические прогнозы, но
= ином, более широком измерении музыкальное творчество
" " - S O - x годов сумело достичь безусловных высот. Видимо, неггучайно на первый план композиторских интересов вышли
" ~ д а проблемы музыкальной драматургии. Понятие индивидуальности с узкоязыкового уровня сместилось на уровень
: о _ е г о замысла, концепции целого, «режиссерской» расста-св<и и организации многообразного по своему генезису ма"rcvana. Такой тип творчества демонстрируют в какой-то мере
^-оиянутые поздние квартеты Шостаковича: на этот раз имеетз = виду их изощренное новаторство в сфере циклической
«-iw-сзиции. В более же широком масштабе он воплотился
5 -ёгсазлении «концепционного симфонизма», явившего одно
-кз важнейших художественных завоеваний 7 0 - 8 0 - х годов.
Возвращаясь к проблемам стиля, заметим, что в этом
т а — е ззолюция отечественной музыки свидетельствовала
г "с«~е~енном, но неуклонном освобождении ее от критерия
12.
: Фейнберг Е. Кибернетика, логика, искусство. М., 1981.
«материальной» новизны. Такой процесс происходил и в мировом масштабе. Технократический бум послевоенного авангардного движения и прокламируемая им языковая новизна
вызвали в качестве реакции обращение к намеренно знакомому, узнаваемому материалу - будь то полистилистика, минимализм или «новая простота»13. Эти явления, носившие вначале поставангардный оттенок, а позже рассматриваемые
в ракурсе постмодернизма (здесь уже приставка «пост-» предполагала более длительный пласт предшествующего опыта,
если не всю мировую историю), обнаруживали вместе с тем и
вполне самостоятельную значимость. В определенном смысле
сформировавшийся тогда стилистический комплекс сохранял
силу вплоть до рубежа веков включительно (и по сей день не
успев еще стать историей).
Но рассмотрим упомянутые явления подробнее. Наиболее показательным симптомом с точки зрения смены эпох
стала полистилистика.
Исследователи описывают эволюцию
этого метода на протяжении 60-70-х годов14. Вначале имела
место «коллажная волна», преследующая эффект стилистического шока; она выразилась в резком столкновении блоков «сырых» цитат или псевдоцитат - столкновении, приобретающем
концепционную окраску. В дальнейшем коллажный тип полистилистики уступил место «симбиотическому», имеющему цель
объединить несовместимые элементы, найти в них нечто общее. Наконец, третья стадия являла собой попытку «всерьез
заговорить на чужом языке, уничтожив всякую дистанцию - как
ироническую, так и игровую» [18,12]. Некоторые исследователи
усматривали в этой третьей стадии симптомы «новой моностилистики» [1] - явление, сочетающее в себе глубинную ассимиляцию истоков с их «открытой ассоциативной направленностью» [1].
В отечественной музыке такая эволюция наиболее наглядно продемонстрирована творчеством А. Шнитке (о чем
убедительно писала С. Савенко в статье «Портрет художника
в зрелости» - 17). Если Первая симфония и Первый concerto
grosso соответствовали «коллажной волне», то, например, Третий скрипичный концерт или Виолончельная соната свидетельствовали о симбиозе, интеграции «своего» и «чужого» слова;
Реквием же или Хоровой концерт на слова Г. Нарекаци позволяли уже говорить о «новом традиционализме». Впрочем, грани13. См. о них также в главах, посвященных постсоветскому периоду
и постмодерну.
14. См. статью С. Савенко «Есть ли индивидуальный стиль в музыке
поставангарда?» [18].
ца между вторым и третьим этапами весьма условна: формирующийся моностиль хотя и предполагал пользование «чужим»
языком как своим собственным, но сохранял ощущение «открытой ассоциативности» и временной многомерности. Такова,
например, Третья симфония. В ее I части воссоздается величественный образ Вступления к «Золоту Рейна» Вагнера, который
как бы обрастает современными реалиями: в развитии темы,
обыгрывающей звуки мажорного трезвучия, большую роль
приобретает сонористический пласт. Диалог эпох особенно
рельефно звучит во II части. Скерцо, где мир светлой идиллии,
представленный разнообразными раннеклассическими и романтическими реминисценциями, словно овевается «ветром
времени» и грозит быть сметенным им.
Но реакция на авангард 60-х годов проявлялась не
только через полистилистику 15 . Экспансия индивидуального
поиска, «экстремистская» вседозволенность в выборе средств
вызывали в качестве противодействия установку на общезначимые, стилистически нейтральные формы высказывания, иначе говоря, на музыкальный минимализм. Напомним, что «минимальная музыка» (то есть музыка, пользующаяся минимумом
средств, - как в самом материале, так и в его развитии) зародилась в США; ее классиками считаются Стив Райх и Терри Райли. В отечественном же творчестве ее принципы получили весьма адаптированное, но вместе с тем широкое, устойчивое
и разнообразное претворение 16 . С одной стороны, согласно
канонам минимализма, композиторы обращались к репетитивной технике, технике повторов исходных звуковых ячеек«паттернов», впрочем, опираясь при этом на материал совершенно иной природы. Так, В. Мартынов брал за основу славянские фольклорные и древнерусские литургические формулы, а
А. Пярт, кроме взятой из практики Ars nova мензуральной ритмики, акцентировал выразительность минорного трезвучия в противоположность «сонорике мажора» (С. Савенко)
в классических минималистских образцах. С другой стороны,
«минималистский» образ мыслей репрезентировался длящимся, протянутым звучанием (либо столь же завораживающим паузированием) - явление, более характерное для А. Кнайфеля
15. Отметим неоднозначное положение полистилистики в историкоэволюционном процессе: если апелляция к «знакомому» материалу
являла симптом поставангардной эстетики, то радикализм первоначальных, коллажных форм этого метода скорее свидетельствовал
о его связи с авангардом (примером последнего может служить уже
упоминавшаяся здесь Первая симфония Шнитке).
16. См об этом, в частности, в статье П. Поспелова «Минимализм и
репетитивная техника» [13].
или А. Тертеряна (в Пятой симфонии Тертеряна представлена,
например, целая мифология звука: от его смутного зарождения до превращения во вселенский звон; всепоглощающее погружение в звуковую материю, отождествление с ней выступают здесь на первый план).
В стилевой нейтральности минимализма композиторов
привлекала возможность избежать нажима индивидуальноавторского начала и заново ощутить благотворность
общезначимых, «анонимных» языковых формул. Весьма специфично такая анонимность проявилась в музыке В. Сильвестрова. Появление в 70-е годы его песенных циклов {«Тихие песни», «Простые песни») и «Китч-музыки» для фортепиано
вызвало бурю дискуссий. Слишком неожиданным показался
этот архизнакомый внеиндивидуальный язык на фоне изысканно-утонченного стиля предыдущих сочинений композитора.
Заголовок «Китч-музыка» явно провокационен, особенно в сочетании с авторской ремаркой: «Названию "китч" автор придает элегический, а не иронический смысл». Такого рода
переосмысление расхожего материала кажется нонсенсом:
непозволительность в высоком искусстве общих мест, боязнь
банального подтверждались всей практикой профессиональной культуры X X века; отжившие приемы могли рассчитывать
на возрождение разве что в пародийном ключе (вспомним
роман Т. Манна «Доктор Фаустус», этот беллетризированный
трактат по современной музыке, трактующий также и на данную тему). Тем не менее оно, это переосмысление, здесь происходит. В песнях воссоздается обобщенно-романсовый стиль,
в «Китч-музыке» — формулы полусалонного квазиромантического пианизма. Такая «нобилитация» общеупотребительного
языка имеет для композитора экологический смысл - подобно
вышеупомянутому возрождению мелодического принципа высказывания. В определенном смысле она явилась результатом
ностальгии по прошлому, по утраченной душевности и вдохновлена тем чувством памяти, о котором здесь уже не раз говорилось и о котором сказано в авторской ремарке к исполнению: «Играть очень нежным, сокровенным тоном, как бы
осторожно прикасаясь музыкой к памяти слушателя, чтобы музыка звучала внутри сознания, как бы память слушателя сама
пела эту музыку».
Ясно, что мерки самодовлеющего новаторства к таким
сочинениям неприменимы. Скорее, в них сказался симптом
«деавтономизации» искусства, стремление музыки «раствориться в жизни», стать стимулом к медитированию. Но психологическая мотивированность такого рода опусов не снимает.
по большому счету, проблемы их индивидуальности. Хотя
в своей как бы безыскусности они не претендовали на стилевую неповторимость, этот критерий, думается, все же к ним применим. В частности, по отношению к Сильвестрову можно говорить о весьма изощренных способах интерпретации
общезначимых языковых формул - тончайшей нюансировке,
детальнейшей артикуляции, ненормативности голосоведения,
скрытых механизмах снятия с «сомнительного» материала налета банальности - всем том, в чем безошибочно угадывается
почерк автора17.
Апелляция к «знакомому» материалу, заметно видоизменившая картину музыкального творчества, происходила и
в формах так называемой «новой простоты» - понятие, близкое «новому традиционализму» или «новому моностилю», которые упоминались выше. Правда, здесь уже не обязательно
требовалась анонимность или, наоборот, адресатность средств.
Подобно тому как полистилистика эволюционировала от коллажных форм к симбиотическим и углублялась диффузия
между «своим» и «чужим», утончались факторы взаимной коррекции этих слоев. Они стали действовать в глубине самой музыкальной материи как заново осмысленные приемы ее внутренней организации. Это, в частности, имело результатом
принцип новотонального письма, заменивший собой герметический атонализм авангардных стилей.
Такой прорыв к новой простоте случился в X X веке не
впервые. Напомним о ситуации 30-х годов: о сочинениях и словесных декларациях С. Прокофьева, П. Хиндемита, А. Онеггера; именно тогда появился и теоретический труд Хиндемита
«Наставление в композиции», обосновывающий принцип новой тональности. Возрождение тонального принципа в последней трети X X столетия ситуационно напоминало это время, но
вместе с тем несло с собой новую специфику. Сказывался рефлектирующий дух эпохи и новая, более сложная форма диалога с прошлым (Р. Щедрин определил ее замысловатым словом
«нео-неодиатоника»).
Для понимания указанной специфики важно учитывать
по крайней мере два момента. Первый связан с возросшей
сложностью звукового контекста, наследием авангардного
опыта 60-х годов: в новых условиях идея тональности испытывала несравненно большую силу сопротивления. Второй
заключался в той особой смысловой окрашенности, которую
приобрели тональные реминисценции в условиях «мышления
17. См. также монографическую главу о Сильвестрове.
стилями». Усиленные контекстом, они выступали знаком определенных эстетико-стилистических систем, носителем не только
конструктивной, но семантической и символической функции.
Так, в In сгосе С. Губайдулиной длительному остинатному обыгрыванию трезвучия A-dur в партии органа противостоит спонтанная экспрессия внетональных реплик виолончели — подобно тому, как сквозь библейскую условность
изображения распятия (ассоциация, которую навевает уже само
название пьесы) прорывается реальное человеческое страдание. Древний символ креста воплощен регистровым противодвижением партий органа и виолончели, но при этом они
«перекрещиваются» также и в тональном смысле: после алеаторических эпизодов, возникших, подобно вспышке, в момент
регистрового пересечения партий, остинатная, тонально-стабилизирующая функция все больше переходит к виолончели: инструменты явно меняются ролями.
Своеобразной «верой в тонику» звучит Credo из Реквиема А. Шнитке. Примечательно, что главный мелодический тезис этой части, тонально устойчивый и излагаемый все более
утвердительно, звучит со словом credo. При этом он испытывает огромное сопротивление контекста - метафора тех испытаний, на которые обречен поиск веры в мире безверия и хаоса
(таков трагический смысл многих страниц этой музыки).
Во всех подобных случаях (добавим к ним трезвучные
«врезки» в Виолончельной и Второй скрипичной сонатах
Шнитке) мажорные или минорные трезвучия выступают в роли
неких архетипов. Мышление архетипами - оборотная, смысловая сторона «новой простоты» — составило еще одну отличительную черту творчества 7 0 - 8 0 - х годов. Наряду с конкретными историческими аллюзиями или цитатами композиторы
апеллировали к «коллективному бессознательному» (К. Г. Юнг) тем праформам музыки, которые несут на себе след всеобщего, надиндивидуального. Из «генетического колодца памяти»
(выражение В. Сильвестрова), кроме трезвучий, извлекались
и другие структуры с «отшлифованными смыслами» - кадансовая формула, колокольный звон, тембр клавесина. Последний зачастую ассоциировался с музыкальной шкатулкой, незамутненным образом детства - как, например, в Пятой
симфонии Канчели. В том же сочинении в роли архетипа выступают тиратообразные фигурации - «вихри преисподней»,
вызывающие в памяти «шаги Командора», а в драматических
эпизодах Шестой симфонии композитор прибегает к ритму
сарабанды, заостряя его изначальную семантику траурного
шествия. Примеры из творчества других авторов свидетельствуют о том, что особую ассоциативную нагруженность мог приобретать обертоновый ряд, аккорд, интервал и даже отдельно
взятый звук. Неслучайно А. Ивашкин уподобил отечественную
музыку 7 0 - 8 0 - х годов айсбергу, большая часть которого остается невидимой, но интуитивно угадываемой [28]. А О. Поповская обозначила подобную тенденцию как неосимволизм [12].
Так или иначе, отказ от критерия новизны и обращение к уже не раз использованным идиомам означали не только
исчерпанность языковых ресурсов: за всем этим стояли задачи
содержательного порядка, стремление к семантизации музыкального процесса, к его смысловой объемности и «стереоскопичности». Такое вряд ли было возможно в условиях авангардного пуризма. Новые задачи потребовали раздвижения
языковых границ высказывания. Стилистическая многосоставность в масштабе одного произведения свидетельствовала
о широте авторских обобщений. В конечном счете она выступила симптомом нового синтеза, сменившего собой «аналитический» этап 60-х годов.
Плюрализм, показательный для второй половины века
в целом, сохранял свою силу, но это был уже не плюрализм замкнутых в себе направлений и столь же замкнутых индивидуальных стилей. Взаимопроникновение генетически различных
средств с осознанием их вторичности по отношению к содержательному уровню стало важнейшей приметой творчества.
Г. Григорьева в упомянутой книге пишет о трех этапах
стилевого развития в 6 0 - 8 0 - х годах: 60-е демонстрировали
процесс «стилевого размежевания», рубеж 60-70-х - «встречное движение», наконец, последующее время - стадию активности стилевых взаимодействий и формирование новой моностилистики. Подчеркнем, что синтез возникал уже на стадии
«встречного движения», но тогда он носил «опытный», экспериментальный характер, выступая в весьма парадоксальных,
«остроугольных» формах и смыкаясь в этом смысле с авангардным радикализмом. Напомним о плакатных замыслах «Поэтории» Щедрина или Первой симфонии Шнитке. Характерен и
чисто игровой вариант «вавилонского столпотворения» техник
и приемов в Концерте-буфф С. Слонимского (старинная полифония, алеаторика, серийность, четвертитоника, латиноамериканский квазифольклор и т. д. и т. п.) - полемическое свидетельство того, что в современной музыке и в современном
концертном жанре особенно можно соединить все что угодно.
Кстати, игровой код не исчез и в искусстве последующих лет, зачастую выступая в ракурсе постмодерна. Для отечественной культуры 7 0 - 8 0 - х годов он нес с собой дополнительный раскрепощающий импульс, столь необходимый в условиях
политического застоя. По мнению исследователей, именно на
этом пути - пути игрового лицедейства, балансирования на
грани смешного и серьезного, конкретного и метафоричного,
массового и элитарного — могло возникнуть искусство М. Захарова и Э. Рязанова, мог появиться советский мюзикл и заявить
о себе «третье направление» — «симфо-рок» (киномузыка
Г. Гладкова, А. Рыбникова, В. Дашкевича, М. Дунаевского,
Э. Артемьева и др.). Так советская интеллигенция, пишет
критик, не вступая в прямую конфронтацию с режимом, «шутяиграючи» отвоевывала у реальности «свое метафизическое пространство» (см. указ. статью А. Шпагина - 26).
«Третье направление» — лишний пример совершавшегося в 7 0 - 8 0 - е годы глобального синтеза: «академисты»
обращались в своем творчестве к выразительным средствам
рок-эстрады, а «массовики» осваивали, в частности, оперную
традицию (феномен рок-оперы). Вообще же процесс жанровой ассимиляции происходил в весьма широких границах,
охватывая композиторов разных стилей и направлений. Здесь
снова сказалась первичность содержательного фактора: углубление лирической интроспекции, активизация авторского монологического начала приводили к смешению форм высказывания. «Весь мир неупорядоченно вобран в лирический
горизонт... перегородки между темами пали, как некогда перед
натиском романтизма - перегородки между жанрами» [15].
Жанровая картина композиторского творчества в полной мере
отразила все эти процессы.
Но подведем некоторые итоги и, резюмируя сказанное
о 7 0 - 8 0 - х годах, внесем в их характеристику дополнительные
штрихи. По-видимому, на определенном витке исторической
спирали конец 50-х - 60-е годы означали фазу молодости
культуры, 70-80-е - фазу зрелости. В пользу зрелости говорят
многие из отмеченных выше качеств: стремление к синтезу,
к широте философских обобщений, свобода от нигилистических крайностей и «детских болезней левизны», терпимость и
широта в сфере стилистических пристрастий. Такой эволюции
способствовало, вероятно, и физическое повзросление «шестидесятников» - композиторов, чье творчество, восходя корнями к эпохе «оттепели», достигло теперь зенита мастерства и
составило «основной запас» новой отечественной музыки.
Впрочем, указанные процессы не исчерпывались возрастными
границами одного поколения: в той или иной форме они коснулись как старших «мэтров» (Шостакович), так и, напротив,
более молодых авторов (кроме тех, чьи имена здесь уже приводились, назовем А. Раскатова, Н. Корндорфа, С. Павленко,
В. Тарнопольского, В. Рябова, Т. Сергееву, В. Екимовского,
М. Броннера и др.). О «серьезности намерений» молодых свидетельствовали, в частности, аналитические обзоры и групповые портреты, публиковавшиеся на страницах «Советской музыки» под симптоматичным названием «Право на зрелость»18.
При всех приведенных выше качествах рассматриваемое двадцатилетие не было единым, а потому ему трудно найти однозначное, исчерпывающее определение. В какой-то момент зрелость стала носить на себе печать поздней культуры —
в самых различных оттенках этого понятия19. О приметах «позднего мышления» рассуждал в одной из бесед А. Кнайфель,
подразумевая под этим отраженный, объединяющий взгляд на
весь предшествующий опыт. Признаки такого рода мышления
композитор склонен усматривать в поздних периодах творчества Бетховена, Стравинского, Шостаковича (этот список можно было бы, вероятно, дополнить «поздним» Листом, Брамсом,
Малером). Но дело здесь заключалось не в конкретных именах
и не в попытках подытожить собственный творческий путь.
Имелось в виду позднее состояние культуры, когда в масштабе
целой эпохи и целого поколения художников возникло ощущение некоего «конца истории» и рефлексия потеснила былую
событийность. У самого Кнайфеля названная тенденция выразилась в создании «тихих гигантов» — протяженных сочинений
медитативного характера, отличающихся большой глубиной
ассоциативного слоя. В них в полной мере отразилась новая
концепция музыкального времени: время-движение сменилось
временем-пребыванием, или «спатиализированным», опространствованным временем.
Рефлексией «позднего знания» оказались окрашенными многообразные явления под знаком «пост» — будь то глобальная категория постмодерна 20 , постлюдийность в варианте
18. Так была озаглавлена статья H. Шантырь [23]. См. на эту тему также публикацию И. Ромащук [16].
19. Автору этих строк уже приходилось писать на данную тему в статьях «Новая советская музыка в аспекте "позднего мышления"» [29]
и «Время и пространство поздней советской музыки» [5].
20. См. об этом последнюю главу настоящего учебника.
В. Сильвестрова или «опус-пост» В. Мартынова (возвестившего
в итоге о конце эры композиторства). Дополнительный отсвет
получает в этом смысле упомянутый жанр мемориала или музыка в духе «новой сакральности». Показательны и некоторые
моменты самих концепций произведений: в содержательном
слое музыки возникает и достигает определенного пика в последующие 90-е годы идея «конца времен». Она предстает то
в «тихом апокалипсисе» А. Кнайфеля (AgnusDei), то как картина
вселенской катастрофы в произведениях Шнитке, Губайдулиной, Беринского и др. авторов. В последнем случае возникали
сочинения конфликтно-трагедийного плана, далекие от медитативной утопии. Но и тут и там музыкальное высказывание
приобретало подчеркнуто апокалиптическую окраску (кроме
реальных угроз человеческому существованию, приближавшийся конец века и тысячелетия гипнотизировал «магией
цифр»).
Однако отечественному искусству вскоре довелось
испытать на себе и реальный апокалипсис - распад СССР и
окончание советского периода истории. Этот «малый апокалипсис» принес с собой крах империи, межэтнические войны и
разрушение некогда единого культурного пространства. Советская музыка - и как характерный художественно-исторический
феномен, и как многонациональная общность исключительно
широкого масштаба (напомним о фигурировавших здесь композиторских именах, связанных с Грузией и Эстонией, Украиной и Арменией) - должна была завершить свое существование. Распыление, рассредоточение некогда общего
пространства происходило и путем массовой эмиграции: многие из упомянутых в данном очерке композиторов, включая
правофланговых, оказались на рубеже 8 0 - 9 0 - х годов за границами бывшего СССР.
В этом плане слово «поздний» приобретает еще один
смысловой оттенок: 70-80-е годы оказались поздней (и последней) фазой советской цивилизации. Одна из плодотворнейших культурных эпох подошла к концу, прерванная серьезными геополитическими катаклизмами. В X X веке уже имелся
пример того, как накопление некой критической массы оборачивалось последующим взрывом и волной эмиграции - исходом за рубеж артистических сил. В этом смысле возможна
определенная аналогия с 1917 годом. В то же время эта аналогия далеко не абсолютна, не говоря уже об ее исторической некорректности. Давать негативную оценку событиям конца
80-х - начала 90-х годов означало бы воспрепятствовать дви-
жению колеса Истории. Судьба позднесоветского периода была
предрешена. Но это ничуть не умаляет его исключительного
культурного значения и достигнутых тогда высот творчества.
Литература
1. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй
половины XX века. М., 1989.
2.Долинская Е. Музыкальный диалог времен // Советская музыка. 1988.
№ 9.
3. Катунян М. Параллельное время Владимира Мартынова / / Музыка из
бывшего СССР. Вып. 2. М„ 1996.
4. Левая Т. Советская музыка: диалог десятилетий / / Советская музыка
70~80-х годов. Стиль и стилевые диалоги. М., 1985.
5. Левая Т. Время и пространство поздней советской музыки / / Поиск смысла. Нижний Новгород, 1994.
6. Музыкальный мир романтизма: от прошлого к будущему. Ростов
н/Д., 1998.
7. Никитина Л. Советская музыка. История и современность. М., 1991.
8. Обсуждаем «Поэторию» Р. Щедрина / / Советская музыка. 1969.
№
11.
9. Обсуждаем Симфонию А. Шнитке / / Советская музыка. 1970. N5 10.
10. Пантиелев Г. Интервью с А. Тертеряном // Советский музыкант. 1972.
17 ноября.
11. Пантиелев Г. Пять симфоний Альфреда Шнитке // Советская музыка. 1990. № 10.
12. Поповская О. Символическая программность в советской музыке
70-80-х годов. Автореф. дис. ... канд. иск. Л., 1990.
13. Поспелов П. Минимализм и репетитивная техника // Советская
музыка. 1992. № 4.
14. Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. М., 1982.
15. Роднянская И. Предчувствия и память // Новый мир. 1982. N2 10.
16. Ромащук И. Обзор концертов «Московской осени» / / Советская
музыка. 1990. № 5.
17. Савенко С. Портрет художника в зрелости // Советская музыка. 1981.
№ 9.
18. Савенко С. Есть ли индивидуальный стиль в музыке поставангарда? // Советская музыка. 1982. N2 5.
19. Скребкова-Филатова М. Поиски нового синтеза // Советская музыка. 1982. № 4.
20. Слонимский С. Заметки композитора о современной советской
музыке // Современные вопросы музыкознания. М., 1976.
21. Фейнберг Е. Кибернетика, логика, искусство. М., 1981.
22. Холопова В. Николай Бердяев и Софья Губайдулина: в той же части
Вселенной // Советская музыка. 1991. № 10.
23. Шантырь Н. Право на зрелость // Советская музыка. 1989. № 6.
24. Шнитке А. На пути к воплощению новой идеи // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. М., 1982.
25. Шнитке А. «Дух дышит, где хочет...» // Наше наследие. 1990. № 3.
26. Шпагин А Реквием в стиле «симфо-рок» // Литературная газета.
1994. № 35. 31 августа.
27. Эйдельман Н. Почему я не пессимист. Заметки об интеллигенции //
Московские новости. 1987. № 47. 22 ноября.
28. Iwaschkin A. Sowjetische Musik. Von der Struktur zum Symbol / /
Sowjetische Musik im Licht der Perestroika. Laaber-Verlag, 1990.
29. Lewaja T. Neue sowjetische Musik unter dem Aspekt des «spaten
Denkens» / / Sowjetische Musik im Licht der Perestroika. Laaber-Verlag, 1990.
Камерная опера
Одним из жанров, связавших 70-е годы с предшествующим периодом, была камерная опера. В области музыкального театра, как и практически во всех других областях, 60-е годы
стали периодом активных преобразований. Плотина штампов
и стереотипов, воздвигнутая в предшествующие десятилетия,
прорвалась под напором волны исканий. То была неизбежная
ответная реакция на унифицированную трактовку жанра, свойственную 3 0 - 4 0 - 5 0 - м годам. «Едва ли не самой характеристической чертой ее (оперы. - А. С.) сделалось разнообразие,
подвижность форм, составных слагаемых и сценических решений», - пишет исследователь. Мощный толчок к развитию
получили ранее существовавшие разновидности - опера-оратория, опера-балет. Одновременно нарождались совершенно
новые: теле- и радиоопера, рок- и зонг-опера, мюзикл и опера
в духе народного площадного действа, опера, специально написанная для концертного исполнения, и опера, построенная
как «игра в оперу». Все названные жанровые модификации и в этом тоже знамение времени — гибридны, ибо используют ресурсы других музыкальных видов, а также смежных искусав драматического театра, кинематографа, телевидения, литературно-музыкальной монтажной композиции [9, 76,71]. В русле
этих преобразований вспыхнул интерес и к камерным разновидностям — моноопере, опере-дуэту и т. п.
Наиболее интересные образцы жанра давно уже стали предметом изучения - в научных трудах [10,11,12,13,14,15,
16, 20, 3], критических статьях, рецензиях на спектакли и концертные исполнения. Это позволяет отказаться в настоящей главе от целостных аналитических описаний отдельных сочинений
и выдвинуть на передний план обобщающие вопросы: культур-
* .
•
-
^
но-исторический фон, на котором возник новый жанр, его генезис, отличительные признаки.
• • •
Жанры рождаются по-разному. Процесс вызревания
может растянуться на десятилетия, протекать латентно и сугубо
постепенно. Нередко точную дату появления на свет назвать
весьма затруднительно, если не невозможно (так было, к примеру, с симфонией, сонатой или концертом). О советской моноопере можно сказать со всей определенностью: она родилась
в 1964 году, когда Юрий Буцко, тогда еще студент Московской
консерватории, написал «Записки сумасшедшего».
Останься это сочинение единственным образцом,
о рождении жанра говорить было бы нельзя. Однако вслед
за ним появились вторая моноопера того же автора «Из писем
художника» (1974), «Дневник Анны Франк» и «Письма Ван Гога»
Григория Фрида (1969,1975), «Письмо незнакомки» Антонио Спадавеккиа (1971). Параллельно с ними создавались оперы с двумя-тремя персонажами - «Белыеночи» Ю. Буцко (1968), «Шинель»
Александра Холминова, «Пьер иЛюс» Давида Кривицкого (обе
1971), «Бедныелюди» Глеба Седельникова (1974) и другие подобные сочинения московских авторов. Вместе с тем указанная тенденция не была локально московской. Произведения такого рода
принадлежат перу екатеринбуржца Владимира Кобекина «Последние монологи Якова Бронзы» (1973), «Лебединая песня»,
«Дневник сумасшедшего» (1978), украинца Виталия Губаренко «Письмалюбви» (второе название - «Нежность», 1970), латыша
Паула Дамбиса - «Письма в будущее» (1974)... Все эти сочинения - лирико-психологической направленности1.
Монооперы, оперы-дуэты зазвучали в концертных залах, на сценах оперных театров и студий, стали выходить в свет
клавиры и грампластинки. Периодическая печать откликнулась
на них статьями и рецензиями; перспективность свежей тенденции не раз отмечалась с трибун композиторских съездов и пленумов. О природе нового жанра охотно говорили сами композиторы. Их высказывания пронизывают два «лейтмотива».
Первый: жанр дает возможность углубиться в детальный ана1. Оставляем без рассмотрения созданные в этот период комические
камерные оперы - «Любовь и Силин», «Повесть о том, как поссорились Иван Петрович с Иваном Никифоровичем» Г. Банщикова (1968,
1970), «Коляска», «Двенадцатая серия» А. Холминова (1971, 1977),
«Леди Магнезия» М. Вайнберга (1975) и др., подчиняющиеся иным
эстетическим и драматургическим закономерностям.
лиз психологии человека, его сложного внутреннего мира. Второй — единодушная констатация особой «своевременности»
камерной оперы2.
Появление нового жанра (или возрождение жанра
«старого», забытого), стиля, иного художественного явления
всегда отвечает определенным духовным потребностям эпохи.
В историко-культурном плане советская камерная опера - продукт того времени, когда хрущевская «оттепель» встретилась
с брежневским «застоем». С этой точки зрения дата «1964» символична: это год смещения Хрущева. И при нем, и первые годы
после него в области культурной политики власть была крайне
непоследовательной; ее, словно лодку в штормовом море, бросало из стороны в сторону - между разрешениями и запретами, между известными идеологическими послаблениями и рецидивами сталинско-ждановских рефлексов. То было время,
когда, по мрачной шутке Ильи Эренбурга (которому принадлежит и само метафорически емкое определение «оттепель»),
садовниками работали лесорубы. Смягчение нравов было
относительным, приоткрывшаяся правда о прошлом строго
дозировалась. Свободомыслие, даже художественное, мягко
говоря, не поощрялось.
На этом фоне интерес творцов к человеку как личности выглядел, как видно с дистанции времени, парадоксально.
С одной стороны, творческие устремления художников вовсе
не расходились с постулатами партийно-государственной пропаганды, на все лады твердившей о «безграничном расцвете
личности при социализме». С другой стороны, теория «винтика», переодетая в иную фразеологию, продолжала существовать, и на деле все предпринималось для того, чтобы уже к концу 60-х годов реальная человеческая личность погрузилась
в пучину равнодушия и социальной апатии. Песенный лозунг
тех лет «сегодня не личное главное» куда более отвечал идеологии власти, нежели поэтическая строчка А. Вознесенского над
сценой Театра на Таганке: «Все прогрессы - реакционны, если
рушится человек», которая воспринималась партийными чиновниками как крамола.
2. Увлечению малыми формами оперы способствовало выдвижение целой плеяды камерных певцов, приверженцев современной
музыки - С. Яковенко, H. Юреневой, Л. Белобрагиной, А. Соболевой, М. Фатеевой и др. В расчете на их талант и мастерство создавались многие моно- и дуооперы, а также вокальные циклы и иные
сочинения.
Композиторские декларации никем не оспаривались,
но пристрастное внимание к неповторимости отдельного человека, разбуженное тем лучшим, что принесло хрущевское десятилетие, могло трактоваться - и либеральной интеллигенцией, и консерваторами - как род оппозиции.
Показательно, что традиционная любовная тема заняла в камерной опере достаточно скромное место. Композиторов влекли иные мотивы и образы. Отсюда очевидная тяга
к прозе Гоголя, Достоевского, Чехова: в содружестве с русской
классической литературой хотелось вновь и вновь утверждать
ценность каждой человеческой жизни, достойной участия и
сострадания. Ведь в недавнем прошлом, в эпоху «сталинского
средневековья», а по сути дела - с Гражданской войны, жизнь
была обесценена, а теперь, в 6 0 - 7 0 - е годы, сама личность ценилась невысоко, попросту мешала. Официально считалось,
будто образ «маленького человека», раздавленного государством, остался в XIX веке, тогда как на самом деле жизнь того
же Ивана Денисовича была пострашнее, чем у гоголевских Акакия Акакиевича и Поприщина.
В смежных искусствах этих десятилетий обнаруживается широкий круг явлений, в чем-то близких камерной и моноопере. На драматической сцене — жанр одноактной пьесы,
так называемый театр одного актера, «театр в фойе», «домашний театр». На филармонических подмостках - полуконцертные-полусценические выступления актеров: сольные и дуэтные,
моноспектакли, разного рода монтажные литературные композиции, в том числе монографические (основанные, к примеру,
на стихах, прозе, дневниках, переписке большого поэта, воспоминаниях о нем современников). Телевизионное искусство
(в 1961 г. на главной киностудии страны «Мосфильм» создано
новое творческое объединение «Телефильм»), активно ищущее
собственную эстетическую специфику, обретает ее в таких качествах, как особая доверительность высказывания, максимальная приближенность и к зрителю, и к герою; длительные
крупные планы утверждаются в качестве ведущего элемента
телевизионного спектакля и фильма. (С этой точки зрения моноопера представляет собой крупный план героя, выдержанный от начала до конца произведения.)
Внутри самого музыкального искусства рождение
и развитие рассматриваемых оперных разновидностей естественно вписывается в контекст широкого «камерного движения», возникшего еще в эпоху «оттепели», но сохранившего свое
значение и для 7 0 - 9 0 - х годов. Подъем камерно-ансамблевых,
камерно-оркестровых жанров стимулировался целым рядом
обстоятельств. Первым среди них следует назвать беспрецедентное по скорости и глубине технико-стилевое обновление.
Освоение новейших приемов и средств, принципов организации звуковой ткани настоятельно требовало, или, лучше сказать, остро нуждалось в испытательном полигоне. Камерную
музыку недаром принято называть полем стилистических исканий, сферой эксперимента, творческой лабораторией: в звучании одного или немногих голосов (когда «мало нот») композитору легче контролировать творческий результат и при
необходимости внести в него коррективы. Не стоит сбрасывать
со счета и практические соображения, которые могли подталкивать к созданию подобных опусов: у них, при прочих равных
условиях, короче путь к публичному исполнению 3 .
Неудивительно, что в стойком интересе к произведениям для нескольких исполнителей объединились многие
и многие композиторы разных поколений. Благодаря их усилиям камерная музыка, долгое время пребывавшая на далекой
периферии общественного внимания, стала примерно с конца
50-х - начала 60-х годов приобретать положение, достойное
ее возможностей. Создаются десятки ансамблевых партитур
в таких классических видах, как струнный квартет, фортепианный квинтет, соната для какого-либо инструмента и фортепиано. Наряду с этим культивируются иные тембровые сочетания,
в первую очередь барочного типа, к которым нередко присоединяются современные ударные или восточные инструменты.
Одновременно наблюдается активное вторжение черт
камерности на «территорию» симфонизма. В поисках альтернативы «большой» симфонии композиторы обращаются к барочному принципу коллективного концертирования - жанрообразующему принципу concerto grosso, к камерному
варианту симфонии. Сокращение исполнительских составов,
сжатие формы, поиск новых закономерностей композиции и
драматургии, позволяющих вместить «больше музыкальных событий на единицу времени», становится одной из доминирующих тенденций эпохи.
Истоки широкого и устойчивого интереса к камерной
опере следует искать в периоде конца XIX — начала X X века,
когда в течение примерно 20 лет появились «Иоланта» Чайковского, «Моцарт и Сальери» и «Боярыня Вера Шелога» Римского3. Причины и универсальные источники «камернизации» в отечественной музыке этого периода (на материале симфонического творчества) подробно рассматривает М. Арановский [1, 173-179].
И И
Корсакова, все три оперы Рахманинова, сочинения других композиторов. Среди них выделился ряд произведений, созданных
по пушкинским «маленьким трагедиям» (как известно, он открывается «Каменным гостем» Даргомыжского), выделился
резко обозначенной спецификой «камерности». Важнейшие
свойства жанра определились уже тогда: сравнительно небольшая протяженность, рассчитанная на неполный театральный
вечер; отсутствие балетных и хоровых сцен; малый, по сравнению с полнометражной оперой - решительно сокращенный
состав исполнителей; пониженная роль сюжетной событийности; особо бережное отношение к тексту литературного оригинала; крайне редкое обращение к развернутым, конструктивно
закругленным номерам; особый тип вокального интонирования - ариозный, в котором неразъединимо слиты декламационно-речевое и мелодическое начала.
Отдельными признаками советская камерная и моноопера соприкасается с веристской одноактной оперой-новеллой, отдельными произведениями Р. Штрауса («Саломея»,
«Электра»), Бартока («Замок герцога Синяя Борода»), Пуччини
(«Сестра Анжелика»), а из более поздних - Бриттена, идеолога и подлинного рыцаря жанра камерной оперы. Первые
образцы собственно монооперы появились на Западе - «Ожидание» Шёнберга (1909) и «Человеческий голос» Пуленка
(1959) 4 . На советских композиторов, пожалуй, большее влияние имела вторая из них 5 .
К числу прообразов следует также причислить моносцену и сцену-диалог внутри «большой», по преимуществу лирико-психологической оперы. Такие сцены открыли неисчерпаемые возможности для воссоздания жизненных, прежде
всего психологических процессов, с органически присущей им
противоречивостью и непрерывностью развертывания.
Среди предтеч монооперы, оперы-дуэта и'т. п. необходимо упомянуть некоторые жанры камерной вокальной
музыки, в частности песни-сценки в духе Даргомыжского и Му4. Ж. Кокто, автор одноименной пьесы, послужившей Пуленку первоисточником, создал и другие пьесы-монологи для выдающихся
французских актеров, своих современников - Э. Пиаф, Б. Бови,
Ж. Марэ.
5. «Человеческий голос» Пуленка исполнялся в СССР в концертном и
сценическом вариантах (первые исполнители H. Юренева и Г. Вишневская), были выпущены грамзапись и клавир. За несколько лет до
этого на премьере в Париже побывала группа советских музыкантов. Моноопера произвела на них глубокое впечатление. В состав делегации входил видный композитор, профессор Московской консерватории С. Баласанян, чьим воспитанником стал вскоре Ю. Буцко.
соргского, а также вокальный цикл, о чем далее будет сказано
подробнее.
Однако, опираясь на соответствующий исторический
опыт, отечественное музыкальное искусство б 0 - 8 0 - х годов
породило явление, отличающееся подлинным художественным
своеобразием, несущее на себе отпечаток времени. Словом,
родилась новая камерная опера.
Даже по названиям советских камерных и моноопер - «Письма...», «Дневник...», «Записки...» - легко заметить,
что жанр этот тяготеет к формам литературы, новым для музыкального театра, а именно - мемуарно-эпистолярным. При
этом жанровые, структурные, лексические особенности первоисточников в либретто, как правило, сохранены (функции
либреттиста композиторы, за редкими исключениями, берут
на себя). Иными словами, нелитературный материал приспосабливается к законам традиционно понимаемой «оперности», но сами эти законы подвергаются решительному пересмотру. В таких условиях неизбежно меняются пропорции
художественных элементов - музыки, слова, сценического
действия. В нашем случае существенно возрастает роль литературной первоосновы произведения.
Уже композиционное строение ряда камерных опер
несет на себе явный отпечаток структуры литературного оригинала. Длящаяся всего около 45 минут опера Г. Седельникова
«Бедные люди» состоит из тринадцати эпизодов (по авторскому определению, «опера в тринадцати письмах»), «Дневник
Анны Франк» Г. Фрида (50 минут) - из двадцати одного. Оба
сочинения строятся как цепь миниатюр, эпизодов, которым
трудно подобрать адекватное наименование. Их нельзя назвать
номерами, ибо они разомкнуты композиционно и драматургически. Не назовешь их и монологами, сценами - в силу их
сжатости. Для классико-романтической оперы такой способ
внутреннего членения ненормативен, в то же время он органически присущ соответствующим формам прозы: каждая композиционная единица подобна дневниковой записи или письму.
В ряде случаев воздействие приемов монологической
прозы распространяется глубже, определяя важнейшие интонационно-драматургические свойства сочинений. К примеру,
«Белые ночи» Ю. Буцко (по одноименному роману Достоевского, едва ли не самому романтическому у писателя) можно
определить как «оперу от первого лица». Как известно, в воспоминаниях, дневниках — и в подлинных документах, и в художественных произведениях, написанных в этих формах, -
повествование ведется с одной психологической точки зрения,
господствующей надо всеми иными. В субъективном восприятии главного героя представлены и он сам, и другие фигуры,
возникающие в его повествовании. Ю. Буцко как бы проецирует эту закономерность на музыкальную драматургию своей оперы, в которой три действующих лица при двух поющих артистах. В партитуре развивается единая интонационная сфера,
сфера Мечтателя - ведущего персонажа и одновременно «рассказчика». Ею же характеризуются Настенька и Жилец, ибо они
здесь не равноправные действующие лица, а персонажи его
воспоминаний. Для выражения этой идеи композитор нашел и
чисто театральные, «режиссерские» средства: Жилец сделан
двойником Мечтателя, обе партии поручены одному певцу-актеру. Как и у Достоевского, Жилец возникает вначале в Настенькиной исповеди как фигура «закадровая». Но исповедь эта —
«рассказ в рассказе», он подчинен основному - «рассказу Мечтателя», каковым является опера в целом, а потому решен в свете восприятия его главным героем. Узнав о том, что его место
в сердце Настеньки занято Жильцом, Мечтатель (мечтатель!)
на месте счастливого соперника видит себя. Он отождествляет
себя с Жильцом и в кульминационной сцене, когда тот приходит, чтобы навсегда разлучить его с возлюбленной. Введение
образа двойника, столь близкого поэтике Достоевского, помогло композитору не только интонационно, но и зрительно
«замкнуть» концепцию оперы на фигуре центрального героя.
Хотя типология опер по сюжетно-тематическому признаку признана недостаточно гибкой, все же ею продолжают
широко пользоваться. Выбор того или иного сюжета характеризует идейно-художественные предпочтения композитора,
в большой мере определяет композиционно-драматургический
профиль сочинения. В этом отношении новая камерная опера
показательна не менее, чем в плане собственно жанровой специфики. Здесь не встретить целых содержательных пластов,
официально считавшихся в советской опере ведущими, с которых принято было начинать аналитические обзоры в академических трудах, отчетных докладах руководителей Союза композиторов, - в частности, сюжетов, связанных с Октябрьской
революцией. Великой Отечественной войной (не говоря уже
о сюжетах «производственных» или «колхозных»). В изучаемый
период тематика такого рода сосредоточена по большей части
на противоположном «крае» музыкально-театрального процесса - в опере-оратории. Но если и в «большой» опере наблюдается известная усталость от лобовой подачи патриотической
ИИ
темы, других соцреалистических сюжетов, от диктуемых ими
громогласных апофеозов, от назойливого прославления «духа
коллективизма», то опера камерная, психологическая отторгает их самой своей природой.
Наиболее традиционны для оперы сюжеты любовнолирические, использованные В. Губаренко («Письма любви» по
новелле А. Барбюса «Нежность») 6 , Ю. Буцко («Белые ночи»).
Другую группу составляют сочинения, герои которых - личности прежде всего мыслящие. Наделенные глубокой впечатлительностью, они раскрываются не столько в поступках, сколько в осмыслении действительности, в определении
своего места и назначения в мире. Таковы герои обеих моноопер Г. Фрида 7 , живописец Константин Коровин («Из писем
художника» Ю. Буцко). Все три сюжета взяты не из беллетристики — факт, симптоматичный для тех лет, когда тяга к
документальности захватила прозу, театр, кинематограф. Еще
одно совпадение, тоже не случайное: главные персонажи все трое - художники в самом широком смысле слова 8 . Трагические испытания лишь закаляют их, делают мудрее.
6. Навсегда расставшись с возлюбленным, героиня решает покончить с собой, но прежде пишет ему письма. Он будет получать их
долгие годы - завтра, через год, через 11 лет... В посланиях говорится, что Она постепенно излечивается от пережитого потрясения, начинает улыбаться. И только в последнем письме, датированном так
же, как и первое, открывается тайна: «Прошло двадцать лет с тех пор,
как я умерла. Это вчера мы расстались...»
7. «Дневник Анны Франк». Семья немецких евреев, эмигрировавшая
после прихода Гитлера к власти, застигнута в Голландии фашистской
оккупацией. Анна, ее родители, сестра и еще четверо скрываются на
тайной квартире - «убежище». События последующих 27 месяцев
(1942-1944), пока убежище не было обнаружено полицией, а все его
обитатели не отправлены в концлагеря, описаны девочкой в дневнике, который она получила в подарок к 13-летию. Глава семьи Отто
Франк, единственный уцелевший, в 1947 г. опубликовал дневник дочери, вышедший с тех пор тиражом, превышающим 20 миллионов
экземпляров. В I960 г. книга была опубликована в СССР в переводе
Р. Райт-Ковалевой. «Письма Ван Гога». Знаменитый голландский
художник прожил всего 37 лет, из которых лишь последние 10 лет
занимался живописью. Фактически вся его жизнь, исполненная
лишений, преследований, болезней, но в то же время озаренная
творчеством, запечатлена более чем в 700 письмах к брату Теодору.
Композитор отобрал фрагменты, в которых Винсент преимущественно наблюдает и осмысливает жизнь, приходя к глубоким и нетривиальным умозаключениям, раскрывает философскую концепцию своих полотен.
8. Это относится и к Анне Франк, чей дневник обнаруживает явный
литературный талант автора. «Не каждый писатель сумел бы так описать и обитателей "убежища", и свои переживания, как это удалось
маленькой Анне», - отмечал И. Эренбург в предисловии к советскому изданию книги.
В центре сюжетов третьей группы - «маленькие люди»,
выведенные в операх по «петербургским повестям» Гоголя («Записки сумасшедшего» Ю. Буцко9, «Шинель» А. Холминова 10 ),
по первому роману Достоевского («Бедные люди» Г. Седельникова)11, по рассказу Чехова «Скрипка Ротшильда» («Последние
монологи Якова Бронзы» В. Кобекина) 12 . Их эмоциональный
и интеллектуальный мир ограничен. Реальная действительность
жестока к ним, при этом сами они, в той или иной мере, суть
ее порождение. Людям изначально зависимым, бедным духовно и душевно удается подняться над окружением, лишь преодолев в себе раба, хама. Лирика присуща и этим сюжетам, но
не как данность, а как награда, как знак прозрения, которое приходит порой слишком поздно...
В моноопере, по определению, человек один противостоит давлению судьбы и обстоятельств или собственного
несовершенства; в опере-дуэте на передний план выходит тема
человеческих взаимоотношений. Не заказаны им и публицистические мотивы, о чем свидетельствует хотя бы «Дневник Анны
Франк» (впрочем, «публицистика» здесь далека от газетной
трескучей риторики, субъективно окрашена). Сверхтему большинства исследуемых произведений можно определить слова9. Титулярный советник Поприщин, ограниченный и недалекий, постоянно унижаемый едва ли не всеми окружающими, к тому же безнадежно влюбленный в дочь своего начальника, постепенно сходит
с ума. Но в безумии он духовно прозревает, нравственно возвышаясь над своими мучителями.
10. Гоголевский сюжет подвергнут «инверсии» и превращен в воспоминания умирающего Акакия Акакиевича, в горячечном бреду
вновь переживающего перипетии своей трагедии. Гротесково-фантастическая концовка повести заменена заупокойной молитвой - отпеванием несчастного.
11. Роман создан в форме переписки 47-летнего мелкого чиновника
Макара Девушкина и его дальней родственницы, 19-летней Варвары Доброселовой, обесчещенной богатым помещиком Быковым.
Всеми силами Макар старается поддержать девушку, в которой видит существо более обездоленное, чем он сам. Переписка длится
около полугода - до внезапного появления Быкова, который,
«возвращая честное имя», делает Вареньке предложение. Та соглашается...
12. Яков Иванов со странной кличкой Бронза - гробовщик, человек
грубый и черствый, деловито снимающий мерку для гроба с захворавшей жены. Но даже в такой душе таится доброе начало: Яков
очень хорошо играет на скрипке. В предсмертном душевном пробуждении к нему одновременно приходят раскаяние за собственную
погубленную жизнь и - прекрасная мелодия. Наследником скрипки
и этой мелодии становится бедный еврей-музыкант по прозвищу
Ротшильд. Горожане, слушая в его передаче музыку умершего Якова, плачут...
ми «становление личности» - эта формула, изрядно девальвированная советским музыкознанием, здесь подходит как нельзя
лучше.
•••
Родившись на периферии оперного жанра, камерная
опера, особенно наиболее «радикальные» ее разновидности —
моноопера, опера-дуэт, оказались в зоне, пограничной с другими жанрами, и устремились навстречу их влияниям. Общая
для второй половины века тенденция - расшатывание эстетических границ жанров, тотальная жанровая диффузия проявилась здесь в особых формах. Среди других жанров, чье
воздействие испытывает новая камерная опера, выделяются вокальный цикл и симфония.
В советской музыке послевоенных десятилетий, начиная с сочинений Шостаковича («Из еврейской народной поэзии») и Свиридова («Страна отцов»), вокальный цикл занял
в жанровой иерархии исключительно важное место, никогда
ранее в отечественном искусстве ему не принадлежавшее.
Естественно, что моноопера взяла на вооружение черты цикла прежде всего монологического, созданного Бетховеном, Шубертом и Шуманом, с характерным для такого цикла «сквозным» персонажем, элементами последовательной сюжетности.
Другие разновидности жанра, в свое время немало позаимствовавшие у оперы и тяготеющие к театрализации отдельной песни-романса, к расширению исполнительского состава вплоть
до появления quasi-оперного ансамбля в сопровождении ансамбля инструментального и даже симфонического оркестра
[см.: 5], оказались близки опере с двумя-тремя персонажами.
В поэтику новой камерной оперы вошел ряд признаков, указывающих на родственные связи с вокальным циклом.
Первый из них — принцип чередования миниатюр. Как указывалось выше, он подсказан также формой мемуарно-эпистолярных жанров литературы, к которой можно прибавить излюбленную поэтами XIX века форму «книги стихов», откуда и
черпали литературный материал создатели романтических вокальных циклов. В обеих монооперах Г. Фрида миниатюры даже
имеют названия, а в «Бедных людях» Г. Седельникова их отчасти заменяют даты, объявляемые (разговорной речью) самими персонажами перед каждым письмом-эпизодом.
Второй признак — ослабление театрального начала, допускающее возможность условно-сценического, «полуконцертного» исполнения. Показательно, что Г. Седельников опреде-
ИМ
лил жанр «Бедных людей» как опера-концерт13. Эта тенденция
зеркально отражает процессы, происходившие в вокальном
цикле: там потенциальная сценичность подчас усиливалась настолько, что была готова вырваться наружу 14 ; здесь же она, напротив, словно уходит вглубь.
Третий признак обусловлен не столько прямым воздействием вокального цикла, сколько более широкой тенденцией усилением позиций камерных жанров: в ряде сочинений —
чрезвычайно малочисленный для оперы состав исполнителей.
«Письма Ван Гога» Г. Фрида исполняются певцом-баритоном в
сопровождении девяти музыкантов (кларнет, фортепиано, две
группы ударных, струнный квинтет; последний может быть расширен до струнной группы), и в середине 70-х годов это уже
никого не могло удивить. Гораздо более смелой была находка
Г. Седельникова: «Бедные люди» написаны для баритона, сопрано и струнного квартета. Отказаться не только от оркестра,
но и от большого инструментального ансамбля - тогда эта идея,
что называется, носилась в воздухе. «Я бы не удивился, - заметил остро чувствующий современность основатель Московского камерного музыкального театра Б. Покровский, - если
бы сегодня какой-нибудь композитор... написал оперу в сопровождении струнного квартета» [8, 39]. Выдающийся режиссер
не знал, что к моменту выхода его книги из печати такое сочинение уже существовало15. Однако и этот «рекорд самоограничения» продержался недолго: созданная вскоре опера В. Кобекина «Последние монологи Якова Бронзы» предназначена всего
для четверых исполнителей - певца-тенора, актера-мима, скрипача и ударника.
Четвертый признак - вытекающая из подчеркнутой
дискретности (прерывности) формы трактовка сюжета, данного как бы пунктиром. Каждая миниатюра фиксирует, в основном, какое-либо одно состояние, одно событие - точнее, воспоминание о нем, его осмысление post factum (как указывалось
выше, такая особенность присуща также мемуарно-эпистолярным жанрам литературы - роману в письмах, дневнику). Впрочем, повторное переживание произошедшего в иных случаях
вплотную приближается к реальному протеканию событий
13. В изданном клавире слово «концерт», к сожалению, редакцией
опущено.
14. Так, в 1959 г. была осуществлена телепостановка по вокальному
циклу Г. Свиридова на стихи Р. Бернса. В «Немецкой тетради N2 2»
В. Гаврилина имеются ремарки, оговаривающие сценическое поведение певца.
15. Позднее Б. Покровский включил оперу в репертуар театра.
«здесь и сейчас», когда ощущение временной дистанции стирается («Записки сумасшедшего»).
Однако вернемся к принципу чередования миниатюр - основополагающему для вокального цикла. Перенесенный в оперу, он предопределяет важные особенности ее формы и драматургии. В монооперах Г. Фрида, в «Бедных людях»
Г. Седельникова каждый отдельный номер тяготеет к образной
однородности. Для того чтобы сформировался самостоятельный этап драматургии, необходимо сопряжение контрастных
начал. Поэтому в названных сочинениях ту или иную драматургическую стадию образует группа миниатюр, своего рода «микроцикл». Начальный этап, экспозиция-завязка, представляет
в этом смысле особый интерес: здесь вокально-циклические
закономерности выявлены наиболее отчетливо. Первый поворот, перелом действия осуществляется так, как подсказывает
рельеф формы, состоящей из значительного числа сжатых
частей, - на грани эпизодов, представляющих противоположные идейно-образные сущности. Завязка становится первой
кульминацией действия и выступает своего рода моделью
конфликта.
В «Дневнике Анны Франк» перелом происходит на рубеже 4-го и 5-го эпизодов. Если в двух предшествующих («День
рождения» и «Школа») слушатель знакомится с Анной — очаровательным дитя, шаловливой школьницей, а первично-жанровые истоки музыки направляют ассоциации к детской песенке, считалочке, танцу, то уже в № 4 («Разговор с отцом»)
впервые кратко предвещается материал, характеризующий
контрдействие. В № 5 («Повестка из гестапо») он зазвучит в полную силу. Зловещий документ символизирует прямое вторжение в судьбу героини чудовищной машины фашизма. Использованные здесь композитором средства в принципе
традиционны для музыки X X века: опора на моторные жанры
(токката, «злые» скерцо и марш, этюд, perpetuum mobile), разного рода ostinati, динамически и метроритмически подчеркнутые жесткие гармонические вертикали преимущественно
с тритоновой основой, наконец, соответствующие приемы
звукоизвлечения и темброво-регистровые краски.
Ведущий конфликт «Писем Ван Гога» обозначен противопоставлением уже двух начальных эпизодов — «В мастерской» и «Художник». Контрастируют настроения, переживания,
размышления, но не события. Первая часть, пронизанная состоянием глубокой внутренней сосредоточенности, экспонирует
сферу сквозного действия. Ее ядро - открывающее монооперу
соло альта. Исходя из словесного текста части, ее можно
M
M
назвать темой одиночества, но в контексте всего сочинения это и тема творчества, и, как сказал бы сам Винсент, работы.
Она одновременно пластична и неустойчива, скрыто напряжена; охватывает огромный, чисто инструментальный диапазон и при этом наделена выразительностью речевого интонирования; каждый отдельный мотив содержит нисходящие, «гаснущие» обороты, - развертывается же она в обратном направлении, за четырнадцать тактов одолевая путь, превышающий
четыре октавы. Не будет натяжкой услышать в этой теме символическое воплощение идеи роста, восхождения. «...В человеке живет то же стремление вызреть, что и в зерне», - замечает
художник.
Противоположной символикой наполнена музыка следующей части: за безостановочным, мертвенно-механистичным
вращением ломаных триольныхфигураций, настойчивыми репетициями, хлесткими тяжелыми ударами созвучий в низком
регистре угадывается вся та жестокость жизни, которая в сознании героя уподобляется чудовищной мельнице: «Не каждое
зерно возвращается в землю, чтоб вновь прорасти. Большинство из них попадает на мельницу».
Любое сочинение, строящееся по сюитному принципу,
будь то вокальный цикл или, тем более, опера, если оно задумано как сочинение концепционное, должно быть наделено
необходимой мерой внутреннего единства - связями между
частями, сквозными драматургическими процессами. Недаром
вокальный цикл, обладающий этими качествами, во второй
половине X X века обнаруживает явное стремление «стать симфонией» и, действительно, в области вокальной музыки выполняет «ту же функцию, что и симфония в музыке инструментальной» [4, 332]. В X X веке, начиная с Малера, эти жанры активно
влияют друг на друга, порождая такие выдающиеся образцы,
как Четырнадцатая симфония Шостаковича; неудивительно
поэтому, что некоторые камерные оперы обнаруживают характерные признаки их обоих.
Обычно, когда говорят о симфонизации оперного произведения (равно вокально-циклического, кантатно-ораториального, балетного и др.), указывают на определенные признаки жанра симфонии: контраст интонационных сфер при их
единстве, тематическая разработка, сквозное развитие, трансформация музыкальных образов. Сегодня такой подход
нуждается в уточнениях. Во-первых, названные принципы,
действительно пришедшие в свое время из симфонии, уже
давно стали неотъемлемыми признаками оперы как жанра.
Во-вторых, во второй половине минувшего столетия сама симфония переживает период дестабилизации, отступая, как уже
указывалось, от установившихся канонов длительности звучания, исполнительских составов, структуры, то сворачивая в камерное русло, то устремляясь к концертности или вокальным
жанрам - при сохранении «семантического инварианта» жанра, определяемого в специальном исследовании как целостная,
обобщенная концепция Человека [1].
Именно с такой атипичной симфонией и контактирует
новая камерная опера. Все это существенно затрудняет, а порою делает практически невозможной четкую дифференциацию признаков «чисто» оперных и «чисто» симфонических.
Наконец, в-третьих, стремясь показать, какие новые черты
приобретает симфонизация, следует обратить внимание
на присутствие в камерной опере черт не только жанра, но
и формы симфонии. На более ранних этапах симфонизации
оперы подобная тенденция не наблюдается; в XIX веке - уже
намечена с достаточной определенностью [см.: 6], но все же
в единичных образцах; с появлением в 2 0 - 3 0 - е годы таких
шедевров, как«Воццек» Берга или «Леди Макбет» Шостаковича, она заявляет о себе со всей определенностью.
В частности, монооперы и другие сочинения с явными
признаками монологичности («Белые ночи» Ю. Буцко,
«Шинель» А. Холминова, «Лебединая песня» В. Кобекина)
содержат и более специфические, нежели в прошлые века,
предпосылки к активизации симфонических качеств. Одна из
них - уже упоминавшееся единство психологической точки
зрения. Известно, что в симфонии, квартете, других произведениях концертного плана мы имеем дело со своего рода
повествованием, ведущимся от лица «лирического героя», то
есть — с одной точки зрения, тогда как в жанрах, театральных
по природе (это может быть и опера, и характеристическая
песня), она смещается от одного персонажа к другому. Для симфонизма же монологического, лирического указанная особенность является определяющей. Недаром Чайковский называл
симфонию самой лирической из музыкальных форм (читай:
жанров), музыкальной исповедью души [22, 34], а И. Соллертинский сравнивал музыку такого рода с дневником [18, 305].
Естественно, что моноопера соприкасается преимущественно
с этим типом симфонизма.
Единство точки зрения в моноопере — мощный жанрообразующий фактор. Нераздельность внутреннего мира
героя, взаимосвязанность любых его проявлений обусловливают предельную концентрацию конфликта, что, в свою
очередь, предопределяет использование, в качестве ведущего
принципа, монотематизма. Последний также более характерен
для симфонической музыки (где и нашел впервые последовательное применение), чем для оперы, хотя, возможно, на его
формирование оказал воздействие опыт применения в опере
лейтмотивов. Все же в тех «больших» операх XIX века, где не
без основания усматривают признаки монодрамы, целые пласты интонационной драматургии могут располагаться за пределами монотематического «поля» и выступать по отношению
к ведущему конфликту яркой стилевой и драматургической оппозицией. Таковы, к примеру, в «Пиковой даме» Чайковского
фоновые эпизоды в первой картине, хоры гостей и певчих в третьей, песенка Томского в седьмой. В моноопере сколько-нибудь нейтральных драматургических пластов нет, интонационное единство достигает степени абсолютной, охватывая
интонационно-образную систему сочинения целиком.
Черты формы симфонии проявляют себя в камерной
опере на двух масштабных уровнях. Первый из них - придание
отдельным эпизодам и сценам типичных признаков традиционных частей сонатно-симфонического цикла (сонатного
allegro, медленной лирической, жанровой и других средних
частей, финала). При этом свойства сонатного allegro присутствуют, в основном, как и в подавляющем большинстве вокальных произведений вообще, в виде не структурной схемы, а характерных жанровых свойств этой части. К примеру, в одних
случаях соседство двух ярко контрастных эпизодов может напоминать сонатную экспозицию. Начальные номера «Писем Ван
Гога» Г. Фрида подобны экспозиции с обратным соотношением разделов: медитативно-лирическая главная партия и активно-динамическая побочная, что нередко встречается в музыке
X X века. В других случаях моменты драматургических переломов ассоциируются с началом разработки. Таковы, в частности,
завязки действия в обеих монооперах Г. Фрида. Аналогии с
другими частями симфонии еще более наглядны и многочисленны, особенно тогда, когда в чередовании разделов оперной формы угадываются характерные пары частей, объединенные симфонической логикой. Примером может служить пара
«Пассакалия,- Финал», утвердившаяся в композиторской практике благодаря традиции Шостаковича: в «Шинели» А. Холминова это эпизод после сцены со Значительным лицом и предсмертная молитва Башмачкина; в «Дневнике Анны Франк»
Г. Фрида - заключительные номера, которые так и названы:
Пассакалия и Финал.
Специфика новой камерной оперы, однако, такова, что
в ней возможно использование типично инструментальных
форм в масштабе не только разделов, но и всего сочинения.
К этому располагает, в частности, длительность звучания,
зачастую соизмеримая с продолжительностью не самой большой симфонии.
Наиболее показательный пример - «Письма любви»
В. Губаренко, соединяющие черты оперного монолога и симфонического цикла. Проявляют они себя двояко - на двух
композиционных уровнях. С одной стороны, оркестровые
интерлюдии, по своей драматургической весомости приближающиеся к вокальным разделам, можно трактовать как рассредоточенный трехчастный цикл, своеобразную камерную
симфонию. С другой стороны, и с не меньшим основанием,
за основные части «симфонии» можно принять сами монологи
с примыкающими к ним интерлюдиями.
Анализ подтверждает наблюдения В. Васинсгй-Гроссман, сделанные ею на материале камерного вокального
цикла: «Наиболее близкие аналогии обычно возникают... не
с сонатным аллегро, а с частями лирической, жанровой и финалом» [4, 317\. Мысль эта нуждается лишь в двух уточнениях.
Даже в XIX веке, не говоря уже о XX, немало симфоний (квартетов, сонат) не имеют первого аллегро. Вместе с тем природа
новой камерной оперы такова, что не исключает и подобной
возможности.
•••
После всего изложенного под сомнение может быть
поставлена сама принадлежность монооперы, оперы-дуэта
к опере как жанру. Действительно, если в произведении, с одной стороны, отвергнуты привычные атрибуты «большой» оперы (ослаблена театрально-сценическая, сюжетно-действенная
сторона, длительность звучания далеко не дотягивает до полнометражного спектакля, исполнительский состав более чем
скромен, отсутствуют хор и балет), а с другой стороны, ему явственно присущи признаки иных жанров, - правомерно ли такое произведение именовать оперой?
Однако «родовые» качества жанра в камерной опере
сохранены. Одни типично оперные свойства в ней даже усиливаются (например, коренящаяся в самой природе оперы тяга
к воплощению внутреннего действия, внутренних конфликтов),
другие трансформируются, но не исчезают. Анализ показывает, что даже «сверхкамерная» опера сохраняет такое коренное
свойство оперы вообще, как многообразие составляющих
жанров - арий, дуэтов, ансамблей, хоров 16 . Особенно показательна в этом плане моноопера. В ней, представляющей собой,
от начала до конца, речь единственного персонажа, запечатлены и образы внешнего мира (жизненного фона), и образы других лиц, реально не появляющихся на сцене, но фигурирующих
в монологе героя.
В ряде сочинений число внесценических персонажей
значительно и порой приближается к двадцати. В «Дневнике
Анны Франк» это отец, мать, сестра, учитель, супруги Ван Даан,
Петер, подруга Лиз, в «Письмах Ван Гога» - брат Тео, Христина,
почтальон Рулен, доктор Рей, в «Записках сумасшедшего» - директор, его дочь, начальник отделения, говорящая собачонка
Меджи (перечислены далеко не все).
«Выход» внесценического персонажа зачастую сопровождается новым, рельефным музыкальным материалом персонаж получает, таким образом, индивидуальную характеристику. Подобным образом обрисована актриса, виденная
Поприщиным в театре («Записки сумасшедшего», перед ц. 50):
всего шесть тактов музыки выполняют функцию арии второстепенного действующего лица в большой опере. Главное назначение таких арий - послужить поводом для психологической
реакции главного героя. Здесь «пение актрисы» напоминает
Поприщину о предмете его воздыханий; следующий за «арией» мечтательно-томный семидольный вальс становится лирическим центром сцены.
Нередко внесценические персонажи получают «право
голоса» - когда их прямая речь «пересказывается» главным
действующим лицом. Соответствующие вокальные фразы выделяются темброво-тесситурно, особой манерой звукоизвлечения и даже сценического поведения. Фраза Барышни «Папа
здесь не было?» («Записки сумасшедшего», 1 акт, 2 сцена) исполняется фальцетом и, по ремарке Ю. Буцко, пискляво. «Цитируя» говорящую собачонку, сумасшедший, согласно авторскому указанию, кривляется (2 акт, 1 сцена). Главный персонаж
«Монологов Якова Бронзы», перевоплощаясь в грубияна Фельдшера, поет «дурным голосом». Воспроизведенные Анной несколько фраз отца («Дневник Анны Франк», № 5, «Разговор
с отцом») соответствуют по драматургической функции балладе (рассказу) побочного действующего лица большой оперы,
в которой сообщается важная весть или описывается факт, круто
поворачивающий жизнь главного героя. Эпизод предвещает
16. Термин О. Соколова «составляющие жанры оперы» [17, 750] более точен, нежели привычное наименование «оперные формы».
резкую перемену в судьбе героини, конец безмятежного детства и начало страшных испытаний, а вместе с ними - стремительного духовного взросления.
Наиболее активная форма показа внесценических персонажей — воссозданный героем диалог: чередуясь, реплики
участников подчеркивают индивидуальную характерность друг
друга. В такие моменты театральное начало, таящееся в поэтике монооперы, обнаруживается более открыто.
Первая картина «Якова Бронзы» В. Кобекина содержит
три «диалога», которым соответствуют три основных раздела
картины: двое из «собеседников» Якова - Фельдшер и Марфа внесценические персонажи; Ротшильд - персонаж сценический, но немой, характеризуемый только инструментальными
средствами. «Появление» всех троих подано выпукло за счет
ярких темброритмических или тематических красок, динамики, инструментальных штрихов и т. п. Встретившись с бессердечием и хамством Фельдшера, Бронза, сам человек вспыльчивый и нечуткий, справедливо возмущен («Насажали вас тут,
артистов!»). «Диалог» с умирающей женой пробуждает в нем,
пусть не сразу и ненадолго, добрые чувства: здесь впервые звучит скрипичная кантилена - «тема вербы», становящаяся во
второй картине темой «душевного пробуждения», которая приобретет значение драматургического итога оперы. Но приходит Ротшильд — и темное, низменное вновь вскипает в душе
Бронзы: путь к просветлению не быстр, не прост и не прям. Таким образом, первая картина преимущественно «диалогична»
(в отличие от чисто монологической второй), чередование
«диалогов» определяет ее форму; образ главного персонажа
раскрывается здесь в общении, в его реакциях на других лиц.
Они-то и подводят Якова к духовному перелому.
Редкий, но в высшей степени выразительный образец
«диалога» двух внесценических персонажей - «Дуэт супругов
Ван Даан» из «Дневника Анны Франк». Построен он на многократном обмене репликами и потому достаточно продолжителен. С изумительным комизмом подражает Анна назойливой
скороговорке глуповатой мадам Ван Даан и сначала степенным,
а потом визгливым от раздражения или срывающимся на злое
шипение ответам ее мужа. Детская непосредственность, помноженная на острую наблюдательность и органическое чувство
юмора, позволяют девочке увидеть в будничной перебранке
соседей по убежищу веселый спектакль, а природный артистизм - блестяще разыграть его «в лицах».
В богатой «диалогами» моноопере Ю. Буцко «Из писем художника» есть даже подобие развитого ансамбля, в кото-
ром участвует сам Коровин и пятеро внесценических персонажей с ярко индивидуализированными «партиями» (эпизод
«Дискуссия»),
Массовые сцены, так называемые картинные, «отстраняющие» эпизоды, которые справедливо считают особенностью
именно оперной драматургии (ибо они практически недоступны драматическому театру) [19, 8], также широко представлены в камерной и моноопере - разумеется, в редуцированной
форме. Для оперы лирико-психологической такие сцены являются фоновыми. Согласно современной теории, фон есть «часть
(элемент) художественной структуры музыкально-драматургического целого, которая занимает внешнюю позицию по отношению к основному конфликту, локализована вне основного
конфликта и выступает... как условие... среда его реализации»
[7, 77]. Фон функционально подвижен и может включаться
в развитие основного конфликта. Если при этом элемент фона
сохраняет свои исходные функции, происходит «отклонение»
функций фона. Если же такой элемент утрачивает фоновые
функции, заменяя их функциями развития конфликта, происходит «модуляция», данный элемент перестает восприниматься как фоновый.
Характерно, что в изучаемых разновидностях фон почти всегда драматургически активен, в той или иной мере втянут в течение главного конфликта. Объясняется это не столько
тем, что фоновые эпизоды не разыгрываются воочию, а воображаются (вообразить ведь можно абсолютно достоверно),
сколько тем, что и такие эпизоды, и образы внесценических
персонажей подаются здесь исключительно в свете субъективного их восприятия центральным героем.
Обратившись снова к начальной сцене «Записок сумасшедшего», можно заметить, что встреча с Барышней происходит на улице - совершенно в традициях большой оперы, где
завязка лирической интриги часто осуществляется на фоне массовой сцены, с тем чтобы позднее образы ведущего конфликта
разрослись и оттеснили фоновый материал. Эпизод, при всем
своем лаконизме, четко распадается на три этапа. Первый обрисовка улицы, собственно «массово-бытовая сцена» («На
улице одни лишь бабы, да купцы, да извозчики попадались мне
на пути»). Как и в других сценах оперы, окружение Поприщина
характеризуется через огротескованный галоп: окружение
героя безумно, как и он сам. На втором этапе - «выход директорской дочери» - фоновый и психологический планы совмещаются: мотив Барышни звучит на фоне уличного галопчика.
На третьем этапе фон смолкает (пораженный Барышней, несчастный чиновник просто перестает воспринимать что-либо, кроме нее), кристаллизуется основной, минорный вариант мотива
Барышни. Нетрудно вообразить, что на месте этого эпизода,
длящегося считанные минуты, в большой опере можно было
бы ожидать развернутый «Хор баб, купцов, извозчиков и
проч.», затем дуэт и, наконец, арию или ариозо, где герой изливает свои чувства.
Замечательную по живости и яркости изображения
картину Нижегородской ярмарки дал Ю. Буцко во второй моноопере, «Из писем художника». Следуя традициям Серова,
Римского-Корсакова, Стравинского, давших в своих произведениях для музыкального театра непревзойденные образцы
массовых сцен такого рода, композитор включил в нее и крик
зазывалы, и сочно выписанные групповые портреты, и забавные жанровые эпизоды. Характерно, что и тут многоплановая
массовая сцена служит фоном для важнейшего события личной жизни героя - встречи с Шаляпиным.
Дважды предстает на фоне массовых сцен Ван Гог
в опере Г. Фрида. В N5 4, «Едоки картофеля», художник пересказывает сюжет и толкует свое живописное полотно. В сравнении с традиционными народно-массовыми сценами, эта не вполне обычна. Она безмолвна, крестьяне не поют и не пляшут, поэтому «изобразить» ее можно только при использовании ассоциативных возможностей слушательского восприятия.
Музыка, аскетичная и сумрачная по колориту, заставляет вспомнить саму знаменитую ныне картину, в палитре которой преобладают землистые бурые и зеленоватые тона. Строгий рисунок
вокальной партии, мерные тяжелые шаги басов, неяркие блики интервалов и аккордов в средних этажах фактуры (рояль,
контрабас), ритмичное постукивание малого барабана... В этой
сцене в сознание Винсента впервые входит тема суровой простоты крестьянской жизни, символизирующая для него некую
высшую мудрость бытия.
Напротив, на узеньких городских улицах, между
высокими домами, среди невероятного гама Винсенту неуютно (N? 7, «Антверпен»). Шумное скерцо-токката, словно спотыкающееся из-за аритмии сменяющих друг друга размеров
(Щ,®), воссоздает лихорадочную суету портового города, за которой герою видится бездуховность праздного времяпрепровождения. Диатонические, песенного склада мелодические
фразы в духе вульгарной уличной шансонетки намекают на
«действующих лиц» сцены - публичных девок, подвыпивших
матросов.
Немногими лаконичными и точными штрихами изображен «именинный чай» в «Шинели» А. Холминова. Подлинная находка здесь - вальсовый мотив (ц. 38), несущий многоцелевую смысловую нагрузку. Во-первых, это, вероятно,
отголосок того вальса, который Башмачкин слышал (а может,
даже танцевал) на вечеринке. Во-вторых, в характерных почти
для любого вальса интонациях кружения отражается конкретная сюжетная ситуация («Выпил... шампанского - голова закружилась!»). В-третьих, в этом вальсе легко прослушиваются
и сквозные в партии Башмачкина плачевые интонации. Примечательно также, что вальс этот становится лейтмотивом следующего эпизода (Акакий Акакиевич возвращается домой), наподобие так называемых лейтмотивов картин, то есть выступает
в качестве мотива-воспоминания о бале - при том, что сам бал
прямо не запечатлен.
Подобные сцены встречаются в «Дневнике Анны
Франк» (№ 3, «Школа» и № 7, «У окошка»), «Письмах любви»
В. Губаренко (3 сцена, на словах «Один раз я танцевала» и «Вчера любовалась каким-то празднеством...»), дуоопере Д. Кривицкого «Пьер и Люс» (сцена «В Люксембургском саду»).
Фоновую, отстраняющую роль играют также эпизоды
или отдельные тематические элементы, рисующие место
действия, окружающее пространство, находящиеся в нем
предметы: удары колокола в «Дневнике Анны Франк», многочисленные пейзажи в «Письмах Ван Гога» (герой всматривается в природу с профессиональной наблюдательностью), тесная
каморка и берег реки - соответственно в двух картинах
«Монологов Якова Бронзы».
К разряду фоновых фрагментов следует причислить
и различного рода «вставные» номера, исполняемые главными героями и изредка - внесценическими персонажами.
Не связанные с основным действием в плане сюжетно-событийном, в музыкально-драматургическом аспекте они обнаруживают либо отклонение их фоновых функций, либо модуляцию в область основного конфликта.
Так, «очень хорошие стишки», распеваемые Поприщиным («Записки сумасшедшего», 1 акт, 4 сцена), интонационно
включены в сферу безумия, указывают на неразвитость сознания героя, в частности, его художественного вкуса.
Начало «Монологов Якова Бронзы» построено на чередовании реплик, относящихся к основному действию, и фраз
напеваемой «про себя» песни «Во поле береза стояла». Песня
поется вначале без слов, потом «нечленораздельно» (ремарка
В. Кобекина) - остальные фразы исполняются с текстом, обычной дикцией. Возникает типичный для оперы момент полифонии двух планов, действенного и нейтрального. Однако нейтральное здесь настолько втянуто в основное действие, что
интонационно вообще никак не выделено. На этом же материале строится многое в дальнейшем развертывании первой картины, что в контексте целого складывается в образ бездушия и
ожесточения. Замещение мелодии народной песни мотивами
этой сферы - точный психологический штрих к характеристике
гробовщика: он забыл песню, как забыл и собственного ребенка, умершего пятьдесят лет назад, как забыл и предал все доброе и чистое в себе.
Совершенно особую роль играет песня (точнее, ее отдельные фразы) в моноопере «Нежность». Разверни композитор четырехстраничную новеллу А. Барбюса в полнометражное
оперное либретто, наверное, в первом акте была бы сцена, скажем, в кафе или на бульварах, где герои впервые слышат полюбившуюся им потом мелодию (В. Губаренко цитирует песню
Ж. Гюстена «Лунная дорога»). Здесь она выполняла бы чисто
фоновую функцию. Позднее же, ближе к концу оперы, уже покинутая возлюбленным. Женщина вспоминала бы ту мелодию
как символ утраченного счастья - здесь совершалась бы модуляция фоновых функций. В целом это напоминало бы широко
используемый в кино прием перехода музыки внутрикадровой
в закадровую. В. Губаренко вводит песню (лишь несколько
фраз) без «предыстории», как бы минуя ее первое, сюжетно мотивированное и сугубо фоновое появление. Более того, напев
этот составляет центр интонационной драматургии монооперы,
вокруг которого и в связи с которым существуют все другие музыкальные образы.
Отдельного рассмотрения заслуживают заключительные сцены «Дневника Анны Франк», «Записок сумасшедшего»
и «Шинели». В них также нашли воплощение типично оперные
ситуации и связанные с ними драматургические решения.
Моноопера Г. Фрида не заканчивается монологом
героини, композитор добавил к нему краткое оркестровое послесловие. Два момента сближают его с фоновыми эпизодами. Во-первых, здесь показано место действия, а не внутренний мир Анны; во-вторых, внешней по отношению к героине
является сама точка зрения, с которой ведется музыкальное
повествование. Картина разгрома убежища фашистами
(первый раздел) увидена как бы глазами автора. Второй
раздел неизобразителен, это скорбное надгробное соло
тромбона 17 , авторская эмоциональная и этико-философская
оценка событий. Подобное нередко встречается в большой
опере в моменты гибели главных героев, когда авторским комментарием становится оркестровое проведение лейттемы погибшего персонажа, звучание закулисного хора и т. п.
Заключения «гоголевских» опер Ю. Буцко и А. Холминова также содержат авторский комментарий-послесловие.
В «Записках сумасшедшего» голоса автора и героя сливаются.
На грани Финала развитие образа Поприщина делает крутой
поворот: теперь все истинно человеческое в нем, задавленное
привычкой и страхом, выходит на первый план, болезненное
перестает быть отталкивающим и отступает в тень. А в музыке
Эпилога уже ничто не напоминает о помешательстве чиновника, пелена безумия словно спала с него18. Музыкальный материал Финала и Эпилога ярко контрастирует предшествующему. Это две темы, близкие русской народно-песенной сфере:
более распевная, лирическая, изложенная политонально (она
обрамляет Финал), и более оживленная, поддержанная музыкой колокольчиков («Дайте мне быстрых, как вихрь, коней!»).
Далее, это напевно-декламационный плач («О, Боже мой...») и,
наконец, словно издалека доносящийся сурово-трагический
перезвон колоколов в Эпилоге.
Действие переходит из плана субъективно-личностного в эпически-обобщенный. Совершается нечто подобное тому,
что Б. Асафьев называл «переключением смысла», «когда люди
превращаются в судей самих себя, в голос истории» [2, 118].
Монолог Поприщина словно усилен хором народа, традиционного носителя позитивной идеи оперы (вспомним хотя бы
Финал «Катерины Измайловой» Шостаковича). О подразумеваемом присутствии народа говорит и более объективный характер лирики, и появление в тексте образов, символизирующих в поэтике русского фольклора вечные этические ценности,
незыблемые основы бытия: тройка, родной дом, матушка, Россия. Из каморки мелкого чиновника, из казенных кабинетов
департамента, из палаты «желтого дома» действие вырывается
на простор, а «семантика пленэра» также ассоциируется
с массово-хоровой сценой. Финальное переключение смысла,
17. Та же тема, порученная тому же инструменту, звучала ранее в эпизоде «Сон» (№ 11), где Анна оплакивала подругу Лиз, трагическую
судьбу которой теперь разделила.
18. Ю. Буцко решительно отходит от литературного первоисточника,
опуская ударную заключительную фразу («А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?»), которой Гоголь напоминает
о безумии героя.
чутко услышанное музыкантом в повести Гоголя19 и претворенное им в духе оперных традиций, сообщает «истории болезни»
чиновника социальную масштабность, далеко выводя ее за рамки индивидуальной судьбы.
Рупором авторской точки зрения в финальном разделе «Шинели» выступает Голос молящейся женщины, справляющей панихиду по Башмачкину 20 . Напрашиваются аналогии
с типичными для русской оперы сценами отпевания, хорамиплачами21 - с тем важным уточнением, что выход за пределы
собственно монолога здесь реален, а не подразумевается, как
в чистых образцах монооперы.
Так в специфических жанровых условиях преломляется традиционная для русской оперной классики повышенная
роль финальных хоров-резюме (причем не только в исторической драме или эпической сказке, но также в опере бытовой
и психологической). Весьма показательны в этом отношении
известные слова Чайковского из письма к либреттисту «Чародейки»: «Нельзя ли сделать так, чтобы трагедия кончилась
всенародно... чтобы народ при этом был?» [21, 435].
Камерная опера, в том числе опера-монолог, несмотря на очевидную ограниченность ресурсов, способна отобразить круг жизненных явлений более широкий, чем кажется
на первый взгляд. Внесценические персонажи, образы фона,
в частности людской массы, значительно раздвигают содержательные горизонты жанра, обеспечивают многоплановое истинно оперное - воссоздание действительности. Все то,
что окружает главных героев, представлено пусть отдельными,
но характерными элементами, легко узнаваемыми и мысленно
отождествляемыми с их прообразами. Косвенная обрисовка
окружения реализуется в формах, эквивалентных традиционным составляющим жанрам оперы.
Если в пору становления изучаемого жанра в отечественной музыке могло сложиться представление о том, что он
19. «Это не сумасшедший чиновник безнадежно плачет в заключение, - писал В. Шкловский, - это Россия хочет "родиться", хочет
"быть", хочет стать и будет» [23, 445].
20. А. Холминов также заканчивает оперу по-своему, отказываясь
от гоголевского фантасмагорического финала.
21. Хоровую природу женского соло верно почувствовали постановщики, поручавшие эту партию то невидимому хору (концертное
исполнение в Колонном зале Дома Союзов, 1973, режиссер Ю. Богатыренко, музыкальный руководитель А. Корнеев), то ансамблю монашек в черном (Московский камерный музыкальный театр,
сезон 1975/76 гг., режиссер Б. Покровский, дирижер А. Левин,
художник M. Ушац).
начисто лишен качеств театральности, сценичности, то теперь
уже ясно: в нем формируется театральность нового типа. Примечательно в этой связи, что многие сочинения в 8 0 - 9 0 - е годы
перешли с концертной эстрады на театральные подмостки.
К примеру, «Дневник Анны Франк» неоднократно ставился
в Голландии, Германии, Австрии, США, а в 1985 году в Воронежском театре оперы и балета 22 ; «Письма Ван Гога»
обрели сценическую жизнь годом раньше в театре «Эстония»
(Таллинн) 23 .
В своих лучших образцах камерная опера есть все же
опера, притом опера второй половины X X века, отмеченная
печатью тех же исканий, что и современный ей драматический
театр, кино, а также камерно-вокальные, симфонические и
иные музыкальные жанры, печатью нового художественного
мировосприятия.
Литература
1. Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии
в советской музыке 1960-1975 годов: Исследовательские очерки. Л.,
1979.
2. Асафьев Б. Русский народ, русские люди // Избранные труды. Т. 4.
М., 1961.
3. Баева А. Опера / / История современной отечественной музыки.
Вып. 3 (1960-1990) / Ред.-сост. Е. Б. Долинская. М., 2001.
4. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. Ч. 2: Интонация.
4. 3: Композиция. М., 1979.
5. Курышева Т. Камерный вокальный цикл в современной русской советской музыке // Вопросы музыкальной формы. Вып. 1. М., 1967.
6. Мазель Л. Две заметки о взаимовлиянии оперных и симфонических
принципов у Чайковского / / Советская музыка. 1958. № 9.
7. Мугинштейн М. Переменность драматургических функций фона в
опере-драме: Автореф. дис. ... канд. иск. М., 1981.
8. Покровский Б. Об оперной режиссуре. М., 1973.
9. Сабинина М. Заметки об опере // Советская музыка на современном
этапе: статьи, интервью / Сост. Г. Л. Головинский, Н. Г. Шахназарова.
М., 1981.
10. Сабинина М. Опера // История музыки народов СССР (1968-1977) /
Гл. ред. И. В. Нестьев. Т. 6. Кн. 1. М„ 1995.
22. Дирижер В. Васильев, солистка А. Тырзыу.
23. Дирижер В. Пяхн, солист X. Мийльберг.
11. Сабинина М. Опера-оратория и моноопера // Советский музыкальный театр: Проблемы жанров / Ред.-сост. М. Е. Тараканов. М., 1982.
12. Селицкий А. «Бесподобный тип оперы...» // Советская музыка. 1978.
№ 1.
13. Селицкий А. Глеб Седельников // Композиторы Москвы: Сб. статей.
Вып. 4 / Сост. И. В. Лихачева. М., 1994.
14. Селицкий А. Монологические формы прозы и драматургия «малой
оперы» // Проблемы музыкальной драматургии XX века: Сб. трудов
ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 69 / Отв. ред. В. М. Цендровский. М., 1983.
15. Селицкий А. Моноопера Ю. Буцко «Записки сумасшедшего» // Теоретические вопросы вокальной музыки: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных (межвуз.). Вып. 44. / Отв. ред. Н. Ф. Тифтикиди. М., 1979.
16. Селицкий А. Советская моноопера: трансформация родовых признаков жанра / / Музыкальный театр: События, проблемы / Ред.-сост.
М. Д. Сабинина. М„ 1990.
17. Соколов О. Морфологическая система музыки и ее художественные
жанры. Н. Новгород, 1994.
18. Соллертинский И. Музыкально-исторические этюды. Л., 1956.
19. Тюлин Ю. От редактора-составителя / / Вопросы оперной драматургии. М., 1975.
20. Цукер А., Селицкий А. Григорий Фрид: Путь художника. М., 1990.
21. Чайковский на оперной сцене. М.; Л., 1940.
22. Чайковский П. И., Танеев С. И. Письма. М., 1951.
23. Шкловский В. Художественная проза: Размышления и разборы. М.,
1961.
Отечественный симфонизм
после Шостаковича
и новый облик симфонии-драмы
Симфонии Шостаковича стали очередной кульминацией в истории существования этого жанра, подобно симфониям Бетховена, Малера и Чайковского. Как всегда в кульминационные моменты, вершина эта знаменовала гибель той или
иной ипостаси жанра. Но гибель временную: каждый раз он
воскресал в новом обличье. Так случилось и с симфонией следующих после Шостаковича поколений.
Подобно Бетховену и Малеру, Шостакович сыграл роль
«симфонического эталона» своей эпохи. Ему можно было следовать или отвергать его; игнорировать этот ориентир было
невозможно. Олицетворение симфонической традиции для
композиторов следующего поколения, творчество Шостаковича стало образцом для подражания или отправной точкой
поиска; непрерывно ведущийся в русской симфонии второй половины века «диалог с Шостаковичем» варьируется от почтительного поддакивания до страстного опровержения.
Однако на судьбу драматической симфонии повлияли и иные предпосылки. Напомним, что после Малера значение
симфонии как ведущего жанра на Западе теряет свою безусловность. Именно русская культура с ее страстным ощущением
наследничества и развитой собственной симфонической традицией продолжает историю симфонии-драмы. Свою роль сыграло и другое обстоятельство: «особый расцвет симфонии
в советскую эпоху объясняется... идейной нагруженностью симфонического типа мышления... Неотрывная от интеллигентского самосознания... потребность проблемно высказаться обращала к симфонии - "абсолютной музыке", философская
концепционность которой укрыта за чистым звучанием...» [7, 72\.
Как это обычно и бывает, признаки брожения в жанре
обнаружились еще в пределах деятельности композитора.
определяющего лицо эпохи1. Моментом переоценки ценностей
стали 60-е годы. Закономерным образом он совпал с переворотом общественного сознания в СССР конца 50-х — начала
60-х годов. Развенчание идолов в родной стране, с одной стороны, и возможность проникновения западного экспериментирования — с другой, породили естественное стремление к поиску, который затронул казавшиеся прежде незыблемыми
столпы жанра: цикл, драматургию, язык. К этому периоду относятся отмеченные М. Арановским поиски «обновления жанра внутри канона» и «альтернативы канону» [об этом см.: 1]. Шестидесятые годы отмечены такими взаимоисключающими друг
друга произведениями в симфонической области, как Шестая
симфония М. Вайнберга и Третья Н. Каретникова, Вторая
Б. Чайковского и Вторая А. Пярта, Robusta Б. Тищенко и «Совершишася» А. Караманова. Если Вайнберг, Б. Чайковский, Тищенко, не игнорируя открытий западного авангарда, принимали их
выборочно, преломляя через русскую традицию (в особенности - через позднего Шостаковича: его двенадцатитоновость,
его работу с цитатами), то Каретников, Пярт, Караманов,
Сильвестров представляли собой резкую оппозицию сложившимся драматургическим принципам и музыкальному языку,
давая разные варианты «альтернативы канону». Грандиозным
итогом 60-х стала Первая симфония А. Шнитке «(K)eine Symphonie», отрицание и новое утверждение жанра.
Поэтому специфика описываемого этапа по сравнению
с предыдущими переломными моментами истории состоит
в том, что он дал не одно-два новых симфонических направления, а, в соответствии с тенденцией музыкальных форм и жанров второй половины X X века к индивидуализации, множество
новых представлений о «симфонии» как феномене. «Сто музык» нашего времени (М. Просняков) оборачиваются как будто распылением самого понятия «симфония».
Прежде всего, начинает стираться граница между жанрами симфонии и концерта [см.: 5]. В какой-то степени это бывало и раньше (Второй фортепианный концерт Брамса, Симфония-концерт Прокофьева и т. д.), но касалось больше
симфонизации концерта; обратное же влияние концертности
на симфонию в русской музыке связано, скорее, со второй половиной X X века (не в последнюю очередь — с проникновением влияния западного неоклассицизма с его игровой окра1. Так, признаки стилистического перелома второй трети XVIII в. явились задолго до кончины Баха и Генделя, а Шуберт, с именем которого связывается заря следующей эпохи, пережил «последнего классика» лишь на один год.
шенностью). Сильнее всего концертное начало ощущается в камерных симфониях, к которым охотно стали обращаться композиторы как к одной из альтернатив «большой симфонии»
(Седьмая и Десятая Вайнберга, Третья Тищенко и др.). Однако
тенденция сближения концерта и симфонии касается и произведений для большого оркестра. Такова, например, концертная симфония Н. Сидельникова (1930-1992) с характерным названием «Дуэли» (1974). Концертна Первая симфония Шнитке;
сближаются с симфонией его Concerti grossi, пока не пересекутся с ней в точке Пятой симфонии, обозначенной также
Concerto grosso N2 4.
Симфония может слиться с ораторией, как у Сидельникова: «По прочтении "Диалектики природы" Ф. Энгельса»
(1968), «Мятежный мир поэта» (1971). Изнутри симфонии начинают прорастать жанры, ранее бывшие ее драматургической
противоположностью: Симфонии-сюиты, Симфония-речитатив,
Симфония-интермеццо Ю. Буцко (р. 1938). Sinfonii da camera
В. Шутя (р. 1941) - не столько реакция на «симфоническую
гигантоманию» предыдущих десятилетий, сколько, в свою очередь, декларация принципиальной «внелитературности» музыкальной драматургии - в эпоху, когда тот или иной подзаголовок делается почти неизменным спутником обозначения жанра.
Это стремление уточнить свои намерения, не ограничиваясь констатацией принадлежности к жанру симфонии, связано не столько с романтически понятой литературной программой, сколько с резкой индивидуализацией жанра: ни одна
симфония не ориентируется на другую ни в количестве частей,
ни в форме их, ни в инструментальном составе, ни - самое главное - в драматургии. Одноразовость замысла и призваны отразить названия: таковы две симфонии С. Губайдулиной «Stimmen-Verstummen» (1986) и «Фигуры времени» (1994),
Третья симфония Сильвестрова «Эсхатофония» (1966), «Симфония о погибели Земли Русской» Сидельникова (1989), Четвертая симфония Н. Корндорфа «Underground music» (1996),
Первая симфония, «Времена года» (1980), и Третья - «Voyages»
(1995) Д. Смирнова и т. д. 2
Таким образом, к концу века слабеет отмеченное
М. Арановским деление симфоний на «обновляющие жанр
внутри канона» и «альтернативные канону». Каждое новое
обращение к симфонии заключает в себе одновременно две
2. Индивидуализация затрагивает и язык: даже этот небольшой
список включает названия на четырех языках, несущих очевидным
образом семантическую функцию.
разнонаправленные тенденции русской музыки второй половины XX века: самоидентификацию с традицией, захватывающее ощущение наследничества, выраженное уже в самой
причастности к имени-сущности жанра, и тотальную «одноразовость» замысла, «индивидуальный проект» (по Ю. Холопову). Так, например, четырехчастная большая симфония № 1
Э. Денисова (1987) не столько «возвращение к канону», сколько очередной «индивидуальный проект», который, в соответствии со своим статусом, более не возникнет у композитора.
Что же осталось от симфонии к концу X X века?
Четырехчастный цикл? С ним простились в первую очередь: частей может быть девять (Десятая Слонимского), одна
(Третья Б. Чайковского). Сонатность первой (или единственной)
части? Не обязательно: встречаются вариации (Четвертая
Шнитке) или особые, специально сочиненные формы (Вторая
Пярта). Линейная драматургия «от... к...»? Отнюдь нет: «статическая симфония» 7 0 - 8 0 - х годов может быть медитирующей,
«кругообразной» (Третья Пярта) или полностью находиться
«в зоне коды», декларируя «эстетику прощания», свойственную
ностальгирующей эпохе (Пятая Сильвестрова). Наконец, симфония - «со-звучание» многих инструментов, объединенных
в оркестр? Нет; симфония может быть написана для рояля, трубы, там-тама и голоса (Четвертая Уствольской) или даже для
меньшего числа инструментов, вплоть до одного-двух («Симфония-соната» для виолончели и фортепиано Сидельникова,
1982, его же «Лабиринты» - роман-симфония для фортепиано
соло по мотивам древнегреческих мифов о Тезее в пяти фресках, 1992, Симфония для препарированного рояля Л. Родионовой, 1999 и пр.).
Может быть, масштабность? Казалось бы, это тоже
необязательно: симфония может идти больше часа, а может
несколько минут. Однако задержимся на этом пункте: скоротечность обманчива. Дело не в том, что симфония маленькая,
а в том, что скорость течения симфонического времени тоже
неодинакова. Так, в Четвертой симфонии Уствольской (1987)
пяти-семиминутная композиция моделирует вечность: неизменны (остинатный) ритм, басовая формула, интонационный
материал, который только меняет исполнителей (Stimmtausch),
текст, взывающий к вечному (краткий фрагмент-молитва из стихотворения немецкого монаха XI века Германа Контрактуса)3.
3. Поэтому Галина Уствольская против того, чтобы говорить о ее
сочинениях как о камерных, даже если они написаны для малого
состава. Новое понимание камерности?
Здесь и следует искать общий знаменатель «симфоний», позволяющий этому жанровому определению упорно
кочевать из одного списка сочинений в другой. При всей вариантности драматургий и форм, симфония продолжает быть
моделью мира. В этом причина того, что многие крупнейшие
мастера по-прежнему обращаются к симфонии как к важнейшей категории высказывания; вариантность же этих моделей
в X X веке - причина того, что симфония-драма, симфония
с линейно направленной драматургией, бывшая ведущим жанром на протяжении двух веков своего существования, к концу
века стала терять приоритетность 4 .
И все же симфония-драма не только живет, но долгое
время сохраняет свое ведущее положение благодаря творчеству крупнейшего симфониста после Шостаковича - Альфреда Шнитке (о нем см. следующую главу). Однако и некоторые
другие ведущие композиторы рассматриваемого периода считают «симфонию-драму» важнейшим, если не единственно возможным видом симфонической драматургии.
Сергей Михайлович Слонимский (р. 1932) в симфоническом жанре заявил о себе, главным образом, как приверженец эпической драматургии. Типичны первые части
Moderato, в которых следует искать не столько напрашивающееся влияние Шостаковича, сколько связь с петербургской
традицией. Созерцательное начало, свойственное этому роду
симфонизма, в творчестве Слонимского оборачивается театральным. Кажущееся парадоксальным, сочетание это органично для школы Римского-Корсакова, породившей Прокофьева
и Стравинского 5 . Игровое начало как оборотная сторона фольклоризма Слонимского заявило о себе еще в вызвавших бурные дискуссии «Концерте-буфф» (1964) и Второй симфонии (1978),
4. Поскольку симфония как жанр утрачивает каноничность, делаясь
каждый раз новым «изобретением», многие композиторы отказываются вообще от обозначения этого жанра, давая своим, столь же концепционным, произведениям специальные названия. Таковы In D
H. Корндорфа - автора четырех сочинений, определяемых им как
«симфонии», «Ника» А. Кнайфеля, «симфоний» не писавшего вообще. Б. Чайковский не позволяет себе назвать одно из определяющих
для себя произведений, «Тему и восемь вариаций» для большого
оркестра (1973), симфонией, будучи в это время приверженцем традиционного взгляда на то, что есть симфония, а что нет. Двадцать
лет спустя, однако, он напишет «Симфонию с арфой», построенную
сюитно.
5. Его оправдывает и этимология: греческое «театр» означает «зрелище».
где народная по складу мелодия подвергается «искажению» джазовой обработке (прием жанрового снижения, не чуждый
и Шостаковичу, здесь, однако, подается в ключе, близком
партитурам Шнитке, активно использующего для этой цели
инструментарий «легких жанров»: ритм-группа и электроинструменты). Открыто оно проявилось в Десятой симфонии
«Круги ада»(по Данте), где тонко трактованная, но тем не менее
подробно, до иллюстративности разработанная программность
заставляет вспомнить Берлиоза (вплоть до кощунственного
наложения «молитвы и канкана» в VII части), - но опять-таки
Берлиоза, как бы увиденного глазами членов Балакиревского кружка.
Особняком стоит творчество Александра Лазаревича
Локшина (1920-1987). Он не был ни последователем Шостаковича, ни оппонентом его, при том что в Локшине как ни в ком
другом жило ощущение «наследничества». Скорее его следовало бы назвать русским наследником Малера, как по утонченной экспрессивности музыкального языка, так и по трактовке
оркестровой фактуры - тотально тематизированной (нередко
состав оркестра сводится композитором к камерному ансамблю). Вслед за Малером Локшин отдает предпочтение симфониям с голосом (среди одиннадцати его симфоний только в
одной, Четвертой, нет певца). Локшин создал свой неповторимый тип симфонической драматургии, который он сам
в своих партитурах определяет как тему с вариациями. Однако
этот термин следует понимать не столько технически, сколько
эстетически, как ведущую музыкальную мысль и ее различные ипостаси.
Если мы рассмотрим несколько пристальнее симфонические концепции некоторых ведущих композиторов «эпохи после Шостаковича», то увидим определенную тенденцию
постепенного изживания «симфонии-драмы» в ее традиционном виде и разнообразные попытки как ее «воскрешения», так
и создания новых линейных концепций на ее месте. Начав
с прямых последователей и учеников Шостаковича, обратимся затем к композиторам, стоявшим вне его непосредственного влияния.
Одним из крупнейших представителей драматического симфонизма следующей после Шостаковича генерации был
Мечислав (Моисей) Самуилович Вайнберг (1919-1996).
Его огромное симфоническое наследие (свыше двадцати
симфоний) — яркий пример сокрушительного по своей мощи
воздействия симфонизма Шостаковича. Мелодист, лирик
по складу своего дарования, в большой степени тяготеющий
к камерно-концертному письму, композитор с редким для середины X X столетия гармоничным взглядом на мир, Вайнберг
в то же время буквально ранен симфонической драматургией
и образной сферой Шостаковича. Такой парадоксальности музыкального облика Вайнберга, лирика по мироощущению и
трагика-драматурга, способствовала, несомненно, трагическая
судьба композитора, пережившего гибель семьи и лагерь.
Вайнберг работал, по большей части, в русле «большой
драматической симфонии». Сквозь призму стиля Шостаковича
преломлялось и неизбежное для симфониста X X века влияние
Малера. Приверженец канонического симфонического цикла,
Вайнберг, однако, допускает широкое его варьирование.
Значительную роль играют вокально-симфонические
партитуры, связанные, как правило, с антивоенной тематикой
(симфонии N2 б, 8, 9,18). Национальная специфика вайнберговского письма - еврейский, польский, молдавский фольклор - органична для русского симфонизма, всегда охотно впитывающего чужие традиции. Национальное начало играет
в образной сфере Вайнберга необычно обаятельную роль:
не экзотико-колористическую и не помпезно-патриотическую,
а романтически интимную, подобно польской сфере у Шопена: идея дома - уюта - тепла, вожделенных и недостижимых,
функционально аналогична Stimme aus der Feme Шумана или
«Детскому альбому» Чайковского.
Одна из крупных удач композитора в области программного симфонизма - Шестая, с участием детского хора
(текст М. Квитко, С. Галкина и М. Луконина). В пятичастном
цикле традиционная сонатность ослабела донельзя, но осталась
та основа канонической симфонии, которой придерживался
Шостакович: образная антитеза, мощная симфоническая разработочность.
Сам замысел большой вокально-симфонической
фрески, связанной с военной темой, не может не напомнить о
Тринадцатой Шостаковича, писавшейся в те же годы; о ней же
напоминает типичная для Вайнберга, но необычная для Шостаковича поэтизация быта (ср. финал симфонии Вайнберга
и «В магазине» из Тринадцатой), заменяющая традиционные
«победные финалы»: весьма характерное драматургическое решение для Вайнберга; III и IV часть драматургически близки соответствующим частям Восьмой; не случайны, вероятно, также
интонационные сближения между «Бабьим Яром» и IV частью
симфонии Вайнберга, в которой речь идет о гибели детей.
1
а
)
[Largo]
л
М. Вайнберг. Симфония № б. IV часть
РРР
j-ULJ7>
В крас_ной гли_не
б)
вы.рыт ров;
Adagio J=58
Bassi
[Т]
IJiJij
я и.мел
j
о _ чаг и кров.
Д. Шостакович. Симфония N213.1 часть
р
es r
P
j
Над Бабь_им Я _ ром
jijijj'ij
па_мят_ни.ков нет.
Однако замысел Вайнберга заметно отличается от драматургии старшего мастера. Автобиографичность его вне сомнений: он связан с военной и еврейской темой. Кроме того,
едва ли случайно Вайнберг использует стихи репрессированных после войны двух еврейских поэтов, писавших на идиш.
Оба стихотворения говорят о мире детства; отсюда сближение
национальной сферы с лирико-инфантильной, а через нее с романтическим образом утерянной «малой родины».
Лейттембром служат скрипки, традиционно связанные
как с человечным, творческим началом, так и непосредственно
с лирическим национальным (скрипки - основа клезмерского
ансамбля, образ, неразрывно связанный с «еврейским мифом»).
Им поручена главная тема I части — призрачный национальный
образ (см. пример 2; вновь напоминающая о Шостаковиче
опора минора на низкие ступени, особенно на пятую, также
связана с использованием еврейского фольклора, не чуждого,
2
-
[Adagio sostenuto J=4o-44]
М. Вайнберг. Симфония № б. I часть
Е£Ы
как известно, и Шостаковичу). В стихотворении Квитко (II часть)
речь идет о ребенке и его «скрипочке» — вайнберговский вариант «детского рая», неразрывно связанного с сольным тембром скрипки. Сквозная фанфарная тема, зародившаяся
в каденции флейты в I части, получившая открыто враждебный
смысл у трубы (скерцо), растворится в сольной скрипичной
(тоже клезмерской) сфере в финале.
«Тихий финал», возможно, ориентирующийся на финалы Восьмой и Тринадцатой, лишен, однако, могучей амбивалентности Шостаковича; его высокая умиротворенность
вновь демонстрирует лирическое дарование Вайнберга, быть
может, более близкое прокофьевскому. По этой же причине
попытка «злого скерцо» в духе Шостаковича неожиданно
оборачивается броским полнокровным эффектом а 1а «Танец
с саблями».
Тяготение Вайнберга к лирическому камерному началу в симфонизме проявилось в ряде симфоний для камерного
состава (среди них выделяются Седьмая и Десятая). В «больших» полотнах 70—80-х годов, несмотря на то что свежесть и
непосредственность партитур 60-х сменяется некоторым однообразием формы, наиболее сильной стороной Вайнберга
по-прежнему остается его лиризм, в частности - мелодика
и интимная трактовка драмы. Таково, например, Adagio из Двенадцатой симфонии, посвященной памяти Шостаковича, или
Восемнадцатая симфония «Война - жесточе нету слова»,
побочная тема которой близка Lacrimosa из Реквиема Шнитке.
И все же у позднего Вайнберга дает о себе знать давно уже назревающая проблема инерции жанра симфонии-драмы. Решать
эту проблему пришлось композиторам следующих поколений.
Четыре симфонии для большого оркестра Бориса
Александровича Чайковского (1925—1996) возникали с огромными промежутками: 1947,1967,1980,1993 годы. Каждая из них
стала этапной для композитора; каждая является законченной
симфонической концепцией, не повторяющей предыдущие
и вместе с тем органично вписывающейся в цельную картину
творческого облика Б. Чайковского
Несмотря на то что Б. Чайковский - непосредственный
ученик Шостаковича, его творчество фактически отрицает
эстетику учителя и чуждо его проблематике (при сохранении
влияния Шостаковича в области выразительных приемов):
«...не кризис, не столкновение добра и зла, но устойчивость
естественной жизни природы и человеческой души - Платонов-
екая "телесная прелесть" мира» [3]. Одним из наиболее значительных произведений Б. Чайковского, вызвавшим большой
резонанс, стала Вторая симфония (1967).
Ее цикл близок традиционному; исключено лишь скерцо. Как нередко у Б. Чайковского, центр тяжести лежит в I части.
Лирическое Andante и заключительное Рондо лишь дополняют
его. Не взрывая внешнего облика традиционного симфонического цикла, решая сонатное аллегро в русле конфликтного
симфонизма, Б. Чайковский воплощает в этом произведении
программную для своего творчества эстетическую идею обретение утраченной «абсолютной красоты», понятой как
«абсолютная цельность».
Драматургическому решению этой идеи подчинено
строение сонатного аллегро. Главная партия - многоэлементная, с рассредоточенной мотивной тканью - является отправным пунктом в поисках целостной музыкальной мысли. Разбросанная ячеистая ткань сжимается и плотнеет на протяжении
части, где каждый последующий раздел меньше предыдущего.
В коде наступает обретение идеала: «семантической кульминацией» драмы (Арановский) оказываются цитаты из квинтета
с кларнетом Моцарта, квартета c-moll Бетховена, арии альта из
«Страстей по Матфею» Баха и «Вечером» Шумана. Эти темы,
общим признаком которых является кантиленность, широкое
дыхание, и оказываются пределом мотивного уплотнения, преодоления мотивной дискретности.
В своей Второй симфонии Б. Чайковский оказался одним из провозвестников новой проблематики. Напомним, что
идея ностальгического томления по ушедшему «золотому
веку» искусства, воплощенная через прямой диалог с этим искусством, - идея, свойственная кинематографу рубежа 70-х,
прежде всего - Хржановского и Тарковского.
Напомним также, что за год до симфонии Б. Чайковского написана Вторая симфония Пярта, где в финале также
есть цитата - «Сладкая греза» Чайковского, - контекстуально
близкая Б. Чайковскому, хотя и не без горько-иронического
оттенка, естественного в композиторе иного поколения (Пярт
моложе на 15 лет). Таким образом, Борис Чайковский, принципиальный продолжатель традиции, никогда не стремившийся взломать сложившуюся систему жанров, форм, средств
языка, оказался одним из первых музыкантов, ощутивших
новую культурную ситуацию. Генеральной проблематикой его
становится не душа во враждебном мире, потерявшая самое
себя, как у П. Чайковского и Д. Шостаковича, а жанр и музыка
как таковые: возможна ли симфония? возможна ли музыка
вообще? 6 Отсюда общая драматургическая направленность
Второй симфонии, инверсивная по отношению к Шостаковичу:
«свист и пляска», которыми заканчивается I часть, ~ вульгарный мажорный контраст одухотворенности цитируемых тем
(три из четырех - минорные) - мостик от код финалов Шестой, Девятой, Десятой симфоний Шостаковича. Откровенная
раздвоенность заключительной терции в тихом удаляющемся
финале - декларация принципиальной невозможности ответа.
В двух последних симфониях Б. Чайковского - «Севастопольской» (1980) и Симфонии с арфой (1993), на первый
взгляд, драматургия совершенно различна: «Севастопольская» - одночастная, с заметной эпической окраской; в Симфонии с арфой очевидна сюитность строения. Однако они
исходят из единого источника: обе симфонии - лирические,
с явственным оттенком рефлексии, хотя и без того напряжения,
с которым эта рефлексия раскрывается в Виолончельном
концерте или Второй симфонии. Гораздо сильнее звучит нота
ретроспекции: взгляд назад, как в «Севастопольской», с ее
«формой в концентрическом роде» (лирическое переживание
истории 7 ), как и в Симфонии с арфой, где ретроспективная
направленность открыто декларируется введением цитат из
юношеских произведений 8 . В последней симфонии принцип,
внешне выглядящий как сюитный (пять частей с программными названиями: «Две прелюдии». Поэма, «Три прелюдии»,
«Осень», Послесловие), отражает драматургическую концепцию позднего Б. Чайковского. Здесь можно говорить уже не
только о ретро- , но и об интроспекции: исходный и конечный
6. «Лирическое отношение к самому музыкальному звуку, к самой
музыке как высшей ценности духовной культуры человека, высшей
степени его интеллигентности», — так характеризует творческую индивидуальность Б. Чайковского M. Арановский [1, 63]. Уже само это
определение говорит о новом явлении в истории музыки - рефлексии о творчестве как таковом. Отсюда - угроза ослабления творческого начала, которая, вероятно, и оттолкнула впоследствии композитора от такого плакатного приема, как коллаж, но не изменила его
творческого облика.
7. «Я представлял, что могу пустить время вперед, но могу и назад,
а могу задержать его на месте или на всех этих трех пунктах сразу»
[цит. по: 2, 66, 80].
8. В Симфонии с арфой звучат Пять прелюдий для фортепиано. Показательно, что носителем ретроспекции - тембром, который исполняет «музыку прошлого», — оказывается арфа, впервые в этой симфонии заявленная как сольный инструмент, но еще во Второй
симфонии и Виолончельном концерте выступавшая как рефлексирующий, отстраняющий тембр.
пункты драматического движения - «внутреннее я»; в Послесловии возвращается одна из прелюдий, которыми Симфония
открывалась.
Борис Чайковский одним из первых осознал ситуацию
«старения жанра», когда проблема жанровой рефлексии встала во весь рост. Одним из первых он и попытался создать свой
уникальный вариант симфонии-драмы, смысловой узел которой - сомнение в возможности собственного существования.
Осознав же его, он отказывается от симфонической декларативности. Единственный раз соприкоснувшись со стилистической ретроспекцией, он бесповоротно уходит от нее, как грозящей нарушить главное, чем он дорожит - музыкальную
цельность, - в мир «ретроспекции внутренней».
Борис Иванович Тищенко (р. 1939) решает жанр
симфонии, как правило, с помощью той или иной программы.
Таковы Вторая симфония - «Марина» (стихи Цветаевой, 1964),
Четвертая (текст Тургенева, 1974), Шестая (стихи А. Наймана,
А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама, В. Левинзона,
1988). Кроме того, ряд симфоний Тищенко с программными
подзаголовками находится вне нумерации. Это Sinfonia robusta
(1970), «Хроника блокады» (1984), переделанная в 1993 году
юношеская «Французская симфония» по новелле Анатоля
Франса «Кренкевиль». В последние годы симфония срастается
с хореографией: композитор создает цикл симфоний по «Божественной комедии» Данте, которые могут быть поставлены
в виде балета.
Пятая симфония Тищенко (1976), так же как и некоторые его другие ключевые сочинения (Третья симфония.
Первый виолончельный концерт), посвящена Шостаковичу.
Созданная уже после ухода Шостаковича из жизни, Пятая
симфония, однако, выходит далеко за рамки традиционного
приношения in memoriam. Пятичастный симфонический цикл,
написанный в традициях большой драматической симфонии,
является одним из самых значительных опытов преодоления
инерции жанра «симфонии-драмы». Суть замысла Тищенко
поначалу может показаться жертвенной самоотдачей композитора чужому языку, чужому голосу, чужому стилю. Однако
в действительности для Тищенко язык и самое имя Шостаковича оказывается своего рода культурной моделью, работая
с которой он создает собственную симфоническую концепцию.
«Шостакович» присутствует в симфонии многообразно:
это традиционная для мемориала пронизанность ткани форму-
лой DSCH, воспроизведение типичных стилевых сфер музыки
Шостаковича, его жанровых моделей (третья часть Симфонии - «скерцо Шостаковича»), наконец, аллюзии или буквальные цитаты из Шостаковича или собственных произведений
Тищенко, так или иначе связанных с мыслью о Мастере. Однако — и в этом особенность драматургии Пятой - «язык Шостаковича» не противопоставлен языку Тищенко, в противовес тому,
как цитаты в симфонии Б. Чайковского представляли собой эстетический контраст музыкальной ткани. Напротив, непрерывный диалог с Шостаковичем, ведущийся в симфонии (отсюда
мотив ретроспекции), оборачивается рефлексией - диалогом
с «иным Я», открывающимся в собственном внутреннем мире,
узнаванием себя в чужом языке.
В симфонии изъято главное динамическое начало сонатное аллегро9. Это сразу переворачивает линейную симфоническую драматургию «от I части к финалу». Вместо нее
образуется две волны: первая - направленная к III части, вторая - от нее. При этом сама III часть, выполняющая функцию
скерцо, при подходе к кульминации содержит почти буквальную цитату из скерцо Десятой Шостаковича. Условия ее появления отличаются от остальных цитат и аллюзий в симфонии.
Это самый броский, ритмически наиболее активный мотивзнак, вырастающий у самого гребня генеральной кульминации
и в известной степени тормозящий, оттесняющий ее своей неожиданной узнаваемостью (Тищенко усиливает этот эффект,
динамизируя инструментовку), находящийся в центре симфонии (а не в точке золотого сечения!).
Таким образом, мемориальный повод написания Пятой симфонии послужил толчком к созданию нового типа драматургии, которая, вписываясь в рефлексирующую тенденцию
70-х годов, оказывается в буквальном смысле слова «зеркальной». Драматургический вектор направлен как будто к скерцо,
но кульминация оказывается не целью, а тоже ретроспекцией,
причем самой мощной во всем цикле: длительное движение
музыкальной мысли «разбивается о зеркало» цитаты, откуда
начинается столь же длительный «откат».
«Рефлексирующая ретроспекция» Тищенко - единственное в своем роде решение «симфонии-драмы». В дальнейшем композитор, как правило, привлекает литературные
источники для создания симфонических концепций.
9. Несмотря на авторское название III части «Соната», это скерцо с
сильным разработанным началом.
АпемдарСабитович Караманов (р. 1934) - автор двадцати четырех симфоний, из которых большинство не исполнено и не издано. Находясь вне магистральных направлений музыкальной моды, одинаково чуждый как канонической
симфонической драматургии «под Шостаковича», так и техническим поискам авангарда начала 60-х (отдав опытам в этой
области около трех лет, композитор ее навсегда покидает), Караманов создал собственный тип симфонической драматургии,
в котором у него почти нет предшественников.
Среди ранних симфоний Караманова большинство
программны; после Десятой - программны все. Начав как мастер гармонической краски, знаток оркестра, тонко чувствующий фактуру, с 1965 года Караманов первым среди советских
авторов ставит свой пластический дар музыкального живописца на службу религиозной идее. С этого момента композитор
тяготеет к сверхциклам, состоящим из нескольких симфоний.
Симфонии № 11~14 образуют собой цикл «Совершишася» общим
количеством в 10 частей , последовательно отражающий евангельские события (1966); 15-16 - Et in amorem vivificantem; 1823 - «Бысть» (1976-1980) по Апокалипсису. Исключения — Симфония № 17 - «Америка» (к 200-летию США, 1975), № 24 «Аджимушкай» (1984).
Интонационный и гармонический словарь Караманова заставляет вспомнить известную метафору Штокхаузена
«яблоко на Луне»: обыденные когда-то вещи окрашивают
особой таинственностью чужой мир, и отблеск этой таинственности падает на них самих, отчужденных от привычной среды.
Таковы музыкальные идиомы карамановского стиля, пришедшие к нему из музыки Римского-Корсакова и Рахманинова,
оказавшиеся в соседстве с элементами свободной двенадцатитоновое™. Язык, на котором говорит Караманов, допускает не
только знакомые обороты. Так, цикл «Бысть» обрамляется темой, в которой легко узнается известная мелодия цыганской
песни Дворжака. Однако это не диалог с композитором, стилем, эстетикой, эпохой, как обычно мыслится цитата (и что само
по себе не было бы новостью в симфонической музыке этого
времени), а монолог, включающий в себя уже сказанное другими с тем же детским простодушием, с которым Прокофьевребенок сообщил своей матери, что он «сочинил Рапсодию
Листа». Мелодия Дворжака становится органичной частью
метаязыка Караманова.
Караманов мыслит симфонию как инструментальную
мистерию, не лишенную порой почти кинематографической
зрелищное™. Львиную долю избранных сюжетов занимают
наиболее драматические фрагменты Нового Завета: Страсти и
Апокалипсис. Несмотря на ключевое слово «мистерия», эстетически и драматургически Караманов - наследник в большей
мере Римского-Корсакова и Рахманинова, чем Скрябина. Однако и савтором «Предварительного действа» Караманова роднит многое: как одержимость мистической идеей (хотя и совершенно иной, чем у Скрябина), представление о музыке как
языке Откровения, так и определяющая для его музыкального
языка ладовая тенденция, которую он сам называет «поглощение минора».
Драматургия симфонии Караманова - это драматургия иконы, в которой сочетается обязательная сверхидея центральный образ, одушевляющий всю форму, - и последовательно выстроенный событийный ряд (центральная часть
иконы или же клейма). Таким образом, карамановские циклы
симфоний — своего рода многочастные «складни». Продолжив
сравнение, можно было бы сказать, что перед нами - типично
южная иконопись, с крупными резкими чертами ликов и ярким
до буйности колоритом.
Отсюда парадоксальное для европейской симфонии,
но естественное для мистерии сочетание текущего времени
и пребывающей вечности: все происходит «сейчас и всегда».
Отсюда также открытость формы Восемнадцатой симфонии,
открывающей апокалиптический цикл, - она внезапно начинается и так же внезапно обрывается в момент кульминации:
в идеале все части цикла должны были бы исполняться подряд.
Отсюда, наконец, структура симфонии — неспешное исследование эпизодов с самостоятельной организацией каждого
и постоянно обновляющимся тематизмом.
Не следует, однако, полагать, что эти черты симфонической драматургии Караманова касаются только произведений,
напрямую связанных с религиозной тематикой. Мистериальность, мифологичность окрашивают все творчество композитора, от ранней симфонии «Лунное море» до Двадцать
четвертой - «Аджимушкай». В этом Караманов оказывается непосредственным наследником Римского-Корсакова. Общим
знаменателем их стиля, вероятно, можно назвать «маринизм»,
понятый не как декоративный элемент, а как один из основополагающих мифологических мотивов, порождающих особый
«мифологический симфонизм» 10 .
10. Надеясь на исполнение-цикла «Бысть», композитор дал другие
названия как каждой симфонии, так и цикла в целом. Он стал именоваться «Поэма победы», а симфонии соответственно: «Путями
В творчестве Караманова кризис жанра «симфониидрамы» не рефлексируется и не преодолевается; он как будто
не существует. Композитор решается «игнорировать» проблему вторичности языка и пестроты драматургии; сила и специфика дарования Караманова позволяют ему это. Симфонический мир Караманова уникален в своей беспредельной
драматургической широте и герметичной эстетической замкнутости. Едва ли возможно представить себе дальнейшее развитие этой линии.
Один из лидеров отечественного авангарда Эдисон
Васильевич Денисов (1929-1996) обратился к жанру «большой
симфонии», уже будучи зрелым мастером. Отдав щедрую дань
камерным и концертным жанрам, в которых и определился его
творческий облик, композитор в своей Первой симфонии (1987)
открыл новые возможности решения традиционного цикла.
Денисов, решительно чуждый любого рода стилистической
рефлексии11, почти неизбежной для обращавшихся к каноническому (в той или иной степени) сонатно-симфоническому
циклу, не избежал сомнений в возможности этого жанра сегодня. Однако цикл Денисова оказался даже более «традиционным», чем у многих «канонических симфонистов» этого поколения. Функции частей очевидным образом перекликаются
с позднеромантической традицией. Динамична I часть (Agitato),
ярко антитетичная, с сильным разработочным началом. Медленная вторая - лирическая струнная кантилена (возможно, во
избежание ассоциаций с Adagietto Малера, темп обозначен
Tranquillo). Крохотная третья - явный аналог скерцо: темброво-фактурный контраст с упором на ритмическое начало как на
конструктивный фактор. Наконец, финал - большое Adagio
с единой волной нарастания, мощной кульминацией, мягким
спадом и кодой-вознесением.
свершений», «Победе рожденной», «Великая жертва», «Всего превыше», «Возмездие», «Возрожденный из пепла». Эти названия, вполне соответствующие духу советской риторики, однако, не идут вразрез с мышлением Караманова. Он, игнорируя оттенок официальной
помпезности так же властно, как снимает налет отчуждения с мелодии Дворжака, видит в них ту же мифологическую праоснову (победа, жертва, воскрешение), которая порождает его симфоническую
картину мира.
11. Ю. H. Холопов, рассказывая на лекциях о «перигее авангарда»,
сопровождающемся возвращением к традиционному языку, поисками более простых средств выражения, говорил о Денисове, что он
«как ни в чем не бывало продолжает писать прекрасную музыку».
Тем не менее Симфония Денисова не стала очередным
витком рефлексии жанра. Этого не произошло потому, что Денисов выводит на первый план иные, по сравнению с традиционными, драматургические факторы. Назовем важнейшие.
:
ч Драматургия тембров. Денисов использует большой
состав оркестра с обширной ударной группой. Но трактован он
преимущественно как сумма камерных составов.
Так, если в I части задействован большой оркестр, то
во II - только струнный, в III - ударные, духовые и струнные
«щипковые» (pizzicato). В финале ведущую роль играют струнные, ударных нет, но в генеральной кульминации подключается полный оркестр - впервые после I части.
В драматургии I части одну из главных ролей также играет противопоставление групп. Ведущие тембровые образы
заданы уже во вступлении, где постепенному вздыманию дерева и меди на фоне тремоло литавр - клубящемуся мраку и
хаосу - противопоставлен «небесный перезвон» арф, вибрафонов, челесты, из которого рождается торжественное восхождение струнных, звучанием которых в высоком регистре закончится и вся симфония.
К минимуму сведены дублировки, которые становятся
специальным выразительным средством. Струнные, как правило, divisi; в узловых эпизодах - soli. Это своего рода «центральный смысловой тембр» Симфонии.
§ «Парой» к тембровой драматургии становится тесно с
ней связанная драматургия фактурно-образная. «Шорохи»
струнных и высокого дерева и «гладкие нити», «вязь» и «россыпи», нарастание и спады «соноров-масс» - как характеризуют образные сферы Денисова Ю. Холопов и В. Ценова [6] образуют выверенную драматургическую систему. Вступление
является темброво-фактурным «конспектом» Симфонии. В экспозиции первой части перекличке жужжания струнных и дерева противопоставлена хоральная тема у тромбонов. Несмотря на утверждения автора, что в симфонии «нет ни главных, ни
побочных партий»12, эти два образа воспринимаются как пара,
типичная для романтической экспозиции: первый - подвижный
и второй - замкнутый.
Драматургия сонорно-тоновая. При общем преобладании сонорной техники и эстетики Симфонию характеризует
тонкая игра сонорной и тоновой музыкой: сонорное пятно
может «собраться» в графическую линию, которая, в свою очередь, расплывется опять в сонорную массу.
12. Денисов Э. О Первой симфонии (интервью). Цит. по: [4, 55].
Так, в I части фактурное нагнетание разработки
истаивает в плетении духовых и приводит к кульминационному D-dur'HOMy эпизоду, расположенному в зоне золотого
сечения.
Э. Денисов. Симфония № 1.1 часть
3.
iI
VII solo := t J={t
РР
£
ff^kabi-
dolce espr.
VI I solo к
&РР
VIII, V-le
ш
dolce espr.
8
рр
8
росе espr.
Vibr. 11,
pp
r
I
#
5:4-
г
tip
у
о
к»
w г I i,j j
dolce
к
solo
1 Vic.,
P espr.
РЙ
=
=
Он перекликается с подобными «светящимися» образами Денисова, обычно также связанными с тональностью Ре мажор (Реквием, Виолончельный, Скрипичный концерты и т. д.).
•Щ Естественное следствие такой драматургии - появление драматургии тоникальной. Степень тоникальности (ясности ощущения основного тона) колеблется: от сонорной нерасчленимости к ясным тонально окрашенным эпизодам, где
преобладают любимые тоны Денисова: D и G.
ЫЙР
5:4
Указанные драматургические факторы - не единственные. К ним можно было бы добавить и другие, как новые (например, ритмический), так и традиционные (например, драматические круги). Однако и перечисленного достаточно для
того, чтобы продемонстрировать принципиальную возможность создания симфонической концепции, с одной стороны,
тесно связанной с традицией (в данном случае - с лирической
симфонией-монологом), с другой же — «смотрящей вперед»,
преодолевшей ностальгический дух жанра, то есть продолжающей эту традицию.
Предпринятый обзор показывает, что если традиционно понятая «симфония-драма», по всей вероятности, безвозвратно уходит, то в широком смысле слова линейно направленная симфоническая драматургия способна оборачиваться
самыми неожиданными сторонами; это если не гарантирует, то
делает возможным ее дальнейшую жизнь.
Здесь находится «тот момент, когда для нас кончается
история и начинается действительность» (С. Платонов). Каковы дальнейшие судьбы отечественной симфонии вообще и «линейного симфонизма», в частности? Это, вероятно, не в последнюю очередь зависит от тех, кто сегодня читает эту книгу.
Литература
1. Арановский М. Симфонические искания. Проблема жанра симфонии
в советской музыке 1960-1975 гг. Л., 1979.
2. Корганов К. Борис Чайковский. Личность и творчество. М., 2001.
3. Рахманова М. Предисловие к анализу // Советская музыка. 1975. № 6.
4. Свет. Добро. Вечность. Памяти Эдисона Денисова. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1999.
5. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской
советской музыке. М., 1988.
6. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993.
7. Чередниченко Т. Музыка в истории культуры. Курс лекций. Вып. 2.
Долгопрудный, 1994.
Альфред Шнитке
Альфред Шнитке - знаковая фигура в отечественном
музыкальном искусстве второй половины X X века. В его музыке скрестились наиболее важные тенденции композиторского
творчества этих лет, и потому его стиль можно рассматривать
в разных аспектах: с точки зрения и полистилистики (столь важной для него), и медитативности, и неоромантизма («новой
простоты»). Но, может быть, наиболее сущностным свойством
его музыкального мышления, константой его стиля является
драматическое начало: это пружина и стержень его творчества - на разных этапах эволюции. В любых жанрах (будь то
симфония, concerto grosso, сольный инструментальный концерт
или камерный ансамбль) проступают черты симфонии-драмы.
И в этом смысле Шнитке — прямой наследник Малера и Шостаковича. Об этом свидетельствуют и различные высказывания
композитора: «Я вижу неизбежную зависимость от того типа
эмоционального мышления (кульминации, динамические репризы, вообще динамический тип формы), которое характерно
для традиции, именуемой "Шостакович"» [14,28]. «И через Шостаковича я пришел к Малеру». «...Чем больше я знаю музыку
Малера, тем больше я ее люблю» [14, 81, 89]. Очевидно, что
линия «Малер - Шостакович - Шнитке» может быть прочерчена в разных плоскостях: это и симфония-драма, и «мышление стилями» (С. Савенко). «Новое плюралистическое музыкальное сознание» [12, 327], которое Шнитке, анализируя
«суперколлажную» третью часть Симфонии Л. Берио [13],
характеризует как «эклектический универсализм», - одна
из важнейших черт постмодернистского менталитета, и в этом
также можно видеть константу творчества Шнитке. Но и здесь
для него важен диалог стилей, их контрастное, подчас конфликтное сопоставление, создающее драматический стержень
формы. Не случайно композитор как-то признался, что
наиболее близок ему контрастно-диалогический тип мышления [14, 94].
Наконец, неоромантизм, точнее - романтический
склад музыкального мышления, который был не результатом
следования направлению, возникшему - как реакция на крайности «второго авангарда» - в 70-е годы (прежде всего, в немецкой музыке), но природным, естественным свойством творческого дара Шнитке. Вот как он сам пишет об этом: «...Элементы
романтической музыки, безусловно, есть в моих сочинениях может быть, их больше всего. Сама драматическая концепция
формы (курсив мой. - Е. Ч.), которая в них преобладает, взята
прежде всего от романтизма. И господствующий тип экспрессии больше всего обязан поздним романтикам, музыкальному
экспрессионизму, который вышел из романтизма» [2,147]. Итак,
мы снова пришли к драматической концепции как к определяющей в творчестве Шнитке.
А л ь ф р е д Гарриевич Шнитке родился 24 ноября
1934 года в г. Энгельсе, центре Республики Немцев Поволжья,
в семье журналистов и переводчиков. В 1946-1948 годах жил
с семьей в Вене, где его отец работал в немецкой газете
«Osterreichische Zeitung». Здесь Шнитке получил первые музыкальные впечатления, стал брать уроки фортепиано и начал
сочинять. Это время запечатлелось в памяти композитора навсегда. Как он вспоминал позднее, «замечаю неведомое ранее
чувство: настоящее - это не отдельный клочок времени, а звено исполненной смысла исторической цепи...» [2, 28]. Вена оставила глубокий след в его творчестве (квазицитаты в духе
Моцарта, Шуберта, Брукнера: «У меня... ощущение, что Моцарт
и Шуберт - из моего детства» [2, 37].
С1948 года Шнитке жил в Подмосковье, затем в Москве. Окончил Музыкальное училище им. Октябрьской революции (1953), ныне Музыкальный колледж им. Шнитке в системе
Московского государственного института музыки им. Шнитке;
далее Московскую консерваторию (1958) и аспирантуру при ней
(1961); был учеником Е. К. Голубева. В 1961-1972 годах преподавал в Московской консерватории (инструментовка, чтение
партитур, полифония, композиция).
Официальное отношение к Шнитке в этот период было
сдержанным из-за его «авангардистской» ориентации. Он имел
только одного ученика по композиции (Реджеп Аллаяров),
в основном вел чтение партитур и инструментовку.
При советской власти музыка Шнитке не имела официальной поддержки, однако в 1986 году он получил Государственную премию РСФСР им. Крупской за музыку для кино,
в 1987-м - звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Он был членом правления Союза композиторов СССР, членом
Союза кинематографистов; в 1990-м был выдвинут на соискание Ленинской премии, но снял свою кандидатуру. Долгое время композитор фактически был лишен возможности выезда за
границу из-за своей не угодной руководству Союза композиторов позиции. С наступлением перестройки его музыка становится все более известной и признанной в других странах.
В1988-1990 годах проходит ряд фестивалей, посвященных его
творчеству, - в Горьком, Мальме, Гётеборге, Стокгольме, Берлине, Лондоне. В конце 80-х годов Шнитке много бывает за границей, с 1989-го ведет класс композиции в Высшей школе музыки и театра в Гамбурге, в 1991-м — переезжает в Германию,
в Гамбург. Оказавшись на родине предков, он не терял связи
с Россией и приезжал на премьеры своих сочинений. Его тянуло в Москву, как много лет назад в Австрию и Германию. В последние годы он много и тяжело болел. Умер он 3 августа
1998 года от четвертого инсульта. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.
В настоящее время Шнитке - всемирно признанный композитор, его сочинения играют лучшие исполнители
и оркестры, они издаются и записываются на компакт-диски.
Шнитке - член различных международных академий, лауреат
премии Баха (1992), премии Японской Ассоциации Искусств
(1992), Австрийской государственной премии «Триумф» (1993),
большого русского приза и международной премии «Слава/
Gloria» (1998).
Шнитке - автор более 200 произведений в различных
музыкальных жанрах (оперы, балеты, симфонии, инструментальные концерты, хоровые сочинения, камерно-инструментальные жанры - см. список в приложении).
Предпочтение крупных жанров связано с концепцион-Н
ностью и драматургической остротой, конфликтностью музы- V
кального мышления. На протяжении всей жизни Шнитке писал j
также музыку для кино и театра, что, в частности, способство^у1
вало становлению идей полистилистики.
Шнитке тесно связан как с русской, так и с немецкой!
культурой, он воплотил в своем творчестве важнейшие черты г
русского и немецкого менталитета - высокую духовность, I
философичность, мятежность, сложный эмоциональный j
мир. Блестящее знание мировой литературы, любовь к ней-7
("породили и тесную связь с театром (оперы, балеты, музыка
\к спектаклям). Близость к литературе, склонность к размышлениям и обобщениям проявилась в создании различных литер а т у р н ы х текстов - статей, в особенности о музыке X X века,
! бесед и диалогов о своем творчестве и о своих современниках
\(см. приложение).
В творческом пути Шнитке можно выделить несколько этапов: период становления индивидуального стиля (конец
БО-х - оратория «Нагасаки», кантата «Песни войны и мира»,
Первый концерт для скрипки с оркестром и др.); период освоения новых техник, «авангардный» (60-е гг. - Музыка для фортепиано и камерного оркестра. Первая соната для скрипки
и фортепиано, Второй концерт для скрипки с оркестром и др.);
период полистилистики (конец 60-х - первая пол. 70-х гг. Вторая соната для скрипки и фортепиано, Серенада для скрипки, кларнета, контрабаса, фортепиано и ударных, Первая симфония, Concerto grosso № 1 и др.); период «синтеза стилей» и
«новой простоты» (вторая пол. 70-х - 80-е гг. - Гимны, Фортепианный квинтет. Реквием, Хоровые концерты и др.). Последний период творчества Шнитке (90-е гг. в Германии) характеризуется синтезированием различных тенденций (Седьмая и
Восьмая симфонии), порой ретроспективным охватом предшествующего (Девятая симфония - 1 9 9 7 ) . В эти же годы он активно обращается к оперному жанру: «Жизнь с идиотом» (либретто Вик. Ерофеева, 1990-1991), «Джезуальдо» (либретто
Р. Блетшахера, 1994), «Историядоктора Иоганна Фауста» (либретто И. Моргенера по «Народной книге» И. Шписа - 1994).
Принципиально новый этап творчества, по мнению
самого композитора, начался в 70-е годы. Увлечение авангардом сменилось разочарованием: строгое ограничение и регламентация средств уже не устраивали Шнитке. И, может быть,
одной из причин отказа от серийности была потребность в контрасте как стимуле развития в крупной форме, которая всегда
жила в нем. Но необходимы были обновление, обострение и
расширение диапазона этого контраста; музыкальному искусству нужны были новые жизненные соки. «Контраст стилей может выполнять ту же функцию, что и классический тональный и
тематический контраст, который уже не воспринимается в наше
время» [11, 13], - говорил композитор.
Так родилась идея полистилистики. Импульсом для ее
возникновения в творчестве А. Шнитке послужило создание
музыки к мультфильму А. Хржановского «Стеклянная гармоника». В фильме, посвященном тоталитарным режимам, поругаемая красота была представлена в образах персонажей
выя
мирового изобразительного искусства - от Леонардо да Винчи
до современных художников. Это навело композитора на мысль
о том, что «и в музыке подобное калейдоскопическое соединение разностилевых элементов возможно и может дать очень
сильный эффект» [цит. по: 10, 39]. Как сформулировал автор
в своем докладе о полистилистике, который он сделал на конгрессе ММС 8 октября 1971 года, достоинства нового метода это «расширение круга выразительных средств, интеграция
"низкого" и "высокого" стилей, "банального" и "изысканного",
то есть более широкий музыкальный мир и общая демократизация стиля. Субъективная страстность авторского высказывания
подкрепляется документальной объективностью музыкальной
реальности, представленной не только индивидуально-отраженно, но и цитатно» [12, 330].
Шнитке не первый обратился к технике полистилистики: в мировой и европейской музыке у него был целый ряд
предшественников. Назовем некоторые примеры: Ч. Айвз,
Б. А. Циммерман, К. Штокхаузен, А. Пуссер, Л. Берио и др..
Однако вотёчественной музыке именно Шнитке явился пионером полистилистики (параллельное А. Пяртом), ее теоретиком
и практиком, воплотившим этот метод в своих сочинениях различных жанров.
Среди них Вторая соната для скрипки и фортепиано
(Quasi una Sonata) была первой «апробацией» новой техники и
нового мышления, и это представлено в сочинении с плакатной яркостью и графической четкостью.
Полистилистика организует все сочинение, проявляясь
на разных уровнях: музыкального языка и концепционном. Композитор столкнул в конфликтном споре мотив BACH и ультрасовременные диссонантные звучания - две противоположные,
несливающиеся плоскости, причем хоральная квазицитата (гармонизация темы-монограммы BACH) выступает как символ этической оценки современного мира и искусства (диалопэпох).
Полностью свою новую концепцию (ибо для него
полистилистика была не техникой, а способом «видения»
и «слышания» мира) Шнитке воплотил в своей Первой симфонии (1969-1972). И в этом случае импульсом послужила работа
композитора в кино. Параллельно с созданием Симфонии
он писал музыку к последнему фильму М. Ромма «Я верю»
(«Мир сегодня»). Документальный материал, который он просмотрел вместе со съемочной группой, постепенно сложился
«во внешне хаотическую, но внутренне строго организованную»
картину: «Если бы в моем сознании не отпечаталась трагиче-
екая и прекрасная хроника нашего времени, я никогда бы не
написал этой музыки» [цит. по: 10, 75].
Шнитке создает грандиозное симфоническое полотно,
«действо». Помимо коллажа1 (основной метод в Симфонии)
гфисутствуют приемы,.инструментального театра: музыканты
входят (вбегают) на сцену, на ходу!^Гграя каждый свое, но появляющийся дирижер останавливает их, и звучит унисон до;
финал аналогичным образом начинается с того, что исполнители на духовых инструментах выходят на сцену, играя одновременно три траурных марша.
В своей Симфонии композитор ставил и решал две задачи: техническую, связанную с методом полистилистики, и художественную - овладение жанром симфонии, имеющим столь
глубокие традиции. Насколько это произведение отвечает жанру симфонии, вопрос не простой: судьба его в музыке X X века
столь сложна и необычна, что понятия о канонах его в наше
время размыты. Благодаря парадоксальности в трактовке традиционных жанров и форм, как и «цитатному мышлению»
(«мир кактекст»), Первая симфония Шнитке органично вписывается в контекст искусства постмодернизма (стремление «передать свое восприятие хаотичности мира сознательно организованным хаосом художественного произведения» - 4, 766].
Отныне полистилистика прочно входит в арсенал
средств, которыми пользуется Шнитке; правда, примеров коллажной полистилистики в его творчестве не так много, он чаще
обращается к «стилевому симбиозу», однако сам принцип «мышления стилями» сохраняется вплоть до последних сочинений.
Полистилистика у Шнитке (как и у других композиторов) проявляется в двух модусах: драматическом и игровом.
Именно это демонстрируют два сочинения, написанные в переломном 1968 году, —.Вторая скрипичная соната и «Серенада». В «Серенаде» для пяти музыкантов (кларнет, скрипка, контрабас, фортепиано, ударные) раскрылся комический
потенциал полистилистики, ее игровая природа. При этом встает
еще одна проблема - также «коренная» для полистилистики:
это проблема взаимодействия профессионального, академического искусства и бытовой, эстрадной музыки.
1. Коллаж (франц. collage, наклеивание) - объединение в одном произведении стилистически контрастных (или даже чуждых) фрагментов. Термин заимствован из изобразительного искусства. В теории
полистилистики различают коллажную и симбиотическую (основанную на взаимопроникновении различных стилевых пластов) разновидности (термин К. Штокхаузена).
H t !
Для Шнитке, который много лет отдал работе в кино и
театре, эта проблема была достаточно актуальной. Он много
размышлял над возможностью соединения в своих композициях «высокого» и «низкого» («Е» и «U» 2 ), мечтая сочетать несочетаемое: «Мне мерещится утопия единого стиля, где фрагменты Е и U представляются не шуточными вкраплениями,
а элементами многообразной музыкальной реальности: элементы, которые в своем выражении реальны, хотя ими можно
и манипулировать - будь то джаз, поп, рок или серия» [2, 243].
И действительно: в «Серенаде» соединяются джазовая
импровизация (в I и особенно в III частях), цитаты из классической музыки (в финале - из Скрипичного и Фортепианного
концертов Чайковского, «Патетической сонаты» Бетховена и
«Золотого петушка» Римского-Корсакова) и серийная (иногда
даже сериальная)техника.
Шокирующе дерзко и остроумно звучит I часть - коллаж массово-бытовых песен и танцев, периодически прерываемый ударами колоколов (символ вечности), постепенно
наращивающих серию. Используется здесь и алеаторика:
все инструменты без темповой координации играют отрывки
из киномузыки Шнитке. В результате создается атмосфера радостного раскованного музицирования, которая перекидывает
арку к другому, написанному через восемь лет, игровому
сочинению: Moz-Art для двух скрипок (1976; есть версии
для других инструментальных составов) - по словам автора,
«музыкальная шутка, юмористический коллаж на музыку Моцарта» [14, 79]. «Связь времен» в этом сочинении трактуется
юмористически, «карнавально».
Параллельно с этим игровым сочинением создавался
Concerto grosso № 1 (1976-1977) - подлинная инструментальная
драма. Это один из самых ярких образцов полистилистики:
цитирование здесь охватывает разные уровни — от мотивов до
целого - и проявляется в разных аспектах (цитаты жанра, стиля, музыкально-текстовые цитаты). Прежде всего, обращение
к барочному жанру concerto grosso, получившему новую жизнь
в X X веке и ставшему любимым жанром для Шнитке, можно
рассматривать как макроцитату жанра. Основу этой инструментальной драмы составляет конфликт, взаимодействие тем-«персонажей», тем-стилей, что создает неуклонную линию драма
тургического развития, Шестичастный цикл выстроен как два
2. Шнитке использует немецкие термины (Е - Ernst, серьезная музыка, U - Unterhaltung, развлекательная музыка).
субцикла и одновременно две волны, объединенные движением к генеральной кульминации, расположенной в конце
V части (сдвиг кульминации к концу и обрыв или резкий спад
придают особый драматический накал музыке; это свойство
музыкального мышления Шнитке).
Первый субцикп: I часть (Прелюдия) - II часть (Токката); второй субцикп: III и IV части, идущие без перерыва, Речитатив и Каденция, V (Рондо); VI часть (Постлюдия) - кода
всего цикла.
Схема 1
I
II
III — I V
V
VI
В основе каждого из субциклов - контраст: стилевой,
тематический, темповый, фактурный. В конфликтном диалоге
противопоставлены «авторская музыка» (современные диссонантные гармония и мелодия) и квазицитаты стилей предшествующих эпох. В первом субцикле это моторная скрипичная
музыка эпохи барокко (Вивальди, Корёлли, Бах). Далее
развитие переходит на более высокий уровень: со значительным усилением и расширением диапазона этого контраста.
В Речитативе и далее в Каденции интонационный материал
Прелюдии заостряется до предельной диссонантности (параллельные ноны и микрохроматика), в момент местной кульминации (ее пик и одновременно перелом) звучит автоцитата
из музыки к мультфильму «Бабочка». Ее мажоро-минорный
облик после «разбушевавшегося хаоса» воспринимается как
вспышка света (см. пример 1а). Долго сдерживаемое напряжение статики прорывается - начинается Рондо (см. пример 16), романтическая квазицитата в духе Брамса - одна из
лучших тем у Шнитке. Эта аллюзия, конечно, имеет особый
смысл: ностальгия по утраченной красоте, образ страстный,
трагический и светлый.
м
м
1
а)
[5] (Largo)
Concerto grosso № 1. IV часть
rail.
3 ,
4
4
s=§§ &
V-no I
solo
p
r
Ж
V-no III
solo
6)
г
a
attacca
V. Rondo
Concerto grosso № 1. V часть
I Agitato
V-no I
solo
=
/
V-no II
solo
Cemb.<
Ш
I' И З
I'll» ILLuJ
Ш
к
RRRH
*
'
*
—
—
1
i J f
J», V
^
=
=c=
- Vл
/ L a *
D f e f
W
V
ч-д 9
'J
|> |>
.
*
[
—
£
— « — лр
Ifjp i>, . .
о
в ?
г
1
J o l
' О : , 1,.
— i - L -
ГГ JP Л
°
J
Г1
" I f
• " 5
Ш
P
й
1
№
^—
Fflj
j
^
r
I,
j f l
^
j
Обострение контраста во втором субцикле проявляется на разных уровнях - между частями, внутри части (Рондо),
между темами, внутри тем. Так, здесь особую роль играет характерный для Шнитке прием - искажение, размывание стилевой модели. Но особенный контраст вносит тема второго эпизода рондо - обольстительное танго 3 , вносящее эффект
стилистического шока, столкновения «в лоб» сниженно-банального и духовного, идеального (пример 2).
Concerto grosso № 1. V часть («Танго»)
(Meno mosso) 5U
V-nol
solo
о
mf ~
V-no II
solo
V
ПГГГГГГ
mf
i
i
m
Trvp
mp
ш
о
Cemb.<
L l
I
m
г Г £ 11> |—т
ш—Н>—*
^
1~ Г Г в
г®
3. Это также автоцитата - из музыки к кинофильму «Агония».
f i
I
Однако, несмотря на предельный контраст, две темы
объединяет интонационное родство. Это имеет и конструктивное (интонационное единство всего сочинения, несмотря на
полистилистику), и смысловое значение (тема-оборотень),
одна и та же интонация получает диаметрально противоположные воплощения, «лики». И особое единство сочинению - на
уровне всей композиции - придает обрамление: Прелюдия Постлюдия4. Круг замкнулся, «тема часов» (авторское определение), времени - заставка Concerto grosso, - появляясь в генеральной кульминации, разрушает всё, превращая живой,
мятущийся мир произведения в ирреальный, иллюзорный.
Здесь уже сформировалась концепция коды, характерная для
зрелого и позднего периода творчества Шнитке.
Итак, завоевания периода творчества Шнитке, связанного совладением полистилистикой, - расширение диапазона
контрастов и создание «нового универсального языка» [3, 7}.
В эти же годы (примерно начиная с середины 70-х гг.)
Шнитке пишет и совсем другие сочинения, в недрах периода
полистилистики вызревает так называемый «тихий период»
(выражение самого композитора). Параллельно с полистилистическими произведениями Шнитке создает Фортепианный
квинтет (1972-1976); Гимны для различных инструментальных
составов (1974-1979), Реквием (1975). В этих сочинениях
4. Благодаря этому, а также подобию конструктивных принципов
Токкаты и Рондо (моторика, рондообразная форма - современный
аналог барочной концертной формы), в организации цикла присутствуют также черты концентричности.
происходит становление медитативнои концепции, основу которой составляют погружение в себя, сосредоточенность на
внутреннем, концентрация на одной мысли, одном чувстве,
«выпадение» из времени - отсюда отсутствие (или сглаживание) контрастов, драматургия не действия, но состояния, преобладание медленных темпов, разреженность музыкального
времени, смысловое значение паузы, иногда подчеркивание
крайних регистров, особенно верхнего, или движение вверх
(риторическая фигура anabasis).
Пример крупною циклического сочинения, в котором
медитативность является определяющим началом, подчиняющим себе организацию целого, Фортетатыйкзттет.
В процессе создания квинтета композитор искал новый язык и
новую концепцию. Это пятичастный цикл, в котором преобладают медленные и умеренные темпы (Moderato, Tempo di Valse,
Andante, Lento, Moderato pastorale). Драматургические конфликты, столкновения полярных элементов отсутствуют, контрасты у веден ы вовнутрь, в н и ма ние сосредоточено на детали,
на непрерывном «потоке сознания» (а также подсознания, переживания}. Квинтет посвящен памяти матери композитора, которая скончалась в 1972 году. Тогда перед ним встали проблемы жизни — смерти — бессмертия. Основной смысловой
контраст оказывается в области духовной: цикл распадается на
две неравные части - H V части, область хроматизированного
минора, и V часть, Ре-бемоль мажор - диатоника, даже пентатоника. Это не столько финал, сколько кода (вариации на неизменную мелодию - «круговое движение» темы, на фоне которой проходят фрагменты тем предыдущих частей, - отблеск,
тень прошедшего, пережитого). Неравновесие пропорций еще
больше подчеркивает эффект с трудом достигнутого «разрешения» всех предшествующих частей (с их мучительной напряженностью) в устойчивый, излучающий покой и свет Des-dur
(«воскресение» - В. Бобровский).
В творчество Альфреда Шнитке приходит «новая простота». Переломным сочинением в этом стилевом повороте ехал
Реквием для солистов, смешанного хора и инструментального
ансамбля (1975). Этот поворот к «новой простоте» параллельно
почти в те же годы (вторая пол. 70-х гг.) произошел у различных композиторов («Тихие песни» Сильвестрова, стиль
tintinnabuli А. Пярта), но каждый пришел к этому своим путем.
Так же, как в свое время авангард, теперь полистилистика стала «тесна», «узка» для Шнитке. Он искал естественного органичного языка, вмещающего в себя самое разное. И, обраща-
ясь к вечной теме и вечному жанру - реквиему, он находит
этот язык. Здесь можно обнаружить и интонационные формулы григорианских хоралов (Requem aeternam - см. пример За),
и аллюзии на Моцарта (Lacrimosa - см. пример 36), и романтические контрасты, - и все-таки это X X век, и это Шнитке.
3
а
>
Moderate»
Ш
ffi
7
Requiem. I часть. Requiem aeternam
Soprano II
Z
9 u
m
h
i 1T ' J * С-Г Г J-
J
К
Re . quLemae_ter_namdo . na
6)
- j — ] — ^ — 1 ""I
+M-U 0 ^ J J j j j j y
®
e
.
a
* dc
Do _ mi . ne,
Requiem. VII часть. Lacrimosa
Andante
Soprano
is,
Alto
P
P
La_cri.mo.sa
di.es
il
la,
И
La.cri.mo_sa
mrp
i
iMi'm
la,
A
qua re.sur
PP
ju . di_can_dus
ho
di.es
.
mo
.
get
ex
^TJJ
re
.
us.
fa.vil . la...
i
Стилевой сплав дает совершенно неожиданный результат, который буквально поражает смелостью простоты, зрелостью,
классической ясностью и красотой. По ощущению поэта А. Тарковского, «эта музыка - и до XVIII века, и после нас» [10, 113].
Однако и в рамках канонического жанра (религиозного, располагающего к медитативности) Шнитке мыслит как драматург.
Здесь тоже есть контраст - образный и языковой^ есть два полюса, две диаметрально противоположные сферы: кантиленно-мелодическая и декламационно-диссонантная, И ради достижения драматургической кульминации (как обычно, перед
концом) композитор даже ломает каноническую структуру заупокойной мессы, вводя в нее Credo (см. пример Зв), причем
перед обрамлением цикла - повторением Requem aeternam.
«Я давно уже ощущал драматургический просчет в строении канонического реквиема, — признавался Шнитке. — Не хватало
развития в конце, наступало ослабление всей формы. Поэтому
я поместил Credo перед самым окончанием произведения» [10,
772]. Но, конечно, символ веры - это и смысловая кульминация
произведения.
Lar
9°
Requiem. XIII часть. Credo
Basso j ?
nil J
Cre . d o
J |Л>1
in
u _ num,
poco rail.
•
n
t
f
r
De . um,
I
ere _ do in
a tempo
r 7 r n s Г г r p
fac . to _ rem
u _ num,
сое
_ li
p nJip p %
et ter.rae, vi . si .
^ ' m i r 7 7 p p p p t J . g v 8 rr |
_ bi . li. um om _ ni. um et-_in-vi-_si. _bi
_
li _ um!
Cre.do!
Интроспективная направленность творчества Шнитке
этих лет определила также обращение к жанру мемориала (что,
конечно, было инспирировано переживаниями ^ размышлениями, связанными с проблемой смерти). Это Реквием (Квинтет,
тесно связанный с Реквиемом, формально не относится к жанру мемориала, но также им является). Канон памяти Игоря
Стравинского для струнного квартета (1971), Прелюдия памяти
Д. Шостаковича для двух скрипок или одной скрипки и магнитофонной ленты (1975).
Среди произведений 70-х годов можно выделить еще
одно, которое благодаря своему образному строю и художественной концепции, безусловно трагической, тесно связано
с жанром мемориала. Это Третий концерт для скрипкимкамерного оркестра (1978). В нем три контрастных части, три этапа
драмы: I часть (она же сонатная экспозиция) 5 - завязка дей5. Здесь, как и в некоторых других концертах Шнитке, используется
слитно-циклическая форма, соединяющая черты сонатной формы
и цикла.
ствия, II часть (разработка) - действие и III часть, финал
(реприза сонатной формы), - эпилог, развязка. Но при этом
III часть, в которой уже не происходит никаких «событий»
(фактически это кода), в драматургическом отношении оказывается наиболее значительной, итоговой. Это траурный эпилог
(прощание, которое хочется длить бесконечно) 6 .
Третий скрипичный концерт, соединяющий типичную
для Шнитке конфликтную драматургию и медитативный эпилог, уже содержит то, что в 80-е годы выльется в особый тип
концепции, который можно было бы назвать медитативно-конфликтным 7
^
Образцом такой концепции является уже следующий,
Четвертью скрипичный концерт (1984). Важно, что при этом
не происходит механического, внешнего соединения медитативности и конфликтности. Они оказываются взаимосвязаны:
конфликтность входит в произведение не как враждебное начало, персонифицированное в теме (это было еще в Третьем
скрипичном концерте), а как результат внутреннего развития
медитативной сферы. Так, Четвертый скрипичный концерт начинается медитативным Andante: тема-мотто (одноголосная
тема-монограмма Г. Кремера, первого исполнителя концерта,
которому он посвящен; в нее вкраплена и монограмма самого
Шнитке, что усиливает ее личностный характер), далее следует
мажорная аккордовая хоральная тема у духовых - квазицитата, в основе которой романтическая стилистика (Шуберт Брукнер); это воплощение объективного, причем безусловно
позитивного начала (тема-идеал). Однако «разрешение» ее
последнего звука в кластер разрушает идиллический образ.
Идея отрицания гармонии, отрицания как одной из ступеней
в духовном развитии оказывается основным семантическим
и конструктивным принципом концерта.
Экспозиционный контраст воплощается на разных
уровнях произведения, повторяясь и в каждой части, и в цикле. Так, в частности, хоральная лейттема, которая появляется в
I, III и IV частях, постепенно претерпевает изменения, подвергается искажениям. Эта микродраматургия гибко отражает семантические процессы в произведении: в каждой части тема предстает в предельно контрастных модусах, демонстрируя все ту
же мысль: попытка достичь устойчивости, равновесия в опоре
на идеалы прошлого неосуществима, терпит крушение..
6. Подробнее об этом см.: 10, 129-136.
7. О медитативно-конфликтной фабуле, характерной для современной музыки, пишет В. В. Медушевский [см.: б, 26].
На уровне цикла идея разрушения гармонии воплощена во II части. Это вариант остинатного perpetuum mobile, которое в семантической структуре произведений Шнитке нередко
выполняет функцию негативного наплыва. Она построена как
12-темная остинатно-полифоническая (полиостинатная) форма, прототипом которой композитор считал пассакалью. Механическая моторность образует крещендирующую форму огромную волну, в кульминационной точке которой (когда кажется, что все средства исчерпаны) происходит превышение
возможного и следует cadenza visuale: знаком полного краха и
«немоты» становятся импровизированные беззвучные жесты
солиста. Однако решающим фактором, определяющим смысл
концепции цикла, оказывается финал: это ответ на вопрос, поставленный в начале. Как это уже установилось в творчестве
Шнитке, это финал-кода. Он строится на материале I части, что
создает медитативную рамку, в которую вписывается все целое.
Таким образом, поглощение конфликтности медитативностью
становится особенно наглядным. Это, действительно, мвдитативно конфликтная драматургия. Кода-эпилог - не просто завершающий раздел произведения, приводящий все к итоговому разрешению и успокоению. Это переключение в иное
измерение и «переключение на другое время» [Шнитке - 2,181].
Направленность композиции целого к последнему звену - коде,
в которой происходит расширение пространства и выход
к иным духовным горизонтам, и составляет смысл и суть медитативности произведений Шнитке.
Рельеф медитативно-конфликтной драматургии, впервые найденный в Четвертом скрипичном концерте, затем получил индивидуальное претворение в различных произведениях
Шнитке. Рассмотрим это на примере двух сочинений, написанных одно за другим, фактически в течение одного года, и составляющих контрастную пару, своего рода макроцикл, — это
Альтовый (1985) и Первый виолончельный (1986) концерты.
Два взгляда на мир, две различные концепции, два почти полярных художественных явления.
Альтовый концерт — произведение трагическое, без
просветления и смягчения в конце. Скорбные монологи и экспрессивные речитативы альта на фоне траурных хоралов проходят через весь концерт (особенно концентрируясь в крайних
медитативных частях), и это придает музыке индивидуальный
облик - тембровый и эмоциональный. Это мир «последних»
оешений и окончательных прозрений, мир без иллюзий.
Основные элементы медитативно-конфликтной драматургии присутствуют в концерте, но акценты здесь иные,
чем, например, в Четвертом скрипичном концерте. Три элемента основного драматургического сопряжения: медитация - препятствие - медитативное разрешение - воплощены в первой
части дважды, причем второй раз - на более высоком уровне
(монолог альта на фоне хорала струнных — «срыв» tutti с кластерами - «квазиразрешение» в классическую каденционную
формулу D7 - Т). Этот драматургический комплекс воплощается не только в первой части, но и на уровне цикла. Медитативной I части отвечает «срыв» - моторно-драматическая
II часть, разрешается же этот конфликт только в финале.
II часть - это опять perpetuum mobile 8 , наплыв стихийных разрушительных сил (по характеристике самого композитора,
«негативный круг» - «тут все что угодно: и стилизация, и невыносимая красивость, и жесткость, - сумасшедший калейдоскоп» - 7, 47).
Окончательная ясность наступает в финале, именно
здесь различие концепций Альтового концерта и других сочинений Шнитке становится очевидным. Это траурный эпилог,
внутри которого есть остинатный эпизод в a-moll: впервые
у Шнитке прямо и открыто используется жанр траурного шествия, нечто вроде «приговора» человечеству. Он выполняет
драматургическую функцию «взрыва». В завершающем разделе - отдаленный набатный звон и призрачное мерцание расщепленной терции - многоточие, знак незавершенности, незавершимости мира, невозможности решить проблему бытия
на уровне индивидуального сознания. Концепция концерта безусловно пессимистическая, при этом личная скорбь достигает уровня почти космического. Альтовый концерт принято считать произведением апокалиптическим.
Альтовый и Виолончельный концерты разделяют всего несколько месяцев, однако именно эти месяцы явились
переломными в жизни композитора. Тяжелая болезнь («Это
было страшно. Я три раза побывал "там"») заставила его поновому взглянуть на многое, раскрыла «иное измерение» жизни. Находящиеся по разные стороны этого рубежа Альтовый
и Виолончельный концерты отразили состояние «до» и «после» перелома.
Симптоматична в этом смысле история написания
Виолончельного концерта. Композитор предполагал сделать его
8. Хотя эта часть написана в сонатной, а не в остинатно-вариационной форме, как II часть Четвертого скрипичного концерта, принцип
остинатности играет здесь важную роль, и функции этих частей в драматургии цикла подобны.
трехмастным. «И дописал почти до конца третьей части, когда
мне, так сказать, был подарен финал - четвертая, кульминационная, итоговая часть, о которой я и не думал, которую и не
представлял себе!» [7, 47].
И действительно, цикл виолончельного концерта можно назвать двухступенчатым: всё, что до финала, - сам финал.
Первые три части - это цикл в цикле. I часть (Pesante) уже содержит знакомые нам элементы: медитативная лейттема солирующей виолончели - препятствие - срыв (диссонантныеМй);
есть здесь, как и в Альтовом концерте, еще одна медитативная
лейттема - хоралы у струнных и духовых («окна в недостижимый_ми|Э>> - С. Савенко). Далее, какобычно, основной конфликт
переходит на уровень цикла: II часть, Largo, — сфера чистой
медитативности и III часть (Allegro vivace) -^область гротеска,
«мир наизнанку» (сочетание функции скерцо и финала в духе
Шостаковича). Эта часть, которая должна была завершать концерт (как это воспринимал потом сам Шнитке, «внешний финал», «образцово-показательный, но не сущностный» - 7, 47),
оказывается ложным поворотом, приводящим к тупику. И вновь
катастрофический срыв. Это очередное «нет!» вводит финал.
Форма финала отвечает его назначению: остинатные
вариации на неизменную мелодию, образующие крещендирующий рельеф, в основе — многократное утверждение и конечное провозглашение гимнической темы. Это квазицитата, тема
древнерусского характера, напоминающая знаменный распев
(см. пример 4 - вторая вариация; приведена партия солирую[ Largo]
Концерт для виолончели с оркестром. IV часть
102
V-c
solo1 ^ — 4 —
Ш
W
/
юз
ш
Ж
-
в
гЪ 9
I;
ПП
N
-
в1—
-W.>
>
V
1
9—
r i t *И
п
-
»•—
»'
>
••
щей виолончели). Ее преобразование (можно сказать, преображение) - от минора с пониженными ступенями (низкий
регистр, рр) до лидийского «сверхмажора» (tutti, ff)\ рост динамики, добавление инструментов и партий, необычный эффект микрофонного усиления звука виолончели - всё это создает иллюзию раздвижения пространства. Всё наполнено
звоном, ликованием (колокольные звучания, юбиляции виолончели) - мы как бы становимся участниками вселенского
торжества. Неуклонное восхождение к вершине, и в кодовой
вариации спад и тихое завершение (тема флажолетами у виолончели, риторическая фигура anabasis); выход за пределы
реального, земного - таков драматургический рельеф финала Виолончельного концерта, венчающего «макроцикл» двух
концертов. Назовем такой тип драматургии (используя выражение Е. Федюковой) медитативно-экстатическим («поэтапное», «уступами» достижение вершины — 9, 50-57). Медитативно-экстатическая драматургия, возникнув на основе
медитативно-конфликтной, отличается от нее своим последним звеном - итогом. И в этом уникальное значение Первого
виолончельного концерта в контексте творчества Шнитке
80-х годов. Благодаря экстатическому завершению он не только резко контрастирует Альтовому концерту, но и заметно
«расходится» с «типовым» рельефом медитативно-конфликтной драматургии (см. схему 2) 9 .
Схема 2
Виолончельный
концерт
9. В схеме медитативное начало как определяющее отражено линией, расположенной выше горизонтальной оси, а конфликтное как негативное - ниже ее, так что по сравнению с обычными драматургическими схемами она является зеркальной.
ИД
Параллельно с медитативностью (и в полном «созвучии» с ней) в творчестве Шнитке 80-х годов усиливаются .неоромантически е тенденции, вообще характерные для его музыкального мышления. В музыке Шнитке этих лет возникают
вполне ощутимые аллюзии на композиторов-романтиков. Большинство подобных тем-квазицитат не содержит столь точного
«адреса», как это было в полистилистический период, но их
связь с романтической стилистикой не вызывает сомнений (Рондо из Concerto grosso № 1, хоральная лейттема из Четвертого
скрипичного концерта, хоральные темы из Альтового и Виолончельного концертов. Струнное трио). С неоромантическими
устремлениями Шнитке связано и использование во многих
сольных концертах жанрово-композиционного стереотипа
романтиков - одночастной «поэмной» формы (сонатно-циклической) с характерной для нее драматургией 10 .
Уже говорилось, что неоромантизм Шнитке - это не
следование определенному художественному направлению, но
сущностная особенность его мышления. Потому это проявляется не только персонифицированно - в цитатах или квазицитатах или на уровне целого - в композиции, но и более
тонко, неуловимо - в интонационном строе его музыки.
«Почему-то после Вены у меня осталась именно шубертдвская
интонация...» - говорил композитор, вспоминая об отроческих
годах, проведенных в Вене [2, 30]. Это высказывание не следует понимать буквально. В музыке Шнитке мы слышим, прежде
всего, обобщенную «романтическую интонацию», прошедшую
сквозь призму восприятия композитора X X века и восходящую
к позднему романтизму и продолжающему его экспрессионизму (Г. Малер, А. Брукнер, А. Берг, А. Шёнберг).
Безусловно, неоромантическим произведением является Альтовый концерт — именно на основе своего интонационного строя. Это касается прежде всего монологов
солирующего альта: романтическая интонация альта - это
индивидуальная, узнаваемая черта произведения (см. пример Б, на с. 274 приведена только партия альта).
Опора Шнитке на романтическую традицию имеет еще
один ракурс: исконная связь композитора с немецко-австрийской культурой, так как это именно немецко-австрийский
романтизм (так или иначе ориентирующийся на Вену). Образуется линия преемственности, объединяющая целый ряд
композиторов: Ф. Шуберт - И. Брамс - Р. Вагнер" - А. Брукнер - Р. Штраус - Г. Малер - А. Шёнберг - А. Берг. Наверное,
10. См., например, анализ Концерта для фортепиано и струнного
оркестра (1979): 10, 139-143.
Концерт для альта с оркестром
[Allegro molto (J=iss)]
V-la: Л
sola:
и
—
lA т
—
л- т- • л—|Т
f f W F
/
\>CL
W
1
ш
i
9т
P
XT
Ч
il;r
mp
§ЙР
о
из отечественных композиторов А. Шнитке - едина венный,
кого можно было бы включить в данную традицию и замкнуть
его именем эту цепь (ведь поздний период творчества композитора приходится на самый конец X X века)11.
С медитативностью тесно связана религиозная линия
в творчестве Шнитке. Начиная с Гимнов и особенно Реквиема12,
Шнитке постоянно обращается к духовным жанрам.
Композитор в равной степени отдал дань духовным
жанрам как католической (Реквием, 1975; Вторая симфония,
1979; кантата «История доктора Иоганна Фауста», 1983; Agnus
dei для двух сопрано соло, женского хора и оркестра, 1991), так
и православной традиции (Три хора a cappella на канонические
тексты, 1984; Концерт для смешанного хора на стихи Г. Нарекзци из «Книги скорбных песнопений», 1984-1985; «Стихи покаянные» для смешанного хора на тексты XVI века 13 ,1987; Вступ11. Связь Шнитке с немецко-австрийской традицией, возможно,
в наибольшей степени проявилась в Третьей симфонии (1981). См.
об этом: 10, 170-181.
12. Предвестником этих тенденций второй половины 70-х гг. явился
Второй скрипичный концерт (1966) - одно из самых значительных и
концепционных сочинений «авангардного» периода; его композиционно-драматургический рельеф, по признанию автора, опирается на евангельский сюжет. Однако Шнитке не считал это свое произведение программным [см.: 1, 46-47].
13. Это произведение было посвящено 1000-летию крещения Руси.
ление к первому воскресному празднику для смешанного хора
и органа, 1989). Это объясняется биографическими фактами:
Шнитке крестился (1983) в католической церкви в Вене - в согласии с верой своих предков; однако, живя в России, он посещал православную церковь и исповедовался у православного
священника. В таком равноправии двух конфессий опять сказалось объединение в его духовном сознании русского и немецкого менталитета.
Шнитке, как правило, не обращался к каноническим
духовным жанрам: он, по собственному признанию, считал себя
не вправе писать ритуальную музыку для церкви. Поэтому
он избирает жанр хорового концерта на тексты внецерковного,
но религиозного характера.
Однако тяготение к духовной тематике проявляется не
только в выборе тех или иныхжанров. В этот процесс оказываются
вовлеченными и такие светские жанры, как симфония (Вторая и
Четвертая) и концерт (Первый виолончельный: тема финала).
При этом дело, конечно, не в цитатах, а в особом духовном строе, который приобретают сочинения этих лет (не
только названные, но и многие другие). Это проявляется и в
композиции - в медитативных ирреальных кодах, и в особом
течении времени в музыке, которое имеет «не кристаллическую», а «бесконечно изменчивую, текучую» структуру ^ , 42], и
в особенностях творческого процесса - повышении роли интуитивного начала («У меня есть ощущение, что некоторые идеи
мне были как бы подарены - они не от м.еня» - 2, 57), представление о творчестве как о «слышании» и «фиксации» идеальной музыки, существующей в «ином мире».
Как уже упоминалось, с религиозной темой связаны
две симфонии Шнитке.
Вторая симфония для хора и большого оркестра
(1979)14 - произведение синтетического жанра: это симфония,
заключающая внутри себя рассредоточенную по шести частям
цикла григорианскую мессу (симфония-месса). Происходит
взаимодействие жанров (не только контрастных, но и противоположных — теоцентрического и антропоцентрического) жанрово-стилистический диалог. Взаимоотношения цитируемого и авторского материала (реакция современного человека
на идеал гармонии, воплощенный в григорианском хорале,
14. Имеет подзаголовок St. Florian: замысел симфонии возник во время посещения монастыря Сан-Флориан в Австрии, где жил, работал
и похоронен А. Брукнер. Тогда же - под впечатлением звучания мессы в пустом храме — родилась основная идея — missa invisible («невидимая месса»).
стремление слиться с этим идеалом) и составляют внутренний
сюжет Второй симфонии 15 .
Четвертая симфония написана для солистов и камерного оркестра (существует редакция для симфонического
оркестра, солирующих фортепиано и челесты, певцов-солистов
и хора - 1 9 8 4 ) . Исследователи называют ее «д^шфо^ией^ригуалом» (В. Холопова), SJnfonia da chiesa (L. Lesle - 1 5 ) , «музыкальной Библией Культуры»ТА. ГОоликова - 1 , 3 9 ) . Симфония имеет
программу, одновременно выполняющую роль конструктивного принципа для всего композиционного и драматургического
развертывания. В основе «скрытого сюжета» - «розарий», католический венок из роз (пятнадцать тайн, три цикла по пять:
тайны радостные, тайны скорбные и тайны славные).
В результате форма симфонии - пятнадцать вариаций; неторопливое развертывание музыкального действия и статический
характер драматургии естественны в симфонии-ритуале.
Однако содержание симфонии не может быть сведено
к богословской тематике. Как всегда, Шнитке интересует «идея
универсальности культуры и_ее единства» [2, 77]. И обращаясь к
"религиозной теме, композитортакже ставит проблему единства
вероисповеданий, единства различных конфессий. Поэтому он
прибегает к стилизации культовой музыки различных вероисповеданий: православного, католического, протестантского и си : .
нагогального пения, при этом цель была - «обнаружить здесь
наряду с различиями некое изначальное единство» [2, 77]. В заключительном хоровом эпизоде - тихой медитативной коде
симфонии - происходит объединение, слияние четырех темсимволов в ясном диатоническом Ре мажоре (согласно символике тональностей в музыке Шнитке - божественный свет).
Четвертая симфония - одно из немногих произведений композитора (можно назвать еще Гимны и Фортепианный
квинтет), в котором конфликтность как драматургический принцип фактически не действует; медитативная концепция предстает в чистом виде.
~
Однако мы знаем, что в целом это не характерно для
Шнитке, даже в «тихий» период конфликтность присутствует
в его творчестве. В 80-е годы полярность - изначальное качество музыкального мышления Шнитке - поднимается на более
высокий уровень, воплощаясь в «контрастных парах» сочинений. Уже говорилось о такой паре - Альтовый и Виолончельный концерты.
С точки зрения содержательной, мировоззренческой
можно выделить еще одну контрастную пару: это два ключевых
15. Подробнее об этом см.: 9; 10, 161-170.
сочинения, написанных почти одно за другим, - кантата
«История доктора Иоганна Фауста» (1983) для контратенора,
контральто, тенора, баса, смешанного хора и оркестра (на текст
народной книги, изданной Иоганном Шписом в 1587 г.) wJKoy.церт для смешанного хора (на стихи Г. Нарекаци в переводе
Н. Гребнева из «Книш скорбных песнопений»; 1984-1985).
Тема Фауста - одна из ведущих в творчестве Шнитке.,
и, может быть, в этом проявилась его глубинная связь с немецкой культурой. Задумав оперу на сюжет народной книги еще до
создания кантаты, композитор долго откладывал ее завершение.
Можно сказать, что борьба Добра и Зла, Бога и Дьявола в душе человека — основная тема творчества Шнитке
80-х годов16, и решается она по-разному в различных сочинениях, но всегда очень остро, чаще - трагично. В «Фаусте» зло
находит персонифицированное выражение - в «расщепленном» образе Мефистофеля, который имеет две партии: «сладкоголосый обольститель» (контратенор) и «жестокий каратель»
(контральто). Кульминация кантаты - эпизод гибели Фауста.
Известно, что Шнитке сначала хотел использовать здесь
эффектные современные средства (диссонансы, глиссандо
и т. д.), но затем отказался от этого замысла, вновь обратившись к приемам полистилистики (шлягер - по словам композитора, «унижение банальностью» 17 ).
Эпизод этот получает почти театрализованное воплощение. Мефистофель карающий - эстрадная певица-контральто - с микрофоном проходит через зал и выходит на сцену.
Ее пение сопровождает эстрадно-джазовый ансамбль, к которому присоединяется оркестр, играющий в джазовой манере.
Вопиющий контраст этого эпизода по отношению ко всей
остальной музыке кантаты (ориентированной ктому же на жанр
страстей, один из самых высоких в истории музыки 18 ) контраст, возможный только в условиях ПОЛИСТИЛИСТИКИ, создает эффект шока, который языком конца X X века передает
ужас от почти натуралистического описания расправы Мефистофеля над Фаустом, содержащегося в Народной книге. Сила
воздействия этого «танго смерти» настолько велика, что противопоставленный ему До- мажорный хорал, завершающий сочинение - «Так бодрствуйте, бдите», - не создает равновесия, трагическая окраска преобладает.
16. Об этом свидетельствуют и многие высказывания композитора
этих лет, в частности, зафиксированные в его диалогах с Ивашки-
ным [см., например, 2, 15б~1б4].
17. «...Шлягер в развитии искусства г о : имвол зла» [2, 755].
18. По словам композитора, это «негативный пассион».
Иное дело - Хоровой концерт, который на другом материале, другим языком как бы отвечает на вопросы, поставленные в «Фаусте». Но даже в этом сочинении, которое, в согласии с жанром, едино, однородно по тону, возникают
омрачающие наплывы: второй полюс присутствует и здесь, хотя
бы «за кадром».
Концерт для смешанного хора. I часть
/
_
№ш
I
Не
f ftf=f
щ
t
ш
Г
т
Ф 4 Ф
г
р г
тр
а
t
4
r
—
=
=
S.
и
Я
т г р-г г г
у
жа
— =
t
H
ттг
са.ю.щии,
тр =
—
7
тр_
и
ш
о
о
rail.
бла.го
РР
тгТ
дат.ныи.
Sш
г
Г
т г
о
ff
8gj
»
Т = Г Г
Tjy
о
тр
Г Г
ж
И
pp
Т Т Г ГРГ
^ «у ^
ИрГ
i
тр
яг/? _
В.
Щ
не_объ _ я т . ныи,
/1
Р
т.
?
тр
тр
ц
А.
r
/
.
В. щ
'
ви ди.мыи, из веч.ныи,
р
Ф
Т.
_
Полярность организует художественное мышление
Шнитке на всех уровнях: от самого крупного - всего творчества — до мельчайшего - музыкального языка, соотношения
основных конструктивных элементов. Идеальная, духовная сфера представлена, прежде всего, мажором и особенно символической тональностью света - До мажором (заключительный
хорал из «Фауста», многие фрагменты Первого хорового
концерта) или Ре мажором, окрашенным золотым цветом
божественного: окончание Первого виолончельного концерта.
Четвертой симфонии. Первого и Второго хоровых концертов.
Далее — это высокий регистр, иногда обертоновая тема в виде
восходящего терцового ряда (Вторая симфония, Гимны),
риторическая фигура anabasis - символ вознесения; очень часто - тема-монограмма BACH.
Антивариант «идеального» интонационного комплекса, как правило, связан с до минором. Это - знак одиночества:
человек наедине с миром, со смертью. Может быть, это поиски
Бога, но все равно трагизм преобладает (Lacrimosa из Реквиема - см. пример 36, II часть Первого хорового концерта, начало и хоральная тема-итог Концерта для фортепиано и струнных, начало «Фауста» 1 9 - см. пример 7, финал Второго виолончельного концерта).
7
Кантата «История доктора Иоганна Фауста»
19. На этой же теме строится «танго смерти».
¥ Ш 1
t
- ш п п т - п г я
^
л
mp
т
. JP Л J — - t —
V
>v
,
У
p |>
^
J-
J
J > |>J-
J
^
e '
^j-
о'
J
^ m - H i
Однако чаще два интонационных комплекса соединяются вместе, переплетаются - либо составляя два варианта, два
модуса одной темы (кантата «Фауст»), либо образуя столь любимые Шнитке мажоро-минорные двутерцовые темы (финал
Третьего скрипичного концерта, завершение Второй симфонии,
последние такты «Фауста»). Такое смешение мажора и минора
(некий привкус горечи) - знак неразрешенности на уровне
человеческого сознания проблемы гармонии с Богом, невозможности слияния божественного и земного.
Поздний период творчества Шнитке открывает Шестая
симфония (1992), которая характеризуется «крайним упрощением структуры и усилением символической выразительности
каждой интонации» [8, 75]. Далее одна за другой появляются
Седьмая (1993) и Восьмая (1994), которые можно воспринять
как макроцикл.
Контрасты не исчезают из музыки Шнитке, но они уже
не являются собственно полистилистическими: даже если за
противопоставляемыми образными сферами стоят разные стили, это не стилевые модели, но язык самого композитора. Это
относится не только к уже знакомым «лексемам» Шнитке темы-монограммы, perpetuum mobile, траурный хорал духовых
и т. д., но и к тому, что можно считать новым для его стиля:
островки чистой красоты и пронзительной лирики (I часть
Седьмой и III часть Восьмой симфоний). Эта музыка наделена
романтическим смыслом: одинокая душа в поисках Абсолюта,
как кажется, находит к нему дорогу. Как верно отметил композитор Р. Леденёв: «У Шнитке появились новые, нежные звучания, словно примирение с терзавшим его миром. Это были пока
л
~
островки света в его концепции, но, думаю, он шел к новой
эстетике, где, вероятно, открылся бы и простор для очищенной
мелодики» [5, 215].
Как-то Альфред Шнитке заметил: «Каждый приговорен к самому себе». Что стоит за этими словами? Шнитке неоднократно говорил, что не может в своей музыке «уйти в монастырь», создать в ней мир чистого добра и идеальной
гармонии, когда негативная реальность все равно существует.
И в этом отношении его путь был иным, чем, например, путь
А. Пярта, В. Мартынова. В своем искусстве Шнитке так же до
беспощадности правдив и честен, как Достоевский в своих романах (с которым его часто сравнивают), - в его музыке живет
дух высокой трагедии.
Если представить себе творчество Шнитке как целое,
как единый текст, как единую концепцию, то можно сказать, что
диалогическое начало, полярность составляет ее сущность. Добро и зло перемешаны, взаимодействуют, проникая друг в друга, - это единый, сложный амбивалентный мир. Находясь подчас в опасном равновесии, с перевесом то одного, то другого,
они создают изначально трагическую концепцию, и в этом смысле творчество А. Шнитке — феномен X X века.
Основные сочинения
Оперы
«Жизнь с идиотом» (1990-1991, пост. 1992, Амстердам), «Джезуальдо»
(1994, пост. 1995, Вена), «История доктора Иоганна Фауста» (1983- 1994,
пост. 1995, Гамбург).
Балеты
«Лабиринты» (1971, пост. 1978, Ленинград), «Эскизы» (по мотивам
Н. В. Гоголя, 1971, пост. 1985, Москва), «Пер Понт» (1986, пост. 1989, Гамбург);
сценическая композиция «Желтый звук» (1974, пост. 1974, Сент-Бом, Франция).
Произведения для хора и инструментов (оркестра)
«Реквием» (1975), «Der Sonnengesang des Franz von Assisi» (слова Франциска Ассизского, 1976), кантата «История доктора Иоганна Фауста» (1983) и др.
Произведения для хора a cappella
«Миннезанг» (текст миннезингеров XII-XIII вв., 1980-1981), 3 хора (на
тексты русской православной службы, 1984), хоровой концерт (стихи Григора
Нарекаци из «Книги скорбных песнопений», 1984/85), хоровой концерт «Стихи
покаянные» (тексты XVI в., 1987).
/
Произведения для оркестра
9 симфоний (1-я, 1972; 2-я, «St. Florian», 1979; 3-я, 1981; 4-я, 1984; 5-я,
Concerto grosso № 4 / Симфония № 5, 1988; 6-я, 1992; 7-я, 1993; 8-я, 1994; 9-я,
1997), Pianissimo (1968), Пассакалия (1979-1980), Ритуал (1984-1985) и др.
Концерты с оркестром
3 для фортепиано (1-й - 1960, 2-й - 1979, 3-й - для ф-п. в 4 руки, 1987—
1988), 4 для скрипки (1957, новая редакция - 1962; 1966; 1978; 1984), для альта
(1985), 2 для виолончели (1985-1986; 1990) и др.; 6 Concerti grossi (1977; 19811982; 1985; 1988; 1991; 1993).
Камерно-инструментальные ансамбли
3 сонаты для скрипки (1963, 1968, 1994), 2 сонаты для виолончели
с ф-п. (1978, 1994), струнное трио (1985), 4 струнных квартета (1966; 1980; 1983;
1989), ф-п. квартет (по эскизам Малера, 1988), ф-п. квинтет (1972-1976), септет
(1981-1982) и др.; 3 ф-п. сонаты (1987,1990-1991,1992) и др. соч. для ф-п.; музыка к спектаклям драм, театра, кино- и телефильмам.
Статьи
Некоторые особенности оркестрового голосоведения в симфонических
произведениях Д. Д. Шостаковича / / Дмитрий Шостакович. М., 1967; Парадоксальность как черта музыкальной логики Стравинского // И. Ф. Стравинский. М.,
1973; Полистилистические тенденции в современной музыке // Музыкальные
культуры народов. Традиции и современность. М., 1973; Круги влияния // Д. Шостакович. М., 1976; На пути к воплощению новой идеи // Проблемы традиций
и новаторства в современной музыке. М., 1982; Новое в методике сочинения:
статистический метод / / Альфреду Шнитке посвящается. Вып. 2. М., 2001;
Оркестровая микрополифония Лигети // Там же; Основные направления и тенденции в современной инструментовке / / Из личных архивов профессоров
Московской консерватории. М., 2002; Родство тембров и его функциональное
использование // Там же, и др.
Литература
1. Вобликова А. «Литургические» симфонии А. Шнитке в контексте соотнесения культа и культуры // Музыкальная академия. 1994. № 5.
2. Ивашкин А. Беседы с Альфредом Шнитке. М., 1994.
3. Ивашкин А. Шостакович и Шнитке. К проблеме большой симфонии // Музыкальная академия. 1995. № 1.
4. Ильин И. П. Постмодернизм / / Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.
5. Леденёв Р. Судьба //Альфреду Шнитке посвящается. Вып. 2. М., 2001.
6. Медушевский В. Интонационно-фабульная природа музыкальной
формы. Автореф. дис. ... докт. иск. М., 1983.
7. Реальность, которую ждал всю жизнь... // Альфреду Шнитке посвящается. Вып. 2. М., 2001.
8. Тиба Д. Симфоническое творчество Альфреда Шнитке: опыт интертекстуального анализа. Автореф. дис. ... канд. иск. М., 2003.
9. Федюкова Е. Вторая симфония А. Шнитке. К проблеме взаимодействия жанров в музыке XX века. Дипломная работа. МГК, 1985.
10. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М., 199&.
11. Чигарева Е. «Ощущение бесконечно продолжающейся жизни...» / /
Советская музыка. 1991. № 9.
12. Шнитке А. Полистилистические тенденции в современной музыке //
Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М., 1990. Приложение.
13. Шнитке А. Третья часть Симфонии Л. Берио. Стилистический
контрапункт. Тематическое и формальное единство в условиях полистилистики. Расширение понятия тематизма. Машинопись.
14. Шульгин Д. И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. Беседы с композитором. М., 1993.
15. Lesle L. Komponieren in Schriften. Begegnung mit Alfred Schnittke //
Neue Zeitschrift fur Musik. 1997. № 7/8.
Музыка в зеркале медитации
Арво Пярт
Эстонский композитор Арво Пярт, с 1980 года обосновавшийся в Германии, к началу XXI века стал одним из самых
известных и часто исполняемых авторов современной академической музыки. Его произведения обрели известность во
всем мире, причем успех не ограничился кругом профессиональных ценителей. Духовная содержательность и глубокая
серьезность искусства Пярта привлекли к его музыке самые
широкие круги слушателей.
Арво Аугустович Пярт родился в 1935 году в городе
Пайде (Эстония). Музыкальное образование получил в музыкальном училище (1956-1957) и затем в Таллиннской консерватории, которую закончил в 1963 году в классе Хейно Эллера
(1887-1970), воспитанника Петербургской консерватории,
одного из основателей эстонской национальной композиторской школы. В 1957-1967 годах Пярт работал звукорежиссером
на Эстонском радио, в 1967-1978-м преподавал теоретические
предметы в Таллиннской консерватории. В 1980 году покинул
СССР и после недолгого пребывания в Вене обосновался в Западном Берлине (ныне Берлин - столица объединенной
Германии). Там Пярт живет до сих пор, время от времени
совершая творческие поездки в самые разные страны мира.
Арво Пярт обратил на себя внимание уже в студенческие годы, очевидно, сумев миновать период ученической
подражательности. Известность приобрели его две сонатины и
Партита для фортепиано (1958-1959), выдержанные в жестком
неоклассическом стиле. Скоро пришло и официальное признание: за ораторию «Поступь мира» и детскую кантату «Наш сад»
Пярт был удостоен первой премии на Всесоюзном смотре творчества молодых композиторов (1962). С другой стороны, по-
явившийся двумя годами раньше «Некролог» для большого симфонического оркестра подвергся резкой критике. Это было первое в эстонской музыке додекафонное сочинение, проба пера
молодого композитора в новой технике, к которой Пярт, как и
его сверстники, испытывал в это время жгучий интерес («Некролог» появился всего на год позже, чем самое первое додекафонное произведение в масштабе СССР - «Musica stricta»
Андрея Волконского1). После «Некролога» Пярт все больше укрепляется на переднем крае новаторских поисков,
ассоциировавшихся в то время со строгим расчетом и рационализацией письма - с серийным методом, продолженным до
степени тотального сериализма. Этот путь был общим для многих молодых композиторов Советского Союза, однако Пярт
выделялся среди них своим радикализмом. Официальное давление в Таллинне ощущалось не так сильно, как в Москве или,
скажем, в Киеве, но даже в этих сравнительно мягких условиях
Пярт не раз оказывался в ситуации конфликта с надзирающими за культурой инстанциями. Второй после «Некролога» крупный скандал произошел в 1968 году в связи с Credo (см. об этом
ниже). Но Пярта, как и его коллег по авангарду, это не останавливало - все они сохраняли верность своему творческому дару;
не дорожа карьерным успехом, они постепенно приобретали
истинное признание слушателей.
Все сочинения Пярта 60-х годов, включая Credo, написаны на основе серийного метода. При этом техника композитора постепенно становится все более отточенной и строгой; серийные структуры тяготеют к кристаллизации и симметрии.
Например, во Второй симфонии (1966) 2 серия представляет собой последовательность из трех одинаковых по интервалике
сегментов: fis a g gis\ b cis h с | d f es е. Скрытый в них мотив
BACH также весьма характерен для пяртовских серийных структур. Формульность высотных ячеек особенно заметна в Credo,
где двенадцатитоновая ткань складывается из однотипных интервалов: чистых квинт в начале, увеличенных трезвучий в кульминации. Возникают также элементы тотальной сериальности
на основе ритмических прогрессий и регрессий, а также техники тембровой мелодии (Klangfarbenmelodie).
Серийный метод довольно скоро был дополнен другими разновидностями авангардной техники - алеаторикой,
сонорикой, приемами коллажа и полистилистики. Почти в каж1. См. об этом главу «"Оттепель" и музыкальная жизнь 50-60-х годов».
2. Л.: Музыка, 1971.
дом новом сочинении этого времени Пярт решает новую
композиторскую задачу, и почти каждое произведение превращается в самостоятельный творческий этап. Оркестровая пьеса
Perpetuum mobile («Вечное движение», 1963) с посвящением итальянскому коллеге Луиджи Ноно приобрела известность
на Западе благодаря исполнениям на международных фестивалях. Лаконичная пятиминутная композиция построена как постепенное нарастание от одноголосия до фактуры максимальной оркестровой плотности, после чего наступает быстрое
угасание. Идеи чистой звуковой энергетики, демонстрации
свойств музыкальной материи как таковой были в то время
весьма популярны.
Не менее типично строго рациональное осуществление
пьесы. В основе Perpetuum mobile лежит серийный принцип:
12 звуков ряда, постепенно наслаиваясь по вертикали, образуют в результате пульсирующий кластер, ритмически организованный по принципу прогрессии. В Perpetuum mobile - сочинении, в сущности, еще студенческом - удивительна зрелость
молодого композитора, проявляющаяся в отчетливом осознании художественной задачи и способности исчерпывающе
и убедительно ее разрешить.
К алеаторике и коллажу Пярт обратился одним из первых среди советских композиторов. Исполнительская импровизация применяется им на отдельных участках произведения,
большей частью как род свободного фигурирования предписанного звукового комплекса. Это так называемая ограниченная или контролируемая алеаторика. Алеаторику формы Пярт
не применял: очевидно, этому препятствовал инстинкт драматурга, увлекавший композитора к созданию новых, в идеале
единственных решений. В этих условиях важно было сохранять
контроль над формой. Четыре полистилистических опуса Пярта - «Коллаж на тему ВАСН» для струнных, гобоя, клавесина
и фортепиано (1964) 3 , Вторая симфония (1966), Pro et contra,
концерт для виолончели с оркестром (1966) 4 и Credo (1968) экспонируют четыре варианта коллажной драматургии. Каждый
из них отмечен печатью неповторимого художественного
своеобразия, интеллектуальным блеском композиторского
решения5.
3. Л.: Музыка, 1969.
4. Л.; М.: Советский композитор, 1973.
5. Не случайно концерт Pro et contra послужил для А. Шнитке одним
из основных примеров в сформулированной им к началу 1970-х гт.
теории полистилистики.
Лаконизм и отточенность Pro et contra делают это сочинение образцом многомерной полистилистической драматургии. Трехчастный цикл концерта6 воспроизводит модель барочного concerto grosso, с медленным вступлением, энергичными
первой частью и финалом, между которыми помещена характерно краткая медленная часть — в сущности, модулирующий
каданс, соединяющий основные части цикла. Однако «начинка» старинного жанра превращает почтенную модель в чистую
условность, материал для остроумной игры. «Барокко» отмечает здесь грани формы: начало (торжественный аккорд Ре
мажора). Largo в прочувствованном ре миноре (переход от первой части к финалу) и, наконец, блестящее туттийное завершение, с медью и литаврами, в конце финала - но не в полагающемся Ре мажоре, а полутоном выше, «невпопад», как
ликование без повода. «Барочному» слою резко противопоставлена «современность»: диссонансы, шумы, стуки, импровизация, нетрадиционные способы игры на инструментах - все
это в нарочито хаотическом виде «наваливается» в самом начале на благопристойный ре-мажорный аккорд. И диссонантный хаос - «портрет современности», - и старинная гармония
барочных кадансов существуют здесь в преувеличенном,
доведенном почти до абсурда виде. Вот как выглядит сопоставление второй части и начала третьей: фригийский каданс
струнных, украшенный трелью, резко, как в кино, сменяется
острым джазовым ритмом и остинатным мотивом солиста
(исполняемым sul ponticello), в котором постепенно7 складывается двенадцатитоновая серия fee cis es d да ges gis h b
(см. пример 1 на с. 288).
Острый коллажный контраст двух звуковых миров
и есть дилемма pro et contra, заявленная в названии сочинения. Однако ни та, ни другая сторона не одерживает победу вопрос остается открытым и для слушателя, и для композитора.
Внешне аналогичное завершениеВторой симфонии, где
цитирована пьеса «Сладкая грёза» из «Детского альбома»
П. И.Чайковского, имеет совершенно другой смысл. Хрупкобеззащитная тема, подобно видению всплывающая из сонорной массы кульминационной зоны, не имеет шансов утвердиться; ее внезапное явление лишь подчеркивает недосягаемость
«детского рая», поданного тоже не без оттенка иронии.
6.1. Maestoso, затем ускорение от J = 100 до J = 138:2. Largo; 3. Allegro.
7. Использован прием так называемой ротации, т. е. повторения звуков с изменением их последовательности.
«Pro et contra»
7 Largo J= 46
п
о
тр
Ob.
о
тр
тг
CI. in В
Timp.
о
Ш
m
п=
тр
>о
ZXEZ
<tr
Ш
4fr
V-ni I
о
о
о
о
тр
Fag.
m
ст
g
о
p
о
тр
V-ni II
TJ
тр
div.
V-c.
C-b.
3 5
Ш
о
о
т>
ю-
п
тг
>o
о
тр
тр
о
attacca
Драматизм полистилистики, ее культурно-историческая напряженность особенно ощущаются в Credo — небольшой
по длительности, но монументальной кантате для фортепиано,
смешанного хора и большого оркестра. Как уже упоминалось,
появление Credo вызвало скандал, и произведение было практически запрещено к исполнению.
Причиной столь бурной реакции официоза стал евангельский текст, извлеченный композитором из Нагорной проповеди и положенный в основу сочинения: «Вы слышали, что
сказано: "око за око, и зуб за зуб". А я говорю вам: не противься
злому» (Матф., 5: 38-39). Кроме того, в обрамлении звучит:
«Верую во Иисуса Христа», «Верую». Все это звучит по-латыни,
однако «непонятность» слов произведение не спасла.
Евангельское противопоставление «ветхого» закона
мести, который ведет лишь к умножению преступлений,
и новой христианской мудрости любви и всепрощения - эта дилемма находит в музыке кантаты плакатно яркое и недвусмысленное воплощение, своей прямотой достойное первоисточника. Позднее Пярт скажет: «Идеальным было бы, если бы люди
говорили просто "да" или "нет", как в Нагорной проповеди» [5,
338]. «Да» в кантате — это цитата прелюдии C-dur, открывающей «Хорошо темперированный клавир» Баха: ее небесные
фигурации звучат в своем первозданном виде по краям сочинения. Прелюдия разрабатывается и в центральном разделе,
но там ее материал постепенно вытесняется диссонантностью
на серийной основе, что приводит в кульминации к устрашающему хаосу. Пение переходит в шепот, скандирование в крик;
возникает почти зрительная иллюзия постепенно умножающихся «око за око, зуб за зуб». Мультипликация звуковой ткани при
этом далека от всякой стихийности, поскольку подчинена принципу серийной матрицы, многократного воспроизведения одного и того же интервального и ритмического элемента. В кульминации, однако, применена алеаторика; образуется плотное
кластероподобное напластование, которое прорезают мощные
унисоны, и хор провозглашает новую истину: «Не противься
злому». Возвращается баховская прелюдия: «Верую».
С созданием Credo завершился авангардный период
в творчестве Арво Пярта, краткий и интенсивный. Ни тогда, ни
после Пярт не был склонен останавливаться на достигнутом,
подолгу разрабатывать найденные приемы. Он всегда немного
опережал коллег, словно предчувствуя эволюционное движение современной музыки, умел лаконично и исчерпывающе
передать суть новой стилистической ситуации. Теперь он
ощутил тупиковый характер прежних форм новаторства.
невозможность тиражировать апокалиптические концепции,
каковым, в сущности, было Credo - духовная кантата, полемизировавшая с историей жанра. Свершившийся апокалипсис не
позволяет вернуться к исходной точке и вновь повторить его.
Пярт замолчал на восемь лет.
Молчание было прервано лишь дважды. В 1971 году
появилась Третья симфония, двумя годами позже - кантата
«Песнь к возлюбленной» на стихи Шота Руставели, позднее бесследно исчезнувшая из списков сочинений Пярта8. Все это время композитор занимался изучением старинной музыки, в основном в обществе друзей из ставшего впоследствии известным
эстонского ансамбля «Hortus musicus». «Мир старинной музыки открылся перед нами, и мы все были полны энтузиазма. Эта
атмосфера сыграла роль повивальной бабки для моей новой
музыки» [Б, 339]. В другом интервью Пярт конкретизирует источники своего стилистического перелома: «григорианское пение, школа Нотр-Дам, затем Машо, франко-фламандская школа, Обрехт, Окегем и Жоскен - музыка главным образом до
Палестрины, но позднее я изучал также Викторию» [7,132]. Особенно подчеркивает Пярт значение григорианики. По его словам, соприкосновение с нею было подобно вспышке молнии.
«Григорианское пение научило меня, какая космическая тайна
скрыта в искусстве комбинирования двух, трех нот» [5,340]. Все
это время Пярт писал простейшие упражнения именно на таком материале - на одной, двух, трех нотах, заполняя ими целые тетради. Со стороны это, наверное, выглядело крайне странно, однако композитора вел безошибочный творческий
инстинкт, предчувствие нового.
Погружение в мир старинной музыки, на первый
взгляд, могло показаться простым расширением стилистического кругозора, вполне естественным для склонного к полистилистике композитора. Бах ведь уже появлялся в музыке Пярта,
теперь пришла очередь Гильома де Машо и Окегема... Однако
на деле все это означало глубокую ценностную переориентацию, признаки которой обратили на себя внимание уже в Третьей симфонии. «Третья симфония, - комментировал позднее
композитор, — мое первое "благозвучное" сочинение, но не конец моих сомнений и поисков» [7, 13Ц. Действительно, первое,
что обращало на себя внимание в новой симфонии 9 , - благо8. Его нет и в последнем каталоге сочинений Пярта, составленном
Универсальным Издательством в Вене (Universal Edition, Wien), которому принадлежат права на сочинения Пярта начиная с 1976 г.
9. Третья оказалась последним пока сочинением Пярта симфонического жанра.
звучие строгой диатоники, модальная мелодика, подобное
органуму голосоведение и «готические» кадансы. С Третьей
симфонией Пярт вступает на звуковую почву строгого стиля, но,
что существенно, не имитирует присущих ему форм. Хотя
вариантность, характерная для строгого стиля, используется
в симфонии довольно широко, ее значение - больше функциональное, нежели структурное: о полифонических формах строгого стиля нет и речи, как нет речи о присущей им текучести
и постепенности развития. Отдельные эпизоды, фразы и даже
каденционные обороты стыкуются по принципу монтажа,
что-то выступает на первый план, словно попадая под увеличительное стекло, другое же остается как будто недосказанным.
Во внешне сдержанной и суровой по тону музыке порой
прорывается патетика, несвойственная стилистическому образцу, — напротив, способная вызвать ассоциации с кинематографическим мышлением и даже просто со звуковым рядом фильма. Все это очень далеко от стилизации. Можно согласиться
с Полом Хиллиером, преданным исполнителем и исследователем музыки Пярта, назвавшим Третью «роскошно расшитым
лоскутным одеялом, постепенно открывающим сильную и эмоционально неотразимую структуру» [б, 134]. Конфликтный диалог полистилистики уходит вглубь, но не исчезает.
Следующий шаг Пярт сделал в середине 70-х годов,
когда на свет появился его новый стиль, названный композитором tintinnabuli (по-латыни «колокольчики»). Хронологически
первой оказалась миниатюрная фортепианная пьеса «К Алине»,
где Пярт, по его словам, нашел «маленькие простые правила».
Почти одновременно возникли еще семь пьес в этой же манере, тогда же исполненные ансамблем «Hortus musicus», с участием голосов и старинных инструментов. Новый стиль Пярта
произвел сильнейшее впечатление, но принят был далеко не
всеми и далеко не сразу. Зато со временем вокруг музыки Пярта образовался круг энтузиастических поклонников, для котооых композитор превратился в культовую фигуру.
Стиль tintinnabuli, позднее названный Пяртом «бегством в добровольную бедность», основывается на простейших,
<ак бы от века существующих звуковых элементах: «Красота
-атурального звучания колокольчика ассоциируется у автора
; понятием благозвучия и, конкретнее, с трезвучием» [2].
Стилистический переворот, совершенный Пяртом, напоминает
с его прежней решительности, теперь даже возведенной в сте~ень. Так резко порвать с прошлым мог только авангардист.
Ведь ересь благозвучия, в которую впал Пярт, была запретна
истинного художника, она воспринималась как конфор-
мизм и капитуляция. Тем более она была запретна для советского авангардиста, диссонансами вопиющего против тоталитаризма. Но пяртовское благозвучие не было капитуляцией —
оно имело глубочайшие духовные основания. Музыка никогда
не была для него сферой чисто эстетической, родом «игры
в бисер». В этом отношении правы те, кто считает Пярта русским художником, хотя фактически это не совсем верно 10 .
Уже в Credo открыто, в полный голос прозвучала идея божественного закона, противопоставленного хаосу людского
своеволия. Благозвучие космоса, слышавшееся в баховской
прелюдии, теперь утверждается каждым мгновением музыки
tintinnabuli.
Религиозная идея, провозглашенная в Credo, внедряется в сам творческий процесс. Сочинение музыки становится
родом высшего служения, смиренного и самоотреченного,
в противоположность авангардному индивидуалистическому
самовыражению. Антиавангардная позиция Пярта в это время
очень определенна и сформулирована подчас очень резко:
«Модерн - это такая война. Постмодерн, соответственно, - руины послевоенного времени» [3]. Или: «В чем смысл творчества? Существуют миллионы композиторов столь творческих,
что даже страшно. Можно утонуть в сточных водах творчества
нашего времени. Важна способность выбирать и потребность
в этом» [5, 340].
Стиль tintinnabuli действительно прост и «беден». В его
основе лежит мелодическая горизонталь, в которой существуют только два модуса: движение по звукам диатонической гаммы и по трезвучию, чаще всего минорному. Трезвучные ходы и
образуют tintinnabuli-голос в собственном смысле слова (как бы
перезвон колокольчиков). Обычно два эти типа мелодики обособлены в разных голосах, которых может быть разное количество, от одного-двух до ансамбля или оркестрового состава.
Специфичность такого рода письма хорошо видна в следующем примере, извлеченном из оСтрастей по Иоанну» (см. пример 2 на с. 293).
Два участника вокального квартета, которому поручена партия Евангелиста, силлабически интонируют текст (каждому слогу соответствует отдельная нота): «Потому что Иисус
часто собирался там с учениками Своими». Внешне скромные,
обе линии заключают ювелирно тонкую мотивную игру,
10. Для самого Пярта языком высших духовных проблем остался
русский; его религиозная жизнь связана с русской православной церковью.
«Страсти по Иоанну»
3
р4
4J —
2
4
4
4
-i—
—»—
—1—
2
4
m
ИНCI
con_v
ui _ fre.qu en.t er J e . s •us
e.ne.rat il.luc
q&—
»
1*—
Схема:
Ш
А'
1
а,
I
Ь
I
I
I |—
Ь
I
х (начальный звук а и Ь)
А*
—
1
хх («контраст»)
1
4
4
4
3x
4
4
M1 - е — °
J—(• 4»—
jm кdis.c:i.p u.lis su . is.
организованную очень строго. Тенор фигурирует tintinnabuliголос посредством точных и вариантных повторов, симметрично замкнутых одним и тем же ритмически более весомым мотивом, отмечающим, согласно правилам риторики, начало и
конец фразы. Поступенный тематический бас, подобно маятнику, «раскачивается» от модального центра а, причем амплитуда колебаний всецело зависит от количества слогов в слове
(см. схему в примере на с. 298). Длина слова соответственно
определяет и величину тактов: метрика здесь, как и положено
в силлабическом интонировании прозы, чисто квантитативная,
времяизмерительная. Небольшие отступления от этого принципа — более весомые слоги в начале и в конце фразы в условиях пяртовской тончайшей техники служат важным выразительным средством. Восприятие подобного аскетическиизысканного письма требует особой позиции слушателя умения различать мельчайшие детали, подолгу пребывать в состоянии медитативного погружения в музыку и находить в этом
эстетическое удовольствие. Переориентация здесь нужна не
меньшая, чем та, что в свое время требовалась для адекватного
слышания сериальных сочинений. Внешняя простота обманчива: «Чего стоит один звук, одно слово? Этот бесконечный поток,
текущий мимо наших ушей, притупил наш воспринимающий
аппарат» (5, 340).
Как видно из примера, точная повторность мотивов
сочетается с вариантностью, причем и то и другое имеют своим
источником слово. «Для меня музыку пишут слова», - цитирует Хиллиер композитора [6, 134]. Однако Пярт имеет в виду не
поверхностно-очевидный эмоциональный смысл текста,
а глубинно-символическое и структурное его значение. Такой
подход естествен для слова литургического - латинского в католических и церковнославянского в православных сочинениях, - где композитор следует старинной традиции воссоздания
символического слоя текста. Но тот же принцип применен и в
Мотете «Es sang vor langen Jahren» («Так пелось с давних пор»)
для контральто (контратенора), скрипки и альта на стихи
Клеменса фон Брентано (1984). По сию пору это чуть ли
не единственный опус Пярта, написанный на светский текст.
У Брентано это бесхитростная песня девушки за прялкой, разлученной с любимым, - подражание фольклору, осуществленное в рафинированной поэтической форме. Шесть строф стихотворения построены таким образом, что, начиная с третьей,
строфы составлены с помощью вариантных перестановок строк
двух начальных строф: песня движется словно по кругу,
подражая колесу прялки. У Пярта и здесь музыку пишут слова.
точнее - изощренная система повторов и соответствий, где варьированные возвращения мотивов сочетаются с буквальными. Однако композитор не дублирует стихотворную структуру,
а создает собственную, исходя из особенностей поэтического
первоисточника. Он группирует шесть строф по три (а не по две,
как у Брентано), разделяя группы ритурнелем (в конце - постлюдия на том же материале). Три строфы интерпретируются в
музыке согласно старинному принципу формы бар11: в столлах
варьируются гаммообразные ходы, припев построен как
tintinnabuli-голос, с характерным оттенком мелодического суммирования. Внутри строф примечательна тонкая мотивная игра,
в высшей степени продуманная и рассчитанная, где важнейшую
роль играют вычленения, перестановки и ракоходы.
Поступенный голос здесь интервально более свободен,
чем в близких по времени литургических сочинениях; поступенное движение здесь временами превращается в условность,
поскольку встречаются широкие ходы на нону и дециму, не говоря об интонационной «изюминке» мотета - малой септиме
с вписанными в нее двумя квартами, звучащей изысканно-архаически:
»
Мотет
JU JljjU JU Jlj JIJJJS
Es sang vor Ian.gen Jah . ren wohl auch dieNach.ti.gall.
jij JI«LlJ*JIJ jij Ji{jUJp
Das war wohl su _ Ger Schall,
da wir
zu.sam.menwa . ren.
Сдержанное целомудрие вокальной партии выразительно контрастирует с экспрессивным комментарием
струнных. «Weinen» (плакать, нем.), помечает композитор
в постлюдии.
Утонченные структурные игры, кратко описанные
выше, можно обнаружить в любом сочинении Пярта
tintinnabuli-стиля. В больших по масштабу произведениях они,
11. Barform (нем.) - вокальная форма, восходящая к древности, известная прежде всего по песням мейстерзингеров и протестантскому
хоралу. Пярт использует безрепризный вариант формы бар ААВ: две
столлы (нем. Stollen) заключаются припевом (Abgesang).
естественно, разветвленнее и наряду с малым планом формы
охватывают ее крупный масштаб. Значительными становятся
мельчайшие детали: порядок звуков в микромотиве, тесситурные изменения, количество голосов, способ их сочетания. Все
это, несомненно, происходит не только и не столько от принципов построения старинной мелодики, сколько от техники сериализма, с ее тончайшей, в идеале, дифференциацией звуковых характеристик. Пяртовская мотивная вариантность несет
отчетливые признаки работы с серийными матрицами - техника, выработанная на совершенно ином, диссонантно-хроматическом материале, оказалась универсальной, пригодной для
«архаической» интонационности.
Старинные источники пяртовского стиля, впрочем, существуют в нем в трансформированном, далеко не чистом виде.
Иначе и быть не могло: трудно представить Пярта в роли
пассивного стилизатора. Его погружение в григорианику и строгий стиль имело характер не только духовного, но и жгуче практического, композиторского интереса, он стремился найти в прошлом свой новый язык и себя самого. Силлабическое
интонирование слова в григорианском хорале, безусловно, оказало воздействие на мелодику Пярта гаммообразного типа; что
касается tintinnabuli-голоса, то его прототипа в старой музыке
не существует - если не принимать в расчет условно-метафорическое подражание колокольному звону, резонансным эхом
окружающему мелодию. В григорианском пении, как известно, ходы по трезвучию встречаются как вкрапления в поступенное движение, но не как абсолютный принцип. В какой-то
степени пяртовское «основное двухголосие» (по типу приведенного в нотном примере 2) можно считать производным от метризованного органума либо видеть в tintinnabuli-голосе род
бурдона. Аналогии, по-видимому, можно продолжить, однако в любом случае это будет преломление и трансформация,
но никак не заимствование.
Я Сформировавшийся к середине 70-х годов стиль
tintinnabuli со временем естественно эволюционировал. Собственно, как всякий живой организм, он с самого начала не был
единообразным. В сочинениях, появившихся в 7 0 - 9 0 годах,
можно с некоторой долей условности выделить три основных
типа стиля tintinnabuli.
Аскетический вариант, существующий в условиях малого количества голосов и, как правило, в вокальных сочинениях. Самые яркие и характерные примеры - «Страсти
по Иоанну» (Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem)
для тенора, баса, вокального квартета, смешанного хора,
инструментального квартета и органа (1982), а также Stabat
mater для сопрано, альта, тенора, скрипки, альта и виолончели (1985). В вокальных и инструментальных голосах обоих
сочинений строго соблюдена дифференциация двух вышеописанных типов мелодики — поступенного и tintinnabuli-голоса. Форма целого зиждется на их незыблемом фундаменте. Мелодические структуры организованы согласно жесткому
принципу мотивных соответствий, выведенных в конечном итоге из структуры текста. Если в Passio свободный прозаический
метр евангельской латыни приводит к появлению текучей безакцентной мелодики, то в Stabat mater ситуация иная: рифмованные силлабические стихи обусловливают метрическое единообразие на основе трехдольности - proportia tripla
(«совершенной пропорции») мензуральной нотации. Благодаря прозрачной фактуре голоса хорошо прослушиваются, и сочинения воспринимаются на слух как чисто мелодические.
Сонорный вариант, существующий в условиях значительного количества голосов и, как правило, в инструментальных опусах, особенно для струнного оркестра. Примерами могут служить концерт Tabula rasa12 для двух скрипок (или скрипки
и альта), струнного оркестра и препарированного фортепиано
(1977), Cantus памяти Бенджамина Бриттена для струнного оркестра и колокола (1977/1980), Arbos («Древо») для семи (восьми) блокфлейт и трех треугольников ad libitum (1977; версия для
восьми медных духовых и ударных, 1986), «Если бы Бах разводил пчел» для фортепиано, духового квинтета и струнного
оркестра (1976/1984), Festina lente13 для струнного оркестра
и арфы ad libitum (1988/1990) и некоторые другие сочинения.
Основной, но не единственный тип письма в этих сочинениях пропорциональный канон, встречавшийся у Пярта уже в серийный период. В его основе лежит гаммообразный голос, сопровождаемый трезвучной tintinnabuli-фигурацией. Один из самых
чистых вариантов пропорционального канона встречается в
пьесе Cantus, которая, в полном соответствии с поминальным
замыслом произведения, представляет собой один большой
catabasis: нисхождение-lamento, пропетое голосами струнного
оркестра в сопровождении ударов погребального колокола.
12. По-латыни буквально - «выскобленная доска», т. е. чистая доска, на которой можно писать заново все что угодно: метафорическое выражение, обозначающее начало с нуля, с чистого листа.
13. «Поспешай медленно» — латинская поговорка.
Сатрапа
(J 112-120)
Cantus in memory of В. Britten
Благодаря большому количеству линий, каждая из которых движется в своем темпе, мелодика как таковая воспринимается не слишком отчетливо - голоса, особенно струнных
инструментов, сливаются в вибрирующую сонорную массу. Темброфактурная микрополифония почти не дает возможности
различить детали, и сам минор слышится не столько как лад,
сколько как яркая фоническая краска.
Модально-гомофонный вариант, в котором большую
роль играет аккордовая вертикаль; линеарно-мелодическое
начало и вообще полифония несколько отступают, хотя модальная диатоника сохраняет свое значение. Примерами могут
служить Те Deum («Тебя, Бога, хвалим») для трех хоров, фортепиано, магнитофонной ленты (эолова арфа) и струнных
(1984/1992), «Песнь Силуана» 14 для струнного оркестра (1991;
версия для виолончели и фортепиано, 2001), Берлинская месса
для хора или солистов и органа или струнного оркестра (1990/
1997), отчасти Miserere для солистов, хора, инструментального
ансамбля и органа (1989/1990). Здесь встречается мажор,
нередки мягкие плагальные и медиантовые гармонии, модальные диссонансы. Временами возникают довольно определенные ассоциации с русской православной музыкой начала
X X века (так называемой московской школы). Знакомство с ней
композитор, впрочем, отрицает, но, по его словам, «необязательно знать музыку и деятельность композиторов, это идет
по другим каналам» [3]. В следующем примере из Те Deum сочетание двух постепенных и двух tintinnabuli-голосов создает
характерное для данного типа звучание.
Те Deum
m
&
m
(5^
i
Coro I I I
Те
re.ter _ num pa.tremom.nis ter . ra
i
ve.ne
й
m
14. Силуан - афонский монах, создатель духовных гимнов.
ra . tur.
£
-e—s^
Описанные здесь три типа, естественно, не покрывают
всего разнообразия пяртовской музыки. Вариантный принцип,
к которому композитор столь склонен в своем письме, распространяется на все параметры его творчества. Так, не случайными кажутся возвращения к уже существующим законченным
опусам, их новые редакции и усовершенствования. Известно,
например, что сочинение«Страстей по Иоанну» Пярт завершил
до своего отъезда из СССР в 1980 году, однако исполненный
вариант датирован 1982 годом, а на партитуре Универсального издательства имеется пометка о корректуре 1988 года.
«К 1982 году был сделан "капитальный ремонт" Passio - от старого здания, может, только стены остались, всё остальное - заново» [3]. Но еще примечательнее склонность Пярта создавать
различные инструментальные версии своих опусов, главным
образом камерных. Только в редких случаях появление вариантов можно объяснить чисто практическими причинами. Например, Берлинская месса существует как в сопровождении
органа, так и инструментального ансамбля, то есть в литургическом и в концертном варианте. Однако по две версии Arbos,
Pari intervallo (для органа и для четырех флейт, 1980), «Мой путь
лежит через горы и долины» (для органа, 1990, и для струнных
с ударными, 1999), четыре версии Summa (Символ веры:
для солистов и хора a cappella, 1977; для скрипки, двух альтов
и виолончели, 1990; для струнного квартета и для струнного
оркестра, 1991) и десять (!) версий Fratres («Братья») 15 - все это
едва ли можно объяснить практическими потребностями, тем
более что в некоторых случаях тембро-динамический облик сочинения меняется весьма радикально. Дело, очевидно, в том,
что, подобно старым мастерам, Пярт допускает вариативность
исполнительского состава, подчеркивая, что колорит в музыке
для него вторичен. «Мне не годится быть художником, который берет лопатой краску из какой-то там бочки и бросает на
стену, перемешивая разные краски, - для меня этого недостаточно, я это понимаю, но не чувствую...» [3] Но композитору далеко не безразличен конкретный тембровый облик каждой версии — его он всегда тщательно продумывает и никогда не отдает
на откуп исполнителям. Не случайна и исключительная требовательность Пярта к музыкантам. Ему важны мельчайшие под15. Для камерного ансамбля (1977), для скрипки и фортепиано (1980),
для 4, 8 и 12 виолончелей (1982), для струнного квартета (1985), для
виолончели и фортепиано (1989), для духового октета (1990), для
струнного оркестра и ударных (1991), для скрипки, струнного оркестра и ударных (1992), для тромбона, струнного оркестра и ударных
(1993) и для виолончели, струнного оркестра и ударных (1995).
рс. If I^^ i l l
робности звукоизвлечения, фразировки, штриха, динамики тонкости, сравнимые с аптекарскими градациями электронной
музыки. «Если это играть стаккато - получится гармония, если
же легато - будет полифония», - говорит композитор в посвященном ему телефильме (Эстония - Финляндия, 1990). Маньеристская утонченность интонирования присуща записям произведений Пярта, сделанным под наблюдением композитора
первоклассными солистами и коллективами, такими как Гидон
Кремер и английский Hilliard-Ensemble.
Итак, колорит в музыке Пярта не главное. Главное —
остов, скелет, рисунок, то, что композитор называет числом.
«Космос имеет число, и это число, мне кажется, один. Но оно
скрыто, к нему нужно идти, угадывать, иначе мы потеряемся в
хаосе» [3]. Число один концентрирует представление о единстве мира, звучащего космоса, который композитор воспринимает, в духе пифагорейства, как всеобщую музыкально-числовую гармонию.
Но число для Пярта имеет и более конкретный, материальный смысл. Число регулирует композицию, определяет ее
пропорции, обеспечивая внутреннее единство и стройность
формы. Подобные системы организации в музыке Пярта обычно весьма разветвлены и образуют несколько планов. Так, в концерте Tabula rasa числовые пропорции регулируют размеры
отдельных разделов и артикуляцию формы в целом. В первой
части последовательно увеличивается длина фигурационных
эпизодов и каденционных «застываний», во второй - интервалы вступлений мотивов-«всплесков» препарированного фортепиано. В обоих случаях речь идет о строгих числовых рядах.
Число в Tabula rasa имеет и более высокий план
проявления. Двухчастный цикл концерта можно представить как
бинарную мифологическую оппозицию, сопрягающую два изначальных модуса бытия - человеческого (природного) и божественного - в сопоставлении игры и созерцания, Ludus и
Silentium (так называются две части концерта). Чистота первичных качеств движения и покоя-безмолвия напоминает о некоем правремени, о достилевом и доиндивидуальном бытии звука. «Tabula rasa», «чистая доска»16 - это и есть начало с нуля,
ab ovo. Композитор не просто начинает новый стилистический
период, он словно предлагает задуматься о духовном смысле
музыки, о ее судьбе и назначении в мире. Всякий оттенок
субъективного самовыражения снят полностью, но тем отчетливее выступает семантика всеобщего: драматизм и меланхо16. См. примечание 12.
лия минора (Ludus in a, Silentium in d, оба лада эолийского наклонения); теплый тембр струнных, бережно интонирующих
каждую фразу; первичный смысл мелодических восхождений
и нисхождений.
Разумеется, всеобщность этой семантики ограничена
рамками европейской традиции, считая от времен барокко. Но
в этом ее сила: в универсальности художественного переживания конкретного исторического человека, заново открывающего
вечный смысл в изначальных «словах» (и даже «слогах», фонемах) великого культурного прошлого.
Смысловая, семантическая насыщенность Tabula rasa,
таким образом, дополнена более скрытым символическим планом, связанным с числом. Аналогичным образом выстроены и
другие хронологически близкие сочинения. Такова, например,
изысканная композиция духовной кантаты Stabat mater. Десять
больших строф поэмы, каждая из которых состоит из двух
трехстиший (со схемой рифм ААВ ССВ), распределены Пяртом
следующим образом: вступление - две строфы - ритурнель три строфы - ритурнель - три строфы - ритурнель - две строфы - заключение.
Строгая симметрия общего композиционного плана
укрепляется многообразными арками соответствий. Вступление
и заключение, где распевается слово Amen, образует тематически единое каноническое обрамление; ритурнели также связаны общностью материала и взаимно вариативны. Темповое
ускорение от первого к третьему ритурнелю воспроизводит
мензуральный принцип ритмической пропорции. Первое и последнее трехстишие (в первой и десятой строфе) - единственные, где соединяются все три вокальных голоса, но в первом
они поддержаны инструментами, во втором поют a cappella
в унисон. Ритурнели вступают через равные промежутки: если
вокальные голоса появляются в цифре 4, то ритурнели соответственно в цифрах 11,18 и 2517. Также выделены соответствиями
(«рифмами», говоря метафорически) полустрофы до и после
ритурнелей (цифры 10,17, 24 и, соответственно, 12,19, 26). Но
выделены они по-разному: предшествующие ритурнелям трехстишия наиболее прозрачны, они звучат строго a cappella, последующие, словно заряжаясь энергией от ритурнелей, тематически активны, в них проводится основная мелодия
с постепенным тесситурным повышением от а до а2. В трех полустрофах повторена третья строка (цифры 14,21,28), в осталь17. Цифры в Stabat mater могут служить единицей отсчета, так как
отмеряют одинаковые по протяженности разделы, в основной части каждое трехстишие (полустрофу).
4 - - V ,
ных на этом месте инструментальный отыгрыш. Все эти и подобные архитектонические соответствия приводят к выводу
о присутствии в Stabat mater (и других произведениях Пярта)
числовой символики. Как мы помним, музыку для Пярта «пишут слова», и в Stabat mater символика чисел тоже выведена из
текста. «Священная троица» содержится в структуре самой поэмы: пары трехстиший, десять строф (10 = 3 + 7, то есть другие
священные числа), 60 стихов в целом. Композитор продолжает
троицу составом исполнителей (два трио, вокальное и инструментальное), а также «тройками» ритурнелей и выделенных тем
или иным способом строф. Священное число семь регулирует
расстояние между цифрами партитуры, разделяющее выделенные так или иначе эпизоды (см. выше). Все произведение скреплено этими арками соответствий, несущими его сложную, подобную храму, конструкцию. И как в готическом храме, в Stabat
mater есть шпиль - полустрофа в цифре 26, где замыкается
длительное мотивное развитие и достигается абсолютная тесситурная кульминация - с3 у сопрано.
Tempo I
IО
Stabat mater
^
О
me
pla
-a
<9
£
jg
mf
Fac
.
gis
-
о
vul
.
n e . ra
.
Г " г"
J
" г"
«
ri,
I fac
me
-a
cru
-
A
- — '
в
а
о
Это трехстишие приходится на точку золотого сечения
всей композиции, отнюдь не статичной, как может показаться
на первый взгляд, а драматургически устремленной и в своем
роде процессуальной.
Сходные конструктивные идеи лежат в основе и
«Страстей по Иоанну»: единство стиля двух опусов обусловлено содержанием - оба принадлежат к пассионному кругу
композиций.
Несколько иначе воспринимаются более поздние крупные произведения Пярта: Те Deum, Miserere (оба на латинские
тексты) и «Канон покаянен» для хора a cappella (1997, на церковно-славянский текст). Первые две - канонические молитвы католического богослужения, каждая из которых имеет свою традицию музыкального воплощения. Те Deum в музыке Нового
времени - торжественная песнь величания, не чуждая пышности и театральных эффектов. Слышание Пярта совсем иное: «Я
ощущал необходимость передать все в мягких красках. Динамика, темп, общий колорит - всё в пределах одной шкалы. Текст
в моих ушах звучал тихо» [7, 132].
В Те Deum Пярта ощущается вполне ясная ориентация
на древние образцы христианской службы - именно к этому
роду так называемого амвросианского пения восходит гимн
Те Deum. Мелодика Пярта здесь в максимальной для него степени приближена к григорианике - как в одноголосном варианте, так и в двухголосии, напоминающем органум. Кроме того,
в Те Deum главенствующим принципом письма избран старинный антифон, предусматривающий сопоставление корифеев
и хора (хор здесь к тому же разделен на три состава, что
усугубляет антифонный эффект). Хоровые отклики-припевы
иногда заменяются инструментальными отыгрышами.
Противоположный полюс к Те Deum, песни восхваления, представляет Miserere, песнь покаяния: молитвенной основой здесь служит 51-й псалом (51-й в православной Библии),
дважды исполняемый на Страстной неделе. Пярт не ограничивается каноническим текстом псалма, добавляя к нему Dies irae
из реквиема, для которого использует ранний фрагмент
1976 года. Так в Miserere усиливается его смысл — покаянной
молитвы перед лицом смерти. Последняя строфа Dies irae, Rex
tremendae, отнесена в самый конец композиции: она звучит
скорбно-примиренным отголоском Судного дня. Драматургическая оригинальность Miserere сообщает произведению
глубоко личностный тон, хотя Пярт, как и в других случаях,
использует идиомы внеиндивидуального tintinnabuli-стиля.
Православный «Канон покаянен» звучит строже и аскетичнее - отчасти, возможно, потому, что в нем, согласно
традиции, не участвуют инструменты. У Пярта есть и другие
композиции, относящиеся к православному обиходу. На Западе особенности его в своем роде уникального творчества
вообще склонны объяснять принадлежностью к русской культуре. Однако при всей важности для Пярта русской культурной
традиции его музыка не исчерпывается ею. Она вообще несводима к какому-то одному роду истоков. Поэтому мало состоятельны и попытки вписать его творчество в рамки минимализма18 или «новой простоты» — хотя признаки и того и другого
в стиле Пярта, безусловно, имеются. Вслушивание в глубины
звука, аскетическая простота и вместе с тем рафинированность
пяртовских композиций, медитативное погружение в «реку времен» и внутренняя литургичность творчества, вне зависимости
от жанровой принадлежности сочинений, - все эти свойства
делают музыку Пярта беспримерным явлением современного
искусства. Возвращение в прошлое на самом деле оказывается
путем в будущее.
18. О минимализме см. в главе «Постсоветское музыкальное пространство».
\
.'
"
Список сочинений
Для симфонического оркестра
Симфонии № 1-3 (1963,1966,1971); «Некролог» (1960); Perpetuum mobile
(1963); Pro et contra. Концерт для виолончели с оркестром (1966); Credo для фортепиано, хора и оркестра (1968).
Для камерного оркестра (и хора)
Коллаж на тему BACH для струнных, гобоя, клавесина и фортепиано
(1964); «Если бы Бах разводил пчел» для фортепиано, духового квинтета и струнного оркестра (1976/1984); Tabula rasa, двойной концерт для двух скрипок (или
скрипки и альта), струнного оркестра и препарированного фортепиано (1977);
Cantus памяти Бенджамина Бриттена для струнного оркестра и колокола ( 1977/
1980); Fratres для струнного оркестра и ударных (1991; версия для скрипки, струнного оркестра и ударных, 1992); Псалом для струнного оркестра (1985/1991,1993);
Те Deum для трех хоров, фортепиано, магнитофонной ленты (эолова арфа) и
струнных (1984/1985,1986); Festina lente для струнного оркестра и арфы ad libitum
(1988,1990); Берлинская месса для хора или солистов и струнного оркестра (1991);
Summa для струнного оркестра (1991); Песнь Силуана для струнного оркестра
(1991); Предначинательные молитвы для струнного оркестра (1992); Литания.
Молитвы св. Иоанна Златоуста для солистов, хора и оркестра (1994); «Мой путь
лежит через горы и долины» для струнного оркестра (1995); «Осмелюсь ли...» для
скрипки соло, колоколов ad libitum и струнных (1995/1999); Orient & Occident (Восток и Запад) для струнного оркестра (1999); «Цецилия, римская девственница»
для хора и оркестра (2000).
Для хора (или ансамбля) a cappella
Два славянских псалма для вокального квинтета (1976); Summa для хора
и солистов (1977); Семь антифонов из Магнификата (1988,1991); Miserere (1989);
«И один из фарисеев...» (Лука, 7: 36-50) для контратенора (альта), тенора и баса
(1992); «Ныне к вам прибегаю» для хора или солистов (1989); «Я есмь истинная
любовь» для четырехголосного смешанного хора (1996); Dopo la vittoria (После
победы), маленькая кантата для хора (1996); «Канон покаянен» для четырехголосного смешанного хора (1997); Оды I, III, IV, V, VI (Контакион - Икос),
VII (Memento), VIII, IX для четырехголосного смешанного хора (1997); «Кесарю кесарево» (Матф., 22; 15 _ 22) для четырехголосного смешанного хора (1997); Две
молитвы для четырехголосного смешанного хора (1998); «...Который был сын...»
(Лука, 3; 23-38) для четырехголосного смешанного хора (2000); Nunc demittis
(Лука, 2; 29-32) для хора (2001).
Для камерных ансамблей и инструментов соло
Квинтеттино для флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны (1964);
Диаграммы для фортепиано (1964); Trivium для органа (1976); «К Алине» для фор-
тепиано (1976); «На реках Вавилонских» (псалом 137) для голосов и инструментов (или органа) (1976/1984, 1991); Arbos для семи (восьми) блокфлейт и трех
треугольников ad libitum (1977; версия для восьми медных духовых и ударных,
1986); Fratres для камерного ансамбля (1977; версии: для 4, 8, 12 виолончелей,
1983; для струнного квартета, 1985; для виолончели и фортепиано, 1989; для октета духовых и ударных, 1990); Вариации на выздоровление Аринушки для фортепиано (1977); «Зеркало в зеркале» для скрипки (или виолончели) и фортепиано
(1978); Annum per annum для органа (1980); Pari intervallo для четырех блокфлейт
(1980; версия для органа, 1980); De prof undis для мужского хора, ударных и органа (1980); Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem для тенора, баса,
вокального квартета, хора, инструментального квартета и органа (1982); «Песнь
паломничества». Псалом 121 для мужского голоса (тенор или баритон) и струнного квартета (1984); «Es sang vor langen Jahren», мотет для альта (контратенора),
скрипки и альта. Текст Клеменса фон Брентано (1984); Stabat mater для сопрано,
альта, тенора, скрипки, альта и виолончели (1985); Miserere для солистов, хора,
инструментального ансамбля и органа (1989, 1990); Statuil ei Dominus для двух
хоров и двух органов (1990); «Мой путь лежит через горы и долины» для органа
(1990); Summa для скрипки, двух альтов и виолончели (1990); Beatus Petronius
для двух хоров и двух органов (1990); Берлинская месса для хора или солистов и
органа (1990, 1991); Summa для струнного квартета (1991); Моцэрт-Adagio для
скрипки, виолончели и фортепиано (1992).
Литература
1. Нестьева М. Арво Пярт / / Композиторы союзных республик. Вып. 2.
М„ 1977.
2. Савенко С. Musica sacra Арво Пярта / / Музыка из бывшего СССР.
Вып. 2. М„ 1996.
3. Пярт Арво. Интервью 9 марта 1995 года, Москва. Интервьюер С. Савенко. Рукопись.
4. ПяртЭ. Аннотация к концертам Фестиваля старинной и современной
музыки. Таллинн, 9-14 ноября 1978 года.
5. Elste М. An Interview with Arvo Part j I Fanfare. 1988.14. Vol. 11.
6. Hillier P. Arvo Part - Magister Ludi / / The Musical Times. 1989. March.
7. McCarthy J. An Interview with Arvo Part // The Musical Times. 1989.
March.
Валентин Сильвестров
Валентин Сильвестров — один из крупнейших композиторов современности. Его становление протекало в сложных
условиях рубежа 5 0 - 6 0 - х годов, когда естественное для молодого таланта стремление к новому языку наталкивалось на жесткое противодействие официальных структур, управлявших
искусством. Эта ситуация была общей для многих сверстников
Сильвестрова, однако в Киеве, где по сию пору живет композитор, духовный гнет ощущался в то время значительно сильнее, чем в Москве и Ленинграде, тем более в Прибалтике. Принципиальная художественная позиция, всегда отличавшая
Сильвестрова, превращалась в этих условиях в противостояние
тоталитарному режиму на грани диссидентства.
Валентин Васильевич Сильвестров родился в 1937 году
в Киеве. Заниматься музыкой начал в пятнадцатилетнем возрасте, в 1958 году закончил вечернюю музыкальную школу для
взрослых. Получив специальность инженера-строителя, в 1958 году поступил в Киевскую консерваторию, которую закончил
в 1963 году по классу композиции Б. Н. Лятошинского, одного
из крупнейших украинских композиторов, европейски образованного музыканта. В 1963-1970-м преподавал в различных
музыкальных школах Киева. Начиная с 90-х годов его неоднократно приглашали в Германию для творческой работы.
Ярлык «авангардиста», закрепившийся за Сильвестровым уже к середине 60-х годов, сильно осложнил его творческую и человеческую судьбу: на родине его опусы долгое время
звучали почти исключительно в неофициальных концертах (например, в клубах научной интеллигенции), мало издавались, а
сам он одно время был даже исключен из Союза композиторов
СССР. В то время это лишало официального гражданского статуса, и при желании властей Сильвестров, подобно Иосифу
Бродскому, мог быть привлечен к уголовной ответственности
за тунеядство.
Далеко не каждый мог выдержать подобное давление,
длившееся годами. Но Сильвестров сумел в этих условиях сохранить достоинство и внутреннюю свободу подлинного художника. Диктат среды над ним абсолютно не властен, и какой бы
то ни было догматизм ему абсолютно чужд. «Я должен писать
то, что люблю я, а не то, что любят другие, или то, что мне, как
принято говорить, диктует время. В противном случае это будет конъюнктура, калечащая сознание» [цит. по: 3, 2\.
Первое, что привлекло творческий интерес Сильвестрова, был авангардный язык, новые техники композиции.
Валентин
Сильвестров
Этот интерес он разделял со своим поколением - Шнитке,
Волконский, Денисов, Пярт, Губайдулина двигались в том же
направлении.
Сильвестров довольно быстро овладел авангардным
спектром средств. Вначале это была классическая нововенская
додекафония, освоенная в сочинениях консерваторских лет:
Quartetto piccolo для струнного квартета (1961), «Триаде» для
фортепиано (1962). Ее сменило пуантилистическое письмо,
сонористика (музыка тембров) и алеаторика (элементы исполнительской импровизации) - в «Мистерии» для альтовой флейты и шести групп ударных (1964) или «Монодии» для фортепиано с оркестром (1965). Сильвестров эволюционирует
стремительно, и для его отношения к новым средствам характерна высокая степень самостоятельности. Его привлекала
не столько рациональная красота конструкции, сколько новая
выразительность, например особое «разреженное» состояние
музыкальной материи в пуантилизме, интонационная, мелодическая напряженность серийных линий. Строгим авангардистам, особенно на Западе, его музыка казалась порой слишком
экспрессивной.
«Элегия» для фортепиано (1967, посвящена Алексею
Любимову) 1 , пятиминутное сочинение с характерно парадоксальным названием, выдержана в строгой серийнопуантилистической манере, восходящей к Веберну и Булезу.
Основные признаки этого типа письма налицо: двенадцатитоновость, регистровая обособленность звуковых элементовточек, преодоление акцента (метрическая взвешенность
равноправных ритмических единиц), микроагогика и микродинамика, вплоть до мельчайших педальных градаций
(см. пример 1 на с. 310).
Однако пуантилистическая изолированность ткани
частично преодолевается quasi-мелодическим объединением
звуковых точек, которое возникает благодаря регистровым
и фразировочным деталям. Это своеобразный «пропетый» пуантилизм. Так, первые четыре звука правой руки бегло очерчивают мотив BACH, верхние звуки которого намечают интервал
большой секунды, очень существенный для последующего
развития пьесы (в приведенном фрагменте большая секунда
отсутствует лишь в т. 4~5). Позднее этот же интервал становится связующим звеном между мелодической и сонорной тканью.
1. Концертные пьесы для фортепиано. Вып. 3 / Сост. В. Матюхин. Киев:
Музична Укра1на, 1982.
«Элегия»
Precipitosamente, е largamente, un росо rubato (/=132)
Структурная лига.
* Несмотря на использование левой педали, звучание должно быть выпуклым и интенсивным.
" Совпадение конца структуры и начала новой.
Вообще тип письма не фиксирован жестко, мелодическое,
пуантилистическое и сонорное легко переходят друг в друга.
Еще отчетливее эта особенность выступает в оркестровых сочинениях Сильвестрова 60-х годов, названных автором
«космическими пасторалями»: живая изменчивость музыкальной ткани ощущается постоянно, как движение материи,
не имеющее ни начала, ни конца. Это экспрессивная музыка,
но не субъективная, не монологическая: не случайно интонационность нововенской школы, с ее господством полутоновости, не находит у Сильвестрова продолжения, в отличие, например, от Шнитке.
Очень существенно стремление Сильвестрова истолковать новые языковые средства в символическом ключе. Сопоставление строго нотированного и алеаторически-импровизационного материала в Третьей симфонии (1966) 2 и в более ранней
«Мистерии» трактуется композитором, по его собственным словам, как конфликт «культурного» и «магического». Показателен
философский подтекст Третьей симфонии, выраженный в подзаголовке «Эсхатофония» - «последнее звучание», по аналогии
с «эсхатологией», «последним словом» о судьбах мира. Адаптация авангардного опыта происходила у Сильвестрова под знаком семантического истолкования, наделения выразительным
смыслом отдельных элементов нового «словаря». Нейтральный
язык превращался в экспрессивную речь.
К концу 60-х годов Сильвестров ощутил потребность
в новом осмыслении накопленного опыта и, одновременно,
в выходе за пределы чисто авангардного спектра средств. После годового перерыва композитор начал работу над «Драмой»
для трех исполнителей - сверхциклом, состоящим из Сонаты
для скрипки и фортепиано, Сонаты для виолончели и фортепиано и финального Трио. С «Драмы», законченной в 1971 году,
и последовавшей за ней «Медитацией» для виолончели и камерного оркестра (1972) в музыке Сильвестрова появляются
элементы полистилистики, активно осваивавшейся в то время
европейскими композиторами - Л. Берио, К. Штокхаузеном
и особенно А. Шнитке 3 . Полистилистическая конфликтность как
выражение ситуации культурного апокалипсиса воплощается
у Сильвестрова с предельной остротой. Сталкивающиеся
2. Третья симфония отмечена международной премией им. С. Кусевицкого (США, .1967). В 1970 г. Сильвестров был удостоен также
звания лауреата международного конкурса Gaudeamus (Нидерланды) - за «Гимн» для струнных, духовых, фортепиано, челесты, арфы
и колоколов (1967).
3. См. монографическую главу о Шнитке.
. г г .
в «Драме» и «Медитации» музыкальные «диалекты» становятся метафорой расколотого мира. Их конфликт настолько непримирим, что он выходит за пределы чисто звуковой сферы: звук
модулирует в жест, а жест превращается в музыку. Речь идет —
без слов - о самом существовании искусства. Так в обоих
сочинениях появляются элементы инструментального театра.
Их непривычность, даже экстравагантность достигает максимальной в творчестве Сильвестрова степени.
В «Драме» участники трио перемещаются по сцене,
весьма необычным образом обходятся со своими инструментами, порой общаясь с ними, как с живыми существами. Первая часть завершается жестом скрипача, зажигающего и тут же
задувающего спичку. Аналогичная акция отмечает кульминационный перелом в «Медитации»: гаснет свет, и музыканты
в полной темноте зажигают и тушат спички: только после этого
катастрофического разрыва музыкальная ткань восстанавливается и вновь включается свет. Однако эти действия, и тогда,
и позднее немало шокирующие публику и встречающие обструкцию оркестрантов, лишь внешне связаны с авангардными
перформансами 4 или идеями театра абсурда. У Сильвестрова
их назначение глубоко символично и почти сюжетно. Не случайно композитор вводит здесь многозначный мотив вспыхивающего и гаснущего огня, один из фундаментальных в мировой сокровищнице символов.
В «Медитации» сопоставление разных миров — музыкальных сущностей (их можно определить как индивидуальноличностное, природное и культурное) поначалу воспринимается как нейтральное сосуществование во времени и пространстве.
Но постепенно выясняется, что это не просто разные «стили»,
но несовместимые взаимоисключающие миры, столкновение
которых грозит вселенской катастрофой. Их необходимо примирить, «привести к тождеству», соединив разорванную цепь
времен-пространств, — в этом и состоит конечная цель медитирования. Напряжение так велико, что приводит к разрыву самой музыкальной материи, к прорыву в «антимир». Вспышки
огней и их «трассирующие» следы - это инобытие вспыхивавших ранее мотивов, вырвавшихся за пределы земного круга...
Полистилистика обретает смысл не только культурноисторического, «человеческого» конфликта, но глобальной
космической коллизии. В него вовлечены «на равных» человеческое и природное, культурное и естественное, земное и
4. См. о них в разделе «Постсоветское музыкальное пространство»,
глава «Общие тенденции» (сноска 4).
вселенское. Высшая цель художника — соединить разобщенное, примирить противоречия - орфеическая миссия. Концепции «Драмы» и «Медитации» типологически близки утопиям
позднего романтизма, художественно-философским построениям в духе Малера, Скрябина - при всем несходстве в этот
период конкретной звуковой реализации, самого звучания музыки. Позднее ситуация изменится.
Стилистический спектр музыки Сильвестрова в новых
сочинениях естественно расширяется. Пуантилистическое письмо, двенадцатитоновая вертикаль и горизонталь соседствуют
с диатоническими мотивами, ассоциирующимися с фольклорными наигрышами и оборотами ренессансной музыки. Начиная с «Медитации», они обычно звучат у валторн или у деревянных духовых, создавая колорит романтического пленэра.
Тембровая семантика «голосов природы» сохраняется у Сильвестрова и позднее, вплоть до последних по времени создания
сочинений. Другой традиционный элемент полистилистических
композиций - венско-классические кадансовые обороты, выступающие как символ культуры. В «Медитации» они звучат особенно определенно благодаря тембру клавесина. Обе сферы,
и «природная» и «культурная», разрабатываются композитором
в это время и как самостоятельные. Такова «Музыка в старинном стиле» для фортепиано (1973)5, два фрагмента из которой
приведены в примере:
2а
Allegro J=i38
«Музыка в старинном стиле»
N91 (Утренняя музыка)
(con una cor da)
'Конец пунктира означает возвращение к основному темпу.
5. Киев: Музична УкраТна, 1981.
ш
й
leggiero
рр
г
г
26
(con Set). ,)
«Музыка в старинном стиле»
№ 3(Созерцание)
Allegretto J.=96
acceler.
Первый из них примечателен максимальным для
Сильвестрова, на грани точной стилизации, приближением
к прототипу, второй - интересным сочетанием квазифольклорных наигрышей и «готических» кадансов, с мягко диссонирующими аккордами-«эхо».
При этом Сильвестров не стремится к четкому разграничению контрастирующих стилистических сфер, характерному для коллажной полистилистики, где резко подчеркиваются
швы в столкновении разнородного материала. Даже в «Драме»
и «Медитации» он поступает несколько иначе. Гораздо больше
музыке Сильвестрова соответствует термин К. Штокхаузена
«симбиотическая полистилистика», во многом отвечающий
пониманию Сильвестровым процесса медитации как приведения к тождеству. Разрешение конфликта происходит словно бы
в преодолении конкретных признаков того или иного стиля, «на
ничейной земле» — в длительном кодовом разделе статического характера, где тематические элементы постепенно утрачивают свою стилистическую определенность, «ограниченность»,
становясь частицами единого гармоничного целого. Кодовый
раздел, «послесловие» к сочинению постепенно становится все
более весомой частью композиции.
Отвечая на вопрос о периодизации своего творческого пути, Сильвестров отметил, что в 1974 году начался новый
этап его эволюции - «"метафорический" стиль в русле нового
традиционализма или неоромантизма» [3, 9]. Стилистические
сюрпризы были в то время нередки (tintinnabuli-стиль А. Пярта, неотрадиционализм А. Шнитке 6 и т. п.). Носильвестровские
«Китч-музыка» для фортепиано (пять пьес, 1976) и особенно вокальный цикл «Тихие песни» для голоса и фортепиано (1974—
1977)7 многих слушателей, особенно из числа профессиональных музыкантов, повергли в шоковое состояние. Они были
восприняты как измена новой музыке, как капитуляция и отказ
от собственной индивидуальности. Но Сильвестрову, как уже
говорилось, никогда не был свойствен догматизм - истинно
авангардное творческое бесстрашие, духовная независимость
проявились на этот раз в отказе от утративших силу языковых
клише, из которых «ушел дух».
Ориентиром для Сильвестрова становится прежде
«неактуальная» романтическая стилистика: в «Китч-музыке»
6. См. соответствующие монографические главы.
7. М.: Советский композитор, 1985. К сожалению, в нем выпущена
одна из песен, а также отсутствует краткое авторское предисловие,
содержащее указания к исполнению.
это Шуман, Брамс, Шопен, в «Тихих песнях» - русский романс
XIX века со всеми его многочисленными стилистическими обертонами, от Глинки и Шуберта до домашнего музицирования.
Погружение в «прекрасное прошлое» кажется абсолютным:
композитор избирает предельный вариант, идя на риск жертвоприношения собственного стиля. Однако это не подражание - это, по выражению композитора, «слабый стиль», то есть
стиль контекстный, живущий не столько своей собственной материей, сколько метафорой, иносказанием, намеком. Поэтическая программа композитора косвенно зафиксирована в ремарках-предписаниях исполнителю: «Играть очень нежным,
сокровенным тоном, как бы осторожно прикасаясь к памяти слушателя, чтобы музыка звучала внутри сознания» («Китч-музыка»); «Петь как бы вслушиваясь в себя. Все песни должны петься очень тихо, легким, прозрачным и светлым звуком,
сдержанно по экспрессии, без психологизма, строго. Цикл желательно исполнять полностью (без перерыва) как одну песню»
(«Тихие песни»).
Избирая для огромного вокального цикла (двадцать
четыре песни длятся почти два часа) классические, большей частью хрестоматийные стихи, известные любому русскому слушателю, Сильвестров ограничил себя, на первый взгляд, очень
скромной задачей - позволить поэзии, по выражению композитора, «самой себя спеть», то есть выявить в стихе его внутреннюю мелодию. Однако нет надобности доказывать, насколько сложна подобная задача. Тем более что впечатление полного
сходства с классическим образцом сохраняется недолго: постепенно слух начинает различать подробности и оттенки,
которые и создают индивидуальность композиции. Редкое мелодическое богатство поддерживается интенсивной жизнью
фактурных голосов, неожиданными гармоническими поворотами, ритмическими несовпадениями и, не в последнюю очередь, уникальной динамико-агогической мобильностью. Мельчайшие детали интерпретации выписаны самым точным
образом, явно унаследованным от ранней пуантилистической
манеры (см. пример 3 на с. 317).
Однако все эти подробности - не более чем оттенки
единого тона «тихого» интонирования, не меняющего атмосферы элегического созерцания, безраздельно господствующей
в произведении. «Одна песня», о которой говорит автор, - это
портрет прекрасного исчезнувшего мира, устроенного по
законам совершенной красоты. Мира целостного, в котором
согласно сосуществуют голоса самых разных, непохожих
поэтов - Пушкина и Тютчева, Есенина и Баратынского, Лермон-
*Мелодию, дублирующую голос, играть очень тихо и прозрачно, оставляя педальные отзвуки.
това, Жуковского, Мандельштама, а также Китса, Шелли (порусски) и Шевченко (по-украински). Внутреннее единство поддерживается прямыми тематическими связями (например, аркой от первой песни к предпоследней) и многочисленными
интонационными и жанровыми перекличками. Эти внутренние
музыкальные рифмы несут глубокий философский смысл, в них тайное родство далеких поэтических сущностей, знак единства
воссоздаваемой традиции.
Опыт «Тихих песен» продолжили другие вокальные
циклы Сильвестрова - «Простые песни» (1974-1981), «Ступени» (1980-1982,1997), Четыре песни на стихи Мандельштама
(1982). Вообще десятилетие 1973-1983 оказалось в творчестве
Сильвестрова временем расцвета вокальной музыки: композитором были также созданы три сольные кантаты и масштабный
опус для хора без сопровождения на стихи Тараса Шевченко 8 .
Сравнение кантат и камерно-вокальных произведений
позволяет заметить разницу в интерпретации поэтического слова. В кантатах нет столь явной опоры на классические модели
интонирования. Так, в «Оде соловью» смысл каждого слова
гибко отражается в поворотах мелодии, в основе речитативнодекпамационной, временами украшенной ариозными распевами, широкими инструментальными скачками. Мелодия движется почти с импровизационной свободой, в ней нет ни
стилизации, ни явных жанровых прототипов.
В целом же интерпретация Сильвестровым поэтического слова примечательна своим «антиавангардным» характером. Кажется закономерным, что в 60-е годы композитор почти не обращался к вокальным жанрам, и новые средства
выразительности внедрялись исключительно в инструментальной сфере. И в песнях, и в кантатах слово сохраняет для Сильвестрова свою смысловую целостность, он не склонен дробить
его на пуантилистические микроэлементы, анатомировать его
структуру в поисках сонорных эффектов. Однако это не значит,
что композитор равнодушен к самому звучанию стиха, к его
«инструментовке» (кстати, к прозаическим текстам он вообще
не обращается). Сонорность слова скрыта в его смысле, так же
как шум таится в высотно определенном звучании. Это еще одна
важная для Сильвестрова идея. Затихая, тон неприметно мо8. Кантата на стихи Ф. Тютчева и А. Блока для сопрано и камерного
оркестра (1973), «Лесная музыка» на стихи Г. Айги для сопрано, валторны и фортепиано (1978), «Ода соловью» на стихи Дж. Китса в переводе Е. Витковского (1983). Все три сочинения изданы: Киев: Музична Укра'1'на, 1990. Кантата на стихи Т. Шевченко для смешанного
хора a cappella закончена в 1977 г.
дулирует в шорохи, поскрипывания струн, дыхание в раструбы
духовых инструментов (излюбленный прием Сильвестрова).
Подобные моменты растворения звуковой ткани очень остро
переживаются в его музыке. Вообще же произведения Сильвестрова, особенно крупные, никогда не завершаются определенным, «материальным» звучанием, тем более — императивным
аккордом tutti. Явление «послезвучания» композитор оценивает
очень высоко: «Если форма кончилась по всем параметрам и
тем не менее продолжает звучать в незримом, неслышимом
пространстве, это определяет ценность сочинения, свидетельствует о нем как о свершившемся онтологически факте» [цит.
по: 3, б]. Завершающие разделы в музыке Сильвестрова чрезвычайно существенны, даже по длительности они нередко могут соперничать с основной частью произведения. Таковы коды
кантат, многих песен, симфонических композиций. Собственно, это уже и не коды, а нечто большее. В начале 80-х годов
в творчестве Сильвестрова кристаллизуется самостоятельный
жанр постлюдии, очевидно восходящий к этим развернутым
заключениям. Сам жанр не изобретен Сильвестровым - как
известно, в качестве самостоятельного произведения постлюдия впервые встречается у В. Лютославского. Однако Сильвестров трактует этот жанр по-своему, насыщая его глубоким философским и культурологическим смыслом.
Вначале появились камерные варианты жанра: ансамблевая Постлюдия DSCH, Постлюдия для скрипки соло (обе 1981)
и Постлюдия для виолончели и фортепиано (1982). Первая из
них, посвященная памяти Шостаковича, как и большинство подобных приношений, опирается на лейтмотив-монограмму великого мастера, интонируемый, однако, не привычно-драматически, а в тоне «послесловия», тихо и сосредоточенно.
Звучание виолончельной Постлюдии близко элегическому тону
«Тихих песен», напоминая коду какой-то из них 9 . Но по-настоящему концепционным становится жанр в трех крупных сочинениях середины 80-х годов, лишь одно из которых прямо названо Постлюдией для фортепиано с оркестром (1984).
Идея постлюдийности воплотила для Сильвестрова
сердцевину современных проблем культуры. «Авторский текст
вписывается в мир, который все время говорит. Поэтому я
думаю, что в развитом художественном сознании все менее
возможны тексты, начинающиеся, образно говоря, "с начала".
Постлюдия - это как бы собирание отзвуков, форма, предполагающая существование некоего текста, не входящего реаль9. Впоследствии композитор включил ее в Сонату для виолончели
и фортепиано (1983).
но в данный текст, но с ним соединенного. Таким образом,
форма открыта, но не в конце, что более обычно, а в начале.
Постлюдийность — это и нечто большее. В сущности, это
некоторое состояние культуры, когда на смену формам,
отражающим жизнь-музыку по аналогии с жизнью-романом, каковой является, например, музыкальная драма, приходят формы, комментирующие ее. И это не конец музыки как искусства, а
конец музыки, в котором она может пребывать очень долго.
Именно в зоне коды возможна гигантская жизнь» [цит. по: 3, б]10.
В «зоне коды» выстроено одно из центральных сочинений Сильвестрова - Пятая симфония (1982)11. Внешне она
сравнительно обычна: одночастная поэмная композиция, звучащая около часа, для обычного состава большого симфонического оркестра12. Но степень внутреннего обновления традиционной схемы очень значительна. Весомость высказывания
в Пятой симфонии позволяет оценивать сочинение как художественную и человеческую декларацию, исповедание веры,
но не ораторски-императивное, а «тихое», сосредоточенное,
лирически-самоуглубленное.
В основу симфонии положен песенный тематизм,
восходящий к песенным циклам Сильвестрова, прежде всего
к «Тихим песням». Сходство кажется цитатным, но прямых цитат нет, есть аналогия и уподобление. Звучание классической
поэзии проникает в симфонию как символ идеального начала,
как своего рода элизиум культуры.
Другой род тематизма также имеет прототипы и продолжения в музыке Сильвестрова. Это «голоса природы»:
буквальные (шумы, гул, дуновения) и метафорические фигурационные рисунки, наигрыши, хоралы меди, ассоциирующиеся с открытыми пространствами.
«Природное» и «культурное» в симфонии не только не
противопоставлены, но, наоборот, тесно связаны друг с другом.
Одно вырастает из другого и в нем же растворяется. Единство
двух начал, раньше нередко конфликтных, имеет философский
смысл: две ипостаси прекрасного бытия, явленные как бы в последний раз, в тихом напряжении прощания...
Прощальный отблеск окрашивает музыку этой «постсимфонии» - так определяет Пятую автор. Здесь нет обычных
для жанра драматических контрастов, столкновений, поэтому не
ощущается и процессуального становления, направленного дви10. См. в данном контексте также главу «В ракурсе постмодерна».
11. Киев: Музична Укра'ша, 1990 (партитура).
12. В отличие, например, от предшествующей Четвертой симфонии
(1976), написанной для медных духовых и струнных (Киев: Музична
Укра'жа, 1986 (партитура).
жения из точки начала в точку завершения. Пятая симфония в полном смысле слова статическая, медитативная композиция.
Хотя в сочинении без особого труда угадываются контуры сонатной формы, в нем господствует действительно кодовый, постлюдийный характер изложения, где торможение
преобладает над становлением. Сильвестров пользуется разветвленной системой кодовых средств, главные среди которых — повторение, кадансирование, темповое и драматургическое торможение. Но эта кода должна соотноситься в сознании
слушателя не с текстом реального произведения, а с явлениями
внетекстовыми, оставшимися «за кадром» («форма открыта
в начале, а не в конце», как говорит композитор). Это песенные
темы, которые где-то и когда-то звучали полнокровно и целостно, это «природные голоса», от которых остался лишь смутный
гул. То есть перед нами - кода традиции, постлюдия культуры.
Материализация этого глубокого поэтического замысла связана с необычной техникой, точнее, с нетрадиционной
трактовкой приемов, давно и прочно утвердившихся в европейской музыке. Важнейшие из них следующие.
Ml 1. Прежде всего, обращают на себя внимание остановки в развертывании музыкального материала. Мелодия «замирает» на время, и тогда слышными становятся фигурации арф
«со шлейфом» (струны не глушатся): эхо, отзвуки, удвоенные
и утроенные в пространстве.
Симфония № 5
1-я тема
РРР
V-noll
solo п
V-c. C-b. tutti
Piano
•МИ
Благодаря остановкам каждый мотив существует как
самостоятельная единица, как микроволна вдоха и выдоха целостной широкой мелодики, «льющейся» песенности в симфонии нет. Этот прием используется преимущественно при
экспонировании тем.
М 2. Как экспозиционная особенность выступает и другая черта - «несвязность» в чередовании песенных фраз. Особенно она ощущается во второй теме - то ли что-то ускользнуло от нашего слуха, то ли не все донеслось.
5
'Ш 3. Затем «несвязность» преодолевается, остановки делаются менее заметными, и на первый взгляд выступает еще
одно «развивающее» средство торможения - «бесконечная»
вариантность, длительное секвенцирование как изживание
идеи повторения, ее «преувеличение». Внешне вариантность
кажется развитием, движением вперед, в сущности же - «вращает» материал на одном месте и в одном состоянии. Прием
этот характерен для всех тематических построений, но особенную отчетливость он приобретает в последней теме, появляющейся в симфонии: пасторальном наигрыше. Здесь уже не
секвенцирование, а просто многократное повторение с мельчайшими вариантами. Для этого эпизода Сильвестров исполь-
зовал фрагмент «Музыки в старинном стиле» (см. выше нотный пример 26). Это «застывание времени» (выражение автора), утверждая идею торможения в чистом виде, предсказывает близкое завершение - и действительно, далее следует
реприза-обрамление.
щ 4. Но, возможно, самая существенная, хотя и не сразу
осознаваемая, особенность этих тем связана с самим их звучанием. Они слышатся как будто не совсем ясно, не вполне отчетливо. Отчасти это результат гармонизации: традиционные тональные аккорды сопровождают мелодию немного «невпопад»,
как будто по касательной, отчего создается впечатление скрытой атональности (но без резкого несоответствия гармонии и
мелодии). Вторая причина - фактурные особенности тем. Мелодическая линия постоянно «подсвечивается» родственными
и резонирующими тембрами: так, скрипку соло в первой теме
удваивает челеста (см. нотный пример 4); скрипки во второй
теме поддерживает альтовая флейта, фортепиано в третьей дуэт кларнетов и флейт. Эти фактурные двойники, однако, неточно следуют за основным голосом, возникают гетерофонные
варианты, отдельные звуки «застревают», в том числе самые
«неподобающие» для этого, вводнотоновые и проходящие (см.
нотные примеры 4 и Б). Так складывается особый вид письма,
очень характерный для Сильвестрова и постоянно им используемый: сонорное одноголосие, подобное педальному «окутыванию» мелодии в «Тихих песнях». Благодаря этому темы как
будто вибрируют, расплываясь в некоем ореоле, - это аура13,
ставшая плотью, материализованная аура, знак воспоминания
и знак его недостижимости.
«Природно-стихийные» темы имеют иной тембровый
облик. Господствуют медные звучания, гул ударных и фортепиано в низком регистре. Противопоставление струнных и меди
з симфонии традиционно: это та же романтическая семантика,
-то и в мелодике. Но противопоставление это не конфликтно: как
.же говорилось, природное и рукотворное у Сильвестрова суть
-рани целостного мира. И тем символичнее оказывается тембэовое сближение, примирение, наступающее в конце симфонии,
<огда труба и валторна, превратившиеся в чисто кантиленные
инструменты, «допевают» контрапункты к теме обрамления.
«Постлюдия» — симфоническая поэма для фортепиано с оркестром - была завершена Сильвестровым вскоре noire Пятой симфонии, в 1984 году. Здесь другая, но близкая
13. Среди значений этого греко-латинского слова - дуновение, проблеск, тень, отзвук.
модель - романтический фортепианный концерт, воссозданный в своих главнейших образных ипостасях — в патетике, лирике и пасторальности. Однако внутреннее движение тематизма, воплощающего эти состояния, есть одновременно его
разрушение и дематериализация. Так, начальный порыв-провозглашение, напоминающий о концертах Листа или Чайковского, Шумана или Грига, тут же рассеивается, как дыхание в
морозный день. Сходная участь постигает и вторую вершину,
еще более яркую и стилистически определенную: фортепиано
рассыпается долгожданным «шикарным» пассажем, но кульминация тут же никнет и «оседает», не состоявшись. Появляющаяся позднее лирическая распевная мелодия тоже никак не может сложиться в устойчивую тему. И, наконец, трихордовая
фигурационная тема заключительного раздела своими «бесконечными» повторениями, напоминающими наигрыш из Пятой
симфонии, приводит музыкальную материю к исчерпанию и
полному растворению. Парадоксальным образом первое появление этой прозрачной пасторальной темы ассоциируется с каденцией солиста, которая превращается здесь в «антикаденцию» - настолько далеко это солирование от обычной в
подобных случаях разработочной виртуозности.
В «Постлюдии» Сильвестров развиваеттотжетип «техники торможения», который был им столь развернуто использован в Пятой симфонии. Отныне она вообще становится
устойчивой чертой его стиля. Но смысл ее применения здесь
совсем иной - техника обнаруживает свою незаурядную гибкость. Фигурационный материал, вполне определенный
и оформленный в Пятой симфонии, превращается здесь в орудие разрушения, размывания формы. Хаотические атональные
и аметрические блуждания фортепиано, как будто провалы в
слабеющей памяти, постепенно становятся заметнее, пока не
вытесняют бесповоротно остальной материал. Естественное течение воспоминания, определяющее кодовую драматургию,
грозит нарушиться и в итоге нарушается безвозвратно. Таков
скрытый трагический смысл светлых идиллических звучаний
«Постлюдии».
В том же стилистическом русле появляются и более
поздние произведения Сильвестрова второй половины
8 0 - 9 0 - х годов, вплоть до новых опусов, появившихся уже
в XXI столетии. Симфония для баритона с оркестром «Exegi
monumentum» (1987) написана на слова знаменитого стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг...», одного из главных поэтических сокровищ русской культуры. Стихи эти имеют
свою традицию произнесения, будь то чтение с эстрады или
мысленное интонирование «про себя»: они предполагают
торжественное, ораторское, громогласное звучание. В этом
контексте интерпретация Сильвестрова способна поначалу
обескуражить. Речитация баритона, неширокого диапазона,
динамически скромная и временами даже близкая псалмодированию (как в последней строфе: «Веленью Божию, о Муза,
будь послушна») демонстративно чужда всякому пафосу.
Так нередко бывает в вокальной музыке Сильвестрова: композитор прочитывает стихи словно бы в первый раз, очищая
от искажающих наслоений, возвращая им первоначальный
смысл. Пушкинский «Памятник» звучит в вокальной партии как
сокровенное признание художника-творца наедине с самим
собой, в нем слышна надежда, а не императивное утверждение собственной правоты. Лишь иногда («Вознесся выше
он главою непокорной Александрийского столпа») в голосе солиста появляются патетические интонации. Но в целом стихи
звучат отчетливо и весомо благодаря чеканной формульности мелодических оборотов и музыкальным «рифмам», усиливающим рифмы поэтические (излюбленный прием Сильвестрова в вокальных жанрах). Самое же главное заключено в оркестре.
Одическая торжественность стиха усилена и подчеркнута строгими хоральными аккордами тромбонов, в которые
«вписана» речитация солиста. Они настолько значительны, что
г
олос певца звучит не над ними, как обычно в вокальной музыке, а внутри них. Еще значительнее оркестровое сопровождение,
«фон» хорала. Хорал звучит в огромном, гулком пространстве,
словно бы действительно «по всей Руси великой», в космическом, в античном смысле, вместилище природы и культуры. Оно
заселено живыми разнородными голосами, оно бурлит, кипит,
в нем, как в ранних «космических пасторалях» Сильвестрова,
нет ни верха, ни низа, звуки вспыхивают как будто в разных точках вселенной14. Фактура «фона» предельно нестабильна, мелодическая полифония сочетается с вкраплениями тональных
аккордов, с кластерами различной конфигурации, с гетерофонными наложениями фигурационных рисунков. Когда поэтическое слово умолкает, оно долго еще «звучит» в оркестровой
юстлюдии, постепенно расслаиваясь и исчезая в пространстве,
заполненном затихающими отголосками...
Нетрудно заметить, что в музыкальном языке Сильвестрова, при всех эволюционных изменениях, развивается
14. Подчеркнем, что пространственные эффекты, о которых идет
речь, созданы средствами обычного симфонического оркестра, без
всяких специальных приспособлений вроде особой рассадки музыкантов.
некий единый круг идей, заложенных в ранний период творчества. Сонорика, двенадцатитоновость (серийная и свободная),
статическая форма медитативного симфонизма, пространственные эффекты - все это было найдено и разработано Сильвестровым на волне авангарда, и все это было интерпретировано
глубоко своеобразно, обогащено традиционной для русского
искусства философской весомостью, значительностью духовного содержания.
Начиная со второй половины 80-х годов эволюция
Сильвестрова становится более «спокойной». Резких стилистических сдвигов в его музыке более не наблюдается: композитор продолжает развивать найденные прежде неоромантические идиомы. Таковы прежде всего две крупные симфонические
композиции с солирующими инструментами:«Посвящение», симфония для скрипки с оркестром (1991) и «Метамузыка» для фортепиано и симфонического оркестра (1992). Обе они, несмотря
на присутствие сольной партии, не слишком напоминают традиционный инструментальный концерт: солист здесь не вступает в соревнование с оркестровой массой, скорее выполняя
функции корифея. В сущности, оба сочинения представляют
собой два варианта романтической симфонической поэмы,
причем «Метамузыка» своей грандиозностью и масштабностью
«космических» звучаний напоминает о композициях позднего
Скрябина, особенно о «Прометее». Однако в образности и в
музыкальном языке сходства нет.
В середине 90-х годов появились два новых хоровых
опуса Сильвестрова: Диптих для смешанного хора a cappella
на слова православной молитвы «Отче наш» и стихотворения
Т. Шевченко «Завещание» («Запов1т»), законченный в 1996 году,
и «Элегия» для большого смешанного хора a cappella, тоже на
стихи Т. Шевченко (1996). Также прибавилось и камерной музыки - несколько песен, «Вестник-1996» для фортепиано (или
синтезатора) и цикл из четырех пьес для фортепиано «Устная
музыка» (1999), своего рода продолжение линии более ранней «Китч-музыки». Кроме того, Сильвестров написал две
сольные пьесы для других инструментов: Misterioso для кларнета и фортепиано (1996), рассчитанное на исполнение одним
музыкантом, и «Элегию» для виолончели и двух тамтамов
(1999), тоже для одного исполнителя. Особое место занимает
«Реквием для Ларисы», завершенный в 1999 году15. «Реквием»
15. В августе 1996 г. скончалась Лариса Яковлевна Бондаренко, жена
Валентина Васильевича.
в основном опирается на канонический жанр и латинский текст,
однако в средней части композиции Сильвестров включил свою
давнюю песню на слова Шевченко (из «Тихих песен»), переложенную для хора, и пьесу «Вестник-1996» в оркестровом варианте. Оба фрагмента создают в «Реквиеме» совершенно иное
по сравнению с латинскими частями измерение, внося глубоко
личностный, лирический тон.
Последнее по времени создания крупное произведение Валентина Сильвестрова - Седьмая симфония, завершенная в 2003 году.
Список сочинений
Для симфонического оркестра
Первая симфония (1963/1974); «Монодия» для фортепиано и
симфонического оркестра (1965); Третья симфония («Эсхатофония»,
1966); Пятая симфония (1982); «Постлюдия», симфоническая поэма для
фортепиано и симфонического оркестра (1984); «Exegi monumentum»,
симфония для баритона и симфонического оркестра (1987); «Посвящение», симфония для скрипки и симфонического оркестра (1991); «Метамузыка» для фортепиано и симфонического оркестра (1992); Шестая
симфония (1995); Седьмая симфония (2003).
Для камерного оркестра (также с голосом)
Вторая симфония для флейты, ударных, фортепиано и струнного оркестра (1965); «Спектры», симфония для камерного оркестра
(1965); Гимн для струнных, духовых, фортепиано, челесты, арфы и колоколов (1967); Поэма памяти Б. Лятошинского для ударных, духовых и
струнных (1968); «Медитация», симфония для виолончели и камерного оркестра (1972); Кантата на стихи Ф. Тютчева и А. Блока для сопрано
и камерного оркестра (1973); Четвертая симфония для медных духовых
и струнных (1976); Серенада для струнного оркестра (1978); «Ода соловью» на стихи Дж. Китса (пер. Е. Витковского) для сопрано и камерного
оркестра (1983); Интермеццо для камерного оркестра (1983).
Для камерных ансамблей и инструментов соло
Сонаты для фортепиано № 1 - 3 (1960/1972, 1975, 1979); Пять
пьес для фортепиано (1961); Фортепианный квинтет (1961); Quartetto
piccolo для струнного квартета (1961); «Триада» для фортепиано (1962);
Трио для флейты, трубы и челесты (1962); Классическая соната для фортепиано (1963); «Мистерия» для альтовой флейты и шести групп ударных (1964); «Проекции на клавесин, вибрафон и колокола» (1965);
Элегия для фортепиано (1967); «Драма» для скрипки, виолончели и фортепиано (1971); Детская музыка для фортепиано № 1 - 2 (1973); Музыка
з старинном стиле для ф о р т е п и а н о (1973); Струнные квартеты
№ 1-2 (1974, 1988); «Китч-музыка», пять пьес для фортепиано (1976);
Постлюдия для скрипки соло (1981); Постлюдия для виолончели и фортепиано (1982); Соната для виолончели и фортепиано (1983); «Post
scriptum», соната для скрипки и фортепиано (1990); «Наивная музыка»
для фортепиано (1993); «Отдаленная музыка» для фортепиано (1993);
Misterioso для кларнета и фортепиано (1 исполнитель) (1996); «Вестник1996» для фортепиано (1996); «Устная музыка» для фортепиано (1999);
Эпитафия для альта и фортепиано (1999); Элегия для виолончели и двух
тамтамов (1 исполнитель) (1999).
Для хора
Кантата на стихи Т. Шевченко для смешанного хора a cappella
(1977); Диптих для смешанного хора a cappella на слова молитвы «Отче
наш» и стихи Т. Шевченко (1995); Элегия для большого смешанного хора
на стихи Т. Шевченко (1996); «Реквием для Ларисы» для смешанного
хора и симфонического оркестра на канонический текст и стихи Т. Шевченко (1999).
Камерно-вокальная
музыка
«Тихие песни», цикл из 24 песен на стихи классических поэтов для баритона или сопрано и фортепиано (1974-1977); «Простые песни», цикл из семи песен на стихи анонимного автора, О. Мандельштама и А. Пушкина для среднего голоса и фортепиано (1974-1981); «Лесная
музыка» на стихи Г. Айги для сопрано, валторны и фортепиано (1978);
«Ступени», цикл из одиннадцати песен на стихи анонимного автора,
А. Блока, О. Мандельштама, Ф. Сологуба, Ф. Тютчева, Дж. Китса,
А. Пушкина, Е. Баратынского для сопрано и фортепиано (1980-1982,
1997); Постлюдия DSCH для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано (1981); Четыре песни на стихи О. Мандельштама для баритона и фортепиано (1982); «Река времен» на стихи Г. Державина для голоса и фортепиано (1999); Утренняя песня на стихи В. Сильвестрова для голоса
и фортепиано (2000); «Последняя песенка странствующего подмастерья» на стихи Я. Ивашкевича для голоса и фортепиано (2002).
Литература
1. Интервью (беседа Т. Фрумкис с В. Сильвестровым) / / Советская музыка. 1990. N2 4.
2. Савенко С. Рукотворный космос Валентина Сильвестрова.
Музыка из бывшего СССР. Вып. 1. М., 1994.
3. Фрумкис Т. «Ландшафты для слуха» Валентина Сильвестрова / / Творчество современных композиторов. А. Караманов, В. Сильвестров, Ф. Гласс. М., 1991.
Авет Тертерян
Творчество Авета Тертеряна - интереснейшая и глубоко самобытная страница музыкального искусства X X столетия.
Нерасторжимо связанный с армянской культурной почвой, на
которой он сформировался как человек и как художник, Тертерян сумел создать подлинный синтез локального и общечеловеческого, восточного и западного, уловив в национальном
вселенский смысл. Его произведения, прежде всего симфонического жанра, отмечены неповторимым звуковым своеобразием и высокой философской содержательностью.
Авет Рубенович Тертерян родился 29 июля 1929 года
в Баку. Первоначальные музыкальные занятия начались в домашних условиях; в 1948 году юноша поступил в Бакинское
музыкальное училище. Среднее образование было завершено
уже в Ереване, куда Тертерян переехал в 19Б1 году. В 1952 году
он поступил в Ереванскую консерваторию, которую закончил
в 1957 году в классе Эдварда Мирзояна. У него же Тертерян
позже совершенствовался в аспирантуре (1963-1967). По окончании консерватории он занимался административной работой в Союзе композиторов Армении, в республиканском
Министерстве культуры, где руководил отделом музыкальных
учреждений. В 1970 году начал преподавать инструментовку
в Ереванской консерватории (с 1985 - профессор). Был удостоен почетных званий заслуженного деятеля искусств (1972),
лауреата Государственной премии Армянской ССР (1977),
народного артиста Армении (1984) и СССР (1991). В 90-е годы
Тертерян часто и подолгу бывал в Екатеринбурге, где вел мастер-класс по композиции и где исполнялись многие его сочинения. В декабре 1994-го в Екатеринбурге состоялся первый фестиваль его музыки - «Три вечера с Аветом Тертеряном». Однако
это долгожданное событие произошло уже без автора - 11 декабря 1994 года Авет Рубенович Тертерян скоропостижно скончался в Екатеринбурге.
Авет Тертерян обратил на себя внимание еще во время обучения в консерватории. В 1956 году он завершил Сонату
для виолончели и фортепиано\ за которую дважды получал премии - на республиканском конкурсе и на Всесоюзном смотре
творчества молодых композиторов в Москве. В структурнодраматургическом отношении трехчастная Соната еще вполне
стереотипна; однако тематический материал цикла привлекает свежестью, естественностью развертывания. Через год
1. М.: Советский композитор, 1960.
М№1
в качестве дипломной работы Тертерян представил Вокальносимфонический цикл «Родина» на слова О. Шираза для сопрано,
баритона и большого симфонического оркестра, который
посвятил своему учителю Э. Мирзояну 2 . Цикл тоже удостоился
поощрения - он был отмечен премией на Всесоюзном конкурсе молодых композиторов в Москве. По многим признакам
масштабное произведение принадлежит к роду официальных
патриотических кантат, с традиционными контрастными сопоставлениями и неизбежным апофеозом в финале. Но местами
Тертеряну удалось уйти от шаблона, и отдельные фрагменты
цикла стали настоящей удачей композитора. В них он приближается к своим будущим излюбленным звукообразам - «бесконечной» вариантности на попевочной основе (вторая часть),
«звонной» диатонике (в пятой части).
В первые годы по окончании консерватории Тертерян
сочинял мало. Следующий после «Родины» заметный опус помечен 1963 годом: это Струнный квартет G-dut3, долгое время
остававшийся единственным произведением Тертеряна в данном жанре 4 . Квартет уже далек от ученичества. Его оригинальность, что показательно для будущего стиля Тертеряна, связана,
в первую очередь, с нетрадиционной драматургической идеей:
резким противопоставлением двух контрастных частей Tranquillo molto и Presto. Сопряжение полярных состояний впоследствии станет одним из любимых драматургических приемов композитора; интересно и то, что в Первом квартете, в его
мотиве-motto, впервые появляется интонация квинтового зова,
не раз встречающаяся в более поздних сочинениях Тертеряна,
вплоть до Четвертой симфонии (1976). В квартете, таким образом, начинает формироваться индивидуальный интонационный словарь композитора, специфические идиомы которого
образуют естественную основу тертеряновского стиля.
Само обращение молодого композитора к квартету
можно до некоторой степени объяснить особым интересом
к камерным жанрам, который в 60-е годы испытывали многие
советские композиторы, особенно молодого поколения. Присущие камерной музыке качества - отточенность письма, проработанность деталей, драматургическая индивидуализация воспринимались в то время как надежный противовес монументальному пафосу официального искусства, как залог подлинного композиторского мастерства. Движение Тертеряна
2. М.: Советский композитор, 1962 (партитура).
3. М.: Музыка, 1966.
4. Второй струнный квартет был написан Тертеряном в 1991 г. по заказу знаменитого Кронос-квартета (Ереван, 1998).
• М ' 1
от масштабного вокально-симфонического цикла к струнному
квартету в этом отношении весьма показательно.
В Первом квартете Тертерян опирается на весьма
распространенные в то время, однако далеко еще не обветшавшие способы письма. Так, в I части господствует полифоническое развитие свободного типа, с эпизодическими вкраплениями имитационности. В мелодике ощущается воздействие
Шостаковича, приобретшее в советской музыке 60-х годов
универсальный характер: типичен, в частности, мажор с пониженными ступенями, а также хореические ниспадающие («ламентозные») мотивы.
Противоположный полюс - perpetuum mobile II части,
представляющей собой драматическое скерцо, где примечательны постепенное наслоение голосов, фактурная динамизация, яростно (feroce) провозглашаемая тема.
Первый квартет Тертеряна был высокооценен не только официальными кругами, но и слушателями. Примечательна
реплика одного из них, просвещенного знатока древней певческой культуры Армении, выдающегося музыкального ученого Никогоса Тагмизяна: «Мы знаем, что Тертерян даже не владеет армянским языком, а его музыка сугубо национальная»
[цит. по: 2, 79]. Действительно, Авет (Альфред, как его назвали
родители), выросший в Баку, где языком культурного общения
был русский, избегал говорить по-армянски, даже прожив
в Армении довольно долгое время5. Его истинным языком был
язык звуков, и он чувствовал это с молодых лет. Значительно
позднее Тертерян придал теоретическую форму своему ощущению, доказывая, «что музыкальная интонация и звук вообще первичнее речевой интонации и слова, что словесный язык не
может даже приблизиться к выражению духа музыки» [2,19~20].
Во времена Первого квартета Тертерян вообще,
по-видимому, был значительно больше ориентирован на общеевропейскую традицию, вольно или невольно ассоциируя
национальные элементы языка с локальной ограниченностью.
Своего пути здесь он еще не нашел, и, возможно, поэтому
армянский музыкальный колорит присутствует в Первом
квартете лишь в самом общем виде: проскальзывают мотивы
5. Приведем в этой связи фрагмент из воспоминаний вдовы композитора, Ирины Тиграновой-Тертерян: «В день, когда Тертеряна чествовали как почетного гражданина Гавара (местность на озере Севан, где композитор выстроил дом. - С. С.), в конце жизни он смог
без особого труда сделать то, что от него так настоятельно и безрезультатно требовали всю жизнь. На площади, наполненной людьми,
он впервые заговорил на чистейшем армянском...» [2, 72].
.
Г Я
с увеличенной секундой, кое-что можно услышать и в ритмических фигурах.
Следующий опус Тертеряна оказался вновь крупномасштабным и вызвал большой общественный резонанс. Опера
«Огненное кольцо» по рассказу Бориса Лавренева (в двух действиях и восьми картинах), поставленная в Ереване (1967), была
премирована на Всесоюзном конкурсе в честь БО-летия Октябрьской революции, записана в Москве и передана по радио;
на Центральном телевидении был создан телеспектакль. Через
десять лет (1977) опера была поставлена в городе Галле (Германия, тогда ГДР) 6 .
Тема революции, особенно насаждаемая в то время
в связи с юбилейной датой, открывала опере дорогу на сцену
и вообще значительно облегчала ее будущую судьбу. Неся на
себе отпечаток эпохи, «Огненное кольцо» все же отклоняется
от официозных стереотипов. Тертерян не был одинок в этом отношении: достаточно вспомнить, что одна из лучших русских
опер того времени, «Виринея» Сергея Слонимского, тоже была
написана к 50-летию Советской власти. Сам рассказ Лавренева, в то время обретший новую жизнь благодаря популярному
кинофильму, талантлив и далек от схемы. Как трагическое
заблуждение воспринимается противостояние Гражданской
войны и порожденной ею классовой ненависти - и прекрасной
вечной природы, частью которой становится естественное
любовное влечение двух молодых существ, находящихся по
разные стороны баррикады 7 . Эта же тема становится центром
оперы Тертеряна, однако ее звучание приобретает масштабность, не свойственную литературному первоисточнику. В оперу-драму проникают эпические черты, и не менее важной, чем
событийный ряд, становится реакция на происходящее. Она
воплощена в образе Поэта (здесь использованы стихи Егише
Чаренца) и в партии хора, роль которого в опере многопланова: он и комментатор, и участник действия, и колористическая
деталь - вокализация хора используется как яркая тембровая
краска. Всё вместе сообщает «Огненному кольцу» черты героической оратории, монументальной и местами несколько избыточной в своем пафосе.
6. М.: Советский композитор, 1972 (клавир).
7. Главные герои рассказа, девушка-красноармеец и конвоируемый
ею белогвардейский офицер, волею обстоятельств оказываются на
необитаемом островке, откуда не могут выбраться. Между ними
вспыхивает любовь, однако, повинуясь долгу, Марютка в конце концов расстреливает своего возлюбленного - он становится сорок первым в ее послужном списке.
На первом плане оказывается, следовательно, не драматическое действие, тем более что событий в опере немного, а моменты отвлечения, осознания случившегося в судьбе
героев. Такова колыбельная Девушки, построенная на длительном обыгрывании одной попевки, такова сказка, которую
поет-рассказывает герой на манер старинных эпических песен, в характерном дорийском ладу. В сказке - поэтическинедостижимом варианте судьбы героев - слышны те же квинтовые зовы, что и в Первом струнном квартете; здесь они
прочитываются как символ природы, пасторальной чистоты
и безмятежности.
Один из самых интересных моментов «Огненного кольца» - балетный эпизод в б-й картине оперы (ремарка: «балет
сводит героев, примиряя их»). Музыкальная ткань этого раздела организована как хоровая остинатная прогрессия, развертывающаяся на фоне ритма барабана, отбивающего восьмые
доли. Десять партий хора (сопрано и тенора divisi а 2, альты и
басы divisi а 3) последовательно вступают друг за другом по
принципу фугато, при этом каждая партия вводит новый звук,
еще два дополнены оркестром. В результате складывается двенадцатитоновая серия acbcis fisdf dishegas) жесткий ритмический рисунок основан лишь на двух фигурах, из четырех
и двенадцати восьмых. Текст тоже остинатный: хор повторяет
«да, да, да» («дадаистское фугато», по выражению С. Саркисян, — 5, 150); его тембр превращается в яркую фоническую
краску. В следующем эпизоде хор трактован полностью в инструментальном ключе.
В исторической перспективе «Огненное кольцо» воспринимается как квинтэссенция раннего тертеряновского
стиля. Новый этап обозначила Первая симфония (1969), вызвавшая в свое время бурную критическую реакцию. Симфонический жанр отныне становится господствующим в творчестве Тертеряна. Камерную музыку он оставляет почти полностью
(исключением может служить вышеупомянутый Второй струнный квартет), к музыкальному театру обращается лишь дважды: в 1979 году появляется балет «Монологи Ричарда III»
по Уильяму Шекспиру, в 1986 - опера «Землетрясение в Чили»
по новелле Генриха фон Клейста.
К началу 70-х годов сложился характерный для Тертеряна жизненный уклад, строго подчиненный главной жизненной задаче — сочинению музыки. Он почти безвыездно жил
в горном Дилижане, в доме творчества Союза композиторов
Армении, обдумывая и создавая новые симфонические опусы, - практически в полном одиночестве, подолгу не видя
ни близких, ни друзей и коллег. Потом Тертерян построил дом
на озере Севан, в котором мечтал проводить музыкальные
празднества, приглашая друзей со всех концов. Закончив очередное сочинение, «он становился необычайно веселым,
остроумным и светским человеком, который любил жизнь и был
замечательно ласковым дома...» [2, 10]. Однако планам не суждено было сбыться - с концом Советского Союза и «гибелью
империи», как говорил Тертерян, привычный распорядок жизни непоправимо нарушился, в Армению пришли нищета и бедствия. Тогда и пришлось Тертеряну отправляться в путь, в Екатеринбург, затем в Германию. В январе 1995 года, получив
стипендию Немецкой службы академического обмена, он должен был на год поселиться в Германии. До назначенного срока
оставалось три недели, когда Тертеряна не стало.
Возможно, со временем он бы адаптировался к новым
условиям и смог бы вновь начать сочинять. Правда, собственные слова композитора заставляют в этом усомниться. «Только
в Армении я ощущаю ту духовность, которая становится поводом для творчества. Если я нахожусь вдали от гор Армении,
у меня создается иной настрой, и там не возникает никаких творческих состояний» [цит. по: 5,225]. Почти те же слова сохранила память Ирины Тертерян: «Настоящий художник должен жить
на родной земле и умереть на ней. На чужбине он никогда не
сможет передать чувства и духовное состояние своего народа.
Эти слова получили печальное подтверждение в его собственной жизни и в ненаписанной симфонии» [2,72]. Симфония должна была стать Девятой. Восемь Тертерян написать успел.
Первая симфония8 привлекает внимание прежде всего
своим нетрадиционным составом: медные, ударные, фортепиано, орган, бас-гитара. Композитор избирает инструменты
плотного, тяжелого звучания, предрасполагающие к письму
крупными блоками, к декоративной массивности. Все это действительно есть в симфонии, представляющей собой первый
последовательный опыт в области тембровой (сонорной) композиции (первые признаки ее появились еще раньше,
в опере «Огненное кольцо»). Тенденция намечена очень определенно, хотя материал симфонии не является сплошь сонорным.
Драматургическая идея четырехчастного цикла достаточно прозрачна и традиционна, особенно в срединных частях
симфонии. В качестве скерцо Тертерян использовал материал
вышеописанного балетного эпизода из «Огненного кольца»,
несколько видоизменив его: в чисто инструментальном вари8. М.: Советский композитор, 1973.
анте остинато стало еще изысканнее. С другой стороны, в симфонии обращает на себя внимание преобладание медленных
темпов, в том числе и в крайних, действенных частях цикла.
Композитор явно движется в сторону смыслового, на грани программности, истолкования тембра, семантического его слышания. На этой основе формируется выпуклая тембровая драматургия. Так, например, орган становится здесь символом
высокого духовного начала - вполне естественное истолкование для музыканта, принадлежащего к культуре, где орган не
был привычным инструментом и поэтому сохранил ореол особой возвышенности. Семантика органа усилена тем, что именно ему поручена основная тема симфонии - псалом раннехристианских времен, извлеченный из собрания армянских
духовных песнопений «Часослов» 9 . Псалом погружен в сонорную (темброфактурную) среду, в которой он воспринимается как нечто инородное, контрастное своим диатоническим
обликом. Мелодическая цитата разрабатывается в диссонантной манере, что дополнительно усиливает эффект остранения.
Появление цитаты в Первой симфонии тем более заслуживает внимания, что это чуть ли не единственный пример
подобного заимствования в творчестве Тертеряна10. Позднее его
музыка становится гораздо конкретнее в отношении национального колорита, но достигается это почти исключительно тембровыми средствами в частности, благодаря использованию
народных инструментов.
Традиционные же методы воссоздания национального начала, связанные с цитированием конкретного материала,
с этнографическим «раскрашиванием» современных композиций, Тертерян отверг уже к началу 80-х годов. «Нельзя же
специально настроиться писать армянскую музыку... Часто говорят: народную музыку создает народ. Не знаю, что это такое:
вместе поют, сочиняют? Думаю, что это отдельные люди вроде
меня. Но — анонимы. Когда сегодня композиторы берут произведение, которое принадлежит не им, не ими создано, и перерабатывают его, для меня это непостижимо» [б, 497~498]. «Поверхностным» он считал и русский ориентализм, и «восточную»
музыку Штокхаузена. Метод Тертеряна иной - подражание,
9. См. об этом жанре: 1, 85~88 и там же пример из «Часослова»
(с. 87), очень близкий теме Первой симфонии.
10. С. Саркисян упоминает также шаракан (род оригинальных армянских, т. е. не библейских духовных песнопений), использованный
в опере «Огненное кольцо», а также «музыкальную расшифровку напева хеттской клинописи в опере "Землетрясение в Чили" и в Седьмой симфонии» [5, 198].
имитация звуковых условий, в которых может зазвучать нечто
подобное народной музыке. То есть речь идет, прежде всего,
о тембре, о манере интонирования фольклорного голоса или
инструмента.
В о Второй симфонии (1972)11 появляются вокальные звучания - она написана для большого симфонического оркестра, мужского голоса и смешанного хора. Циклическая композиция становится лаконичней - в симфонии три части, причем
первая и финальная объединены общей линией развития. Между ними находится сольный островок - краткая II часть, исполняемая мужским голосом в народной манере. Это первый
в музыке Тертеряна случай «аутентичного» фольклорного звучания, принципиально отличающийся от цитирования в Первой симфонии. Там был подлинный напев, но в обработанном,
очужденном виде, здесь цитаты нет, однако характер интонирования воссоздан с максимально возможной в данных условиях точностью. Монодия начинается как плач (вохб), во второй ее половине появляются более распевные интонации,
напоминающие гласовые попевки литургии. «Документальный»
характер монодии не превращает ее в чисто этнографический,
описательный элемент - это не изображение, а, скорее, глубокий и многозначный символ.
Вокальное начало присутствует и в крайних частях, где
звучит хор, скандирующий в кульминации отдельные фразы
из стихов средневековых армянских поэтов и современного
латышского поэта Э. Вевериса. Фразы накладываются друг на
друга, образуя вибрирующую сонорную массу, неразличимую
в деталях. Значение имеет лишь фонетика текста, но не его
смысл: ремарка предписывает выбор строк на усмотрение дирижера, сам же текст в опубликованной партитуре отсутствует.
В обеих частях сонорика играет определяющую роль, но если
в первой преобладают звуковые поля на фигурационной основе, то третья «нанизана» на остинатный рисунок - его главный
носитель, литавры, неуклонно отбивают каждый полутакт.
Зрелый симфонический стиль Тертеряна определился
в своих главных чертах в Третьей симфонии (1975)12. Как и Вторая, она трехчастна, однако намеченный там циклический контраст приобретает в Третьей симфонии более совершенную
форму. Средняя часть симфонии тоже основана на имитации
фольклорного музицирования: в сопровождении ударных
здесь солируют два дудука - язычковых инструмента, отлича11. М.: Советский композитор, 1975.
12. Третья и Четвертая симфонии. М.: Советский композитор, 1980.
ющихся мягкостью звучания. В согласии с народной традицией
один музыкант играет мелодический голос, другой - тоническую педаль, исполняемую непрерывно, как бы бесконечным
дыханием. Этот голос называется «дам», как поясняет композитор, или«дзайн-арутюн», согласно старинной традиции [1, 77].
Мелодический голос выдержан в манере народных импровизаций плачей-вохбов в их «сдержанной, а не экспрессивной
разновидности» [5, 198].
При всей контрастности вторая часть имеет точки соприкосновения с первой и третьей. Во-первых, ее материал
воспроизводится в коде симфонии, прямо вовлекаясь в драматические события, - плач дудука сметается «гомерическим
хохотом» валторн (ремарка в партитуре). Во-вторых, народные
инструменты участвуют также в крайних частях. Прежде всего,
это две зурны — инструменты типа гобоя, визгливо-пронзительного тембра, обычно звучащие очень громко. В Третьей симфонии они образуют родственную группу с медными инструментами симфонического оркестра, во многом определяя
колорит крайних частей. Другая важнейшая тембровая сфера - ударные, яростной каденцией которых открывается симфония. Каденция тоже ассоциируется с народным музицированием, но не какой-то конкретной жанровой и национальной
его разновидностью. Скорее речь может идти о «портрете»
восточной инструментальной музыки в целом, о некоем язычески-ритуальном действе13. Ударные, так или иначе присутствующие во всех трех частях симфонии, играют роль стержневого, объединяющего элемента - своего рода тембрового
лейтмотива.
Формообразующей единицей I части становится каденция - профессиональный аналог фольклорной импровизации.
Вначале состязаются отдельные группы, затем в кульминации
складывается коллективная каденция на остинатной основе.
Форма целого органично вырастает из quasi-импровизационных реплик инструментов. В финале действует несколько иной,
но тоже естественный для темброфактурного материала Третьей симфонии принцип монтажных сопоставлений - рельефного, но малоконтрастного материала.
13. Как отмечает С. Саркисян, «использование народных инструментов в своих произведениях Тертерян расценивал как проявление "духовной памяти". Действительно, тембровая характеристика народного инструмента - духового, ударного или струнного - имела для
него не этнографическое, а символическое значение. Освобождая
инструмент от цитатных реминисценций, традиционного мелодического движения и развивающейся линии, композитор подчеркивал
его первозданную природу» [5, 198].
В Четвертой симфонии (1976)14 Тертерян приходит к одночастной композиции, верность которой сохраняет и в последующих сочинениях симфонического жанра. В сущности, он
вплотную приблизился к одночастности уже в предшествующей
Третьей, где, как отмечалось выше, заметна тенденция к тематическому и драматургическому объединению частей. В Четвертой также впервые появляется очень характерный впоследствии
для Тертеряна прием: пространственная дифференциация планов звучания, осуществляемая с помощью реального разделения источников звука (на сцене и за сценой) либо посредством
применения магнитофонной записи. Две редакции Четвертой
симфонии представляют оба варианта. Первоначально это был
записанный говор голосов, читавших отрывки из средневековой армянской поэзии, - материал, аналогичный Второй симфонии. Во второй редакции предпочтение отдано клавесину за
сценой, исполняющему довольно протяженную тему Генделя.
Первая редакция, кроме того, записана без тактовых черт, которые заменены хронометрическими обозначениями, вторая в обычном тактированном варианте.
Пространственное разведение материала в Четвертой
симфонии, как и в более поздних сочинениях Тертеряна, имеет
прежде всего смысловое, символическое значение: ведь вряд
ли стоит разделять однородный звуковой поток, разве что
с целью простого громкостно-динамического усиления. Действительно, применительно к Четвертой можно говорить об откристаллизовавшихся семантических единицах, об интонациях-символах. Генделевская цитата, заглушаемая сонорными
шумами, воспринимается как символ вечной красоты (очень
характерный для 70-х годов, с их полистилистическими
контрастами, прием - можно вспомнить почти одновременно
созданную Пятую симфонию Г. Канчели с ее клавесинным
motto); До-мажорная пастораль и валторновый зов (отголосок
Первого струнного квартета) воплощают первозданную гармонию природы; сонорная статика и обрамляющий звон - мотив
медитации, звуковые обвалы - знак катастрофы. Разумеется,
перевод на словесный язык допускает варианты истолкований
довольно широкого спектра. Сам композитор подчеркивал личностный, даже интимный характер Четвертой: «Это "моя симфония", моя правда... Ее звуковая атмосфера как бы оставляет
слушателя наедине с самим собой, и здесь начинается познание собственного "я" через звук и тишину, музыку космоса и зем14. См. сноску 12, а также: Четвертая и Седьмая симфонии. М.: Советский композитор, 1989.
Ш
Ш
ли... Мне кажется. Четвертая симфония способна пробудить дух
человека... призвать к самопознанию» [цит. по: 2, 65].
В Пятой симфонии (1978)15, во многом наследующей
звуковую атмосферу Четвертой, главным героем композиции
становится одиночный звук as1, из которого симфония вырастает и в который уходит в конце. Звук этот зарождается у гобоя
и переходит ко вторым скрипкам, у которых превращается
в педаль-да/w, сопровождаемую античными тарелочками
(crotali), вызванивающими мотив из двух соседних звуков,
и пунктирной фигурой бубна с позвякиваньем бурвара 16 .
На этом фоне вступает мелодический голос — кяманча17, с той
же «темой», звуком as, импровизационно повторяемым,
«раздуваемым», застывающим и вновь разрабатываемым в нетемперированных скольжениях вверх и вниз - но не далее
полутона. «Партия кяманчи не тактирована, - поясняет композитор, - и все мелодические ее движения определяет дирижер»
(ремарка в партитуре, см. пример 1 на с. 340).
В следующем разделе (от цифры 8) продолжается тембровое разрабатывание, «обживание» унисона - на этот раз
звука h2 (гобой, большой и малый кларнеты); функцию дама
здесь выполняет тянущийся кластер струнных. Монодическому, линейному развертыванию в симфонии противопоставлены огромные звуковые массивы, внедряющиеся по принципу
монтажного контраста либо формирующиеся в результате
длительных нарастаний. Так происходит, например, в первом
крупном разделе симфонии, развивающемся по принципу
волны и после кульминации приводящем к спаду, свертыванию
звуковой материи в тот же «лейтмотивный» тон as' - дам,
на котором вновь появляется импровизация кяманчи. Следующая затем новая волна нарастания приводит к мощнейшей кульминации - перезвону церковных колоколов (Сатрапе tubolare,
5 С а т р а п е russo), для усиления которых автор предлагает
использовать максимально усиленную запись 18 . «Всемирная
15. Пятая и Шестая симфонии. М.: Советский композитор, 1987.
16. Burvar - принадлежность армянского церковного ритуала (авторская ремарка в партитуре).
17. Народный армянский струнный инструмент с несколько гнусоватым и характерным тембром, близок скрипке и альту (авторская ремарка в партитуре).
18. «Запись перезвона больших и малых колоколов, которая наложением на натуральные колокола оркестра множит их звучание до
бесконечности. Запись требует мощного усиления. При наличии натуральной звонницы (количество колоколов, способное перекрыть
tutti оркестра) магнитофонную запись не использовать» (авторская
ремарка в партитуре).
Симфония № 5
'
и
Pandeire
(Burvar)
V-ni II
Pandeire
(Burvar)
1
!
•
I l l
i n
LГ
J -Tr и
1 " 1
V-ni II
Pand.
Camancia;
V-ni II
0
^
~~~
'
p
I I 1 1 I И"I' I
I
|
'i^-
звонница» (по выражению автора), прорезаемая унисонными
кликами деревянных и медных инструментов, слышится как
голос космического катаклизма, апокалиптической катастрофы,
обрушившейся на человечество. Но постепенно все стихает,
и в завершении симфонии вновь возникает звук кяманчи - тон
as', из которого все возникло и в котором все исчезает.
«Звук - это целая симфония... Он воздействует на тебя,
уводит в иные состояния, в нем можно представить себе все
мироздание. В микрокосмосе его структуры можно увидеть всю
Вселенную» [6, 198].
Шестую симфонию для камерного оркестра, камерного хора и девяти фонограмм (1981) можно считать высшим достижением Тертеряна — тем главным словом, которое ему было
дано произнести. После «диптиха» Четвертой и Пятой композитор создает совершенно иную концепцию, которая даже
внешней масштабностью отличается от всего, что было им написано раньше.
Исполнительские средства Шестой кажутся при этом
значительно более скромными, чем в предыдущих опусах этого жанра. Вместо большого оркестра здесь камерный состав19
и хоровой ансамбль, партии которого могут исполнять те же
инструменталисты. Однако «за кулисами» существуют дополнительный оркестр и хор, чье звучание в различных комбинациях образует состав девяти фонограмм, участвующих в исполнении. Дифференциация звуковых планов, создающая яркий
пространственный эффект, продолжена и подчеркнута элементами театрализации. Согласно замыслу автора, симфония исполняется при погашенном свете, «сцена освещена софитами
разных оттенков красного, синего и желтого цветов, и лишь тамтам (гонг), висящий в центре сцены, высвечен особо - лучом
белого цвета... Играющий на тамтаме все удары производит замедленным движением (напоминающим кадры замедленной
киносъемки), как бы символизируя идею "остановленного времени", иного времяисчисления» 20 .
Интересно, однако, что инструменты, использованные
в фонограммах, частично те же, что и в «живом» оркестре.
На сцене нет тяжелой меди, шести валторн (есть одна), а также
некоторых ударных и говорящего хора. Все остальное - струнные, клавесин, основная часть ударных - совпадает, отчего
иногда возникает впечатление почти полного слияния «живого»
и записанного звучания. «В основе драматургической Шестой
19. Флейта, 2 гобоя, 2 кларнета, валторна, ударные, клавесин, струнные (возможен солирующий квинтет).
20. Авторский комментарий к пластинке Шестой симфонии («Мелодия», 1987. СЮ 25665 005).
симфонии лежит идея отражения далекого в близком,
и наоборот... В таком единении я вижу выражение сути целостности бытия — это сегодня и вчера, а может, и завтра, - это
рождение, но это и конец» [цит. по: 5, 228]. Так создается ощущение звучащего пространства, границы которого неразличимы,
проницаемы, в котором прорастают элементы членораздельной
речи - тянущиеся звуки дерева, шелестящие фигурации клавесина. В пространстве всплывают и иные, "реальные" звуки - выдержанные кластеры струнных, словно звенящая от зноя каменистая земля, говор церковной службы, то более, то менее
отчетливый, колокольный перезвон, в среднем разделе еще и
угрожающее остинато ударных вкупе с тяжелой медью. Все это
звучит долго, действительно как бы в остановленном времени,
может быть - в довременном пребывании мира, пока, наконец, не рождается суровое храмовое псалмодирование (см.
пример 2 на с. 343-344).
Хор произносит на одной и той же высоте звуки-слоги
грабара - древнеармянского алфавита. Достигнув максимального согласия, пение слабеет и постепенно исчезает - все возвращается на круги своя, в пространство правремени.
«Для меня Шестая симфония - какая-то вселенская
месса, реквием памяти по ушедшим во имя рождения. Понятия
жизни, смерти и рождения здесь как бы слиты воедино... Звуки
доведены до абсолютного символа» (5, 228).
Звуки-символы Шестой симфонии существуют почти в
полной статике, в длительном созерцании-медитации. С редкой даже для него последовательностью Тертерян воплощает
здесь «восточное ощущение времени», которое, по мнению
композитора, «резко отличается от европейского. Оно исходит
от покоя, традиционного покоя... Скажем, если Джон Кейдж создает "произведение" из 4 - 5 минут молчания 2 1 , то, зная
своего слушателя, он уверен, что этого достаточно, чтобы зал
стал соучастником происходящего. Но на Востоке 4 - 5 минут
покажутся мгновением. Восточный слушатель готов к молчанию
длиною в целый век. Он был бы благодарен за тишину» (5, 228).
Мудрой уравновешенности Шестой противостоит Седьмая симфония для большого симфонического оркестра и магнитофонной ленты (1987), хотя в чисто звуковом отношении она
кажется ее продолжением. Написанная за год до землетрясения в Армении, Седьмая кажется трагическим пророчеством:
так воспринимается обвал оглушительной кульминации с записью «треска и скрежета сломанного дерева» (ремарка
21. Тертерян имеет в виду знаменитую пьесу Кейджа «4'33"», где
исполнителю предписано не играть в течение указанного времени.
Симфония № б
ш
ш
в партитуре). В подобном же пророческом ключе воспринимается и вторая опера Тертеряна «Землетрясение в Чили»
по новелле Г. Клейста.
Седьмая симфония драматургически более дробна,
чем Шестая. Обычное для зрелых симфоний Тертеряна постепенное «заселение» звукового пространства происходит под
знаком постоянно возвращающегося рисунка литавр: стихийному накоплению противопоставлены строгие октавные переклички оркестровых регистров: еще больший контраст вносит
вступление тяжелой меди и литавр. Тем не менее оглушительная кульминация, сметающая все живое, похожа на внезапно
разразившуюся катастрофу.
С подобной же кульминации - катастрофической
вершины-источника - начинается Восьмая симфония, которой
суждено было стать последней в творчестве Тертеряна. Восьмая
воспринимается как самое трагическое создание композитора,
и в ее атмосфере трудно не услышать прямого отражения бед,
обрушившихся на родину художника. При этом Восьмая, как и
ее предшественница, лишена сюжетной или изобразительной
конкретности: ход драматургического развертывания обусловлен чисто музыкальной логикой.
Восьмая симфония лапидарна и строга. Две кульминационные «зоны катастрофы» притягивают музыкальный
материал, в котором главенствуют ламенто и траурный марш.
Ламенто интонирует женский голос; как обычно в таких случаях у Тертеряна, пение-причитание имитирует фольклорную
манеру. Траурный марш предстает как «вечное остинато»,
неспособное перейти в какое-то иное состояние. Скорбное
оцепенение, прорывающееся всплесками отчаяния, кажется непреодолимым. Но в самом конце вдруг возникает обертоновый
аккорд — светлый блик на долгом темном фоне.
Открыв для себя симфонический жанр, Авет Тертерян
уже не покидал его. Именно здесь он нашел себя, здесь сумел
осуществиться как глубоко самобытный художник-новатор.
Симфония предстает в его творчестве в оригинальном,
нетрадиционном виде. По мнению Тертеряна, ошибочно рассматривать симфонию как форму, предполагающую сонатную
или какую-то иную твердо установленную структуру. «Для меня
симфония - более эстетическое, нежели формальное понятие.
Понятие симфонии менялось с ее развитием... Нет сонатной
формы - но есть большая проблема» (7, 498). Симфония
сохраняет для Тертеряна значение фундаментального жанра,
музыкально-философской картины мира. С этой точки зрения
его творчество законно наследует классической и современной
симфонической традиции, эволюционировавшей в общем
направлении с такими композиторами, как В. Лютославский,
А. Шнитке, Г. Канчели,
С другой стороны, симфония Тертеряна, какой она
предстает в его зрелом творчестве, далеко уходит от европейской традиции. Симфоническая концепция вырастает в его музыке на новом фундаменте, поскольку иным оказывается сам
язык и, следовательно, способ высказывания. Этот новый смысл
тертеряновского симфонизма концентрируется в области сонорики, то есть тембра и фактуры в точке их пересечения, взаимодействия.
Сама по себе сонорика, разумеется, не является изобретением Тертеряна. Он достаточно хорошо ориентировался
в современном творчестве, знал сочинения Я. Ксенакиса,
К. Пендерецкого и других композиторов сонористического направления. В его музыке можно без труда обнаружить распространенные приемы сонорного письма. Для Тертеряна основные из них - сонорное одноголосие и сонорная зона.
С о н о р н о е о д н о г о л о с и е , часто появляющееся
в начальной стадии формы или в переломных моментах, блестящим образом представлено в зачине Пятой симфонии (см.
выше пример 1). Звук as, «подцвеченный» позвякивающим бурваром и звоном античных тарелочек, по всем правилам сонористической тембровой модуляции 22 перетекает от гобоя ко
вторым скрипкам и затем кяманче. Подобные примеры нетрудно обнаружить у Пендерецкого, Д. Лигети и других композиторов. Однако на кяманче звук as интонируется по-тертеряновски оригинально: из линии он становится зоной, поскольку
народный струнный инструмент принадлежит к роду нетемперированных. Тембровая мелодия европейского авангарда
совершенно естественным путем превращается в восточную
монодию.
С о н о р н а я з о н а , более или менее широкого объема, может быть стоячей или фигурированной: первый вариант
часто встречается у струнных (например, длительно протянутые кластеры в Пятой симфонии), второй более характерен
для духовых и клавишных (например, сухое шелестение клавесина в Шестой симфонии). Кульминационные сонорные зоны
обычно туттийны и охватывают широкий, вплоть до предельного, диапазон.
22. В свою очередь, восходящей к «тембровой мелодии» (Klangfarbenmelodie) А. Шёнберга.
Сонорные зоны кластерного или quasi-кластерного
строения — общее место темброфактурного письма; подобные
эпизоды можно в довольно большом количестве найти у самых разных композиторов. Однако стоячие и фигурированные
сонорные зоны представляют собой, как правило, лишь один
из элементов монтажной конструкции, объединяющей, наряду
с протянутыми звучаниями, также точки, линии, всплески и прочие сонорные фигуры.
У Тертеряна же подобные контрастные сопоставления - редкость, он предпочитает длительные статичные темброзвуковые зоны, иногда дополненные остинатным, тоже статичным ритмом. Ткань его симфоний тяготеет к постоянству,
и в этом заключено важнейшее отличие его письма от Пендерецкого или Лигети, а также Канчели, с которым его часто сравнивают 23 . Излюбленные Канчели резкие и частые динамические контрасты совершенно чужды Тертеряну.
При этом у Тертеряна находит широкое применение
такой типично сонорный вид контраста, как сопоставление
объемов звучания. Этот прием положен в основу артикуляции
цикла во Второй и Третьей симфониях (противопоставление
средней части крайним), а также структуры Пятой симфонии,
где солирование кяманчи обозначает грани формы. Во всех трех
случаях контраст связан с имитацией фольклорного интонирования, вокального и инструментального, что не случайно:
в конечном итоге своеобразие тертеряновской сонорики и,
шире, неповторимость его художественного мира связаны с национальной природой его творчества.
Избегая цитирования фольклорного материала, обращаясь лишь к инструментам народного происхождения, композитор воссоздает сам дух, глубинную сущность традиционного восточного интонирования, восходящего к глубокой
древности. Подобные эпизоды не слишком многочисленны,
однако именно они служат камертоном для композиций Тертеряна. В них более всего ощущается монодическая природа его
музыки. Столь почитаемый им звук как самодостаточная и самоценная величина пришел именно оттуда - из восточной
монодии, не нуждающейся в многоголосии, в гармонии евро23. Двух композиторов было принято объединять как создателей
особой разновидности «закавказской» симфонии — одночастной,
поэмного типа композиции, как правило, не использующей фольклорных цитат, однако обладающей несомненным национальным
характером звучания. Более поздние определения симфонизма Тертеряна - «сонористически-конструктивный» (M. Рухкян) и «космософско-медитативный» (Л. Птушко). См.: [2, 61].
пейского рода. Звуковые массивы, тоже характерные для
тертеряновского письма, не противоречат этому, ибо они тоже
выросли из монодии, представляя собой ее многократное «умножение» и усиление.
Монодической природой мышления можно объяснить
тертеряновскую статику, так поражающую слушателя, воспитанного в лоне европейской традиции. Восточная, в том числе и
армянская монодия, в отличие от европейской мелодии, как
будто пребывает на месте, и даже изменение эмоционального
тонуса не нарушает этой внутренней сосредоточенности. Этот
принцип монодического пребывания Тертерян переносит на
крупную форму, которая составляется из блоков, часто беспримерно длительных и однородных. Композитор не уставал подчеркивать национальную специфику своего художественного
мышления: «У нас перед глазами все время горы, и, наверное
(не знаю, как это выразить), перспектива открывается нам не
вдаль, а вверх. Во всяком случае, это другая перспектива... То,
что я пишу, могло быть написано только в горах» [7, 497}. Композитор - своего рода медиум, принимающий в себя и передающий людям звуки, несущие в себе глубочайший духовный
смысл, гармонию универсума. Тертерян говорил о «погружении в некое состояние, в котором человек, обладающий особым даром, начинает слышать необратимое - вибрации Земли и Космоса» [цит. по: 5, 224]. В творчестве Тертеряна
ощущаются рудименты древнейших воззрений на сущность
музыки, и применительно к нему можно говорить о современном варианте пифагорейства, видевшего в звуках непосредственное выражение космического закона. Для Тертеряна это
было не книжным знанием, а таинственным проявлением глубинной генетической памяти, знаком высшего предназначения
художника.
Список сочинений
Сценические
произведения
«Огненное кольцо», опера по мотивам поэм и стихов Е. Чаренца и повести Б. Лавренева «Сорок первый» (1967); «Монологи Ричарда III», балет по У. Шекспиру (1979); «Землетрясение в Чили», опера по новелле Г. Клейста (1984).
Для симфонического
оркестра
Симфонии № 1 - 8 (1969,1972,1975,1976,1978,1981,1987,1989); «Родина», вокально-симфонический цикл на стихи О. Шираза (1957); вокально-симфонический цикл на стихи Е. Чаренца (1960).
Камерные сочинения
Соната для виолончели и фортепиано (1956); Струнные квартеты № 1~2
(1963, 1991).
Литература
1. Кушнарев X. С. Вопросы истории и теории армянской монодической
музыки. Л., 1958.
2. На пути духовного единения. Авет Тертерян в кругу друзей. Сборник
статей. Н. Новгород, 2000.
3. Рухкян М. Авет Тертерян. Творчество и жизнь. Ереван, 2002.
4. Савенко С. Авет Тертерян: путь к глубинам звука / / Музыка из бывшего СССР. Вып. 2. М „ 1996.
5. Саркисян С. Армянская музыка в контексте X X века. Исследование.
М., 2002.
6. Тертерян Р. Авет Тертерян. Беседы, исследования, высказывания.
Ереван, 1989.
7. Gerlach Н. Fdnfzig sowjetische Komponisten. Leipzig - Dresden, 1984.
«Динамическая статика»
Гии Канчели
Музыка Гии Канчели (род. 1935) отмечена редким для
рубежа X X - X X I веков единством стиля. Грузинский композитор как бы сразу шагнул в эпоху синтеза, миновав этап эксперимента: сохранил расширенную тональность как связующую нить
между прошлым и настоящим, заставил оркестр, обогащенный
опытом сериализма и сонорики, выразительно произносить
простые темы, добился ощущения многоканального звукового
пространства без использования электроники или необычного
размещения исполнителей.
Важнейшие константы этого стиля - «динамическая
статика», «монтажная драматургия» и «сложная простота» являются гранями единого художественного мироощущения,
в котором острое чувство современности соединено с неразрывностью культурной памяти, опорой на «вечные» гуманистические ценности.
Я Д и н а м и ч е с к а я с т а т и к а . Оксюморон И. Стравинского, не претендовавший на функцию музыковедческого
термина, в 70-е годы трактовался прежде всего как антипод
симфоническому развитию венских классиков и романтиков,
возведенному в догму идеологами соцреализма. Действительно, Канчели нашел собственный принцип формообразования,
основанный на бесконечно изменчивых соотношениях звука
и тишины [см.: 1, 770]. Его тихая и медленная музыка пронизана
колоссальным эмоциональным напряжением, прорывающимся во внезапных «взрывах» tuttifff или в мощных нагнетаниях
к громоподобным кульминациям, в волевых унисонах, то пресекающих, то подстегивающих ход времени, в исступленном
скандировании краткого мотива или одного звука.
* М о н т а ж н а я д р а м а т у р г и я . Произведения Канчели
основаны на развертывании фабулы, не поддающейся однозначным программным расшифровкам. Темы-«персонажи»
нередко выводятся из общего истока, но легко дифференцируются слухом благодаря рельефности интонации, гармонии,
ритма, тщательно выверенному тембровому решению, а также
прямой опоре или аллюзии на жанровый прототип. Однажды
сформировавшись, темы могут усекаться или разрастаться, искажаться и переходить в собственную противоположность, вступать в диалог или в поединок «на выживание», возвращаться
в воспоминаниях... Однако значительная часть жизни образа
протекает «за кадром», в реальной же звуковой картине представлены лишь фрагменты. Подобную технику письма принято
называть монтажной, по аналогии с кинематографом [см., в частности, б, 38~43]. Стоит, однако, отметить, что режиссеры,
с которыми Канчели постоянно работает в театре и кино, услышали «монтажное мышление» уже в его ранних симфонических опусах.
• С л о ж н а я п р о с т о т а . Монтаж фрагментов
в разреженном пространстве тишины рассчитан на творческую
активность восприятия. Сопоставлять несходное, угадывать
недосказанное, предчувствовать следующий шаг и остро реагировать на опровержение собственных ожиданий можно лишь
при опоре на типизированный интонационный фонд эпохи,
в противном случае внутреннему слуху будет не за что «зацепиться». Г. Канчели отбирает из этого фонда простейшие и потому наиболее универсальные модели, возводя их в ранг символов, соотнесенных с целостной картиной мира [см.: 3, 54-57].
Символы кочуют из одного произведения в другое, то обретая
новые смыслы, то, напротив, подаваясь как «автоцитаты». Тем
большее значение придает композитор индивидуализации драматургии и формы. Поэтому при разборе сочинений Канчели
следует искать индивидуальный «ключ» к каждой конкретной
партитуре.
Замедленное течение времени сближает произведения
грузинского композитора с симфонией-медитацией; насыщенность событиями - с симфонией-драмой; стремление к идеалам красоты, добра и света, соединенное с острой болью от
сознания недостижимости этих идеалов в реальной действительности, - с наследием европейского романтизма; в последнее время имя Канчели часто упоминают в ряду представителей «новой религиозности» (вместе со Шнитке, Губайдулиной,
Турецким, Тавенером и Пяртом); нередко пишут также о «новой простоте» или минимализме. Однако отнести эту музыку
к одной стилевой категории невозможно. Пожалуй, к ней
подошел бы термин «эклектика» в положительном смысле —
как у Чайковского, Малера, Шостаковича. Эклектика, которая
в случае творческой удачи становится выражением духа нации
и эпохи через призму сильной художественной индивидуальности.
•••
Центральное место в симфоническом творчестве
Канчели занимают Четвертая, In memoriamdi Michelangelo, удостоенная Государственной премии СССР за 1976 год, Пятая, посвященная памяти родителей, и Шестая, написанная по заказу
лейпцигского оркестра Gewandhaus. Особняком стоит Седьмая,
демонстративно названная «Эпилогом»: с одной стороны, она
вбирает в себя опыт крупных работ в новых жанрах, с другой предвосхищает образный строй ряда произведений 90-х.
А три первые симфонии, сохраняя свою художественную ценность, воспринимаются сегодня как этапы поиска собственного
пути в океане новых технических возможностей, которые внезапно открылись перед отечественными музыкантами в период хрущевской «оттепели».
Для Канчели этот поиск был особенно мучительным по
причине пробелов в профессиональном образовании, которые
лишь отчасти компенсировало пронесенное через всю жизнь
увлечение джазом. Вынужденный многое наверстывать самостоятельно, начинающий композитор открывал для себя почти
одновременно шедевры прошлого и последние изыски зарубежного авангарда. Может быть, еще и поэтому для него не
существовало непреодолимых барьеров между музыкальными школами и стилями, между искусством «высоким» и « т р и виальным» - в лавинообразном потоке информации Канчели
интуитивно отбирал созвучное собственным художественным
устремлениям. Много позднее композитор признает, что важной
путеводной нитью была для него тогда музыка Шостаковича.
За четыре года работы над Первой симфонией процесс
отбора в целом завершается. И хотя в музыкальном языке еще
нетрудно расслышать отголоски наиболее ярких впечатлений
60-х - Стравинский («Весна священная», Симфония в трех
движениях, «Симфония псалмов»), урбанистический Барток
(«Чудесный мандарин»), Хиндемит 30-х, пуантилистическая
техника Веберна, - основные константы стиля вырисовываются достаточно определенно.
Две части. Allegro con fuoco и Largo, переходящие друг
в друга attacca, слиты в нераздельное целое общностькГтематизма и рассредоточенным нарастанием к генеральной
кульминации, которая достигается в Largo. Тем самым уже
в Первой симфонии Канчели дает амбивалентное истолкование звука и тишины, импульсивной энергии деяния и внутреннего сосредоточения, отказываясь от традиционной семантики
Proet Contra [см.: 1, 778].
В начале Largo хроматические изломы основных тем
Allegro постепенно вписываются в гармоническую сферу
расширенного До мажора, готовя строго диатоническую тему,
излагаемую хоралообразными пластами параллельных квинт,
септим и трезвучий. Это первый в музыке Канчели образ
грузинского хорового многоголосия, созданный без привлечения цитат.
В конце 50-х - 60-е годы в Грузии, как и в других республиках бывшего СССР, активно осваивались старинные пласты народной музыки и церковные песнопения. Разумеется,
многие композиторы пытались связать заново открытые сокровища с опытом Бартока, Стравинского, нововенской школы. Для
Канчели этот путь был неприемлем, поскольку он воспринимает
фольклор как наследие «гениальных анонимов» [см., в частности: 4, 352~353,355] и к тому же считает невозможным воспроизводить импровизации народных певцов в симфоническом
оркестре, основанном на европейском темперированном строе.
Поэтому композитор разрабатывает авторские формулы песнопений, как бы сливая «грузинскую» лексику с «общеевропейской». От произведения к произведению эти символы идеального начала становятся все более многообразными.
В Largo Первой симфонии троекратные вторжения
материала Allegro в идеальную сферу увенчиваются диатоническим апофеозом генеральной кульминации, опирающейся на
формулу песнопения и завершаемой утверждением До-мажорной тоники во всем блеске «биг-бендовой» меди (2 т. до ц. 61).
Медленно угасающая кода очень тихо, словно внутренним слухом, повторяет только что отзвучавшую мелодию. Подобное осмысление главных событий формы Канчели в дальнейшем будет использовать неоднократно. В данном случае его
пресекают возвращение десятизвучной лейттемы и глухие
удары басов - отсчет уходящего времени. Сгущающийся мрак
озаряют еще несколько реминисценций — вплоть до взрыва
tutti jff из трех аккордов, спровоцировавшего скандал на премьере в Тбилиси [см.: 2, 50~57].
Две следующие симфонии, продолжая поиски, начатые в Largo, восславляют творческий дух «гениальных анонимов», утверждают изначальное единство человека и природы.
Своеобразным вызовом ревнителям узко понятой национальной
традиции прозвучал подзаголовок Smopozi симфонии «Песнопе-
ния», подсказанный первым в послереволюционной Грузии
сборником имеретино-гурийских церковных напевов (1968).
К моменту завершения «Песнопений» Канчели успел
побывать на «Варшавской осени» и познакомиться с произведениями Д. Лигети, что существенно обогатило его оркестровую палитру. Звенящие в вышине облака флажолетов, трели,
тремоло и глиссандо, вибрация четырех разнотембровых
тарелок создают ощущение беспредельного пространства, заполненного потоками воздуха и света. В этих потоках мотивы
песнопений то концентрируются в относительно протяженные
линии инструментальных хоров (ц. 2, 11), то рассеиваются на
отдельные звуки и аккорды, наделенные индивидуальной
окраской, интенсивностью излучения, силой тяжести и, соответственно, эмоциональным оттенком. Эффект «самопедализации» рождает мелодизированную гармонию, ассоциирующуюся с грузинским народным многоголосием, где терпкие
гроздья диссонансов органично сочетаются с мажоро-минорной светотенью и унисонными кадансами. Соответственно
вертикаль, свободно использующая 12 полутонов, получает не
только диатоническое, но и консонантное обоснование.
Все эти новшества обеспечивают замедленное становление формы без вторжений извне. Деяние как бы постепенно
вызревает в процессе духовного сосредоточения, создавая
эффект «брожения огромной духовной силы, пытающейся разорвать сосуд, в который она заключена» [А. Шнитке. Цит. по: 7,
26]. Унисон оказывается не только точкой отсчета и успокоения
(симфония начинается и завершается звуком /7s), но и акцентным импульсом, вводящим новые музыкальные события, и моментом концентрации энергии (повторение с ускорением и расщеплением в свернутый звукоряд на заключительной стадии
crescendo). А монолит ре-минорной кульминации Adagio выводится из разрастающихся вширь и ввысь мотивов песнопений.
В первом разделе срединного Allegro (ц. 14) в основном сохраняются характер движения и тематический материал
Adagio; во втором (от ц. 22, тот же аккорд, что и в ц. 14) переклички с Allegro предыдущей симфонии более заметны, однако вихревое фугато в уменьшенном ладу опирается на колокольное повторение устоя с, над crescendo к генеральной
кульминации победно реет лейтмотив песнопений, а сама кульминация выливается в звончатый ритуальный пляс на органном пункте До мажора (от ц. 33).
Реприза-кода, начинаясь на полтона ниже экспозиции,
возвращает лишь плавные, поступенно движущиеся темы.
Из этих умиротворенных звучаний рождается пасторальный
наигрыш piccolo над заимствованными из кульминации цепочками параллельных терций (ц. 46). Столь безоблачное, словно
растворяющееся в дымке летнего утра завершение формы для
Канчели уникально.
Конструктивную идею Третьей симфонии (1973) подсказала запись похоронного обряда в Сванетии: пленка запечатлела одновременно звучавшие причет плакальщиц в доме,
у гроба, и волевую песню мужского хора во дворе [см.: 2, 78].
Однако композитор и на сей раз избегает цитат или использования формообразующих принципов фольклора. Синхронное
звучание контрастных пластов он заменяет двумя последовательно экспонируемыми лейттемами, наделяя их функциями
тезиса и антитезиса. Возникающий в полной тишине из глубины неподвижного оркестра и сопровождаемый гулкими ударами
«шаманского»тамтама вокализ народного голоса — чистая мелодия, олицетворение покоя:
1а
Largo ad libitum
Симфония № 3
Voce solo
"am-tam
PPP
Скандированные аккорды меди - чистый ритм, знак
движения:
16
Moderato Maestoso (^=эв)
Единство противоположностей обеспечивает заимствованная из сванского плача «зари» нисходящая пятизвучная
юпевка лидийского мажора.
Выводимая из лапидарных посылок форма также
воссоздает не букву, а дух первоисточника: соединение исступленности языческих бдений с благодатью христианских
таинств. И хотя арсенал выразительных средств по сравнению с
«Песнопениями» расширяется (добавлены, в частности, игра на
клапанах духовых, удары ладонями по мундштукам меди и беззвучное перемещение пальцев левой руки по грифу струнных
инструментов, создающее благодаря большой массе исполнителей эффект виртуального маршеобразного остинато). Третья
более похожа на высеченный в камне барельеф, нежели на красочную фреску. А одухотворение строгих контуров барельефа
лирическим началом создает единство «извечного и одновременно интимного», предопределившее «неизъяснимую красоту симфонии» [5, 24].
Форму произведения организует многоуровневая
система повторов. Ведущая роль отдана заглавной теме. Ее точное повторение в конце симфонии воспринимается как возвращение «на круги своя», разнообразные оркестровые варианты - как поиск истины, простой и непостижимой. Путеводной
нитью в этих поисках становятся вокальные проведения темы
или ее фрагментов в моменты, когда оркестровые голоса нащупывают исходный звукоряд. В середине формы образуется
как бы выключенный из реального времени эпизод завороженного вслушивания в «музыку вечности» (ц. 17-24). И только
к началу репризы-коды (ц. 34) нерастраченная энергия генеральной кульминации временно смещает голос на полтона вверх.
Скандированные аккорды меди задают ритм виртуального остинато и, подобно глашатаям, выкликают все новые микротемы в экспозиционном разделе произведения (до ц. 7).
В отличие от Второй симфонии, они не сводятся в целостные
образы, но монтируются подобно кинематографическим кадрам, многократно возвращаясь в неизменном либо частично
преображенном виде.
«Обрубающий» экспозицию унисон fis (ц. 7) временно освобождает оркестр от оков остинатного ритма, открывая
простор для переосмысления исходных посылок и формирования новых тем, которые по-прежнему группируются вокруг
полюсов покоя и движения. При этом в плавных линиях песнопений слух по инерции продолжает отсчитывать пульс виртуального остинато. А хаотичные вспышки, глиссандирующие
раскачивания мажорных кластеров и нарастания, основанные
на различных ипостасях маршевого ритма, увенчиваются вариантами вокальной лейттемы. В генеральной кульминации
(ц. 33) тезис и антитезис как бы сводятся к общему знаменате-
1И1
лю: из вокальной лейттемы вычленяется скандированное аккордовое повторение начального звука, «разрешаемое» в унисон
секундой ниже. Повторное «разрешение» подменено монтажным переключением в сферу тишины. В репризе-коде скандированные аккорды и виртуальное остинато уже не появляются,
а варианты лирических микротем экспозиции постепенно
стягиваются к унисону с. Когда угаснут последний звук и отголоски ритма (ц. 39), заклинания большого барабана и тамтама - далекое эхо генеральной кульминации - призовут заглавную тему.
Четвертая симфония, сохраняя стройность конструкции, существенно расширяет и обновляет круг образов. Внешний стимул (заказ к 500-летию со дня рождения Микеланджело Буонарроти) счастливым образом совпал с внутренней
потребностью к углублению индивидуального начала и к дальнейшей универсализации звуковых символов, стирающих грани между эпохами и национальными культурами [см.: 2, 92~94].
Подобно двум предыдущим, Четвертая симфония рождается из гулкой тишины, словно затаившейся в ожидании события. Однако на сей раз создается эффект постепенного приближения к настоящему из глубины веков или из дымки
воспоминаний. С этой целью в партитуру введены —
в дополнение к уже привычным трубчатым колоколам - четыре
церковных колокола разного размера (за сценой). Сначала отдаленный звон самого высокого колокола пробуждает эпически
остраненный рефрен двух вторых скрипок с сурдинами. А затем
лавинообразное «колокольное crescendo» с ритмическим дроблением разрешается в мощный унисон с(ц. 2), словно возвещая
о рождении новой жизни.
До мажор, озарявший генеральные кульминации двух
первых симфоний, в Четвертой наделяется символическим значением. Здесь, безусловно, сыграла свою роль давняя традиция западноевропейской музыки, отождествлявшей мажорное
трезвучие со Святой Троицей, а белоклавишную диатонику
с небесным светом. Канчели расширяет круг ассоциаций, воплощая в До мажоре образ нетленной и вместе с тем по-детски
беззащитной красоты, который в бесконечном множестве
вариантов будет представлен в его последующих произведениях. Мелодия флейты (ц. 8), воспаряющая над мягким колыханием разложенных трезвучий и оплетаемая серебристыми
пассажами арфы, челесты и колокольчиков, звучит всего четыре
такта, однако ее предощущение, подготовка, а затем воспоминания о ней, попытки вернуть миг озарения становятся драматургическим стержнем всей формы:
ш
ш
л
JL
Fl. I solo
h
Симфония № 4
Прочность тональной опоры позволяет по-новому
использовать технику монтажа. Композицию Четвертой симфонии можно представить в виде сцепленных кругов, расширяющихся по направлению к генеральной кульминации, а под
конец снова сжимающихся. Внешние круги — пролог и эпилог,
основанные на одном материале и устое д. Главная тональность
утверждается в начале основного раздела (ц. 2) и закрепляется
его заключительным аккордом (4 т. до ц. 38). Расширение кругов обусловлено наплывами на До-мажорную диатонику ладово чужеродных образов, а также нерастраченной энергией неразрешенных или опровергнутых кадансов.
В первом круге формы (ц. 2 - 6 т. до ц. б) безгрешный
свет До-мажорного песнопения флейт, выросшего из «праунисона» с, затмевается «колокольными» повторениями звука и
постепенно крепнущими порывами пассажей. Однако из минорной тени к утраченной тонике тянутся всё новые мелодические побеги, и, наконец, волнообразно восходящая линия песнопения выводит к лейттеме, опевающей До-мажорное
трезвучие (5 т. до ц. 5). Основанная на ритме последних тактов
crescendo колоколов, она становится своеобразным символом
устремленности к совсем, казалось бы, близкой, но почти всегда ускользающей цели. Именно поэтому незатейливый мотив
приобретает столь значительную роль в ключевых драматургических эпизодах - от первой кульминации (ц. 13) до заключительных тактов основного раздела (ц. 37).
С восстановлением До мажора начинается второй круг
формы (6 т. до ц. 6 - ц. 9), где после длительной подготовки
появляется «идеальная» тема. Сначала медлительная поступь
параллельных секст над органным пунктом с намечает ее гармонические и высотные контуры, затем наигрыш челесты над
триольной фигурацией арфы устанавливает ее тембровую ауру
и пространственную «рамку» - органный пункт д у валторны,
дублированный скрипичным флажолетом, а также прочерчивает исходную интонацию - трихорд в восходящем движении
и в обращении.
Темы-предвестники разделены монтажной врезкой со
сдвигом в черноклавишную сферу. Пунктированный ритм марша представлен в трех ипостасях: нисходящий «бемольный»
мотив с crescendo от рр Kfff воплощает одновременно угрозу и
твердость духа; устремленный ввысь «диезный» - дерзкий вызов судьбе и взлет творческих сил; оголенное же проведение
лейтритма у большого барабана и тамтама на фоне долго затухающего унисона /"подобно memento mori.
В следующем круге формы (ц. 9 - 3 т. после ц. 14) из
соединения «диезного» аккорда (ср. 5 т. до ц. 7 и т. 2 после ц. 9)
с триольной фигурацией, которая сопровождала явление «идеальной» темы, возникают синкопированные всплески трехдольного ритма, словно высекающие скрытую в глыбе мрамора статую (см., в частности, т. 5 до и т. 4~5 после ц. 11). А на вершине
первой кульминации «колокольный» вариант лейттемы разложенного трезвучия как бы возвещает звездный миг созидания.
Однако динамическая волна опадает, так и не достигнув апофеоза, и в начале самого протяженного и насыщенного
контрастами круга формы (т. 4 после ц. 14 - ц. 29) из рассеивающихся пассажей кристаллизуется новый вариант триольного
ритма — повторение устоя д, подобное тиканью хронометра.
Над ним возвращается обновленный вариант рефрена скрипок
из пролога, словно отмечая середину земного пути напоминанием о бесконечной повторяемости жизненных циклов.
С этого момента «хронометр» непрерывно пульсирует в фигурационном пласте или во внутреннем слухе (опыт Третьей
симфонии).
Из пульсации вырастает новый лейтмотив, заимствующий у рефрена устой д, а у «идеальной» темы - трихордную
попевку, звучащую здесь преимущественно в нисходящем движении. Темброво-регистровое решение, диссонантный акцент
на синкопе в начале трихордной попевки и метрическая переменность сближают его с народным наигрышем или повествованием сказителя. «Сказовый» лейтмотив способствует превращению триольного остинато в равномерные восьмушки
размера |(1 т. до ц. 16), воспринимаемые как вариант неспешных повторов звука в круге первом. Соответственно возвращаются и звучавшие ранее мотивы, вплоть до пунктированной
темы параллельных секст (ц. 17). Однако следом за нею на призыв фигурации флейт над органным пунктом д выходит не «идеальная» тема, а все тот же «сказовый» лейтмотив, постепенно
тормозящий движение примирительной интонацией жизненного опыта.
Когда же «идеальная» тема, воспользовавшись затишьем, пытается отвоевать утраченные позиции (2т. до ц. 21), на
нее обрушивается соединенная мощь «молота времени» (повторения диатонического ля-минорного кластера у высокого
дерева) и «похоронного шествия» (медь и ударные в ми миноре). Однако наигрыш челесты продолжает звучать в собственном тональном пласте (Фа мажор), как бы возвышая голос до
крика. Непримиримое противостояние трех слоев фактуры разрушает унисонное проведение нисходящего пунктированного
мотива (ср. 6 т. до ц. 23 и т. 6 - 7 перед ц. 7), который вливается
в малиновый перезвон генеральной кульминации (ц. 23~26).
Истоки этого загадочного образа, совмещающего
в себе суетный блеск славы и вдохновенный порыв, скрыты в
синкопированных всплесках трехдольного ритма перед первой
кульминацией. Но именно в генеральной кульминации обнажается их жанровая основа - блестящий вальс. Церковные колокола откликаются из-за кулис трехдольным вариантом ритма заключительных тактов пролога. Вся кульминация основана
на простом повторении этих ритмоформул - в антифонных перекличках и одновременно. Заменяющий очередное solo колоколов «стоп-кадр» (согласно ремарке в партитуре, «дирижер и
оркестранты как бы застывают») заставляет вслушаться в тишину, вибрирующую от отзвуков tuttijff. А в следующем динамическом «провале» (ц. 26) из отзвуков неожиданно выплывает
лучистый До мажор «идеальной темы», которая, кажется, все
это время спокойно струилась в собственном сегменте пространства.
Ударом высокого церковного колокола за сценой
открывается предпоследний круг формы (ц. 29 - т. 7 после
ц. 35) - вариант предыдущего и одновременно реприза-реминисценция с постепенным разложением тем; по традиции, восходящей к бетховенскому «Кориолану», подобное разложение
связывается с приближением смерти. Соответственно, и закрепляемая в ц. 33 основная тональность симфонии представлена в минорном варианте.
Тем не менее последний, наиболее сжатый круг
формы отмечен духом созидания. Из замедленных повторений
звука диад затухающим до-минорным трезвучием кристаллизуется вариант той самой темы песнопения, которая вывела
в первом круге формы к лейтмотиву разложенного трезвучия
(ср. т. 4 после ц. 36-37 и т. 3 - 7 после ц. 4). А истаивание заключительной тоники в «праунисон» сопровождают словно доносящиеся с небес отзвуки фигурации из «идеальной темы»
(До-диез мажор).
В эпилоге рефрен скрипок сопровождают два колокола из четырех да замирающее тиканье хронометра - образ «беспощадного и милосердного времени»1, впервые возникший
в коде Первой симфонии и развиваемый вплоть до написанных на рубеже тысячелетий «Стикса» или «Don't grieve».
Пятая симфония - первое трагическое произведение
Канчели. Тонально и образно конфликтные пласты звукового
пространства сталкиваются уже в начальных тактах. Изложение
простодушной До-мажорной темы клавесина (пример За)
пресекает ля-минорный пассаж струнных и высокого дерева
(пример 36):
Симфония № 5
За
Largo
И
CembX
ш
Ш
(Р) Н
ш
щ
36
Симфония № 5
marcato con fuoco
ррр
Ш
Своеобразной попыткой разрешить конфликт предстает третий пласт, где из лейтмотива восходящей секунды складываются плавные попевки песнопений; в отличие от Четвертой
симфонии, «бемольная» и «диезная» сферы не разграничены,
так что образы смирения и утешения связываются с энгармонически равнозначными тональностями ре-диез / ми-бемоль
минор. Именно в этой тональности прозвучит позднее централь1, Цитата из перефразированного шекспировского текста в своеобразном гимне времени, которым завершается «Стикс».
ная тема симфонии - первый вальс-утешение, вальс-оплакивание в творчестве Канчели.
Предопределенное образным строем укрупнение монтируемых фрагментов сближает форму симфонии с романтической поэмой. За медленным вступлением (до ц. 3), где распавшийся мир словно заново собирается из осколков, следует
трагическое ля-минорное Allegro (смена темпа не указана), или
главная партия. Три строфы своеобразного шествия рока разделены эпизодами затишья, в которых осмысливается произошедшее и нащупывается точка опоры. Четыре такта пауз отделяют Allegro от медленной части, или побочной партии (ц. 14),
где после долгих блужданий обретается вальсовая тема, вобравшая в себя интонационные фрагменты вступительного раздела и тихих эпизодов Allegro.
Третий раздел, предваряемый «темой детства» (2 т. до
ц. 21), а непосредственно начинающийся с гетерофонного плача трех флейт Росо piu mosso, подобен разработке и обрывается на пике нарастания. Варьированная реприза Tempo I (2 т.
после ц. 24) после лаконичного напоминания исходных посылок возвращает вальс в ре миноре, в продолжение которого
вплетен тихий вариант сарабанды. Из синтеза полутоновых стонов «побочной партии» и восходящей секунды «вступления»
вырастает новый образ - Pacato molto (ц. 28) в уменьшенном
ладу, который, в отличие от ранних симфоний, не противопоставлен диатонике. Мучительно трудный подъем приводит к генеральной кульминации, где скрежещущий марш-скерцо внезапно разваливается на куски.
Безрадостная тишина коды (отЗ т. до ц. 30) смонтирована из фрагментов Pacato, тихой сарабанды, вальса и открывавшей Adagio «точечной» темы, которая как бы растерянно
бродит вокруг устоя в поисках выхода. В начале Adagio вариант
выхода предлагала тема песнопения, неожиданно разрешавшаяся в До мажор (ц. 15). За два такта до конца симфонии реминисценция начальных звуков «темы детства» еще раз возвращает исходную тональность, так и не ставшую основной.
Шестая симфония задумывалась как финал своеобразного симфонического макроцикла в творчестве Канчели [см.:
5, 27; 2, 126~127\. С Первой симфонией ее сближает открытость
формы, с тремя последующими - подчеркнуто замедленное
становление экспозиционного раздела и изложение начальной
темы без участия основного состава оркестра, с Пятой - противопоставление относительно протяженных и замкнутых тематических построений как бы недовоплощенным фрагментам,
рассеянным в различных сегментах звукового пространства,
и выделение внутри одночастной формы сквозного развития
крупных разделов, ассоциирующихся с самостоятельными частями цикла2.
Символом звучащей тишины и своеобразным голосом
культурной памяти в Шестой симфонии становится эпиграф
двух альтов, расположенных с противоположных сторон позади оркестра - «так, чтобы оставаться незамеченными публикой» (ремарка в партитуре) - и играющих у подставки, sempre
поп vibrato.
В последний раз фрагмент эпиграфа прозвучит в конце Calmo (4 т. до ц. 17), однако альты останутся связующей нитью повествования. Они найдут новые интонации; их бурдонная педаль будет намечать точки опоры, их тихий голос будет
подпевать многим темам, в том числе по характеру полярно
противоположным эпиграфу и наделенным способностью
к пугающему перерождению.
Предпосылки для подобного перерождения были заложены в предыдущих симфониях, где контрастные образы
выводились из общей ритмической или интонационной основы. Однако только начиная с Шестой симфонии сближение
полярных начал порождает «темы-мутанты», которые - как
подавляющее большинство образов Канчели - далеко не всегда удается однозначно отнести к кругу безусловно положительных или отрицательных.
Первый такой образ возникает сразу после эпиграфа
альтов (ц. 2) и складывается из отрывочных пассажей флейты и
аккордов клавесина, которые как бы безуспешно пытаются продолжить стародавний напев в хаосе современности. В конечном итоге несостоявшаяся тема окажется удержанным противосложением к эпиграфу, однако их совместное проведение в
Marcato (5 т. после ц. 7) более похоже на конфликт, нежели на
диалог прошлого и настоящего: альты невозмутимо и по-прежнему очень тихо ведут свою мелодию среди пронзительных
пассажей и жестких аккордов.
Вторая «тема-мутант» - бесхитростный наигрыш клавесина, которому подпевают солирующие альты (ц. 18):
2. Первую часть формы можно уподобить медленному (как у Шостаковича) Allegro, вторая - Calmo, третья, открывающаяся ре-минорной сарабандой (ц. 17), совмещает черты скерцо и похоронного шествия, финал Marcatissimo furioso (ц. 26) завершается медленной
кодой.
18
[Calmo]
Симфония № б
Cmb.<
Г—Г
Ш
Т
Г
Г — г
• irtrr наг
е
т
Г
Г — ^
Т г
г—г
г—г
Подозрения внушают лишь два обстоятельства: вопервых, шлягероподобный наигрыш опирается на нарочито
сниженную интонацию Calmo, а во-вторых, он вступает на гребне crescendo ре-минорной сарабанды. Поэтому оркестр изгоняет непрошеного гостя негодующими жестами. Отдохнув и
набравшись сил за кулисами траурной процессии, «шлягер»
возвращается неузнаваемо преображенным в начале Marcatissimo
furioso (ц. 26). Настойчивые повторения примитивного мотива, то прорывающиеся к мажорному апофеозу, то упирающиеся в лязг и скрежет бездушного механизма, растаптывают последние остатки тематизма и завершаются кошмарным облаком
почти внемузыкальной звучности, где едва угадывается тоника
ми минора (ц. 38).
Кода Lento molto закрепляет соль-диез минор и тем
самым перекидывает единственно возможную после мировой
катастрофы арку к соль-минорному прологу.
Опера «Музыка для живых», соединившая в себе опыт
симфонического и прикладного творчества Канчели [см.: 2,759197], существенно расширила арсенал художественных средств
и образов, что отразилось не только в произведениях 80-х годов, но и во многих работах зарубежного периода, вплоть до
«Little Imber».
В «Светлой печали», которая написана по заказу лейпцигского оркестра Gewandhaus к 40-летию победы над фашизмом и посвящена памяти детей - жертв войны, важную драма-
F f ^
I
тургическую роль приобретает впервые использованный
в опере монтаж текстов на разных языках 3 . Воплощая общечеловеческую идею произведения (жертв великой трагедии невозможно разделить на «победителей» и «побежденных»), Канчели сначала излагает поэтические фрагменты Галактиона
Табидзе, Гёте и Шекспира в трех вариантных вокальных строфах, разделенных постепенно укрупняющимися репликами оркестра, а затем начинает их комбинировать, добавляя фразу
Пушкина «О, если б голос мой умел сердца тревожить» [см.: 2,
197~211]. При этом образный строй вокальной партии не меняется; сам композитор однажды уподобил ее пению ангелов.
Напротив, оркестр предлагает все новые варианты лейтинтонаций 4 , выводя из них и «наплывы» траурного шествия, и кадансовые формулы, выражающих то смирение, то протест,
и линии песнопений, и образы, ассоциирующиеся со сферой
детства, но как бы надломленные изнутри [см.: 2, 197-211].
Седьмая симфония, написанная за несколько лет до краха СССР по заказу филармонического оркестра из страны, которой также предстояло разделиться на два самостоятельных
государства (ЧССР), воспринимается сегодня как своеобразная
эпитафия иллюзиям поколения «шестидесятников». Иллюзиям,
которые разрушались по мере разложения системы, их породившей, и окончательно развеялись в постсоветскую эру [см.:
2, 227-244].
Последняя симфония Канчели восстанавливает относительное равновесие между сферами «громкой» и «тихой»
музыки, решительно смещенное в пользу тишины, начиная
с «Песнопений». При этом «громкая» музыка подчеркнуто плакатна: расширенный состав меди (по б валторн и труб, 4 тромбона с тубой) с невероятной серьезностью и искренним пафосом скандирует темы, скомбинированные из интонационных
штампов самых разных эпох - от советских массовых песен до
барочных концертов. Чем дальше, тем все более примитивными становятся реплики tuttifff, чтобы в генеральной кульминации раствориться в железной поступи марша, над которой вернется начальная фраза открывшего произведение рефрена
меди и ударных.
3. Канчели убежден, что композиторское прочтение искажает и заглушает музыку поэтического первоисточника. Поэтому он предпочитает свободно комбинировать отдельные фразы или слова, созвучные образному строю конкретного произведения, а также
разрозненные слоги.
4. Полутонового опевания квинты ми минора у солистов и нисходящей фразы гобоя от квинты фа минора.
По-новому решена и сфера тишины, где многочисленные мотивные фрагменты, нередко помеченные ремаркой
Lamento, перетекают друг в друга, неуловимо меняя очертания.
Именно в Седьмой симфонии формируется «экзистенциалистская» манера письма, характерная для произведений Канчели
следующего десятилетия, где монтируются темы не только
контрастные, но и воплощающие оттенки одного образа или состояния.
Дальнейшее развитие получает в «Эпилоге» идея
амбивалентности образных полюсов. Обе До-мажорные темы
(ц. 11 и 17) зловеще искажаются, не успев появиться на свет: первая, «надломленная» расщепленной терцией, превращается
в похоронное шествие, вторая, остраняясь наложениями контрастных пластов, порождает топочущий унисон генеральной
кульминации. Постоянные переходы лейтинтонаций из «громкой» сферы в «тихую» и обратно, подмены знакомых образов
новыми, чередование эпизодов, свободно скользящих по хроматическим полутонам с декларативными утверждениями очередной тоники, - все это нагнетает атмосферу безысходности,
тщетного поиска ориентиров. Медленная и мрачная кода
после долгих блужданий закрепляет ре минор, классическую
тональность реквиемов.
Литургия «Оплаканный ветром», посвященная памяти
музыковеда Гиви Орджоникидзе [см.: 2, 245~265], открывает
период сотрудничества с выдающимися солистами —
Ю. Башметом, М. Ростроповичем, Г. Кремером. Написанные для
них произведения не названы концертами, поскольку здесь раскрывается не столько технический, сколько выразительный потенциал инструментов, их способность отражать тончайшие
движения души. В этом смысле Литургию, несмотря на большой состав, можно рассматривать и как предвестницу «камерного десятилетия», которое продлится до 1999-го. А длинные
певучие линии альта протягивают нить преемственности
от «Музыки для живых» и «Светлой печали» к последующим
сочинениям с участием вокальных партий: сольных и хоровых,
в живом звучании и в записи.
В произведении четыре самостоятельные части; у каждой собственное настроение и свой круг тем, выведенных из
секундового тона. По сравнению с симфониями, здесь решительно преобладает тихая и медленная музыка. Трагическое
начало сосредоточено в открывающем Литургию «смертельном
ударе» фортепиано (с предельным усилением). Все остальное боль от внезапной утраты и взрывы протеста, блуждание по
лабиринтам одиночества и дорогие воспоминания. Преображение лейтинтонаций не искажает их духовную суть, нет и непримиримого конфликта звуковых пластов. И тем не менее солирующему альту удается разорвать круг безысходной скорби.
Ре-минорная Литургия завершается темой утешения в Соль
мажоре, тихим и теплым светом, который оставила в нашем
земном пространстве отлетевшая душа.
Основные сочинения
«Музыка для живых». Опера в 2-х актах. Либретто Р. Стуруа (1982-84/
1999); 7 симфоний (1967, 1970, 1973, 1974, 1977, 1980/1981, 1986/1992); «Светлая
печаль» для солистов, хора мальчиков и оркестра (1985); «Оплаканный ветром».
Литургия для большого оркестра и солирующего альта (1989); «Жизнь без Рождества»: «Утренние молитвы» для камерного оркестра и магнитофонной ленты
(1990); «Дневные молитвы» для 19 инструментов, детского голоса и солирующего кларнета (1991); «Вечерние молитвы» для камерного оркестра и 8 альтов (1991);
«Ночные молитвы» для струнного квартета и магнитофонной ленты (1992; версия
для сопрано-саксофона, струнных и магнитофонной ленты - 1994); «Abii пе
viderem» («Ушел, чтобы не видеть» — лат.) для струнных, альтовой флейты и басгитары (1992); «Lament» для скрипки, женского голоса и оркестра (1994); «Страна цвета печали» для большого оркестра (1994); «Exil» («Изгнание» - нем.) для
сопрано и камерного ансамбля (1994); «Сими» («Струна» - груз.). Безрадостные
размышления для виолончели и оркестра (1995); «...A la duduki» для оркестра
(1995); «Rag-Gidon-Time» для скрипки и фортепиано (1995); «Вместо танго» для
скрипки, бандонеона, фортепиано и контрабаса (1996); «Вальс-бостон» для фортепиано и струнных (1996); «Диплипито» для виолончели, контратенора и камерного оркестра (1997); «In I ' i s t e s s o tempo» для фортепианного квартета (1997);
«В гостях у детства» для гобоя, фортепиано, бас-гитары и струнных (1998);
«And farewell goes out sighing...» («И "прощай" уходит, вздыхая» - Шекспир) для
скрипки, контратенора и оркестра (1999); «Роква» («Пляска» - груз.) для большого оркестра (1999); «Стикс» для альта, смешанного хора и оркестра (1999);
«...AI niente» для оркестра ( 2 0 0 0 ) ; «Егдо» («Следовательно» - лат., 2 0 0 0 ) ;
«Маленькая Данелиада» для скрипки, фортепиано и струнных ( 2 0 0 0 ) ; «Dont
grieve» («Не горюй» - англ.) для баритона и оркестра (2001); «Fingerprints»
(«Отпечатки пальцев» - англ.) для оркестра (2002); «Warzone» («Любовь» - осег.)
для оркестра (2002); «Little Imber» («Маленький Имбер») для солиста, детского
и мужского хоров и камерного ансамбля (2003).
Музыка к кинофильмам
(более 50)
В том числе: «Не горюй!» (1969), «Мимино» (1977), «Кин-дза-дза»
(1986) - режиссер Г. Данелия; «Необыкновенная выставка» (1969), «Голубые горы,
или Неправдоподобная история» (1984) - режиссер Э. Шенгелая.
Музыка к театральным постановкам (около 50)
В том числе: «Кавказский меловой круг» (1975), «Ричард III» (1979), «Царь
Эдип» (1989, 2003), «Гамлет» (1992,1999, 2001, 2004) - режиссер Р. Стуруа.
Литература
1. Барсова И. Музыкальная драматургия Четвертой симфонии Гии
Канчели / / Музыкальный современник. Сб. статей. Вып. 5. М., 1984.
2. Зейфас Н. Песнопения. О музыке Гии Канчели. М., 1991.
3. Зейфас Н. Духовное постоянство: Художественный мир Гии Канчели / / Музыкальная академия. 1993. N21.
4. Интервью с Гией Канчели / / Новая жизнь традиций в советской музыке / Сост. Н. Шахназарова и Г. Головинский. М., 1989.
5. Орджоникидзе Г. Становление: Рапсодия на тему «Гия Канчели» / / Советская музыка. 1976. № 10.
6. Савенко С. Кино и симфония / / Советская музыка 70~80-х годов.
Стиль и стилевые диалоги. ГМПИ им. Гнесиных: Сборник трудов. М.,
1985.
7. Пять лет грузинской музыки (1968-1973). Факты. События. Материалы: Сборник / Сост. Е. Мачавариани. Тбилиси, 1973.
Э. Денисов
и судьбы отечественного
авангардного движения
Красота — одно из самых важных понятий в искусстве. В наше время у многих
композиторов
ощутимо
стремление
к поиску новой красоты. При этом речь
идет не только о красоте
звучания,
которая, конечно, не имеет ничего общего с внешней красивостью. Имеется
в виду красота мысли
приблизительно
в том смысле, в каком она понимается
математиками или как ее понимали Бах
и Веберн.
Эти слова могут служить художественным кредо Эдисона Васильевича Денисова (1929-1996), имя которого стоит
в ряду крупнейших русских композиторов X X века. Денисов был
среди тех, кто открыл новую страницу в истории русской музыки. Его искусство - одна из важных вех нашей музыкальной
культуры.
•••
Эдисон Васильевич Денисов родился 6 апреля 1929 года в Томске в семье радиофизика. Его мать, посылая мужа
в загс, наказала наречь сына православным именем Игорь. Отец
же, страстно увлеченный своей специальностью, втайне отжены
выписал свидетельство о рождении на имя Эдисон в честь американского изобретателя Томаса Эдисона.
Музыкой юноша начал заниматься поздно, в 16 лет.
Инстинктивно он стремился к тому, что делал его отец, и потому поступил на физико-математический факультет Томского
университета. Перед ним открывались перспективы математической науки. Но... его неодолимо тянуло к музыке. И тогда
перед молодым человеком возникла самая серьезная дилемма в жизни - что выбрать: путь математики или путь музыки?
В университете он был на хорошем счету. В музыкальном училище, где Эдисон занимался на фортепианном
отделении параллельно с учебой в университете, он тоже делал большие успехи и завоевал репутацию студента, обладающего незаурядными музыкальными способностями. Тянуло молодого человека и к сочинению. Однако в Томске получить
квалифицированное и авторитетное мнение относительно собственного композиторского дарования было невозможно. И Денисов решается на смелый шаг: он посылает свои сочинения на
суд Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Так началось общение двух русских музыкантов, длившееся почти четверть века.
Получив от маститого автора разрешение, Денисов отправляет
ему свои произведения, написанные самостоятельно во время
учебы в училище. Шостакович не только нашел время ответить
неизвестному юноше из Томска, но и, проявив активный интерес, написал ему письмо с разбором музыки.
Судьба Эдисона Денисова была решена. Между начинающим автором и всемирно известным композитором завязалась переписка. Шостакович неоднократно изъявлял желание «встретиться и пообщаться» со своим сибирским знакомым.
В 1951 году Денисов поступил в Московскую консерваторию
в класс Виссариона Яковлевича Шебалина.
Так начинался его путь композитора-новатора. В 60-е
и 70-е годы в Советском Союзе на этом пути стояло множество
преград. Жадное впитывание опыта, накопленного западноевропейским авангардом, освоение новых техник композиции,
активное стремление заполнить информационный вакуум,
налаживание творческих контактов с выдающимися музыкантами из других стран - Пьером Булезом, Янисом Ксенакисом,
Анри Дютийе, Луиджи Ноно, - все это никак не могло понравиться одиозному «представителю» советского государства - Союзу композиторов СССР. За свою открытую и твердую
новаторскую позицию Денисов был на грани исключения из этого «творческого союза» (что в те времена было равнозначно прекращению композиторской карьеры) 1 , его также отчислили из
состава преподавателей консерватории, правда, через некоторое время по требованию студентов восстановили. С середины
60-х против Денисова была развернута политика преследований, затронувшая многих композиторов его поколения, позво1. Это произошло после публикации в Италии в 1966 г. его статьи «Новая техника — это не мода».
ливших себе пойти против официальной идеологии по пути
Новой музыки. Это был заговор молчания: под различными
предлогами его произведения не включались в программы концертов, их не издавали, не записывали, композитор был «невы-езд-ным». Но Денисов упрямо шел против течения.
Лишь в середине 80-х годов, к тому времени уже всемирно известный автор, Эдисон Денисов обрел официальное признание у себя на родине. Он много ездил по разным
странам на исполнения своих сочинений, давал мастерклассы,
несколько месяцев работал в парижском Институте музыкальных и акустических исследований (1990-1991 ) 2 .
Денисов цементировал деятельность Ассоциации современной музыки 3 , был ее президентом с момента основания
(1990), преподавал, активно участвовал в общественной жизни. Он был настоящим лидером, как назвал его Юрий Каспаров, сформулировав важнейшие составляющие этого явления:
Денисов был впереди тех, кто широко пропагандировал современную русскую музыку и утвердил ее в мире как самобытное
искусство; кто заполнял информационный вакуум России; кто
стремился сформировать в России пространство Новой музыки*.
Думается, лидерство Денисова, его действительно
интенсивнейшая деятельность, направленная на развитие
современной музыки России, на ее пропаганду, — это то, что
в первую очередь и определяет его роль в музыкальной жизни
нашей страны последних четырех десятилетий X X века.
Вокруг Денисова люди объединялись. Конечно, этому
способствовала и его преподавательская деятельность. Важнейший факт: Денисов - едва ли не единственный из поколения
композиторов-шестидесятников, кто создал свою школу. Ситуация эта парадоксальна. Оставшись работать в консерватории
после окончания аспирантуры (1959), Денисов вплоть до
1989 года не преподавал композицию (он вел анализ, инструментовку и чтение партитур). Ему попросту этого не разрешали, боясь, что композитор-«авангардист» вложит в неокрепшие
студенческие головы чего-нибудь не то. Тридцать лет и три года (!) композитору не позволяли вести класс сочинения. И, несмотря на такую ситуацию, многие музыканты именно Денисова
называют своим учителем. Занятия в классе по инструментовке
2. Результатом этой работы стала композиция «На пелене застывшего пруда».
3. Имеется в виду ACM-II, созданная по образцу и подобию Ассоциации современной музыки 20-х гг.
4. Каспаров Ю. Денисов - лидер [3, 74-/9].
M
M
давали начинающим композиторам подчас намного больше,
чем занятия в классе по специальности. Среди таких учеников
Денисова - Дмитрий Смирнов, Сергей Павленко, Владимир
Тарнопольский, Иван Соколов. В 1989 году в консерватории
у Денисова появился первый официальный ученик по композиции - Юрий Каспаров. Профессором же кафедры композиции Московской консерватории Денисов стал лишь в 1992-м,
за 4 года до смерти. Школа Денисова сейчас - это множество
работающих в различных направлениях самобытных музыкантов - его прямых учеников и тех, кто шел по проложенному им
пути («денисовская волна», по определению Ю. Холопова).
В начале 90-х годов по России прокатилась вторая волна эмиграции. И Денисов был одним из немногих русских композиторов мирового масштаба, который не уехал из России.
Из знаменитой «московской троицы» первым уехал Альфред
Шнитке, долго «держалась» София Губайдулина, но затем также перебралась в Германию. Денисов остался. Но судьба
сложилась так, что композитор, бывший родом из глубокой
Сибири, закончил свое земное существование во Франции.
8 июля 1994 года в возрасте 65 лет Денисов попал под
Москвой в страшную автокатастрофу, едва не стоившую ему
жизни. Он был отправлен на лечение в Париж. Крепкий организм сибиряка до некоторой степени позволил преодолеть последствия этого события, но все же здоровье было подорвано.
И в последующие два года парижский военный госпиталь
Бвжен стал для Денисова фактически вторым домом, где он и
скончался 24 ноября 1996 года. Похоронен русский композитор на маленьком кладбище на окраине Парижа.
•••
В сочинениях Денисова - композитора с ярко выраженным индивидуальным
стилем - используются разнообразные современные техники композиции: новотональная,
серийно-додекафонная, различные другие двенадцатитонов
Bbiej^ieTOflbi (уникальный пример - «Плачи», —^музыкальное
воплощение народного погребального обряда в серийной технике), сериализм («Пять историй о господине Кёйнере», «Итальянские песни»), сонорика, микрохроматика, коллаж («Силуэты»), элементы конкретной музыки («Пение птиц» для
подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты, на которой записаны звуки леса). Он обращался к таким областям
новой музыки, как электронная композиция («На пелене
застывшего пруда») и инструментальный театр («Голубая
тетрадь»).
Новые русла творчества Денисова можно систематизировать по художественным исследованиям отдельных элементов музыкальной системы как автономизированных параметров: атомизация звуковысотной структуры, эмансипация
тембра звука, красочности звучания, артикуляции, громкостной
динамики, культивирование пространственных звукофигур.
на основе сонорных «пятен», расширение сферы пропорций
формы за счет «диссонантных» симметрий, аметричных ритмов,
создание индивидуализированных ладовых"струкТурГБёсь
обширный спектр тенденций времени объединяет Денисова
с другими композиторами авангарда. Отличия от них складываются под действием традиций русской музыки и стилевых
предпосылок, выразившихся в благотворном влиянии классиков X X века - Стравинского, Бартока и^Веберна.
Решающее значение для образования стилевого комплекса музыки Денисова имеет духовный облик его личности
и черты художественного характера композитора. К ним относится преобладание лиризма над другими родами музыкального выражения. Лиризм музыки Денисова носит окраску возвышенной созерцательности. Сердцевина такой лирики - образ
абсолютной очищенности и кротости. Одна из ведущих черт
личности Денисова - утонченность письма. Он очень любит
прозрачные, хорошо прослушиваемые звучания.
Музыка Денисова чрезвычайно эмоциональна, ей
свойственны даже крайние состояние экспрессии. Но вместе
с тем при любых перепадах эмоциональности всегда сохраняется взаимосвязь чувственного и рационального. Вопреки
авторским признаниям о влиянии математики и методов математического мышления на его музыку, в действительности
у него нет какого-либо подчинения музыки рациональночисловым, математическим способам мышления. Более того,
Денисову явно свойственна противоположная черта — тенденция к свободе структуры. Здесь проявляются типологические
закономерности славянского музыкального типа. Они сближают Денисова с Мусоргским, Стравинским, чешскими и польскими композиторами X X века.
•••
Кривая пережитой Денисовым стилевой эволюции
в основных чертах обрисовывает несколько этапов: активный
поиск собственного пути в авангардные 60-е годы привел
в 70-е к развитию его индивидуального стиля в этой же
авангардной струе. В конце 70-х годов стиль Денисова достиг
своего пика; в идеально отшлифованном виде он словно
ШШШ
застыл на высшей отметке предельного профессионализма
и яркой личностной интонации. На вершине этого периода,
в 1980 году, появилось одно из лучших его произведений Реквием. Именно с этого знаменательного опуса ведется отсчет
последнему периоду творчества Денисова, охватывающему
приблизительно 16 лет его жизни. Этот период можно определить словом стабилизация, которая отразила одну из ведущих
тенденций композиции нашего времени: тотальный синтез
техник, движение от крайней индивидуализации к устойчивости идиом стиля композитора.
Начав в стилевом ключе традиций Шостаковича (ранний период - до 1959), Денисов сделал крутой поворот в направлении современных течений Новой музыки.
1960-1964 - период становления своего стиля. Главный
путь обновления и высвобождения собственной индивидуальности вел в сторону додекафонии. Поиски шли в разных направлениях: расширение тональности путем полиструктур (Багатели
для фортепиано), сгущение хроматики в фактическую двенадцатитоновость (Соната для флейты и фортепиано). Прорыв
в новую область произошел во Втором струнном квартете.
В 60-е годы Денисов пишет только камерную музыку.
В этой наиболее обширной области егб творчества про
склонность к изяществу письма, прозрачным краскам, смысловой насыщенности каждого голоса, утонченности выражения
мысли, к раскрытию максимальных возможностей каждого
инструмента. В целом это поворот от стандартности исполнительского состава к углублению в его индивидуальные формы:
бас с тремя тромбонами («Песни Катущта»), кларнет, фортепиано и ударные (Ода), гобой, арфа и струнное трио (Романтическая музь/ка), кларнет, тромбон, виолончель и фортепиано
( D5CH). За камерностью жанров стоит обостренность ритмическогсГрисунка, необыкновенное богатство красочности звука,
фантазия и изобретательность в инструментальных комбинациях, в том числе и при традиционном составе инструментов
(Струнное трио).
Первый концепционный опус Денисова, открывающий
центральный период его творчества, - кантата <<Солнце_гтков>>
на слова Г. Мистраль^(1964). Это одно из главных сочинений,
в котором утвердил себя послевоенный русский авангард, кроме того, это также первое сочинение Денисова, прозвучавшее
на Западе. Есть документальное свидетельство того, что
в 1966 году с кантатой познакомился Игорь Стравинский,
отозвавшийся о ней весьма положительно.
Художественная концепция кантаты запечатлела мощный прорыв к искусству, независимому от догм, к свободному
самовыражению, к яркости красок и новизне мысли. Как символ значим здесь образ Солнца. Обращение к солнцу и языческой древности есть одна из традиций русской музыки.
Основная идейная концепция *Солнца инков» сплачивает компоненты отнюдь не однородные по содержанию и направленности. Целое намеренно разнопланово, хотя и едино
по стилю. Денисов отбрасывает в кантате ординарность неоклассической манеры, тематическую схематику формы, жесткость тональных соотношений. Новизна музыкального языка
связана здесь с неортодоксальным использованием^ерийной
техники и подчеркиванием эффектов звучности."
~ ~ В инструментальной Прелюдии (I часть) излагаются
основные элементы музыкальной мысли - широкие мелодические ходы (кларнет и гобой), легкое secco ударных и контрапунктические фоновые фигурки повторяющихся звуков-точек,
легкие вспышки которых постепенно сгущаются. II часть, «Печальный бог», начинается с вокальной кантилены на фоне орнаментов ударных. Четыре куплета сгруппированы попарно:
первая пара в прозрачном пейзажном характере; вторая пара
окрашена «болезненным» глиссандо вибрафона; в тексте говорится об «осеннем боге, без жара, без пенья», у которого
«душа больная», в сердце которого «только шум осенней аллеи». Точки-репетиции составляют единственный материал инструментальной Интермедии (III часть) и выдвигают на первый
план элемент ритма. «Пылающая вершина» над рекой в вокальной IV части, вечернее солнце, кроваво окрашивающее горы
(название части - «Красный вечер»), печальная песня в этот час
наводит на мысль: «Не от моей ли крови вершина заалела?»
Пропасть разверзается в V части: «После бойни ... года слово
МИР рвалось из уст с почти болезненной восторженностью».
Многоточие вместо даты — недвусмысленное предупреждение.
Текст «Проклятое слово» только читается, а музыкально он воплощается инструментальной фантазией V части.
Самый большой контраст в кантате - начало VI части
(вокальной с чтецами, голоса которых записаны на магнитофон). Противоречия не разрешаются, а отодвигаются в сторону
посредством обращения к чистому, наивному детскому восприятию. В простенькой «Песне о пальчике» поется о том, как
устрица откусила у девочки пальчик, который выловил в море
далеком китобой и привез с собой в Гибралтар. Безмятежно
и безразлично ко всему звучит кроткий мотив песни. Очаровательная «первобытная» или «детская» наивность передается
и особой трактовкой серии: звуки ее сегментов (e-c-h, ges-asb, es-des) многократно повторяются. Серия излагается в партии
голоса целых 13 тактов и распределяется на 40 слогов текста.
Отсюда радикальное изменение интонационного строя серии,
приобретающей почти диатонический характер, вроде народной песенки. Однако простота ее обманчива, ибо не может полностью устранить из сознания страшную картину V части с ее
неистовым скандированием инструментального tutti. С этой
раздвоенностью и завершается концепция «Солнца инков».
«Солнце инков». VI часть
3
Ус_три_цапаль_чик
Tamburo
di legno
т
ы
о т . к у _ си-ла,
* Cj* ICXj Р'' 1 17 Cj Ш Р
РГ г г
тут же
мои
ш ш
wjuy
у с . та
лость е . е
PUi-Jbg^
под-ко.си.ла
ш
Компонент «солнечный», «блестящий», «сверкающий»
делает закономерной концовку финала, идейный вывод концепции в VI части - маленькой инструментальной Постлюдии в виде постепенно стихающих острых и светлых красок ударных с тихими журчащими звучаниями и замирающими ударами колокола.
«Итальянские песни» (1964) для сопрано и четырех инструментов на «Итальянские стихи» А. Блока написаны сразу
после кантаты «Солнце инков» и во многом развивают ее композиционные принципы, хотя и отличаются большим эмоциональным аскетизмом. Денисову, по его собственному признанию,
хотелось написать сочинение без каких-либо колористических
эффектов, со сведенной к нулю декоративностью. Это произ-
.1 :
¥1
ведение о Времени, философские размышления о соотношении
бытия и искусства. Четыре"части Цйкла^«Равенн¥»~1^лоренцйя»7«Венёцйя>>, «Успение» - это различные формы Времени.
Стремление к тембровой чистоте, акварельной тонкости звучания проявилось в минимальном выборе инструмент о в ! по одному из каждой группы): флейта, валторна, скрипка
и клавесин. Полифоническая ткань сочинения обусловила и
взаимоотношения голоса с инструментами. Все пять музыкантов равны: нет аккомпанирования, голоса интенсивно контрапунктируют и взаимно дополняют друг друга. А в финале голос
полностью уравнивается с другими инструментами.
В коде звучание вообще исчезает: все исполнители
играют, но ничего не звучит. Музыканты извлекают из своих
инструментов едва уловимые слухом ударные эффекты: шум
клапанов флейты, удары по деке скрипки кончиком смычка,
игра на скрипке пальцами без смычка, игра на клавесине при
отключенных регистрах. Это уже не музыка, а как бы ее символ:
музыка, которую мы не слышим, а видим. Подобный прием
имеет глубокое художественное оправдание - так символически изображается смерть.
~ ~ ""
«Итальянские песни». IV часть (кода)
«Плачи» (1966) для сопрано, фортепиано и ударных на
народные тексты занимают особое место в творчестве Денисова:
это сочинение синтезировало национально-русские тенденции
его ранних опусов (опера «Иван-солдат», Соната для двух
скрипок) и авангардные искания начала 60-х годов. Композиционное решение цикла, представляющего собой музыкальное
воплощение народного погребального обряда, безусловно
ориентировано на опыт «Свадебки» Стравинского. Денисов создал трагическое действо,?1СихологизировагГнароднь1Й обряд,
отразив всю глубину человеческой драмы. В произведении нет
прямых цитат и стилизации, но вокальная партия почвенно связана с глубинным слоем русского фольклора и самым оригинальным его жанром - плачем.
Денисов соединил, казалось бы, несоединимое т народный обряд и серийную технику, не совершая при этом насилия над природбйГмэтёриала. Развитие вокальной интонационности подчинено в первую очередь эмоциональной
выразительности — то экспрессивные повторы, причитания, то
трагические вскрики, «всхлипывания» и наряду с этим - несколько абстрагированная интонация додекафонной интервалики. В разные моменты действа подчеркиваются разные интонационные особенности. Например, трагическое отчаяние и в
результате - усиление распевности или «обессиленная, перегоревшая скорбь» (по выражению А. Шнитке) в конце VI части
(Плач при опускании гроба в могилу).
Оригинально инструментальное решение «Плачей» —
голос сопровождают три группы ударных и фортепиано, которое также трактуется как ударный инструмент (преобладают
игра на струнах и разные ударные эффекты). Партии ударных и
фортепиано создают жутковатый сонорный фон сочинения. Они
переплетаются с голосом певицы, подхватывая и продолжая ее
повествование. В финальной части (до коды) певица поет в сопровождении кпавес - инструмента сухого тембра, звучание
которого напоминает стук гвоздей, заколачиваемых в крышку
гроба. В таинственной, ирреальной, полной загадочных шорохов тишине коды «бессловесный» голос настолько сливается
с окружением, что его не всегда можно отличить от звучания
ударных инструментов (см. пример 3 на с. 379).
«Солнце инков», «Итальянские песни» и «Плачи» образуют в творчестве Денисова своеобразный кантатный цикл из
трех частей, в котором второму опусу отведена роль лирического интермеццо. Эти сочинения - жемчужины камерно-вокальной музыки X X века.
ЕГначэттеТ&^хтодов втворчествеДенисова произошел
поворот к оркестровым жанрам. Первое крупное оркестровое
сочШёниё"-«Живопись» связано с творчеством художника
Бориса Биргера. По словам Денисова, он хотел передать музыкальными средствами манеру письма Биргера, технику работы
3
«Плачи». VI часть (кода)
с цветом, подход к материалу и некоторые общие композиционные принципы. Оркестровая техника пьесы такова, что возникает явная аналогия между звуковыми микстурами в музыке
и смешением определенного типа красок Е~живописи. Тутти
большого оркестра, крупные массивные""звуковые пятна сочетаются с тонкими линиями сольных инструментов. Звучность то
уплотняется, то разрежается. Перед концом пьесы струнные
разделяются на множество партий. И огромная движущаяся
внутри себя звуковая масса (с охватом диапазона более четырех октав) постепенно расползается и исчезает.
Живописная красочность, стремление передать музыкальнь1МЙТред^вами"технику работы с цветом стало индивидуальным свойством .музыкальной образности Денисова и отразилось в других его сочинениях: «Акварель». «Знаки на
белом», «Три картины Пауля Клее».
С начала 70-х годов одно из основных мест в творчестве Денисова занимают концерты. В Т г е р в о К г и з т т х ^
чельном (1972) - Денисов создает оригинальный тип лирического концерта в условиях сонорного стиля. Концертность важнейшее свойство таланта Денисова, и потому концерт становится единственным жанром, в котором композитор работает на протяжении всего творческого пути. Им написаны концерты для фортепиано, скрипки, альта, гобоя, кларнета, гитары,
флейты, также двойные концерты - для флейты и гобоя, фагота и виолончели, двух альтов, флейты и арфы, флейты и кларнета, и один тройной концерт - для флейты, вибрафона и клавесина. В концертах Денисова наблюдается новый подход
к проблеме концертирования, отличающийся от традиционных
признаков этого жанра, - это не соревнование солиста и оркестра, а своеобразные лирические монологи.
Период стабилизации стиля начинается с конца 70-х годов. Однако, пользуясь, в свободном смешении, всеми техническими достижениями музыкальной композиции, Денисов не
повернул назад в сторону различных нео-, ретро- и мини-тенденций, а продолжал осваивать новые богатства музыкальной
экспрессии в сонорном пространстве.
В этот период в музыке Денисова усиливается роль особого мелодического комплекса — интонации EDS, являющейся
его монограммой (музыкальные буквы имени и фамилии
EDiSon DEniSov). С этого времени и вплоть до последних опусов
эта ведущая формула становится «визитной карточкой» стиля
Денисова, окрашивая собой звучание его музыки в целом. Технически этот стиль характеризуется сцеплением полутоновых
фигур типа eds и аналогичных им, образующих всевозможные
мелодические рисунки того же интонационного качества. Экспрессия полутона хорошо согласуется с коренными свойствами стиля Денисова, с его утонченностью выражения, неоромантической возвышенностью тона.
1980 год ознаменован появлением одного из наиболее значительных сочинений Денисова — Реквиема для сопрано, тенора, хора и оркестра. Сложная и разнообразная литературная часть произведения представляет собой соединение
текстов из разных источников, но объединенных общей идеей.
Его поэтическая основа - небольшой цикл стихотворений Франциско Танцера под названием «Реквием», не религиозный по
своему содержанию. Кроме него в сочинении использованы
тексты из католической литургии, Библии и канонического латинского реквиема.
Основная идея Реквиема - взгляд на жизнь человека,
которую Денисов, следуя за мыслью Танцера, рассматривает как
цепь вариаций: первая вариация - это рождение, а последняя
(«исключительная вариация») - смерть.
По жанровым признакам Реквием_Денисова - этспнебольшая оратория. Такую аналогию подтверждают несколько
факторов: имеющаяся в произведении обобщенная сюжетная
канва, несвойственная жанру реквиема, использование арий
и речитативов, то есть характерных ораториальных форм, а также особая функция солистов - сопрано выступает в V части
с настоящей арией, а тенор - это quasi-евангелист.
Наиболее развернутая и сложная по содержанию
и форме V часть цикла («Крест») сама сочетает в себе несколько контрастных разделов со своим характером и тематическим
материалом. С середины финальной части идет собствен но реквием, в котором используются три части канонической латинской заупокойной службы: Requiem aeternam, Confutatis (на
французском языке) и Lux aeterna. «Огненный» звуковой крест
финала, выполненный средствами хора, вписывается в ряд
самых впечатляющих воплощений центрального христианского символа (см. пример 4 на с. 382).
В 80-е годы Денисов осваивает новые для него жанры:
он пишет симфонии (для большого и камерного оркестра) и
театральную музыку (две оперы и балет).
Лирическая драма «Пена дней» по Борису Виану, поставленная в Париже в 1986 году, в наиболее полном виде отразила художественную концепцию Денисова - это история
возвышенной любви, не защищенной от воздействия окружающей «пены дней». Атеистической позиции автора Денисов
противопоставляет положительные идеалы, свет и надежду:
после сюрреалистического окончания романа Виана он вводит
религиозную песню во славу Иисуса Христа.
Роман Виана «Пена дней» писался в тяжелые годы Второй мировой войны и отразил настроения французской интеллигенции тех лет - скептицизм, неверие в жизнь, гротеск, ностальгию по красивому, поэтичному. Некоторые сцены романа
вызывают ассоциации с 1еатром абсурда, приемы которого призваны взорвать воображение читателя, заставить его удивить-
W1 • ¥ ?
ся, вызвать у него наиболее яркие и нестандартные ассоциации. В самом деле - насколько более остро мы воспринимаем
болезнь главной героини Хлои, когда она преподносится не
в будничном значении (туберкулез), а в таком неординарном
преломлении: в легком у девушки растет кувшинка, и лечить
такую болезнь нужно не лекарствами, а цветами, враждебными кувшинке, запах которых должен ее убить. Во время операции из легкого Хлои вырезают цветок длиной три метра. В данном случае кувшинка - своеобразный символ болезни.
Поэтическое видение Виана делает возможным то, что цветок
становится прямой причиной человеческой смерти.
В сравнении с литературным первоисточником, в собственном либретто Денисова наблюдается явный уклон
в сторону лирики. Все внимание автора музыки сконцентрировано на одной главной лирической линии. Сердцевина ее лейтмотив любви, написанный в жанре «высокой лирики»
с пронзительной экспрессией в тихой звучности, медленном
темпе и высоком регистре.
«Пена дней», лейтмотив любви
•м
pp
I
dolcissimo
Щ
По убеждению Денисова, в опере должны быть ведущими текст и вокальная интонация. Неслучайно и требование
композитора переводить текст оперы на язык той страны, где
она будет ставиться.
Оркестровка - своеобразный жанр творчества Денисова, отвечающий его потребности общения с искусством
близких по духу композиторов. Так, большая часть подобных
работ связана с творчеством Шуберта (вальсы) - одного из
трех любимых композиторов Денисова (наряду с Глинкой
и Моцартом).
Логическим продолжением этой линии его творчества
стали два оригинальных опыта по реконструкции и завершению неоконченных произведений других композиторов —
о
оперы Дебюсси «Родриго и Химена» и религиозной драмы
ШуБерта «Лазарь, или Торжество Воскрешения». Работа""эта7
внешне выглядящая как сходная"Гим^т~су[Цественнь1е различия. В опере Дебюсси Денисов восстанавливал потерянные
фрагменты в середине сочинения, незаконченную же религиозную драму Шуберта он был вынужден досочинить до конца.
Подобная задача была абсолютно новой и необычной. Нужно
было найти такое решение, которое продолжило бы мысль Шуберта, при этом развивая музыкальное действие. Выполненная
Денисовым работа - сочинение трети II и всего III акта - сделала его практически соавтором Шуберта.
В написанной Денисовым части оперы есть цитаты из
I действия, сильно измененные и перегармонизованные, но в
целом композитор говорит своим собственным языком. Конечно, стилевой разрыв между началом и окончанием драмы ощущается. Мысль Шуберта оборвалась посередине арии Марты,
он написал лишь ее первую часть (до каданса в H-dur в т. 595).
Денисов перехватил музыкальную мысль Шуберта, написав
середину и репризу.
В <<Лазаре» много любимого денисовского Ре мажора,
тональности, являющейся для него символом «веры и света».
По словам самого композитора, после многих анализов он открыл, что и для Шуберта эта тональность имеет тот же выразительный смысл. Поэтому ослепительный Ре мажор в финале
«Лазаря» - сцене воскрешения - становится выражением главной идеи произведения.
В XX столетии трудно найти аналог подобной работы
Денисова, пример завершения неоконченного произведения
композитора, столь далекого по времени и стилю. Всеохватность, всеисторичность музыкального сознания современного
музыканта сделала возможным возникновение этого своеобразного феномена культуры конца XX века.
«Перед закатом» - так называется последнее сочинение Денисова для альтовой флейты и вибрафона - двух мягкоприглушенных тембров. НазванйёгГьесы символично, оно воспринимается как образ чего-то меркнущего, уходящего,
прощального. Сочетание тембров альтовой флейты и вибрафона создает совершенно особую сонорную ауру. Такой инструментальный состав избирается Денисовым впервые. Альтовая флейта с ее сумрачным тембром вообще ни разу не
использовалась им в качестве сольного инструмента. Вибрафон
же появлялся в его музыке довольно часто. С его струящимся
тембром связана денисовская идея света. Нежно хрупкие
dolcissimo и espressivo, игра полутонов, сонорно-полифоничес-
кие сплетения - эти характерные черты стиля Денисова нашли
здесь полное выражение. Вся изысканность и тонкость интонационного письма данного произведения осуществляется в условиях свободной двенадцатитоновости.
Пьеса «Перед закатом» создана не только перед закатом жизни Денисова, в сумерках конца столетия, но и, как
самим композитором ощущалось, перед закатом целой уходящей эпохи, к которой он духовно принадлежал.
Наряду с музьТкальньТм творчеством Денисов, особенно в 60-е годы, активно занимался музыковедческой деятельностыо. Он автор ряда"исследований,ТГбсШ1Щных современной музыке и композиторской технике. Значение книг и статей
Денисова особенно велико для русского теоретического музыкознания, где несколько десятилетий современное в музыке
фактически находилось под запретом. В его музыкально-научных работах преобладают три близкие темы: вопросы современной музыкальной жизни, теория современной композиции,
композиторы X X века (Дебюсси, Барток, Веберн, Булез, Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Циммерман, Ноно, Даллапиккола). Некоторые музыковедческие идеи Денисова имеют
общее значение как разработка важных понятий теории композиции (серия как единый тематический источник произведения, систематика типов алеаторных структур в зависимости от
роли стабильного и мобильного элемента в сочинении).
•••
Важнейшаядуховная подоснова творчества^Денисо_ва -^чтетррвская ЛУ н
Тпо именй~царя
Петра Великого, связавшего Россию с Западной Европой).
Художник, ощущая себя вполне русским, вместе с тем духовно
сливается с формами западноевропейской культуры. Одно из
проявлений всемирной открытости русской культуры - вживание в звучание иностранного языка: оперы «Пена дней» и «Четыре девушки» в оригинале написаны на французский текст,
кантата «Morgentraum» на немецкий, а Реквием создан на нескольких европейских языках сразу (английском, французском,
немецком). Для Денисова такая открытость - одна из ведущих
примет творчества. В контексте духовной жизни советской России подобная европейскость была отдушиной, позволявшей
художнику не задыхаться в затхлой атмосфере казенных догм
социалистического реализма. Стремление композитора соединиться со всем культурным миром способствует более свободному раскрытию его русско-национальной сущности.
Художественный мир Денисова, как и большинства
современных композиторов, пестрит контрастами. Противоположные полюсы его музыки обрисовывают сферу индивидуальности именно его стиля. Например, наряду с традиционными
вокальными и инструментальными циклами (концерт, соната,
симфония) - необычное произведение «Пение птиц», от зачарованной возвышенности фортепианной пьесы «Знаки на белом» до массовых песен в сочинении для шумового оркестра
«Пароход плывет мимо пристани». Но подобные контрасты, как
и очевидная эволюция стиля, охватываются несомненным его
единством, что прямо происходит из единства его идейной подосновы, каковой является духовный мир композитора. Его общие основы коренятся в определенном мировоззрении, устойчивых принципах творчества, сохраняемых при настойчивости
художественных исканий.
В отличие от нередких во второй половине X X века контркультурных тенденций левого радикализма, творчество Денисова одухотворяется идеей^расоты. По его словам, «музыка
без красоты мысли, без логики ^невозможна». Сам композитор
выдвинул концепционную идею новой красоты в современной
музыке (см. его высказывание в начале главы).
Слияние идеалов красоты, возвышенности, чистоты,
любви в процессе художественной жизнедеятельности приводит в мировоззрении Денисова к наделению искусства теми
свойствами и функциями, которые традиционное религиозное
сознание усматривает в христианско-религиозной духовности.
Музыка, согласно взглядам Денисова, - область художественных, эстетических ценностей, сфера духовной жизни человека,
и не только в общем смысле, но и в специфическом, что связанно с традиционно-русской эстетикой: русское искусство воспринималось и как дело художественное, и окрашивалось также в тона нравственного наставления, подобно религии.
Искусство, таким образом, функционирует как «светская религия», питающая духовную жизнь человека. К области духовной
музыки в этом смысле можно отнести, например, Вариации на
тему канонаХайдна «Tod istein langer Schlaf». Как вклад в процесс возрождения русских традиционных жанров церковнохудожественной музыки следует оценить хор «Свете тихий».
Денисов также - один из создателей нового духовного жднра
в русской музыке: в оратории «Историяжизни и смерти Господа
на'шегойисуса Христа» (1992) на тексты йзТГовЪ'го Завета и правослаёж51Тлйтургии соединены жанры литургии (хоры на церкоШШ:Ш|ВяЖКШтекстБГ) иШссиона (из Евангелия по Матфею).
Сближение искусства-музыки с духовностью в мировоззрении Денисова позволяет связать с этим важную для эстетики композитора идею света. Денисов стремится воплотить
в искусстве положительные идеалы, духовные устои, свет и красоту. То, что музыка сохраняет подобную нравственную функцию, показывает принадлежность Денисова к традиционной
художественной концепции, в частности (и в особенности)
к русской традиции.
Избранные сочинения
Театральная музыка
«Иван-солдат» (по русской народной сказке), опера (1959); «Пена дней»
(по Б. Виану), лирическая драма (1981); «Четыре девушки» (по П. Пикассо), опера
(1986); «Исповедь» (по А. Мюссе), балет (1984).
Вокально-хоровая
музыка
Для солистов, хора и оркестра: Реквием (Ф. Танцер и литургические тексты, 1980); Kyrie (1991); «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа»
(Новый Завет и православная литургия, 1992); «Morgentraum» (Р. Ауслендер, 1993);
Для хора без сопровождения: «Свете тихий» (литургический текст, 1988);
«Приход весны» (А. Фет, 1984); вокальные ансамбли: «Три отрывка из Нового
Завета» (1989); «Осень» (В. Хлебников, 1968); «Легенды подземных вод» (И. Бержере, 1989);
Для голоса и оркестра: «Осенняя песня» (Ш. Бодлер, 1971); «Рождественская звезда» (Б. Пастернак, 1989); для голоса и ансамбля: «Песни Катулла» (1962);
«Солнце инков» (Г. Мистраль, 1964); «Итальянские песни» (А. Блок, 1964); «Пла-
чи» (русские народные тексты, 1966); «Пять историй о господине Кёйнере»
(Б. Брехт, 1966); «Жизнь в красном» (Б. Виан, 1973); для голоса и фортепиано:
Две песни на стихи Ивана Бунина (1970); «Твой облик милый» (А. Пушкин, 1980);
«На снежном костре» (А. Блок, 1981).
Произведения для оркестра
«Живопись» (1970); Две камерные симфонии (1982,1996); Две симфонии для большого оркестра (1987,1996); Партита для скрипки с оркестром (1981);
«Tod ist ein langer Schlaf», вариации на тему канона Гайдна для виолончели с оркестром (1982); инструментальные концерты.
Камерно-инструментальная музыка
«Crescendo е diminuendo» для клавесина и 12 струнных (1965); Три пьесы для виолончели и фортепиано (1967); Три пьесы для фортепиано в четыре руки
(1967); «Романтическая музыка» для гобоя, арфы и струнного трио (1968); «Ода»
для кларнета, фортепиано и ударных (1968); Струнное трио (1969); «DSCH» для
кларнета, тромбона, виолончели и фортепиано (1969); «Силуэты» для флейты,
двух фортепиано и ударных (1969); Фортепианное трио (1971); «Знаки на белом»
для фортепиано (1974); «Es ist genug», вариации на тему хорала Баха для альта и
фортепиано (1984); «Три картины Пауля Клее» для альта и ансамбля (1985); Фортепианный квинтет (1987); Кларнетовый квинтет (1987); «Точки и линии» для двух
фортепиано в восемь рук (1988); Вариации на тему Моцарта для восьми флейт
(1990); Квинтет для четырех саксофонов и фортепиано (1991); «Рождение ритма»
для ударных инструментов (1994); «Женщина и птицы» для фортепиано, струнного квартета и квартета деревянных духовых (1996); «Перед закатом» для альтовой флейты и вибрафона (1996).
Электронная музыка
«Пение птиц» (1969); «На пелене застывшего пруда...» (1991).
Инструментальный театр
«Голубая тетрадь» (А. Введенский, Д. Хармс, 1984); «Пароход плывет
мимо пристани» (1986).
Научные труды
Книги
Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники:
Сб. статей. М., 1986.
Статьи
Додекафония и проблемы современной композиторской техники / /
Музыка и современность. Вып. 6. М., 1969.
Вариации ор. 27 для фортепиано А. Веберна / / Collage 9.1970.
Композиционный процесс и некоторые возможности его формализации при исследовании // Точные методы и музыкальное искусство. Ростов, 1972;
Beitrage zur Musikwissenschaft. 1976. № 4.
Л. Даллапиккола. «Tempus destruendi, tempus aedificandi» для смешанного хора без сопровождения / / Свет. Добро. Вечность. Памяти Эдисона Денисова. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1999.
Два фрагмента из «II canto sospeso» Л. Ноно / / Там же.
Литература
1. Курбатская С„ Холопов Ю. Пьер Булез. Эдисон Денисов: Аналитические очерки. М., 1998.
2. Музыка Эдисона Денисова: Материалы научной конференции, посвященной 65-летию композитора / Ред.-сост. В. Ценова. М., 1995.
3. Пространство Эдисона Денисова: Материалы научной конференции,
посвященной 70-летию композитора / Ред.-сост. В. Ценова. М., 1999.
4. Свет. Добро. Вечность. Памяти Эдисона Денисова. Статьи. Воспоминания. Материалы / Ред.-сост. В. Ценова. М., 1999.
5. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993; Edison Denisov,
Harwood Academic Publishers, 1995.
6. Ценова В. Неизвестный Денисов: Из Записных книжек (1980/81-1986,
1995). М„ 1997.
7. Шульгин Д. Признание Эдисона Денисова: По материалам бесед. М.,
1998.
8. Denisov Е., ArmengaudJ.-P. Entretiens avec Denisov. Un compositeur sous
le regime sovietique. Paris, 1993.
9. Kholopov Yu., Tsenova V. Edison Denisov - the Russian Voice in European
New Music. Berlin, 2002.
САКРАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА
В ЖАНРАХ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
Галина Уствольская
На фоне пестрой и многообразной панорамы современной отечественной музыки искусство Галины Ивановны
Уствольской представляется неким феноменом. В первую очередь, оно поражает своей внутренней цельностью: этот замкнутый, закрытый от всего внешнего мир словно неподвластен
никаким влияниям и ясякогр рода д и ф ф у ^ я м ; он находится в
стороне от общих тенденций, поисков и модных веяний. В нем
ощущается какая-то первозданность, изначальность: это сравнимо с чувством, которое мы испытываем при созерцании древних камней или заброшенных пустошей, забытых временем.
Произведения, написанные Уствольской в 40-70-е годы, лишь в последнее время стали исполняться довольно часто, особенно за рубежом. И - удивительно - сейчас, спустя
десятки лет после их создания, они воспринимаются как неожиданное и яркое открытие, нисколько не утратив своей свежести и актуальности.
Уствольская - художник с оригинальным творческим
почерком. Неординарность, специфичность музыкального языка ее сочинений завораживает. Их звуковая материя - жесткая, остродиссонантная, абсолютно « н е ко м фо ртн аа>ищя_сл у ха_., Вместе с тем мощный гипнотизм, огромное суггестивное
воздействие - вот первое, что моментально чувствуется в музыке Уствольской. Она как будто направлена к неким глубинным слоям нашего сознания и рассчитана не столько на понимание, сколько на интуитивное, изначальное ее постижение.
•••
Галина Ивановна Уствольская родилась и выросла
в Петербурге. С этим городом связана вся ее жизнь. 1940-
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
Галина
Уствольская
1947 годы стали годами учебы в Ленинградской консерватории, затем там же Уствольская заканчивает аспирантуру (19471950). С 1948 года Галина Ивановна ведет класс композиции
в Ленинградском музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова; здесь она проработала без малого 30 лет.
Учителем Уствольской по классу композиции был
Д. Д. Шостакович. Его слова свидетельствуют о высочайшей
оценке, которую он давал искусству своей талантливой ученицы:
«Я верю в то, что творчество Г. Уствольской обретет всемирное
признание тех, кому дорого настоящее творчество» [4, 747].
Но красноречивее всяких слов был, безусловно, факт, что Шостакович в своих сочинениях дважды процитировал тему
из Трио Уствольской: в своем Пятом струнном квартете и в Сюите на стихи Микеланджело (№ 9). Известно, сколь велико было
влияние Шостаковича на творчество отечественных композиторов последующих поколений. И тем более удивительно,
что Уствольская, будучи его ученицей, уже на раннем этапе
творчества была абсолютно самостоятельна в своей музыке
и в образном, и в стилистическом отношении.
Облик композитора окутан некоторой завесой тайны не без участия самой Уствольской, ведущей затворнический
образ жизни, ограничивающейся очень узким кругом общения.
Избегает она всякой публичности и в творчестве - вплоть до
того, что некоторые произведения были предназначены ею
только для закрытого исполнения (например, Вторая симфония). Автор не желает каких-либо публичных обсуждений
своей музыки: «Тот, кто в состоянии судить и анализировать мои
сочинения с теоретической точки зрения, должны это
делать в монологе с самим собой...» [4, 752]. Такая позиция
на самом деле далека от нарочито-демонстративной позы: она
обусловлена самим характером ее искусства - скрытым, внутренним, интроспективным.
Творчество для Галины Уствольской - это беспрестанный, напряженный духовный поиск. Процесс этот очень интенсивен (и доходит порой до крайней, мучительной
исступленности), но абсолютно лишен какой-либо публичности, скрыт от посторонних глаз. Путь Уствольской - без «попутчиков»: «В одиночестве обретаю я саму себя, чем, собственно, и живу» [1, 30]. Ее творчество - то, что мы называем
«одинокий труд души...».
Постоянный поиск вечных этических ориентиров,
высоких духовных идеалов станет причиной прихода автора
к «новой сакральности» (что особенно явственно будет ощущаться, начиная с 70-х годов). Такой поворот не стал неожиданным
ш
ш
или резким - напротив, внутренне он глубоко обоснован.
В каком-то смысле духовные искания Уствольской изначально
носили характер богоискательства (в этом отношении она,
при всей своей самобытности и индивидуальности, - плоть
от плоти русской интеллигенции).
Судя по письмам, высказываниям, разного рода свидетельствам, Г. И. Уствольская - человек очень религиозный.
Вот как описывает она процесс своего творчества: «...Если Господь даст мне возможность что-то сочинить, я это обязательно
сделаю. Моя манера работы существенно отличается от того же
у других композиторов. Я пишу тогда, когда улавливаю милостивое состояние. "Господи, дай мне силы сочинять!" - прошу
я» [4, 757]. Тем не менее сама Уствольская отрицает религиозное содержание своей музыки. «Моя музыка духовна, но не религиозна» [4, 757] — в этих словах читается желание избежать
узко-ортодоксального понимания своего искусства. Действительно, из понятий «религиозное - сакральное - духовное»
(при том, что они зачастую употребляются как синонимы) два
последних представляются все же наиболее широкими и универсальными, и поэтому именно они наиболее точно отражают дух ее искусства.
Вероятно, с сакральным содержанием творчества
Уствольской связана и такая черта ее стиля, как аскетизм. Ее музыке одинаково чужды и чувственная прелесть «светского»
искусства, и благозвучие традиционной церковной музыки.
При этом музыкальное высказывание Уствольской далеко от
умеренности; напротив, чаще всего оно - «на пределе» накала
экспрессии, силы звучания...
Аскетизм же проявляется и в строжайшем отборе
выразительных средств, и в их простоте, порой даже элементарности, «минимальности», и в сосредоточенности на одном
круге образов. Уствольская, при всей необычности ее музыкального языка, все же не стремится к самодовлеющей стилистической оригинальности (что проистекает из ее изначальной
склонности к архетипическому мышлению). Она использует
те знаки, которые трудно было бы истолковать двояко, настолько четкий семантический (а порой и символический) смысл
за ними закрепился.
Количество созданных Уствольской произведений
сравнительно невелико: на этом уровне как будто тоже проявилась намеренная немногословность автора.
Понятие эволюции, в традиционном смысле слова,
по отношению к творчеству Уствольской фактически неприменимо. Стиль ее музыки сложился сразу, уже в ранних
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
\
Галина
Уствольская
сочинениях, и мало изменился в дальнейшем. И хотя мы можем отмечать отдельные процессы: тяготение ко все большей
концентрированности тематизма, одночастности формы и т. п.,
все же стиль Уствольской оставался неизменным и вполне
может быть определим как «моностиль». Это подтверждает
и особый «эзотерический» язык всех ее сочинений, и высокая
степень моноинтонационности.
С другой стороны, некая «линейная» направленность
творческого пути Уствольской тоже существует, и связана она
с использованием религиозного слова. Если ее более ранние
произведения (написанные до 70-х годов) не имеют никаких
словесных текстов и программ, почти целиком принадлежа
жанру «чистой» музыки, то в сочинениях более поздних лет
Уствольская использует и слово. Ее сочинениям 70-х годов,
озаглавленным как Композиция N21, 2 и 3, предпосланы в качестве программных подзаголовков строки из католических
молитв. В последние же четыре (из пяти существующих) симфонии включены уже и произносимые «вслух» молитвенные
тексты. Таким образом, если и говорить в данном случае
об эволюции, то она связана здесь с постепенной кристаллизацией, выходом на поверхность и словесным воплощением
(вербализацией) глубинного, сущностного смысла ее
произведений - их сакрального содержания. Хотя при этом
Уствольская не отказывается от работы в области «чистой»
музыки и в дальнейшем.
Исходя из вышесказанного, возможно наметить три
основных периода в творчестве Уствольской.
• • •
Сочинения первого периода (1946-1964) - это преимущественно инструментальная музыка для различных исполнительских составов, произведения академических инструментальных жанров: Фортепианный концерт, четыре фортепианные
сонаты, цикл прелюдий для фортепиано, Трио, Октет, Скрипичная соната, Большой виолончельный и Скрипичный дуэты.
Именно здесь, в ранних сочинениях, складывается характерный
стиль и основные образы музыки Уствольской.
Октет для 2 гобоев, 4 скрипок, литавр и фортепиано
(1949-1950), с его угрожающей остинатностью, не оставляет
сомнений в характере содержания - характере явно апокалиптическом. Многие фрагменты Октета впечатляют неуклонным
нарастанием звуковой массы, акцентированным вдалбливанием механически повторяющихся интонаций, агрессивно-наступательным тонусом звучания. IV часть (являющаяся по суще-
ству и настоящим финалом цикла, так как V часть - скорее послесловие) - это подлинный разгул дьявольских сил: пронзительная тема бесконечно кружит на фоне мерных глухих
ударов:
Литавры здесь, в IV части, звучат без звуковысотной
фиксации, просто как стук. Именно такая трактовка ударного
инструмента будет использована Уствольской позже в композиции Dies irae.
Напомним, что Октет, равно как и другие вышеупомянутые сочинения раннего периода, не является в строгом смысле программным сочинением. Но использование числовой символики говорит о каком-то дополнительном, скрытом пласте его
содержания. Вокруг числа пять исторически сложился шлейф
апокалиптических толкований (что, вероятно, связано с числом
ран на теле Христа во время распятия). Именно число пять структурирует материал в этом мрачно-экспрессивном сочинении.
Во-первых, сам цикл Октета пятичастен. Во-вторых, символика «пяти» ярко Проявляется в наиболее напряженных или
устрашающих фрагментах Октета: пять раз чередуются удары
и жалобная стонущая интонация в финале, пятикратны удары
фортепиано в грозном шествии III части и т. д.
Встречаются в ранних произведениях Уствольской
и элементы зашифрованной «буквенно-читаемой» символики
(о чем подробнее будет сказано ниже, в связи с Композиция-
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
Галина
Уствольская
ми), которые также могут прояснить скрытый смысл этой
музыки. Но, не останавливаясь сейчас на таких моментах,
отметим главное: не только основные образы и выразительные
приемы, но и многие языковые формулы сложились уже в раннем творчестве Уствольской. То есть именно здесь, на «допрограммном» уровне, происходит формирование музыкального
«словаря» ее сочинений, на котором затем будут базироваться
произведения более поздних лет, содержащие сакральную
программу.
При этом сочинения Уствольской раннего периода ни
в коем случае нельзя воспринимать как подготовительный этап.
Каждое из них художественно самоценно и по своему художественному уровню не уступает более поздним произведениям - Композициям и Симфониям.
• • •
Второй период творчества Уствольской, период
70-х годов, связан с появлением сочинений с сакральной
программой - Композиций N° 1,2,3 (1970-1975). С этого момента поворот автора к «новой сакральности» становится очевидным. Между последним сочинением первого периода и Композициями пролегает б-летний «рубеж молчания» (1964-1970).
Композициям предпосланы подзаголовки, неопубликованные в нотах и раскрытые Уствольской, видимо, позже.
Во всяком случае, они фигурируют в списке ее сочинений,
который составил (руководствуясь авторскими указаниями)
В. Суслин. В вышеназванном списке эти произведения обозначены таким образом: Композиция № 1 - Dona nobis pacem;
№ 2 — Dies irae; N2 3 - Benedictus qui venit. Наличие подзаголовков свидетельствует о моменте присутствия слова. Очевидно, они становятся прямыми носителями сакральной идеи, заключенной в каждом из произведений.
Жанровое обозначение сочинений само по себе
необычно. Уствольская называет их «композициями». С одной
стороны, в этом можно увидеть влияние эстетики «шестидесятничества», которое в знак протеста против советских «содержательных» и «программных» установок поднимало на щит
«чистую» музыку. Но не исключено также, что в таком наименовании своих произведений (включая и неопубликованные
подзаголовки) выразилось нежелание автора обнародовать
скрытое их содержание. Тем не менее внутренняя музыкальная
идея каждой Композиции - это аналог идеи сакральной
(заключенной в подзаголовках). Ею обусловлены почти все
закономерности произведений: от псалмодийной природы
материала, квазихоровых и колокольных звучаний — до особенностей формы и драматургии целого.
По своим инструментальным составам Композиции
Уствольской достаточно неординарны: их невозможно однозначно причислить ни к симфоническому, ни к камерному
вариантам. Небольшое количество инструментов уравновешивается другим качеством: избранные инструменты часто
«оркестровы» по силе звучания. Сама Уствольская считает
определение «камерной музыки» по отношению к ее сочинениям неправомерным: «содержание моих сочинений совершенно исключает слово "камерная". У меня нет "камерной
музыки"...» [4, 151].
Абсолютно нетрадиционен, необычен выбор тембров.
Самые неожиданные тембровые сочетания создают ярко характерный облик Композиций. Но неожиданные - только на первый взгляд. Инструментальный состав каждой Композиции
строго обусловлен логикой воплощения сакральной идеи.
Первая композиция написана для флейты пикколо,
тубы и фортепиано. Признаки инструментального театра, содержащиеся и в гипертрофированной идее концертирования
(конфликтные столкновения солистов в I части), и в совмещении «несовместимых» тембров, и в какой-то новой степени их
персонификации (очень утрированной), в I части Композиции
служат средством материализации зла. Темы и тембры словно
кружат в бесовском хороводе, и эффект их столкновения - не
комедийный, а страшный. Сакральная идея сочинения реализуется как бы от «противного»: от дьявольского гипнотического кружения инструменты приходят к полной гармонии квазихорального звучания в III части. В связи с основной идеей
атмосфера концертирования и инструментального театра во
II и III частях Композиции постепенно «снимается» - как нечто,
принадлежащее лишь внешнему образу.
Партитура следующих двух Композиций еще более
необычна, даже на «вид»: верхний восьмиголосный пласт (восемь контрабасов во Второй композиции, восемь деревянных
духовых в Третьей) очень напоминает хоровую партитуру.
Звучание восьми контрабасов во Второй композиции ассоциируется с хором низких мужских голосов. Огромное динамическое напряжение (от 3 до б forte), в сочетании с глухим тембром, дает в итоге очень специфическое, угрожающее звучание.
Прибегает Уствольская и к весьма неординарному
инструментарию, трактуемому архетипически. Например, роль
ударного инструмента во Второй композиции играют «ящик
из толстой спресованной фанеры» и «молотки деревянные,
fefclrJ
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
Галина
Уствольская
с одной стороны каждого - толстый слой резины». Звук такого
«инструмента» абсолютно не имеет тембровой окраски - это
сухой стук. Возможно, в этом есть какой-то привнесенный,
внемузыкальный смысл. Например, возникают некоторые
ассоциации с таким сакральным инструментом, как било или
клепало, толкование которых отражает апокалиптические представления раннего христианства. Благодаря такому тембровому решению традиционный для Dies irae высокий эмоциональный тонус достигает невероятной, предельной степени.
Еще один участник всех трех сочинений - фортепиано:
здесь преобладает его ударная трактовка, с присущей инструменту в данных произведениях (и в творчестве Уствольской
вообще) семантикой колокольности. Отсюда проистекают
такие особенности, как использование неординарных и крайне изобретательных приемов мануальной техники игры и кластерных звучаний.
Вообще роль участников инструментальных ансамблей
Уствольской обусловлена внутренним содержанием каждого
произведения и «работает» на религиозную идею сочинений.
Здесь трудно привести какой-то прямой аналог. Более всего,
пожалуй, Композиции сопоставимы с сочинениями С. Губайдулиной, которые, начиная с 70-х годов, также соединяют
в себе инструментальную жанровую природу и сакральное
содержание 1 .
У Уствольской носителем идеи каждого сочинения становится уже исходный тематический комплекс, как правило,
многосоставный. Особенно это касается Композиций № 2 и 3.
Например, в Dies irae главная тема (некий «cantus firmus»)
контрапунктически слита с атонально-хроматической «раскачкой» фортепиано и диатонической, двухстопно-скандируемой
(наподобие самой секвенции) темой контрабасов, с ее мертвенным и агрессивным характером (см. пример 2 на с. 398).
Каждый пласт индивидуален и несет свою смысловую
нагрузку. Но из-за практически одновременного звучания,
а также из-за множества внутренних связей они как бы сплетаются в единый клубок. Исходный тематический комплекс
Второй композиции подобен сжатой пружине. Все, что реализуется в дальнейшем, уже заложено в начальном «триединстве»
тем. Нечто подобное можно увидеть и в Третьей композиции.
Многие особенности Композиций являются характерными для стиля Уствольской в целом: полифоническая многослойность, многосоставность и одновременно тезисность
1. Introitus и De Profundis (1978); In croce (1979); Offertorium (1980).
Ш
М
Композиция № 2
jffsf rf sf € Sf sf
espr.
" П
IV
ffftf >f
8 Contrabassi
12
V
espr.
Mrf ff
If sf 4f rf
"
n
П П 6
"
n
sf sf sf
** п п
п п П n
Mrf 4f
sf sf sf sf
Sf
sf sf sf sf
VIII
Ж е »
.
n
JSfs/ sf
espr.
Ящик *
2 молотка
f if sf sf
П
espr.
VII
s
**пп
espr.
** П П
VI
П п П n
6
13
. 12
[НИ-
Piano
Ящик из толстой прессованной фанеры.
Молотки деревянные; с одной стороны каждого толстый слой резины.
Играть очень сухо, коротко, с нажимом.
• !Л;1
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
Галина
Уствольская
тематизма, вариантно-остинатное его развитие и т. п. Но в данных сочинениях их проявление индивидуализируется благодаря наличию упомянутой сакральной идеи. Остановимся подробней на каждом из них.
В Первой композиции, Dona nobis расет («Даруй нам
мир»), как будто в противоречие с подзаголовком, I часть
отнюдь не вызывает ощущения покоя. Здесь нет многосоставного комплекса. Бесконечно кружит аскетичная, странно-угловатая тема:
Композиция №1.1 часть
^=80
sola
™.,v= J,7
J,У
Д
JJJ
*
sf,
7
V
J у
t
J U
,
s f ,
*V
S Sf
i
4 f
'
sf
К
^
У i^U^. h у
Ее нескончаемое остинатное круговращение и отсутствие какого-либо другого интонационного материала (ибо
и вторая тема, появившаяся здесь, — не что иное, как «перевертыш», ее пародийный двойник) способствуют мощной гипнотической силе воздействия, неумолимо нарастающему ощущению дьявольского наваждения. На создание этого образа
«работают» здесь и формообразующие средства: именно его
спецификой обусловлено своеобразное сочетание сонатного
и полифонического принципов. В конце части наваждение достигает какого-то сверхпредела, состояния крайней одержимости.
Постепенный поворот в иную плоскость происходит во
II и III частях. Основная тема II части содержит в себе скрытое
слово: это цитата погласицы «Господи, воззвах к тебе». Акцентированная, почти «речевая» подача каждого звука еще больше усиливает эффект «словесного произнесения». Упорно
скандируемая тубой в низком регистре, на фоне фортепианных
кластеров, напоминающих колокольный набат, тема более всего ассоциируется с Tuba mirum:
^
Ё
4
Напомним, что традиционно тембр меди символизирует идею Бога и Страшного Суда. Таким образом, II часть является смысловой кульминацией всей Композиции. Главная
идея произведения - мольба о покое - воплощена именно
здесь. Но тихое, молитвенно-сосредоточенное настроение воцаряется лишь в III части.
Вся Первая композиция — это медленный и мучительный путь обретения себя, путь от внешнего (как ложного, неистинного) к внутреннему, к обретению внутренней чистоты.
Подобная концепция обусловила абсолютную ненормативность
цикла сочинения. Дуализм образной сферы: противопоставление покоя - наваждению, истинного - неистинному - воплощен не в сонатности I части, а на уровне циклического целого.
Финал играет, скорее, роль послесловия, некоего постскриптума. Свобода решения цикла заключается именно в этой диспропорциональности, несоотносимости частей, в последовательной «регрессии» их масштабов. А целенаправленная
реализация сквозной идеи, следствием которой становится интонационная связанность частей (особенно I и III), и наличие
реминисценций свидетельствуют о сильной тенденции к одночастности. Отключение, отрешение от всего «внешнего», неистинного и обретение душевного «мира» происходит в конце
II части (ц. 53). Сдвиг этот очень внезапен, похож на резкое переключение, возможное лишь ценой невероятного усилия. От
сознания потребовалась максимальная, предельная концентрация, чтобы отсечь от себя все «внешнее». Атмосфера
молитвенного умиротворения, наконец-то воцарившаяся
в III части, - она внутри сознания, замкнувшегося в самом себе.
Интонации I части предстают в финале абсолютно переосмысленными:
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
Галина
Уствольская
5.
Композиция N21. Ill часть
Tuba
12
55 J=50
Piano
0 lLI,.-.
I' «»
*J
p
/?s
,
9
12
№
Щ
>
pp
—
J4J
П
~
espr. sub.
ft
м
^
- T t, -8o
p
^
1,Л
r,
rrtg
pp
-Wi
\r-n
ppp
rs
1IM
"»
4>:
,/
Пройдя момент обращения-переключения, они обретают чистоту звучания. Это - еще один уровень реализации
главной идеи сочинения: через обращение к Богу душа способна освободиться от демонов, обрести первозданную чистоту
и покой.
Вторая композиция, Dies irae («День гнева»), представляется некой суггестией образа Dies irae. Постепенный рост этого страшного, неумолимо надвигающегося, жуткого и какогото гипнотического образа, который постепенно заполняет собой
все пространство, является моноидеей Второй композиции.
Традиционно устрашающий, здесь этот образ настолько действительно страшен, вырастает до такого угрожающего масштаба, что вряд ли можно найти другое Dies irae, превосходящее
по силе экспрессии Вторую композицию Уствольской.
Ощущению нарастающей угрозы способствуют все
компоненты драматургии, формы, музыкального языка. Неуклонный рост образа обусловил главный принцип формообразования - принцип динамической волны, «крещендирующей»
формы. Структура Второй композиции может быть рассмотрена и сквозь призму некой квазимотетной формы: ее принципы
проявляются в «блочном» сцеплении частей, в строфическом
строении «блоков», в постоянном обновлении тематического
материала в каждом «блоке», в контрастно-полифоническом
принципе изложения и т. д. Сочетание мотетного и крещендирующего принципов формообразования отвечает стилистическому
решению Композиции - в неком архаико-экспрессионистском
ключе. Уствольская использует минимальные ритмоинтонационные ресурсы, и эта «минимальность» воспринимается как
нечто первичное, простейшее, архаическое (простейшая псалмодийная попевка, скандированная нисходящая секунда и т. д.).
и
рч
=
Но реально они существуют в таких тембровых и динамических условиях, что экспрессионистская трактовка их становится
очевидной.
Музыка Третьей композиции, Benedictus qui venit
(«Благословен, грядущий»), погружает нас в тихое, молитвенное настроение. Эта музыка воспринимается как некая религиозная медитация, как выход в какие-то иные, высшие сферы
духовного пространства. Подзаголовок «Benedictus qui venit»
(«Благословен, грядущий») символически выражает глубинный
смысл, саму суть этой музыки. Здесь уже нет наваждений и кошмаров. Вся Третья композиция находится как бы за чертой Судного Дня. Сами слова «Benedictus qui venit» обращены в будущее и звучат словно в предчувствии грядущего обновления.
Сосредоточенно-молитвенное состояние знаменует здесь пребывание за некой гранью бытия.
Несмотря на лежащие в основе имманентно-музыкальные закономерности (например, вариантно-остинатное развитие), драматургическая идея сочинения опять-таки служит аналогом идеи сакральной. Прежде всего, здесь можно усмотреть
некий эквивалент молитвенному ритуалу: движение совершается по трем кругам, каждый раз начинаемое «чтецом» (речитация флейты; см. пример б ) и подхватываемое «хором» (хорально-псалмодийная тема фаготов; см. пример 7 на с. 403).
Композиция № 3
рШз
espr. espr,
gEfi
mp imp
#
3jjiD
P
espr.
-c*
p
espr.
non cresc.
^
espr.
It*
mp
У espr.
espr.
Flauti
espr.
(tpgj
P
espr
mp
у espr.
(tp«
.espr.
О
non cresc.
P
P
, espr.
j espr.
P
P
IV
—
P
non cresc.
Ь Ш
j
* Itf ft
mp mp
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
Галина
Уствольская
Таким образом, и по законам построения, и по эмоциональному наполнению Третья композиция - это молитва.
Причем после кульминации следует постепенная «дематериализация» ткани, вплоть до полного ее растворения. Это уже не
молитва, творимая голосом, а нечто запредельное.
Раскрывая истинное содержание Композиций,
Уствольская, кроме программных подзаголовков, использует
также и символы. Как уже говорилось, она нередко трактует
звуки «буквенно»: например, Des для нее - это DEUS (Бог).
Момент переключения в конце II части Композиции № 1 происходит, когда фортепиано тихо и напряженно, как бы по слогам,
произносит слово DEUS (d-e-es). Начальная интонация главной
темы Второй композиции (своеобразного cantus'a firmus'a) два звука g-as, отделенные паузой (пример 2). Если вспомнить
о «буквенной» трактовке звуков, то они аналогичны первым звукам итальянского слова gastigo (наказание). Такая аналогия носит, скорее, гипотетический характер, но она вполне сочетается и с семантикой Dies irae, и с типичной для Уствольской
техникой символизации. Семь раз повторенный в начале
Третьей композиции звук fis, как и фортепианные «удары»
в Октете, явно содержит какой-то привносимый, внемузыкальный смысл. Обилие ремарок вокруг него свидетельствует о повышенном внимании к нему автора (пример 6). Если опять
обратиться к «буквенному» толкованию звуков, то fis —
г г .
*
fistula - значит «труба» (лат.). Можно предположить, что эта
тема связана с символикой семи труб из Апокалипсиса.
Композиции Уствольской созвучны характерным тенденциям первой волны «новой сакральности», проявившейся
в отечественной музыке 7 0 - 8 0 - х годов (это и скрытая программность, и стремление найти выражению сакрального содержания чисто музыкальные эквиваленты). При этом авторское решение отличается нестандартностью. Стилистически
Композиции явно родственны произведениям первого периода, направляя индивидуальный стиль Уствольской в русло формирующейся сверхмузыкальной идеи.
• ••
Вторая волна нового религиозного движения, в связи
с изменившейся в 8 0 - 9 0 - е годы политической и культурной
ситуацией, характеризовалась прямым привлечением сакрального слова в сочинения самых разных жанров. И хотя Уствольская, как уже было сказано выше, сторонилась каких-либо внешних влияний, этот процесс коснулся и ее. Произведения
композитора третьего периода творчества (80-е гг.) — Симфонии № 2, В, 4, 5 - включают в себя звучащие сакральные
тексты: тексты средневековых католических молитв (в русскоязычном переводе).
Всего Г. Уствольской написано пять симфоний. В Первой симфонии (1955) используются стихи Джанни Родари,
повествующие о тяжелом, безрадостном детстве. По признанию
автора, смысл стихов Родари не совсем соответствует замыслу
сочинения; тем не менее звучание детских голосов и эмоциональный тонус стихов несколько компенсируют это несоответствие. Но, в отличие от последующих симфоний, здесь нет открытого обращения к религиозным текстам. Поэтому, несмотря
на стилистическую цельность симфонического творчества Уствольской, Первая симфония здесь рассматриваться не будет.
Подзаголовки Второй, Третьей и Пятой симфоний
отражают содержание словесного текста. Вторая симфония называется «Истинная, Вечная Благость», Третья — «Иисусе, Мессия, спаси нас». Пятая — Amen. Четвертая симфония не имеет
подзаголовка, но обозначена автором как «симфония-молитва». Тексты симфоний были взяты из одного источника —
сборника «Памятники средневековой латинской литературы
X - X I I веков» и принадлежат перу одного автора — Германа
Контрактуса (Hermannus Contractus), графа Верингенского
из Рейхенау. Используя тексты не канонизированные, а поэтические, Уствольская стремится избежать узкоортодоксального
их понимания. Обращение Уствольской к средневековому
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
Галина
Уствольская
источнику наверняка связано с попыткой апелляции к средневековому архетипу сознания - как первичной модели сознания религиозного. Истовость и несомненность веры, мрачный
аскетизм и порождаемые им страшные видения [3, 357] - все
это напрямую перекликается с духовным пространством сочинений Г. Уствольской.
Во всех четырех симфониях Уствольской содержание
вербализовано, но роль слова индивидуальна в каждом произведении. Так, в Четвертой и Пятой симфониях словесный текст
появляется на протяжении всего произведения. Во Второй
и Третьей симфониях, где особенно сильны апокалиптические
мотивы, молитвенное слово появляется в переломный момент
драматургического развития. Обладая сгущенной экспрессией
и огромной суггестивной силой, музыка этих двух симфоний
внушает не молитву, а некий ужасающий образ, и сакральное
слово - это нечто ему противостоящее, иной духовный полюс.
Таким образом, реализуется изначальный смысл и предназначение молитвы - как средства преодоления зла.
Слово пропевается лишь в Четвертой симфонии (да
и то не во всех разделах: есть фрагменты, где его произнесение
напоминает манеру Sprechstimme). В остальных текст произносится — выразительно, немного нараспев, но без интонационного пропевания. Следовательно, перед нами - та разновидность литургического синтеза, где слово и музыка как бы
контрапунктируют друг другу. Корни такого синтеза кроются
в изначальной модели молитвенного ритуала, включающего
произносимое подобным образам слово.
Вокально-хоровой генезис, минуя уровень canto (голоса), проявляет себя в инструментальных составах. Деревянные и медные духовые инструменты (а также пять контрабасов
Симфонии № 3 - их звучание, напоминая хор низких мужских
голосов, в подобном ключе уже использовалось в композиции
Dies irae) образуют «квазихоровой» пласт в Симфониях № 2 и 3.
Все названные группы представляют собой некие «ультратембры» - то есть утолщенные тембры.
Противоположный тембровый полюс представляют
собой ударные инструменты. Их семантика используется и
в традиционном ключе: соло ударной группы подчас создает
«натуральный» эффект преисподней. Кроме того, усиление
медной и ударной групп, использование солирующих тембров
тромбона и тубы способствует обострению апокалиптического
нерва звучания. Во всех симфониях, кроме Пятой, используется также фортепиано - его ударный, колокольный тембр
(подобная трактовка уже имела место в Композициях).
Две последние симфонии более камерны по своим
составам - это, скорее, ансамбли. «Ультратембров» нет, каждый инструмент выступает как солист. Но расслоение на те же
два пласта («вокальный» и « к о л о к о л ь н о - у д а р н ы й » ) попрежнему налицо. Добавим, что солирующая труба в Четвертой симфонии также имеет сакральную семантику: звук трубы
неоднократно упоминается в текстах Псалтири, которые истолковывались как пророчества о пришествии Мессии.
В целом можно отметить, что, как и в Композициях,
архетипическое мышление Уствольской проецируется в Симфониях на уровень инструментария. Кроме того, для автора
важна еще и стереофоническая сторона звучания: к партитурам
Третьей и Четвертой симфоний прилагаются схемы желательного расположения инструментов.
Сравнивая между собой Композиции и Симфонии,
можно отметить, что Композиции более индивидуальны
(относительно друг друга) по своим концепциям и драматургическим закономерностям. Симфонии же представляют собой
вариантное прочтение, по сути, одной образно-языковой, драматургической и жанровой модели. Внутреннее развитие в симфониях основано на взаимодействии вариантно-строфических
и полифонических закономерностей с остинатностью и принципом динамической волны. Налицо и некоторая деиндивидуализация тематизма, проявляющаяся в интонационной общности симфоний. Можно сказать, что в своей опоре на единые
закономерности Симфонии более «каноничны» - сравнительно с Композициями. Канон выступает в них в роли некого выработанного автором стереотипа. Имеется в виду, конечно,
канон не общепринятый, а «внутристилевой», созданный самим
композитором (хотя и опирающийся на религиозную идею).
Примечательно, что моностилистические и монодраматургические тенденции, позволяющие говорить о творчестве канонического типа, характерны ныне и для некоторых других «сакральных» авторов, подчас довольно близко соприкасающихся
с каноном церковной музыки. Таковы, например, сочинения
А. Пярта или В. Мартынова, демонстрирующие минималистскую
манеру письма. Уствольскую же отличает иной тип мышления
и, соответственно, иная мера каноничности. Но эта мера все же
присутствует, и Симфонии демонстрируют ее на разных уровнях, развивая и обобщая те образно-стилевые установки, которые наметились еще в Композициях.
Итак, от опосредованного воплощения сакрального
содержания в чисто инструментальных сочинениях Уствольская
приходит к методу, в чем-то близкому самому сакральному
ритуалу. Драматургическое и стилистическое сходство симфо-
*
г
«т-«
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
Галина
Уствольская
ний обусловлено именно таким их генезисом. Симфонии Уствольской представляют собой беспрецедентный вариант жанрового решения. Апеллирование к внемузыкальным смыслам,
к звучащему слову неизбежно влечет за собой возможность
выхода за рамки жанра и создает почву для возникновения
некоего жанрового гибрида. Здесь происходит соединение не
просто разных музыкальных жанров: синтезируются элементы
чисто музыкальной композиции и храмовой службы как таковой, не препарированной в какой-либо литургический музыкальный жанр типа мессы или реквиема. Несмотря на присутствие партии canto, сочинения Уствольской непохожи на
имеющиеся образцы «вокальной симфонии». Здесь почти нет
распетого слова. Внедрение декламационного элемента - самое поверхностное, но вместе с тем и самое ощутимое свидетельство наличия гибрида. Можно сказать, что симфонии Уствольской выходят за рамки собственно музыки, совершая
выход в надмузыкальное, в ритуал.
• ••
Чтобы высветить Композиции и Симфонии в контексте
всего творчества Уствольской, нельзя не затронуть двух последних (не считая Пятой симфонии) произведений автора - ее
Пятой и Шестой фортепианных сонат (1986, 1988).
Фортепианная соната является неким «сквозным» жанром творчества композитора (шесть сонат охватывают более
чем сорокалетний период, с 1947 по 1988 гг.). Первые четыре
сонаты, появившиеся на свет еще до1957 года (включительно),
от последних двух отделяет огромный участок творчества, включающий в себя «сакральные циклы» Композиций и Симфоний.
При общей тенденции искусства Уствольской ко все большей
конкретизации и вербализации главной идеи (что привело
впоследствии к возникновению программности и включению
словесных текстов), ее непрограммные фортепианные сонаты
до конца сохраняют чистоту жанра.
Музыкальный язык последних двух сонат, пожалуй, не
менее символически насыщен, чем язык Композиций. Новое
качество их, по сравнению с Композициями, состоит не в наличии формул или символов - оно кроется в самом соотношении идеи ритуала с академическим и «невербальным» инструментальным жанром. Пятая и Шестая сонаты производят
впечатление ритуала именно благодаря своей гипнотизирующей статичности (несмотря на острейший накал экспрессии),
исступленно-остинатному повторению одного и того же звука
или кластера. Например, одночастная Пятая соната во всех своихдесяти «движениях» (разделах) беспрерывно повторяет один
и тот же звук - Des (DEUS - Бог): с него все начинается, «о нем»
и вокруг него - весь процесс развития, им же все и завершается. Это - единственный «персонаж» здесь, или - единственное «слово», бесконечно повторяемое как некое заклинание.
Последние две сонаты - свидетельство того, что и на
позднем этапе творчества Уствольская не отказывается от возможности «невербального» выражения. Но, оставаясь в рамках «чистой музыки», Уствольская ищет нечто уже «вне» и «над»
искусством, способное вместить и донести до слушателя переживаемое автором экстатическое состояние, состояние молитвенного исступления, мучительного в своем эмоциональном
«пределе». «Предельными» и даже «запредельными» становятся средства выражения. Кульминация Пятой сонаты, приходящаяся на пятую (к вопросу о числовой символике) часть, решена следующим образом: это один и тот же кластер,
ударяемый 144 раза. Раздел снабжен ремаркой: «Четыре пальца левой руки согнуты, первый палец свободен. Удар косточками пальцев должен быть слышен». А. Гнатенко справедливо
пишет о том, что такой акт исполнения вызывает не что иное,
как реальную физическую боль пианиста, а слушателю передается визуальное слуховое переживание этой боли. «В известном смысле физическая боль, несомая этой музыкой, - еще
и некий порог "обнаженности", некий "жест отчаяния", означающий абсолютную исчерпанность доступных автору средств слишком малых для того, чтобы в полной мере реализовать
желаемое. Создается иллюзия "конца музыки", "смерти музыки", когда композитор нашел, казалось бы, формулу предельной концентрации самовыражения, но и она недостаточна,
отсюда - многократность повтора вплоть до физической
боли - в условиях экстремальной громкости, артикуляции,
диссонантности...» [2, 26].
Таким образом, возврат Уствольской к непрограммной
музыке был не столько возвратом, сколько, может быть, поиском еще одного пути воплощения сакральной идеи - пути
невербального, но находящегося уже на грани искусства
и неискусства.
•••
Очевиден параллелизм творческих поисков Уствольской и общих тенденций нового религиозного движения в отечественной музыке (где Композиции соответствуют основным
устремлениям его первой волны, а Симфонии - второй). Тем
не менее путь Уствольской внутри sacra art - свой, особый,
индивидуальный, найденный раньше других. Яркое стилистическое своеобразие произведений Уствольской, жесткость
Сакральная символика
в жанрах
и нструментал ь ного
творчества
Галина
Уствольская
и диссонантность их звуковой материи (противоречащие традиционным представлениям о благозвучии и стилевой нейтральности церковной музыки), внешнее несоответствие литургическому канону позволяют ставить их вне понятий церковной
или паралитургической музыки. Тем не менее сама Уствольская
говорит, что хотела бы слышать свои сочинения звучащими
в церкви: «...лучше всего они звучали бы в храме, без музыковедческих предисловий и анализов. В концертном зале, то есть
в светском окружении, звучат они иначе...» [4,750]. Вероятно,
поэтому они больше вписываются в храмовое пространство западных церквей, где существует давняя традиция исполнения
новых произведений и где они зачастую и звучат в рамках
фестивалей современного творчества.
Список сочинений
Концерт для фортепиано, струнного оркестра и литавр (1946); Соната
для виолончели и фортепиано (1946); Первая соната для фортепиано (1947); «Сон
Степана Разина». Былина для баса и симфонического оркестра (1948); Трио для
кларнета, скрипки и фортепиано (1949); Октет для двух гобоев, четырех скрипок,
литавр и фортепиано (1949—1950); Вторая соната для фортепиано (1951); Симфониетта (1951); Третья соната для фортепиано (1952); Соната для скрипки и фортепиано (1952); Сюита «Болдинская осень» (1952); Двенадцать прелюдий для
фортепиано (1953); Первая симфония для большого оркестра и двух солистовмальчиков. Текст Дж. Родари (1955); Четвертая соната для фортепиано (1957);
Большой дуэт для виолончели и фортепиано (1959); Дуэт для скрипки и фортепиано (1964); Композиция N2 1. Dona nobis pacem для флейты пикколо, тубы и
фортепиано (1970-1971); Композиция N2 2. Dies irae для восьми контрабасов,
ударных и фортепиано (1972-1973); Композиция № 3. Benedictus, qui venit для
четырех флейт, четырех фаготов и фортепиано (1974-1975); Вторая симфония
«Истинная, Вечная Благость» для оркестра и голоса соло. Текст Г. Контрактуса (1979);
Третья симфония «Иисусе Мессия, спаси нас!» для духовых, ударных, контрабаса,
чтеца и фортепиано. Текст Г. Контрактуса (1983); Четвертая симфония «Молитва»
для контральто, трубы, фортепиано и тамтама. Текст Г. Контрактуса (1985-1987);
Пятая соната для фортепиано (1986); Шестая соната для фортепиано (1988); Пятая
симфония Amen для скрипки, гобоя, трубы, тубы, ударных и солиста (1989-1990).
Литература
1. Гладкова О. Галина Уствольская: музыка как наваждение. СПб., 1999.
2. Гнатенко А. Искусство как ритуал (размышления о феномене Галины
Уствольской) / / Музыкальная академия. 1995. N9 4 - 5 .
3. Гуревич А. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
4. Суслин В. Музыка духовной независимости: Галина Уствольская / /
Музыка из бывшего СССР. Вып. 2. М., 1996.
София Губайдулина
Музыка X X века обладает символичностью, невиданной в истории музыки. В_этом выразился и интеллектуализм
данной эпохи^и использование религиозной символики.
София Губайдулина мыслит в музыке и философски, и религиозно, и природно-космически, при этом - и рационалистически точно, вплоть до тщательных цифровых вычислений, но
с неизменным доверием художественной интуиции. Происходящая из русско-татарской семьи, крещеная в православную
веру во взрослом возрасте (1970), Губайдулина никогда не
замыкалась в рамках одной конфессии и всю жизнь искала
общих основ между разными религиями, также и философскими учениями, западными и восточными. Близкое себе она
находила и в антропософии Р. Штайнера, а на Востоке — в даосизме и конфуцианстве. Религия для нее - не способ отъединения, а путь к всеобщей связи людей. «Я религиозный православный человек и религию понимаю буквально, как re-ligio восстановление связи, восстановление legato жизни. Жизнь
разрывает человека на части. Он должен восстанавливать свою
целостность - это и есть религия. Помимо духовного^восстановления нет никакой более_серьезной причины _для
сочинения музыки» [8, 286]. Естественно, что наиболее близкими для нее были образы и символы христианской религии,
где она глубоко переживала общечеловеческие идеи жертвы,
мук, искупления за грехи и духовного преображенш. По отношению к России она особенно подчеркивала в религии переживание боли: «Боль - реальность русской истории. Русский
человек с древнейших времен особенно глубоко осознает эту
реальность. Необходимость преодолевать боль отразилась
и на характере веры. Боль - это мера веры, способ максимально приблизиться к страданиям Христа» [8, 65].
Для Губайдулиной понятие символа вполне осознанно: «Символ есть откровение высшей реальности - проекция
многомерного смысла на пространство с меньшим количеством
измерений. Множество становится единством» [ 8 7 6 4 ] .
Но символ у нее не ведет к одноплановости какого-либо сюжета, сохраняя собственно музыкальную обобщенность. Поэтому
Губайдулина предпочитает жанры не сценические (нет опер,
балеты - только ранние), а предназначенные для концерта, особенно инструментальные. Символ не отнимает у музыки непосредственной выразительности - наоборот, делает ее особенно яркой и целенаправленной. В этом, отношен и и Губайдулина
как бы следует И. С. Баху, которого называет одним из своих
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
София Губайдулина
богож. В ее произведениях используется множество самых разных символов, кроющихся в тембрах, способах звукоизвлечения, ладах, числах, названиях произведений, даже жестах и
цветах. И самые значимые в них - символы сакральные, носители истин великих духовных книг человечества.
София Асгатовна Губайдулина родилась 24 октября
1931 года в г. Чистополь бывшей Татарской АССР (ныне Татарстан, Российская Федерация). В 1932 году семья переехала
в Казань. Родители не были музыкантами, но София обнаружила тяготение к музыке с раннего возраста. Музыкальную школу, музыкальное училище и консерваторию она окончила
в Казани, получив высшее образование как пианистка (1954).
В 1954 году Губайдулина поступила на теоретико-композиторский факультет Московской консерватории, в класс композиции, сначала к Ю. Шапорину, потом к Н. Пейко. В 1957 году
создала вокальный цикл «Фацелия» на слова М. Пришвина;
с которого начала отсчет своих опусов. При окончании консерватории в 1959 году ее поддержал Д ; .Шосгакович^, В том же
году она поступила в аспирантуру к В. Шебалину, окончив ее
в 1963-м. Стала свободным художником, добывая средства
к существованию написанием киномузыки (всего - около
25 кинолент, включая мультфильм «Маугли», 1971, и «Чучело»
режиссера Р. Быкова, 1983).
Первым произведением ее индивидуального стиля
стали «Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов» (1965). Интерес Губайдулиной к философий"и колориту Востока проявился в двух кантатах: «Ночь в Мемфисе» на
тексты из древнеегипетской лирики и «Рубайят» на стихи Хагани, Хафиза и Хайяма (1968 и 1969). В1969-1970 годах она занималась в Московской экспериментальной студии электронной музыки, где написала единственную электронную пьесу
« Vivente — поп vivente» («Живое - неживое», 1970).
В некоторых сочинениях 70-х годов символика не носила религиозной окраски. Так, в «Часе души» (концерте
для ударника, оркестра и солирующей певицы на стихи М. Цветаевой, 1976) пародийные цитаты («Веселый ветер» И. Дунаевского, одесская песенка «Цыпленокжареный», вальс «Амурские
волны» и др.) служат символами сниженного пласта жизни.
В 70-е годы у Губайдулиной появляется крупный
замысел мессы проприй (Интроит, Гоадуал, Аллелуйя, Офферторий, Коммунио — месса с изменяемым текстом Стечение
литургического года, в отличие от мессы ординарий с неизменными текстами), из отдельных инструментальных сочинений.
шшшш
Актуальность мессы композитор представляла философски:
«Форма концерта сложилась в прошлом как жест героя-солиста, противопоставляющего себя массе. В нашем веке эта поза
героя мне кажется неуместной. Скорее, мне хотелось бы видеть
в солисте человека, который переступил порог храма» [8, 75].
Этими сочинениями, созданными в разное время (но не
по каноническому порядку мессы), стали: Интроит—
Introitus,
концерт для фортепиано с оркестром, Градуал ~ «Ступени»
для оркестра и «Из Часослова» для виолончели, оркестра
и мужского хора, Аллвлуйя — «Аллилуия» для хора, солистов,
оркестра, Офферторий
- Offertorium, концерт для скрипки
с оркестром, Коммунио - Detto II для виолончели и ансамбля
инструментов. Позже осуществилась и идея мессы ординарий
из пяти частей - в одном произведении: «Радуйся!» для скрипки и виолончели. К ним примкнули «Deprofundus»,
«Семь
слов»
и другие сочинения, содержащие религиозные символы. На границе тысячелетий композитор создала монументальные пассивны - «Страсти по Иоанну» для солистов, двух хоров, органа
и оркестра (2000).
«Ступени» (1972/1986/1992, соотнесенные с Градуалом,
исполняемым диаконом на ступенях амвона, in gradibus) —
одночастное сочинение для симфонического оркестра из 7 разделов. Число 7 - сакральный символ: 7 дней Творенья, 7 небес
рая, 7 дней недели, 7 слов Христа, 7 хлебов и т. д. У Губайдулиной семичастность (цикла) встречалась в кантате «Ночь в Мемфисе», позднее - в «Семи словах» и «Посвящении Т. С. Элиоту»; в Концерте для фагота и Perception участвуют 7 струнных
инструментов, в сочинении «На краю пропасти» - 7 виолончелей, а в Четвертом квартете предусмотрено 7 цветов [см. подробнее: 8, 175-177].
DettoII (букв, «сказанное») для виолончели и ансамбля
инструментов (1972) — род концерта с участием камерного
состава, называемого «оркестр солистов». Соотношение
между солистом и ансамблем - как бы пастор и паства. Их взаимодействие претерпевает несколько стадий: от отчуждения
к пониманию со стороны массы, потом - к пониманию со стороны проповедника.
Introitus, концерт для фортепиано и камерного оркестра (1978), одночастен. Интроит в католической службе составляет вступительную часть мессы. Отсюда — недейственный,
размышляюще-сосредоточенный характер музыки. Фортепиано не противопоставлено оркестру, а трактовано скорее как один
из солирующих инструментов. Терцовая молитвенная тема фор-
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
София Губайдулина
тепиано (в басу) окутана дымкой обертонов, будто звучит
в условиях храма, со множеством отражений от стен и арок.
Особая символика придана ладовому развитию оркестровой
темы. Ее «молитвенная полевка» проходит следующие четыре
стадии развития: микрохроматическую, наиболее чувственную
(оборот fatt-fa^-sol, у флейты), хроматическую, экспрессивную
(f-fis-g, у виолончели, ц. 12), диатоническую, с равновесием
напряжения и спокойствия (e-fis-g, у фагота, ц. 25) и пентатоническую, аскетически-духовную (e-fis-a, у фортепиано,
2 т. до ц. 71).
Deprofundis («Из глубины», 1978) - одночастная пьеса
для баяна соло в исполнительской редакции Ф. Липса. Баян,
этот популярный русский народный инструмент, трактован Губайдулиной как академический, близкий органу, и авангардный, на котором открыты новые возможности - глиссандо,
дыхание мехов. Название пьесы (по-латыни) идет от известнейшего общехристианского псалма № 129 «Из глубины взываю к
Тебе, Господи», с подзаголовком «Песнь восхождения». Псалом не служит программой для музыки, но в ней нашли отражение и состояние страдающего человека, и его упование на
Божью милость, и общая идея восхожденния — в направленности от низкого регистра к высокому. В композиции улавливаются контуры сонатной формы. В качестве условной главной
партии выступает начальное созвучие в низком регистре, с эффектом «дрожания»:
1
De prof undis
Как условная побочная партия выступает хорал параллельными мажорными трезвучиями с украшающими фигурациями, словно образ божественной милости (см. пример 2).
Произведение увенчивется репризой-кодой со светлым хоралом и украшающим «нимбом» фигурации.
^«Юбщящш» для четырех ударников (1979) наименование известного славильного католического жанра используется в ироническом плане: в кульминации исполнитель,
надев на себя ожерелье из коровьих колокольцев, тяжелое, как
вериги, славит свое порабощение, раскачивая эту тяжесть
наподобие колоколов.
In сгосе для виолончели и органа (1979) имеет несколько вариантов названия («В кресте», «На кресте», «Крест-накрест»), но лишь один из них несет религиозную символику. По
словам композитора, «обычное свойство музыкальных
инструментов - обладать высоким, средним и низким регистром - используется так, что точка регистрового перекрещивания у двух инструментов - органа и виолончели — переживается в нескольких значениях: не только как геометрическое
свойство, но и как символ креста» [8, 223]. Кроме того, символически трактуются гармонические элементы, способы звукоизвлечения, инструменты как таковые. В ходе звучания виолончель и орган взаимно обмениваются своими ролями. Широту
замысла подтверждает то, что основу тематизма In сгосе составляет пьеса «Звуки леса» для флейты и фортепиано (1978) пейзажного характера. Имеется версия In сгосе для виолончели и
баяна (1991).
Offertorium («Жертвоприношение»), концерт для скрипки с оркестром (1980/1982/1986), - монументальндеТфбйзведенйе е рёлйгиозной символикой. Идея великой жертвы Христа за человечество прочтена в нем и в самом широком
философском аспекте. По словам Н. Бердяева, «в творчестве
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
гения есть как б ы жертва. сабой». Эта общая мысль о смысле
жизни художника конкретизирована и личностью того, кому
концерт посвящен, - скрипача Г. Кремера с его «жертвованием
себя» музыкальному звуку. Символизацию Offertorium
Губайдулина начинает с цитаты темы прусского короля и
композитора Фридриха II, на которую И. С. Бах написал свое
«Музыкальное приношение» (Musikalisches Opfer), а А. Веберн
сделал оркестровую обработку одного из номеров - Fuga
(Ricercata). Начальная тема Offertorium, кажущаяся цитатой
из Fuga (Ricercata) Баха - Веберна, перенесенной в d-moll, собственная переоркестровка Губайдулиной:
Баховскую аллегорию «жертвы» (Opfer) Губайдулина
распространила на весь процесс формирования_концерта,
состоящего из трех разделов. В 1-м звучат вариации на тему
короля, в которых тема постепенно уменьшается по продолжительности, укорачиваясь с двух концов, пока не останется
только один звук; пример - 2-я вариация, без двух первых
и двух последних звуков:
=69
Archi
й
mf
i
Cor.
Archi
I
f
M -
Ш
3
Legni
Tuba
Tr-ba
Tr-ne Cor. Archi
Archi Tr-ne
Archi
Archi
^•— Archi
Л h'
IzE.
™f
f
—ь,
щшт
ff
dza
m.
Offertorium
Cor.
Archi
/
Кульминационная зона 1-го раздела включает трагический унисон на одном, последнем звуке темы, «принесшей
себя в жертву» (звук е, ц. 57), и сольную каденцию скрипки.
На грани разделов возникает «хорал-отпевание» с трезвучиями у медных и тихими ударами тамтама (ц. 60).
2-й раздел, Offertorium (ц. 61), распадается на глубокую лирическую «медленную часть» и «злое скерцо». В «медленной части» выделяется ансамбль из двенадцати оркестровых партий (символический намек на «тайную вечерю»). Вместо
основной темы концерта проводится собственно губайдулинская тема (у виолончели соло, ц. 61). «Злое скерцо» приводит
к катастрофической кульминации с резким обрывом на fff.
После генеральной паузы (перед ц. 108) начинается поворот
драматургии в противоположную сторону, словно поворачивается китайский символ инь-ян в кругу: смерть преображается
в вечную жизнь.
3-й раздел начинается с сольной скрипичной каденции,
и затем - цепь вариаций на тот один звук е ведущей темы,
на котором оборвалась ее «жизнь» в 1-м разделе. Восстановленное полное изложение темы в коде (ц. 134) — ее ракоход,
как символ инобытия.
Скрипичный концерт Offertorium сыграл видную роль
в мировом признании Губайдулиной - Г. Кремер с его исполнением объездил весь свет.
Descensio («Нисхождение») для трех тромбонов, трех
ударников, фортепиано, арфы и челесты (1981) - одночастная
пьеса, чей замысел в некоторой мере связан с идеей Духова
дня - сошествия Святого, Духа на апостолов, праздника всех
христианских церквей. Абстрактно символична и «трижды
троица» состава инструментов: 3 тромбона, 3 группы ударных,
3 иных инструмента - фортепиано, арфа, челеста.
Соната «Радуйся!» для скрипки и виолончели (1981/
1988) имеет символику инструменгальной мессы. Она состоит
из 5-ти частей, но всем частям даны названия из духовной литературы, заимствованные, в свою очередь, из писем украинского философа XVlil века Г. Сковороды к его другу В. Земборскому: I. «Радости вашей никто не отнимет от вас» (от Иоанна);
II. «Веселиться веселием» (Псалом № 105); III. «Радуйся, Равви»
(от Матфея); IV. «И возвратись в дом свой» (от Луки); V. «Внемли себе». Одновременно цикл соответствует мессе ординарий:
Kyrie, Gloria, Credo, Agnus Dei, Gratias. Создавая сонату-мессу,
Губайдулина работала над такой символикой звука, какая представлялась ей наиважнейшей: приемов вибрато и флажолета
как контраста мй'р6в'«зДесБ^~л «там» - причем на одной и той
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
София Губайдулина
же точке струны путем микроскопической смены характера прикосновения (с такого сопоставления соната начинается).
Идея символизации приемов звукоизвлечения
на струнных продолжилась во Втором и Третьем квартетах
композитора (оба одночастны, 1987).
«Семьслов» для виолончели, баяна и струнного оркестра
(1982) - одно из самых исполняемых произведений Губайдулиной. В нем соединились и непреходящая значимость канонического сюжета, и яркость новаторских открытий композитора. Сочинение содержит символические 7 частей со следующими
названиями: I. «Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят»
(Лука); II. «Жено! се сын Твой. Иоанн, се Матерь Твоя» (Иоанн);
III. «Истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раю»
(Лука); IV. «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?»
(Матфей, Марк); V. «Жажду» (Иоанн); VI. «Свершилось!»
(Иоанн); VII: «Отче] В руки Твои "предаю дух М о т Х Д у к а У Г '
К теме семи слов Христа на кресте обращались, в частности, Й. Гайдн и Г. Шютц. У Гайдна «Семь слов Спасителя на
кресте» были написаны для квартета, для оркестра и в виде хорового пассиона. После того как однажды В. Тонха в присутствии Губайдулиной исполнил «Семь слов» ор. 51 Гайдна в переложении для виолончели и камерного ансамбля, возникла
идея сочинения Губайдулиной на ту же тему и примерно для
такого же состава. Но в качестве те ксто в о го и.сти л_£аогоо р и е н тира она избрала ораторию Шютца «Семь слов Иисуса Христа
на кресте», откуда заимствовала строки словесного текста для
заглавий и музыкальную цитату на слово «Жажду» (S т.).
В «Семи словах» символизация коснулась многих сторон. Персонифицированы музыкальные инструменты: виолон
чель - жертва, Бог-Сын, баян — Бог-Отец, струнные — Святой
Дух. В приемах игры имитируется распятие на кресте: символи
чески «распинается» открытая струна виолончели исполнением на ней микрохроматики и хроматики. Символически трактуются хроматика "(вместе с микрохроматикой) - как сфера
земного мученичества - и диатоника - как небесное просветление. Виолончель и баян играют только хроматику и микрохроматику, струнные - только диатонику. XpoMafn'Ka H диатоника сходятся лишь в одной, унисонно-октавной точке, которую
Губайдулина, также символически, понимает как «крест»А>
создавая «мотив креста», основанный на унисонах и октавах
(ц. 9). Символичны и струнные: в основном это «хор» в регистре человеческих голосов, но в отдельные моменты - флажолеты, словно «дыхание Святого Духа» (ц. 1, ч. IV). Композиция
«Семи слов» основана на сквозном развитии двух драматурги-
ческих тем: страдания (виолончель, баян) и спасения (струнные). Трагическая кульминация (земная смерть Христа) наступает в конце VI части, а заключительная VII часть переносит
в светлые, райские сферы. Рефреном произведения.выступает
цитата из Шютца(ц. 10, ч. I и III; ц. 12, ч. V).
I часть начинается «мотивом распинания» с применением новаторских приемов пиццикато глиссандо виолончели
и глиссандо баяна с эффектам стонов, вздохов, нервной дрожи:
«Семь слов». I часть
/Тч
f
Р
В I части проходят также «тема креста» (ц. 9) и цитата
из Шютца (ц. 10):
«Семь слов». I часть
i -
V-c.
solo
^
Го- Г
w-59
J ^ N
is*
1
в-
a
3"
Meno mosso
=44
P
PP
.2.
Эm
Bajan <
p
m
w
О
MB
SB
MB
A
Щрр
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
София Губайдулина
Затем появляется и тема струнного «хора» (ц. 11):
7
г—тг |
ШJ=132
1
2
V-ni I 3
4
5
1
2
V-ni II
3
4
1
V-le
2
3
1
V-c.
2
C-b.
«Семь слов». I часть
В «Семи словах» Губайдулиной многослойная символика, благодаря всем известной евангельской теме, пронизала
музыку смыслом, возвышенным и общепонятным.
Борьба в сознании между многовековой религиозной
верой и сомнением экзистенциальной философии XX века, антитеза pro и contra, выразилась в крупных сочинениях Губайдулиной конца 80-х годов — оркестровом «Pro et contra» и вокально-оркестровой «Аллилуия». В обоих было символически
использовано древнерусское песнопение «Да исполнятся.уста»
(Успенский Н. Образцы древнерусского певческого искусства.
Л., 1971).
В «Pro et contra» («За и против», для орк., 1989) точные
цитаты отдельных фраз «Да исполнятся уста» завершают каждую из трех частей. Но подготовка к цитате путем включения ее
кратких оборотов происходит в каждой части, начиная с первых тактов. В названии произведения прочитывается антиномия типа веры и неверия. I часть цикла содержит экспозицию
противоположностей с относительным равновесием pro и
contra. Медленная II часть составляет центр веры с преобладанием pro, но с взрывным вторжением негативного начала.
В III части жесткое contra определяет главную тему. И лишь
в коде, где фразу из песнопения играеттруба в высоком регистре, подцвеченная звоном колоколов, наступает очищающее
просветление, как бы утверждение в вере - pro.
«Аллилуия» для хора, оркестра, органа, солиста-дисканта
и цветовых проекторов (1990) имеет сакральное число частей — 7. Автор предполагала для них следующие названия:
I - «Исповедь и покаяние», II — «Приготовление хлеба»,
III - «Анафора», IV - «Дисангелие», V - «Мария прядет
пурпурную багряницу», VI - «Эпиклеза», VII - «Аллилуия».
В заимствованном тексте песнопения «Да исполнятся уста» последнее слово «аллилуия» («хвала Богу») стало названием
и последней части, и всего произведения, а первое — «аминь»
(«истинно») завершило собой соло дисканта с цитатой и мелодии и текста песнопения в финальной, VII части. Текст в других
вокальных частях — минимален: до VI части - только слово «аллилуия», в VI части - «Верую! Беспредельно верую» и «аллилуия». Слово «верую» намекает и на часть мессы - Credo.
Произведение соотнесено с центральной идеей христианского
соборного служения - Евхаристией, благодарением за великую жертву Христа.
По суровости и аскетизму эмоционального тона музыка «Аллилуия» подобна иконе^Стремясь, подобно А. Скрябину, к мистериальной всеобщности воздействия, Губайдулина
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
София Губайдулина
впервые внесла свето-цвет. Гамма цветов была составлена из
восьми основных - желтый, оранжевый, голубой, зеленый,
пурпурный, красный, синий, фиолетовый, - дополнительного
светло-лилового и суммарных цветов - белого и черного. Хотя
идеального светового решения в концертах так и не получилось,
«цветовая гамма» составила важную канву для композиционных расчетов [см.: 8, 270~27Ц.
В цикле «Аллилуия» происходит чередование вокальных частей с чисто инструментальными - II и IV. VI часть - кульминация трагизма, по музыкальным средствам ассоциирующаяся с Судным Днем, VII часть - светлый эпилог. Песнопение
«Да исполнятся уста» символически присутствует и до финала
произведения — ее отдельные фразы пуантилистически разбрасываются в фактуре нечетных частей I (у тромбонов). III и
V (у трубы). В VII части песнопение звучит полностью, с текстом - у солиста-дисканта. Цитируется древний источник
не механически: от двухголосного оригинала берутся фразы
только верхнего голоса, делаются пропуски и перестановки.
Поскольку это — финал, между фразами песнопения помещаются важнейшие темы предыдущих частей. Хоровая кода
централизует гармонию последней части на едином звуке (Ь).
Музыкальный язык «Аллилуия» наделен сакральнойкимволикои и слова, и мелодии, и числовых c r p y K j y p .
Примерно в середине 80-х годов в творчестве Губайдулиной обозначилась ориентация на еще один канонический
христианский сюжет - Откровение Иоанна Богослова. или Апокалипсис. Тема конца света стала вообще одной из ведущих тем
в искусстве X X века. У Губайдулиной ее тра кто в ка~вкако й -то
момент дошла до пессимистической крайности: и праведники
не_спасутся. Использовался хорошо знакомый музыкальный
символ — мелодия Dies irae. Но в разных произведениях Губайдулиной преломление темы было дано очень различно. Два
сочинения, практически с одинаковыми названиями, были связаны с Апокалипсисом непосредственно: Et exspecto для баяна
и In Erwartung (в русском переводе — «В ожидании» — в ожидании Страшного Суда) для квартета саксофонов и б-ти ударников. Текст о Страшном Суде, найденный в стихотворении
Г. Айги, дал импульс к сочинению «И: празднество в разгаре»
для виолончели с оркестром. Даже в своих «Страстях по Иоанну» (2000) к тексту пассионов автор добавила параллельный
план из Апокалипсиса. В произведении «На краю пропасти» для
/виолончелей и 2 аквафонов (2002) присутствует тема Dies irae.
А в кульминации монументальной симфонии «Слышу...
ШШ
Умолкло...» в 12-ти частях (1986) громогласные соло медных подобны трубящим ангелам из той же священной книги.
В период обостренных апокалиптических размышлений Губайдулиной наступило «смутное время» в ее личной биографии. Грянули времена перестройки и смены государственного строя. Следует сказать, что вообще этап перестройки
оказался для композитора поворотным в самую благоприятную
сторону: свободными стали выезды за границу, внезапно пришла мировая известность (по поводу международного фестиваля в Бостоне заголовок одной из газет гласил: «Запад открывает гений Софии Губайдулиной»). Но в начале 90-х годов,
времени ломки общественных структур при распаде СССР
и рождении России как нового государства, когда полная материальная неустроенность на родине стала угрожающей, композитор приняла решение переехать в Германию, где в 1992 году
обосновалась в Аппене под Гамбургом, сохранив российское
гражданство. Произведением, которое стало для нее мостиком
между Россией и Германией, был концерт для виолончели, оркестра и мужского хора «Из Часослова» (1991) на текст Р. М.
Рильке из жизни русского монаха.
BEtexspecto, сонате в 5-Ти частях для баяна (1986), символом божественного начала выступает светлый хорал, которому противостоит жесткая диссонантность кластеров, в конце
концов заполоняющая всю музыкальную ткань. Важным символом становится музыка как бы «вселенского ветра», бури
(шумовой звук отдушника), подводящая в финале этой сонаты
к аллюзии на финал сонаты b-moll Шопена. Изобразительный
«вселенский.ветер» играет свою роль и в финальной XII части
симфонии «Слышу... Умолкло...» (1986).
Пьеса IriErwartung для квартета саксофонов и б-ти ударников (1994) приближается к воплощению идеи конца света
своим тембровым составом (без струнных) и значением темы
Dies irae. Несколько десятков ударных с солирующими саксофонами и передают грозное трубление апокалиптических
ангелов, и осуществляют зловещие вариации на «День гнева»,
и сливаются в некий вселенский «колокольный звон». Для картинной наглядности применен прием «инструментального
театра» с пространственным передвижением музыкантов.
Одно из самых трагичных произведений Губайдулиной - «И: празднество в разгаре<> для виолончели и оркестра
(одночастное, Т^З)'ГЗагл¥вйе"ёго - намеренно иронично. Заимствовано оно у стихотворения Г. Айги того же названия
(из цикла «Пора благодарности» 1968-1978), где, как во сне,
I J r W
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
София Губайдулина
предстает видение толпы, собравшейся на празднество накануне Страшного Суда: «Мы как во сне / пред домом Бла-Суда!...»
В поэтическом тексте Айги Губайдулину заинтересовало также
и ритмическое членение: в количествах строк она обнаружила
числа, принадлежащие математическим рядам Фибоначчи и
Люка. Продлив эти ряды до их пересечения на числе 1364, композитор рассчитала временную структуру произведения - кульминацию, центр формы и т. д.
Стихотворение Айги не стало для Губайдулиной литературной программой. Но вопль предапокалиптического предупреждения передался музыке. И зыбкий образ сна предстал
в соотношении солиста и оркестра - как сновидец и сон. В произведений вся мелодия солирующей виолончели проникнута
мотивом вопроса, причем во второй половине сочинения он
наполняется смятением перед Страшным Судом. Генеральная
кульминация (ц. 94) катастрофична по силе - tutti оркестра
с «адскими вихрями» флейт и флейты пикколо, «завываниями»
струнных, «криками» труб фруллато и оглушительным «боем»
ударных. Апокалиптическая философия стала здесь голосом
музыки Губайдулиной.
Религиозная символика «Из Часослова» (1991) исходит
из отобранного композитором текста, но придана автором и
солирующему здесь инструменту — виолончели. «Из Часослова» — крупное одночастное сочинение для виолончели,
оркестра, мужского хора и чтеца (женский голос) на стихи
Р. М. Рильке из книги «О монашеской жизни» (I ч. «Часослова»), созданной поэтом после поездки в Россию, в которой
героем является исповедующийся Богу русский монах. В этом
произведении символически прорисовывается как бы «житие»
виолончели В. Тонха. Инструмент пережил смерть и возрождение: он хранился как экспонат в Государственной коллекции,
потом был реконструирован для концертной жизни; купленный
в 1970-м, он должен был по-настоящему зазвучать к 1990-му,
а в 1991-м был написан данный концерт. Отсюда - ряд символов композиции: конструктивное значение чисел 10 и 11, эмблематика регистровых движений вверх и вниз, обрыв этих
путей. Музыкальный инструмент идентифицируется с исповедующимся монахом. Автор музыки говорит: «Виолончелист,
уходя в подсознание своего инструмента, все ближе подходит
к Богу. И это — тоска по высшей реальности, которая есть у Рильке в 1 части "Часослова" — "О монашеской жизни". Я люблю все
эти тексты в подлиннике, в их немецком варианте. Такой тоски
по высшей реальности больше не знаю нигде» [9, 30].
Поскольку сама церковная служба часов идет в воспоминание о суде Пилата, распятии, крестных муках и смерти
Христа, отобраны стихи Рильке о терзаниях монаха перед лицом смерти. В них звучит мотив темноты — как великой божественной тайньк В «Часослове» Губайдулиной усилено значение всего, что связано с низким регистром: тембр солирующей
виолончели, вокальная краска мужского хора, сверхнизкий регистр у отдельных инструментов. Композиционно произведение построено как семь крупных «строф». Каждая открывается
монологом виолончели с символическим восхождением от
низкого регистра к высокому, в последней «строфе» - самое
долгое восхождение, приводящее к завершению произведения.
В произведениях 80 : х годов сакральная сим вол ика у
Губайдулиной затронула новые аспекты. В инструментальном
«Размышлении о хорале Й. С. Баха» на первый план вышла символика чисел. Но в целом по нарастающей шли символические
размышления собственно религиозного порядка.
В «Размышлении о хорале И. С. Баха "И вот я пред троном Твоим"» для клавесина, двух скрипокГальта, виолончели и
контрабаса (1993) использован подлинный протестантский хорал (Г. Франка) в обработке Баха (VII т. органных соч., № 58
«Wenn wir in hochsten Noten sein»). В мелодии хорала
1-я фраза насчитывает 14 звуков, вся мелодия - 41 звук. Оба
взаимосимметричные числа идентичны буквенным алфавитным символам Bach и J. S. Bach. В структуре всей баховской
обработки Губайдулина обнаружила «золотую пропорцию»
114: 73. Исходя из этого, она построила симметричный числовой ряд для собственного сочинения: - 511 + 37 - 14 + 231| 9 || +
32,41,73, |114. Добавила и собственный символ Sofia, выраженный числом 48, суммой алфавитных чисел: S = 18,0 = 14, F = б,
I = 9, А = 1 [см.: 10, 89-118].
В произведении типа кантаты «Теперь всегда снега» для
камерного хора и камерного ансамбля на"стйх~йТГАйги
(на русском яз., 1993) 5 частей имеют следующие названия:
I. «Ты моя тишина», III. «Теперь всегда снега», V. «О да: родина», II и IV - «Запись: APOPHATIC». Цикл имеет концентрическое очертание, с центральной частью «Теперь всегда снега»,
наделенной активным вихревым движением. Части II и IV не
содержат поющегося текста. Но их название «Запись:
APOPHATIC» говорит о новом у Губайдулиной аспекте сакрального. Апофатическое богословие, в противоположность катафатическому, говорит о мистической непредставимости Бога,
и перед IV частью должен читаться текст Айги: «А б Ш а бы'ночь
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
София Губайдулина
этого мира / огромна страшна как Господь-не-Открытый /
такую бы надо выдерживать / но люди-убийцы / вкраплены
в тьму этой ночи земной...» Финал же приносит катарсис через
детски чистый образ: «Была как лужайка страна / мир - как
лужайка...»
О символике чисто инструментального концерта для
двух альтов с оркестром «Две тропы^посв&щение Марии
и Марфе)» (1998) Губайдулина дала следующее пояснение.
«В^тбй"ситуации было очень естественно выбрать тему, которую знает многовековая художественная практика: тему двух
типов любви - Марии и Марфы, два способа любить: 1) любить, взяв на себя все житейские попечения и обеспечить тем
самым основу жизни; и 2) любить, посвятив себя главному и
наивысшему - пройти вместе с Возлюбленным крестный путь
ужасающей боли, чтобы в результате добыть для жизни свет и
благо"»: Произведение построено как 7 вариаций (снова сакральное число). А из символических элементов композиции
автор указывает движения звуков вверх или вниз как «метафору двух различных психологических установок, двух троп в неведомом лесу бесконечного разнообразия жизни» [9, 45].
На границе тысячелетий Губайдулина создала самое
крупное свое религиозное сочинение - «Страсти^ по Иоанну»
для солистов, двух хоров, органа и оркестра, текст на русском
языке ( 2 0 0 0 ) . К строкам из Евангелия по Иоанну, она
добавила параллельный план - из Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсис). Тем самым создалось символическое
соотношение событии на земле, протекающих во времени,
йсобытижнТнёВе, вне врёмё?ЩвГ1Тэпизед^
ле —№ 2 - 5 («Омовение ног»,"«Заповедь веры», «Заповедь любви», «Надежда»), N2 7 («Предательство, Отречение, Приговор»), № 10 («Положение во гроб»); события на небе - N2 1
(«Слово»), N5 б («Литургия на небе»), № 9 («Жена, облеченная
в солнце»), № 11 («Семь чаш гнева»). При этом № 8 («Шествие
на Голгофу») составил центр произведения, с полифоническим
пересечением событий Страстей и А п о к а л и п с и с а ^ к а ^ ш м волический крест. Итогом сочинения, написанного, по мысли
автора, больше'ради Слова, чем музыки, стал Страшный Суд.
«Страсти по Иоанну» Губайдулиной получили, таким образом,
трагическое окончание. И для завершения канонического
сюжета, с показом светлого Воскресения Христа, композитор
добавила сочинение под названием «Пасха по Иоанну» (2001).
В музыке Губайдулиной религиозные образы и идеи
выразились весьма глубоко, хотя далеко не все ее творчество
ШЗ
им подчинено. В виде сакральной символики представлены
и псалмы, и Евангелие, и самые крупные музыкальйыёжа нgbi - пасодонь^ мессаГлитургия:Шйвошчёш/ik^
способом укрупнения смысла её про извёдёний, без приБ£?ания к типу литературной программности"Ш%1^ка/Тяхй1£Ние.,
к религиозной[этиKg,, идеям жертвенности и спасения души показало возвращение ее творчества во многом к сотериологическбмуШзШ'нию (от греч. soterio - ' о т а Ш Ш Х Т б с п о д с т в о в а в шему~~в""европейском искусстве до Нового времени,
в противоположность философии эвдемонизма (от греч.
эвдемония - счастье), свойственной античности и Новому времени, переставшей быть всеобщей в Новейшее время в X X веке.
Основные сочинения
Вокаль но-хоровые
«Ночь в Мемфисе», кантата для меццо-сопрано, мужского хора
(на пленке) и оркестра на тексты из древнеегипетской лирики в переводе А. Ахматовой и В. Потаповой (1968); «Рубайят», кантата для баритона и ансамбля
инструментов на стихи Хагани, Хафиза, Хайяма (1969); Perception («Восприятие»)
для сопрано, баритона и 7 струнных инструментов на стихи Ф. Танцера (1983/
1986); «Посвящение Марине Цветаевой» для хора a cappella на стихи М. Цветаевой (1984); «Аллилуия» для хора, оркестра, органа, солиста-дисканта и цветовых
проекторов (1990); «Из Часослова», концерт для виолончели, оркестра и мужского хора на стихи Р. М. Рильке (1991); Lauda для альта, тенора, баритона, чтеца,
хора и оркестра (1991); «Теперь всегда снега» для камерного хора и камерного
ансамбля на стихи Г. Айги (1993); «Висельные песни», 15 песен на стихи К. Моргенштерна в двух версиях: 1) для сопрано, ударных и контрабаса, 2) для сопрано,
флейты, баяна, контрабаса и ударных (1996); Sonnengesang для виолончели соло,
камерного хора, ударных и челесты на слова Франциска Ассизского (1997);
«Страсти по Иоанну» для солистов, двух хоров, органа и оркестра на русский
канонический текст (2000); Пасха по Иоанну для солистов, двух хоров, оркестра
и органа (2001).
Произведения для оркестра
«Ступени» для оркестра (1972/1986/1992); Концерт для двух оркестров,
эстрадного и симфонического (1976); Симфония «Слышу... Умолкло...» для
оркестра (1986); «Pro et contra» («За и против») для оркестра (1989); «Фигуры
времени», симфония для оркестра (1994); «Всадник на белом коне» для оркестра
и органа (2002); «Свет конца» для оркестра (2003).
Сакральная символика
в жанрах
инструментального
творчества
София Губайдулина
Произведения для солирующих инструментов с оркестром
«Час души», концерт для ударника, оркестра и солирующей певицы на
стихи М. Цветаевой (1976); Introitus, концерт для фортепиано и камерного оркестра (1978); «Offertorium» («Жертвоприношение»), концерт для скрипки с оркестром (1980/1982/1986); «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра (1982); «И: празднество в разгаре» для виолончели и оркестра (1993); Музыка
для флейты, струнных и ударных (1994); Концерт для альта с оркестром (1996);
Экспромт для флейты, скрипки и струнного оркестра (1996); «В тени под деревом», концерт для кото, бас-кото, чжэна и оркестра (1998); «Две тропы», концерт
для двух альтов с оркестром (1998); «Под знаком Скорпиона», концерт для баяна
с оркестром (2003).
Камерно-инструментальные сочинения (также для инструментов соло)
Соната для фортепиано (1965); Пять этюдов для арфы, контрабаса
и ударных (1965); «Музыкальные игрушки», 14 фортепианных пьес для детей
(1969); Concordanza («Согласие») для инструментального ансамбля (1971);
Струнный квартет № 1 (1971); Музыка для клавесина и ударных инструментов из
коллекции Марка Пекарского (1972); Detto II («Сказанное») для виолончели и ансамбля инструментов (1972); Десять этюдов (прелюдий) для виолончели соло
(1974); Концерт для фагота и низких струнных (1975); «Светлое и темное» для органа (1976); «По мотивам татарского фольклора», три цикла по 5 пьес для домры
и фортепиано (1977); Квартет для четырех флейт (1977); Detto I («Сказанное») для
органа и ударных (1978); De profundis («Из глубины») для баяна (1978); «Юбиляция» для 4 ударников (1979); In сгосе для виолончели и органа (1979); версия для
виолончели и баяна Э. Мозер (1991); «Сад радости и печали», трио для флейты,
альта и арфы, 1980; версия для флейты, виолончели и арфы В. Тонха (1991);
Descensio («Нисхождение») для 3 тромбонов, 3 ударников, фортепиано, арфы и
челесты (1981); «Радуйся!», соната для скрипки и виолончели (1981/1988); Quasi
hoketus («Как бы гокет»), трио для фортепиано, альта и фагота (1984); версия
для фортепиано, альта и виолончели (1984); Et exspecto («В ожидании») для баяна (1986); Струнный квартет № 2 (1987); Струнный квартет № 3 (1987); «Чет
и нечет» для ударных и клавесина (1991); Silenzio («Молчание»), 5 пьес для баяна, скрипки и виолончели (1991); «Танцовщик на канате» для скрипки и фортепиано (1993); «Размышление о хорале И. С. Баха "И вот я пред троном Твоим"»
для клавесина, 2 скрипок, альта, виолончели и контрабаса (1993); «Рано утром
перед пробуждением» для 7 кото (1993); Струнный квартет № 4, с магнитофонной лентой (1993); In Erwartung («В ожидании») для квартета саксофонов и 6 ударников (1994); Quaternion для 4 виолончелей (1996); Risonanza для 3 труб, 3 тромбонов, органа и 6 струнных инструментов (2001); «На краю пропасти» для
7 виолончелей и 2 аквафонов (2002); «Мираж: пляшущие солнца» для 8 виолончелей (2002).
Электронная музыка
Пьеса Vivente - поп vivente («Живое - неживое»), 1970.
Литература
1. Губайдулина С. «Дано» и «задано». Интервью О. Бугровой / / Музыкальная академия. 1994. № 3.
2. Губайдулина С. И это - счастье. Интервью Ю. Макеевой / / Советская
музыка. 1988. № 6.
3. Кудряшов А. Русская константа в произведениях Софии Губайдулиной 7 0 - 8 0 - х годов / / А. С. Пушкин: эпоха, культура, творчество. Традиции и современность. Ч. 2. Владивосток, 1999.
4. Кудряшов А. Об особенностях ладогармонического устройства «Сада
радости и печали» С. Губайдулиной / / Музыка. Язык. Традиции. Проблемы музыкознания. Вып. 5. П., 1990.
5. Редепеннинг Д. Видение Апокалипсиса / / Музыкальная академия.
1994. № 3.
6. Успенский Н. Образцы древнерусского певческого искусства. П., 1971.
7. Холопова
В. Драматургия и музыкальные формы в кантате
С. Губайдулиной «Ночь в Мемфисе» / / Музыка и современность.
Вып. 8. М„ 1974.
8. Холопова В. Николай Бердяев и София Губайдулина: в той же части
Вселенной / / Советская музыка. 1991. № 10.
9. Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина. М.,1996.
10. Холопова В. София Губайдулина. Путеводитель по произведениям.
М., 2001.
11. Ценова В. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной. М., 2000.
ПОСТСОВЕТСКОЕ
МУЗЫКАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Общие тенденции
К постсоветскому этапу современной истории принято
относить период времени после декабря 1991 года, когда прекратило свое существование государство, история которого
началась в конце октября 1917 года и которое с 1922 называлось
Союзом Советских Социалистических Республик. Это событие
стало закономерным итогом процесса либерализации советской общественной жизни, наметившегося с приходом к власти
в 1985 году нового генерального секретаря КПСС М. Горбачева.
Провозглашенные им лозунги «перестройки» и «гласности»
стали знаменем второй половины 80-х годов, атмосфера которых отчасти напоминала «оттепельные» времена четвертьвековой давности, но далеко превосходила их в степени радикализма. Как и тогда, советское общество постепенно становилось
все более свободным, приближаясь к демократическому
государству западноевропейского типа. Но теперь перемены
нарастали как снежный ком: затронув вначале сферу идеологии и культуры, они в конечном итоге трансформировали
экономические и политические основы государства, ранее
незыблемо опиравшиеся на постулаты марксизма-ленинизма.
Беловежское соглашение 1991 года о прекращении существования СССР фактически лишь санкционировало сложившееся
положение вещей.
В области культуры и искусства процессы либерализации развивались быстро и бурно. Главной здесь была впервые
обретенная за многие десятилетия свобода слова. Цензура значительно ослабила свои позиции и затем была вовсе отменена
(на смену ей пришло лицензирование издательской и прочей
публичной деятельности). Реальными стали и другие гражданские права: свобода совести и вероисповедания, свобода
общественных объединений. С другой стороны, государство
постепенно почти полностью устранилось от финансового
обеспечения культуры и искусства, что не замедлило сказаться
на судьбе многих организаций, традиционно существовавших
благодаря официальной поддержке. Значительно урезанные
дотации поставили на грань выживания многие оперные театры, филармонические коллективы и другие учреждения, обеспечивавшие функционирование серьезной музыки. Существующая в западных странах и когда-то отчасти в России система
адресной поддержки художественной деятельности - посредством субсидий, грантов, спонсорских пожертвований - за годы
советской власти была полностью утрачена. Лишь со временем
стали вновь появляться ее первые ростки. Ситуацию усугубила
эмиграция музыкантов, резко усилившаяся во второй половине 80-х годов. Она затронула в первую очередь солистов
и оркестрантов, но не обошла и композиторов.
Однако в целом музыкально-общественная жизнь
в последние годы существования СССР заметно оживляется. Мелочная регламентация концертного и театрального репертуара
исчезает в период перестройки вместе с цензурой, что способствует его значительному обновлению и обогащению - на некоторое время, при еще сохранявшейся государственной
поддержке, концертно-театральные события становятся на редкость разнообразными и богатыми, сопоставимыми отчасти
с легендарными временами 20-х годов. Особенно это касается
современной музыки в подлинном смысле этого слова, отечественной и зарубежной, ранее традиционно теснимой
официальными инстанциями.
Наиболее отчетливо изменившаяся ситуация ощущается в новых, сравнительно многочисленных фестивалях этого
времени.
Традиционные смотры советской музыки в значительной степени утрачивают номенклатурно-официальный облик:
программы «Московской осени» и «Ленинградской/Петербургской музыкальной весны» становятся заметно разнообразнее,
сами фестивали приобретают международный статус. Наглядное представление об изменившейся культурной ситуации дает
сопоставление первого и второго международных фестивалей
современной музыки (соответственно 1984 и 1988 гг.). Если первый из них, московский, еще вполне вписывался в привычную
картину официозных мероприятий, где музыкальные произведения и их авторы отбирались по принципу политической «прогрессивности», то второй, состоявшийся в Ленинграде, действительно был посвящен современной музыке и дал возможность
познакомиться с ее крупнейшими представителями. Некоторые
из них были гостями фестиваля (Л. Берио, Дж. Кейдж, Я. Ксена-
Ш М»1
кис, Л. Ноно). Затем последовали гастроли ансамбля «Энтерконтампорен» под управлением П. Булеза1, а также беспримерный по размаху фестиваль современной музыки Германии,
охвативший в сезоне 1989/1990 гг. не только столичные города, но и далекую периферию. Тогда же, в феврале 1990-го,
Москву посетил К. Штокхаузен, вместе со своим ансамблем
представивший цикл концертов, программы которых включили его новейшие произведения.
После объявления об уходе советских войск из Афганистана (1988) культурное эмбарго было снято, и в СССР
хлынул поток гастролеров самого высокого класса, включая
лучшие оркестры и оперные театры (Чикагский, Нью-Йоркский
симфонические оркестры, Берлинский филармонический;
театр Ла Скала, немецкие оперные театры и т. д.). Меняющийся
облик прежней империи вызывал в мире жгучий интерес,
и Россия на некоторое время стала не менее популярной, чем
в далекие 10-20-е годы. К сожалению, этот бум продолжался
недолго, и в начале 90-х панорама культурной жизни заметно
обеднела.
В конце 80-х набирала обороты и внутренняя фестивальная жизнь. Новая музыка современных советских композиторов зазвучала на волне общего духовного подъема и открытия неведомых прежде горизонтов. Некоторые явления
советской музыки вызвали в это время обостренный интерес
публики, воспринимаясь в ряду запрещенной ранее литературы и снятых с полок фильмов. Своеобразной кульминацией этого процесса стали авторские фестивали, устроенные, что характерно, не в столицах, а в провинции. Первым здесь оказался
фестиваль А. Шнитке в Горьком (Нижнем Новгороде), прошедший в 1989 году, за которым последовали аналогичные мероприятия в Швеции и других зарубежных странах, а также
фестивали С. Губайдулиной (1991), В. Сильвестрова (1992)
и А. Тертеряна (1994) в Свердловске (Екатеринбурге). Все четыре имели большой общественный резонанс, концерты проходили с аншлагами и были восприняты и публикой и прессой
как серьезные художественные события.
Аналогичный резонанс имел фестивальный цикл
«София Губайдулина и ее друзья», организованный продюсерской фирмой Вадима Дубровицкого в сотрудничестве с Мини1. Ensemble Inter Contemporain (Международный ансамбль современной музыки) - камерный оркестр, организованный в 1976 г. при
парижском Институте музыкальных и акустических исследований
(IRCAM).
стерством культуры Российской федерации и другими государственными структурами. Фестиваль прошел трижды: в 1993-м
в Санкт-Петербурге, в 1995-м в Москве; в 1996 году он охватил
Екатеринбург, Кемерово, Петропавловск-Камчатский и Москву. Кроме сочинений Губайдулиной, представленных с беспримерной по тем временам полнотой, фестивальные программы
включили произведения Валентина Сильвестрова, Арво Пярта,
а также композиторов более молодого поколения - Александра Вустина, Виктора Суслина, Татьяны Сергеевой и Сергея
Беринского. Концерты проходили на лучших концертных площадках, собирали полные залы, и, несмотря на не слишком
долгую жизнь, фестиваль оставил заметный след в концертной
жизни 90-х годов.
К сожалению, еще короче оказался срок существования фестивального цикла «Наследие», который прошел лишь
дважды, в 1990 и 1992 годах, под эгидой Союза композиторов
Москвы и Музея музыкальной культуры им. Глинки. Целью
«музыкальных собраний», как именовались концерты фестиваля, было знакомство с прошлым отечественной музыки, с неизвестными и забытыми, нередко насильственно, событиями и
героями. Важными темами «Наследия» стали литургическая
музыка православного обихода, а также творчество композиторов русского зарубежья, тогда только начинавшее приоткрываться советским исследователям и музыкантам. Первые публикации на эти темы появились в сопроводительных изданиях
«Наследия».
На этом фоне «долгожителем» оказался фестиваль
«Альтернатива», начавшийся в 1988 году и существующий
по сию пору, хотя со временем сильно модифицировавшийся.
Его главным вдохновителем стал Алексей Любимов (р. 1944),
пианист и клавесинист, известный широтой своих художественных интересов и высочайшими артистическими достоинствами. «Альтернатива» 2 , первое время проводившаяся при поддержке объединения «Союзконцерт» и Музея им. Глинки,
прежде всего имела целью своего рода популяризаторскую деятельность, связанную с ликвидацией репертуарных «белых
пятен». В ее концертах можно было услышать не только новые,
то есть недавно созданные сочинения отечественных и зарубежных композиторов (те и другие сосуществовали в программах
«на равных»), но и довольно большое количество авангардной
музыки прежних времен, по идеологическим причинам не по2. Вначале при этом слове стоял вопросительный знак: фестиваль назывался «Альтернатива- ?».
падавшей на советскую концертную эстраду. В этом смысле фестиваль оправдывал свое название - он действительно был
альтернативой предшествующей государственно-официозной
культурной политике. Другой его важной особенностью стало
то, что инициатива в составлении программ исходила от исполнителей, причем, как правило, незаурядных, игравших ту музыку, которая была интересна им самим. В начале 90-х годов
X X века «Альтернатива» превратилась в оплот новых течений,
в свою очередь пришедших на смену авангарду, в котором начали тогда видеть застывшее академическое направление. Главными «героями» фестивальных концертов стали минимализм,
а также неоромантизм и «новая простота»3. Еще позднее, с прекращением поддержки государственными структурами, фестиваль перекочевал из больших филармонических залов в камерные и затем клубные помещения, сосредоточившись на
явлениях, действительно альтернативных академической концертной практике, связанных с разного рода синтетическими
(«интерактивными») композициями, перформансами 4 , а также симбиозом серьезной и развлекательной музыки.
Несмотря на скудость материального обеспечения, не
только «Альтернатива», но и некоторые другие фестивали современной музыки сумели выжить в суровых условиях. Более
того, количественно их стало довольно много и, что самое важное, расширилась их география. В этой связи можно назвать
Брянский фестиваль современного искусства имени Николая
Рославца и Наума Габо, «Звуковые пути» в Санкт-Петербурге,
«Картинки с выставки» в Нижнем Новгороде, фестиваль в Ростове-на-Дону и др.
Стимулом к возникновению большинства упомянутых
начинаний было стремление противопоставить новую концертную и исследовательскую практику официальным формам,
культивируемым Союзом композиторов, или, по крайней мере,
существенно их расширить. В недрах самого СК тоже назрели
перемены. Лишившийся идеологической и, главное, финансовой поддержки государства, Союз композиторов уже не мог
проводить прежнюю политику - поддерживания угодных режиму художественных явлений и подавления неугодных, тем
более что сам прежний режим прекратил свое существование.
На волне этого процесса возникло новое композиторское
3. См. об этих направлениях ниже. О них говорится также в главе
«Приметы новой эпохи, или Диалог с 60-ми годами».
4. Performance (англ.) - импровизационное или квазиимпровизационное представление, включающее элементы любых искусств,
а также акции жизнеподобного характера.
объединение: «Ассоциация современной музыки» под номером два (АСМ-2), о создании которого было публично заявлено в январе 1990 года. В неофициальном виде этот союз сложился значительно раньше: в него вошли московские
композиторы, группировавшиеся вокруг Э. Денисова, включая
его учеников. Большинство из них заявило о себе в конце 70-х
и в 80-е годы. Композиторы этого поколения в основном полагали себя наследниками и продолжателями советского авангарда 60-х: А. Шнитке, А. Волконского, С. Губайдулиной, В. Сильвестрова и, конечно, Денисова. Не случайно упомянутые
старшие коллеги были приглашены в АСМ-2 в качестве почетных членов.
Но само название объединения указывало и на другую, исторически более отдаленную преемственность. Ассоциация современной музыки существовала в Советском Союзе
много лет назад - в 20-е годы, оставив значительный след
в истории отечественного искусства. Она была организована
в 1924 году при Государственной академии художественных
наук (ГАХН) и в 1931-м прекратила свое существование, главным образом из-за давления извне, но также и по внутренним
причинам.
В А С М входили не только молодые авангардисты
(«левые композиторы», как говорили тогда), но вообще большинство профессионально пишущих музыку в то время музыкантов. «Единство направления» асмовцами отвергалось.
В деятельности Ассоциации торжествовала идея прогресса,
созвучная атмосфере общественной жизни 20-х годов.
Однако со временем выяснилось, что в историческом плане
20-е годы были в СССР переходным периодом к совсем другому этапу — построению тоталитарной империи.
АСМ-2 тоже возникла в переходное время как детище
перестройки и гласности, и сам факт ее организации выразил
долголетнее недовольство официозом Союза композиторов монопольной организации, традиционно теснившей все новое.
Однако пафос противостояния скоро потерял свою остроту, так
как СК полностью утратил прежнее значение. Перестали быть
актуальными сами полярные категории «академисты - новаторы», «гонимые - процветающие» и т. п.
АСМ-2, чей лозунг - «за нестандартное композиторское мышление, поиск и эксперимент», - безусловно, наследовал идеи авангарда 20-х годов, стремилась утвердиться
в преемственности по отношении к советскому «левому искусству» предреволюционных и послереволюционных лет, то есть на
отечественной почве. Однако в реальной творческой практике
г
- - ,
композиторов АСМ-2 никакой поворот в сторону отечественных истоков не наблюдался - по-видимому, он мог быть только искусственным. Общая стилистическая ориентация членов
АСМ-2 связана в первую очередь с западным авангардом.
Бурные процессы в музыкально-общественной жизни
конца 80-х — первой половины 90-х годов не привели к столь
же радикальным переменам в композиторском творчестве если не считать скороспелых конъюнктурных опусов «на случай», посвященных, например, победе демократических сил
над путчистами в 1991 году. Зарубежные коллеги, посещавшие
в то время СССР и затем Россию, нередко удивлялись, что
на музыку, создаваемую теперь вне всякого давления, почти
не повлияла новая общественная ситуация. Однако иного ожидать было трудно: у настоящих художников, сформировавшихся в советских условиях, выработался стойкий иммунитет против любого социального пафоса и, вообще, навязывания
искусству чуждых его природе общественных задач. Конечно,
ни Шнитке, ни Губайдулина, ни их коллеги не были «чистыми
художниками», творившими в башне из слоновой кости. Но
духовное содержание искусства, присущая русской традиции
социальная чуткость проявлялись в их музыке в скрытой, опосредованной форме.
Единственной сферой, на которую новые либеральные
условия оказали прямое влияние, стала духовная музыка,
относящаяся к православному литургическому обиходу. В советские времена композитор, склонный посвятить себя этому
роду творчества, неизбежно обрекал себя на писание «в стол» никакое публичное существование подобных произведений не
допускалось в государстве, где официальной религией являлся атеизм. Даже классические сочинения, как, например, «Всенощное бдение» С. Рахманинова, с превеликим трудом пробивались в советские концертные залы. Однако невозможность
сочинять в литургических жанрах в значительной степени
компенсировалась скрытым религиозным смыслом многих
светских композиций. Таковы неопубликованные программы Второго скрипичного концерта Шнитке, его же Четвертой симфонии, композиции «Семь слов Спасителя на кресте»
Губайдулиной, долгое время существовавшей под нейтральным
титулом «Партита», симфонического цикла А. Караманова
«Бысть», «замаскированного» под «Симфонию победы» 5 .
5. О Караманове см. выше в главах «Отечественный симфонизм после Шостаковича и новый облик симфонии-драмы» и «"Оттепель"
и музыкальная жизнь 50-60-х годов».
Примерами могут служить и такие сочинения, как Концерт для
хора памяти А. Юрлова Г. Свиридова, по сути являющийся православным поминальным песнопением, а также другие хоровые произведения этого композитора. Тематически светские,
они в столь значительной степени опираются на литургические
прототипы, что музыку композитора можно было бы назвать
теневым отражением литургии. И, конечно, не случайно, что
в последние годы жизни Свиридов прямо обратился к жанрам
православного обихода, создав целый ряд песнопений, пригодных для исполнения в церкви.
Обратились к ним и другие отечественные композиторы - некоторые из этих опусов, впрочем, появились еще
в советские времена, как, например, первый цикл духовных
песнопений Н. Каретникова, созданный в 70-е годы. Второй
подобный цикл, законченный в 1993 году, был исполнен и
записан, однако, насколько известно, в церковный обиход
так и не проник, невзирая на высокие художественные достоинства, доступный музыкальный язык и безусловное следование жанровому канону. Русская православная община в подобных вопросах по сию пору остается незыблемо консервативной.
Другие сочинения, соответствующие литургическому
канону, начали появляться после празднования тысячелетия
Крещения Руси, которое отмечалось как государственный
праздник в 1988 году. Это Литургия св. Иоанна Златоуста для
пятиголосного смешанного хора Н. Сидельникова (1988),
Всенощное бдение Р. Леденёва (1994) и некоторые другие произведения, достаточно разнообразные и даже порой пестрые
по своему художественному уровню.
Общей для всех них основой, впрочем, не всегда осознаваемой композиторами, была традиция русской православной музыки начала X X столетия — традиция московской школы
церковного пения (А. Кастальский, С. Рахманинов, П. Чесноков
и др.). Насильственно прерванная большевистской революцией, почти исчезнувшая, она не могла не стать той естественной
почвой, на которой только и может возродиться русская духовная музыка.
Однако преобладающей оказалась все же не эта, следующая литургическому канону область творчества, а другая,
не воспроизводящая канон, но связанная с интерпретацией
текстов Священного писания в иных, нежели в церковном
обиходе, жанровых формах. Владимир Мартынов (р. 1946),
практик и исследователь духовной музыки, предложил
для обозначения этого рода сочинений термин «паралитурги-
ческие жанры» 6 . Их образцы встречаются в его собственном
творчестве: примерами могут служить два его крупнейших
опуса последнего десятилетия: «Апокалипсис» на полный текст
Откровения Иоанна Богослова (1991) и «Плач Пророка Иеремии» (1992), тоже на полный текст библейской Книги 7 в церковно-спавянском произнесении. В «Плаче» Мартынов опирается на конструктивные принципы, сложившиеся в католической
традиции, - например, распевание древнееврейских букв-слогов, обозначающих стихи: Плач Иеремии, единственная из книг
Библии, организован по принципу акростиха, где число стихов
в каждом разделе равно или кратно 22 - количеству букв
алфавита. Алфавит в роли организующего начала выступает
здесь как знак архаической культуры. Ученость мартыновского
опуса затейливо сочетается с предусмотренной здесь автором
фольклорной манерой интонирования (единственным пока
исполнителем «Плача» является камерный хор «Сирин»).
В стилистическом отношении и «Плач» и «Апокалипсис» опираются на канонические формы письма. Мартынов
отстаивает внеиндивидуальные типы композиции, противопоставляя их концепции художественного изобретения, по его
мнению, исчерпанной. В его сочинениях старинные прототипы
естественно соединяются со стилистикой минимализма, тоже
в своем роде канонического типа письма. Минимализм,
возникший в 60-е годы в США 8 , в последующие десятилетия
распространился в других странах, приобретя во многих случаях индивидуальный, отличающийся от «классического» прототипа облик. Для минимализма, в соответствии с его названием
(появившимся, однако, не сразу), типично упрощение, редукция элементов музыкального языка: статичная гармония, обычно тональная или модальная, простейший ритм и непрерывное
длительное («бесконечное») повторение одних и тех же
элементарных мотивов (отсюда другое наименование минимализма: «музыка повторений», или «репетитивная музыка»),
Мартынов, начавший свой творческий путь в русле авангарда,
увлекавшийся фольклором и рок-музыкой, к середине 70-х годов
6. Пара (грвч.) - возле, при - означает нахождение рядом с чем-то
или отклонение от чего-либо.
7. Во втором случае о паралитургичности в строгом смысле можно
говорить лишь применительно к православной традиции, поскольку в католическом богослужении издавна существует жанр ламентаций, переживший свой расцвет в творчестве Палестрины и композиторов XVII столетия. В X X веке к нему обращались Э. Кшенек и
И. Стравинский (Threni, 1958).
8. Его основоположниками считаются Стив Райх (Reich, 1936), Терри
Райли (Riley, 1935) и Филип Гласс (Glass, 1937).
выработал свой собственный вариант минимализма, опирающийся на канонические стили прошлого, такие как знаменный
распев, полифония строгого стиля и барочное хоровое письмо, «встретившиеся» в «Апокалипсисе». Подобные соединения
возникают у Мартынова на почве репетитивной техники, которую он прилагает ко всем своим моделям, синтезируя их
в нечто целое.
Минимализм имел значительное распространение на
российской почве, в основном среди композиторов, принадлежащих, как и Мартынов, к поколению, следующему после
авангарда 60-х. Другой крупный композитор, также обратившийся к этой манере письма, создал глубоко национальный его
вариант: НиколайКорндорф (1947-2001), в чьем творчестве минимализм своеобразно скрестился с русской эпической
традицией. В основе его сочинений этого круга лежит идея
постепенного, почти статического накопления, достигающего
огромного, подчас предельного динамического уровня. Драматургическая повторяемость идеи восхождения уравновешивается изобретательностью конкретного звукового облика каждого из сочинений - особенно привлекательно редкое
мастерство инструментального письма, присущее Корндорфу.
Генетическая связь со славянской попевочностью налицо, хотя
сам материал может и не вызывать подобных ассоциаций.
Среди безусловных случаев подобных связей - пьеса для фортепиано и магнитофонной ленты «Ярило» (1981), захватывающая слушателя языческой стихийностью звукового нарастания,
«Колыбельная» для двух фортепиано (1984) и цикл из двух пьес
«Гимны» для большого симфонического оркестра (1987).
Вернувшись к паралитургическим жанрам, упомянем
еще одного композитора, чье творчество движется по совершенно индивидуальному, даже уникальному пути. Это петербуржец Александр Кнайфель (р. 1943). Он тоже начинал свой
путь как авангардист и, в сущности, остался таковым, невзирая
на радикальные перемены в музыкальном языке. В середине
70-х годов в творчестве Кнайфеля сформировались признаки
концептуализма. Практически каждое новое сочинение композитора создает некую экзистенциальную ситуацию, единственную в своем роде, хотя и материализующуюся в сравнительно
обычных на первый взгляд игре на инструментах или пении.
Светское сочинение уподобляется ритуальному действу.
Так может случиться и с, казалось бы, совсем далеким от ритуала циклом для певицы и пианиста «Глупая лошадь» (1981 ) 9
9. М.; Л.: Советский композитор, 1985.
на стихи - переложения английской детской поэзии. Наивные
непритязательные пьесы на самом деле воплощают архетипы
человеческого бытия, с его круговоротом рождения и смерти,
безмятежным уютом и жизненными драмами, радостной активностью и скорбным оцепенением. Становится понятным
и оправданным загадочное на первый взгляд авторское определение «Глупой лошади» как симфонии из шести частей.
Концептуальная смелость композитора достигает особой степени в «Agnus Dei» для четырех инструменталистов
a cappella (авторское наименование опуса 10 ). Текстовый слой
(сочинение посвящено «памяти умерших, погибших, замученных во всех минувших войнах») существует здесь как подводная часть айсберга: слова вписаны в партитуру, но не для интонирования, а для внутреннего произнесения-настройки
музыкантов. Не только текст остается за пределами музыкального воплощения - возникает впечатление, что композитор
отрекается в «Agnus Dei» отзвуков жизни, погружая слушателя
в ощущение чистого экзистенциального времени по ту сторону
бытия. В этом аскетическом поминальном ритуале нет ни слез,
ни утешения — это священнодействие музыкантов, уподобленных хору без сопровождения.
В этом контексте кажется совершенно естественным
обращение Кнайфеля к литургическому слову. Композитор
стремится к созданию атмосферы сосредоточенной медитации,
аскетически строгой, но оставляющей простор для индивидуального переживания. Сама музыка почти исключительно
консонантна, квазитональна, как правило, светла по звучанию
(в этих сочинениях Кнайфель предпочитает высокий регистр
и прозрачные инструментальные и вокальные тембры). С другой стороны, его письмо отличается крайней рафинированностью - здесь, несомненно, сказывается наследие авангардной эстетики. Примерами могут служить такие произведения,
как «Восьмая глава, Canticum canticorum» (Песнь песней)
для храма, четырех хоров и виолончели (1993) или Amicta sole
(Облеченная в солнце) для солистки солистов (1995).
И Кнайфель, и Мартынов, и Корндорф стали членами
АСМ-2, как только она была организована11. В списке участников объединения есть и другие композиторы, чьи имена за последнее десятилетие приобрели заслуженную известность.
10. Названия сочинений Кнайфеля, как правило, индивидуальны и
создаются как часть самой композиции.
11. Буклет АСМ-2, выпущенный в 1992 г., содержит биографические
сведения о 27-ми композиторах.
Виктор Екимовский (р. 1947), композитор и музыковед
(кандидат искусствоведения), с самого начала своего творческого пути заявил о себе как о весьма независимом
художнике. Екимовский не желает связывать себя какой-то
одной манерой письма, стремясь к максимальному разнообразию творческих задач и их решений. Такая абсолютизация
идеи новизны, центральной для авангардной эстетики, привела
композитора к плюралистической концепции творчества, сознательно культивируемой им на протяжении многих лет. Это
своего рода стилистический театр, где композитор выступает
в качестве режиссера, управляющего собственной творческой
эволюцией. Приведем некоторые примеры, основанные
на комментариях автора [1, 244-250]. В Камерных вариациях
для 13 исполнителей (1974) воссоздана техника тотального
сериализма, сочетающаяся с зашифрованной программой
(полностью «подтекстован» рассказ А. Чехова «Спать хочется»).
«Лирические отступления» для группы солирующих виолончелей и оркестра (1971) основаны на приеме коллажа - цитируются фрагменты музыки Малера, Барбера, Брамса, Чайковского. Balletto (1974) для дирижера и любого ансамбля музыкантов
записано как графическая музыка (см. пример 1 на с. 441 ).
Реализация этой партитуры рассчитана на приемы инструментального театра и предполагает не только слуховое, но
и зрительное восприятие. На линиях выписаны движения разных частей тела дирижера, которые участвуют в исполнении
(они обозначены по-итальянски, как и положено в «настоящей
партитуре»). «В созвездии Гончих Псов» для трех флейт и магнитофонной ленты (1986) - пьеса минималистского характера: флейты играют сходные фигуры, отличающиеся по высоте
на четверть тона, на фоне своеобразного «шума космоса». Форма пьесы открытая: исполнители могут повторять фигуры по
взаимной договоренности в течение 5—10 минут. Партитура вписана в круг - своего рода карту звездного неба. В «Сонате с похоронным маршем» (1981) отсутствует похоронный марш. Зато
в «Бранденбургском концерте» (1979) Бах налицо.
Число примеров можно увеличить, общей картины
это не меняет. Конечно, изобретения Екимовского нельзя назвать абсолютно новыми - композитор часто пользуется известными способами построения пьес. По-видимому, главным
для Екимовского становится выявление конструкции, рациональной вещественной основы, на которой возникает та или
иная манера письма.
Совсем иной композитор - Александр Вустин (р. 1943),
тонкий самоуглубленный художник, ищущий в искусстве ритуальной действенности. Он сам говорит об этом, и «тонус
till
магического» действительно ощущается в его музыке. Впервые
этот оттенок появился, по-видимому, в пьесе «Слово» для
духовых и ударных (1975) с ее языческой закпинательностью,
несколько напоминающей «Симфонии духовых» Стравинского.
Вустин сосредоточен на магии ритма и магии произнесения, если иметь в виду не только человеческий голос, но
и инструменты. При этом ему отнюдь не чужды рациональные
методы организации музыкальной ткани, основанные на претворении идеи двенадцатикратности, производной от классической
додекафонии, но трактованной глубоко индивидуально.
Очень интересно слышит Вустин слово. Слово у него
часто вплетено, впаяно в самую плоть композиции. В ряде случаев композитор несомненно опирается на опыт нововенской
Sprechstimme (речевого пения) - не случайно его «ПисьмоЗайцева» (1990) для голоса, струнных и большого барабана (любимый инструмент Вустина) вызвало непосредственные ассоциации с «Уцелевшим из Варшавы» Шёнберга. Однако это не
подражание. В противовес Шёнбергу, Вустин как будто жертвует смысловой выразительностью слова, но зато подчеркивает его фонетику, его сонористические качества, кроме того, насыщая партитуру разнообразными тембровыми эффектами и
сближая, таким образом, вокальные и инструментальные звучания. Одна из вершин творчества композитора, «Музыка для
десяти» (1991), тоже основана на «омузыкаленной речи», имплантированной прямо в инструментальную ткань: текст новеллы Жана-Франсуа Лагарпа «Пророчество Казота» произносят
участники инструментального ансамбля и дирижер.
Автор просит читать текст «"без выражения", как бы проигрывая слова по нотам. Ни в коем случае не следует подражать актерской манере чтения или драматизировать текст» (из предисловия к партитуре). Собравшиеся на вечеринку парижские
вольнодумцы 1788 года слушают, не веря своим ушам, кто каким образом закончит вскоре свою земную жизнь (на эшафоте, от яда, лишенным исповеди и т. п.). Последнее, что звучит
в «Музыке для десяти», - ритмизованный шепот Kyrie eleison
всех участников ансамбля. Шестиминутная пьеса проносится
словно вихрь, она изысканно-артистична и жутко-балаганна
в одно и то же время.
«Музыка для десяти», согласно замыслу автора, может
исполняться также в качестве антракта перед третьим действием его единственной и пока еще не поставленной оперы «Влюбленный дьявол» (сцены для голосов и инструментов, либретто
В. Хачатурова) по одноименному роману Жака Казота (1772).
Сочинению оперы Вустин посвятил в общей сложности 14 лет
(1975-1989).
Трагическая нота очень существенна в творчестве Вустина. Но трагизм его музыки чужд открытого выражения, монологической «речи от первого лица». В Agnus Dei для хора,
органа и ударных (1993) возникает ощущение утраты непосредственного контакта с литургическим словом - утраты, сравнимой с потерей речи вообще. Христианская молитва, традиционно интерпретируемая в просветленных тонах, попадает здесь
в чуждую ритуальную сферу ударных звучаний, в языческишаманское звуковое пространство, и все, что остается в конце,
это, как и в «Музыке для десяти», шепот отчаяния: Kyrie eleison.
Скрытый трагизм ощущается и в цитировании, к которому нередко прибегает композитор. Так, в «Героической колыбельной» — секстете для валторны, большого барабана, фортепиано, скрипки, альта и виолончели (1991) - цитаты и
аллюзии, приводимые «по памяти», но не слишком деформированные, не пародийные, производят впечатление сюрреалистических видений. Примером может служить фрагмент, где
цитируются сцена с курантами из «Бориса Годунова», Пятая симфония Малера и собственная киномузыка Вустина.
Творчество Владимира Тарнополъского (р. 1955) также
имеет источником традиции западного авангарда. В современной музыке России Владимир Тарнопольский - одна из самых
заметных фигур. Яркий дебют в начале 80-х годов положил
начало интенсивной эволюции, особенно плодотворной в постсоветское десятилетие 90-х, когда композитор вступил в новую
творческую фазу, отмеченную подлинной зрелостью и глубиной. Произведения рубежа X X и XXI столетий дают возможность
говорить о Тарнопольском как о первоклассном таланте не
только российского, но и европейского, а может быть, и мирового масштаба. Духовная широта и открытость, мастерская
композиторская техника позволили творчеству Тарнопольского стать своего рода мостом между музыкой России и Запада.
Можно сказать, что Тарнопольский встраивает новую отечественную музыку в общеевропейский контекст, помогая ей
обрести новый смысл и новое самосознание. Немалое значение при этом имеет кипучая общественная деятельность композитора. Своим примером Тарнопольский опровергает ходячее мнение о чуждости настоящего художника «злобе дня»,
и хотя организационные проблемы подчас нещадно его донимают, отвлекая от композиторской работы, без них его творческая жизнь была бы гораздо более скудной.
Тарнопольский — щедрый и интересный комментатор
новой музыки и, в частности, собственного творчества. Вероятно,
-
р .
г
это связано с особой интеллектуальной остротой его композиторской манеры, с необходимостью словесной интерпретации
собственных музыкальных идей. Но слово, попадающее в музыкальные произведения Тарнопольского, не грешит литературностью и морализаторством. От них свободны даже те сочинения, которые автор, по-видимому, задумывал как
публицистические. Таков, например, «Полный безумия мир» на
тексты дадаистского поэта Курта Швиттерса (1993): балансирование между случайностью и детерминированностью музыкальной ткани Тарнопольский уподобляет колебаниям между
хаосом и диктатурой. Но хотя в партитуре слышны речи харизматических лидеров и вопли толпы, «безумный мир» Тарнопольского - отнюдь не сколок с натуры. Швиттерсовский опус
очаровательно ироничен, «безумие» в нем окрашено в тона
ретро-стилистики: это несколько старомодное безумие уютных
кафе, где декламируют стихи и мягко звучит джаз.
Тонкое ощущение стиля как портрета культурно-исторической эпохи вообще присуще Тарнопольскому. В свое время он даже определил свой метод как культурологический, отнеся этот термин более всего к сочинениям второй половины
80-х годов. Тарнопольского интересует, однако, не только стилистическая конструкция сама по себе (хотя и она очень интересует), но и то, что за нею. Этот подводный слой культуры
возникает как будто сам собою, но он выдает истинный смысл
стилистических переключений - не просто сопоставить или
столкнуть различное, но - докопаться до смысла источников,
«исчерпать до дна». «Наша традиция - весь универсум», - цитирует Тарнопольский Борхеса. В соответствии с задачей можно и себя настроить по-разному: либо включить подсознание,
либо настроиться на внешний мир. Название одной из пьес Тарнопольского кажется символичным: «Eindruck - Ausdruck»;
пульсация немецких приставок ein - aus (по-русски «в-печатление — вы-ражение»). По-видимому, оно отражает глубинную
суть поэтики композитора, способного совмещать противоположности.
Сами «культурологические блоки» Тарнопольского —
живые организмы. Так, в 80-е годы композитор создает своеобразный триптих: Покаянный псалом (Psalmus poenitentialis).
Хоральную прелюдию «Jesu, deine tiefen Wunden» и фортепианное трио «Tpo'icri музики» (соответственно 1986,1987,1989).
Сочинения эти не образуют цикла в строгом смысле этого слова, однако их связывает единый замысел. Тарнопольский
говорит о желании написать музыку в русле трех христианских
традиций - католической, протестантской и православной.
Продолжая его мысль, можно определить триптих как опыт
практического экуменизма. Композитор обращается к важнейшим образам и символам христианства, свободно, на своем
языке претворяя присущие сакральной традиции формы и жанры. Опорой католической традиции становится респонсорий,
протестантской - хоральная обработка, православной - фольклорный духовный стих в украинском варианте.
При всей широте культурологических интересов
Тарнопольский достаточно избирателен как художник, и, что
самое главное, каждый новый шаг в этом направлении демонстрирует неподдельную искренность вживания, преодолевающую всякую дистанцию между художником и моделью. И хоральная обработка, и респонсорий, и наигрыши-импровизации
народных музыкантов услышаны словно впервые: если уподоблять это театру, то перед нами театр переживания, а не представления, как в неоклассицизме или, особенно, в полистилистике. Дихотомия «своего» и «чужого» слова Тарнопольскому
не свойственна, и здесь он выступает как законный наследник
экспрессионистской традиции, в широком смысле слова12.
К кругу АСМ-2 принадлежит немалое число композиторов, Среди них достойны упоминания еще некоторые имена.
Елена Фирсова (р. 1950) и Дмитрий Смирнов (р. 1948), в начале
90-х эмигрировавшие в Великобританию, наиболее близко
связаны со школой Денисова, продолжая в первую очередь
(особенно Фирсова) линию его камерного творчества. ВладиславШуть (р. 1941) склонен к неоромантическому роду музыки,
он культивирует экспрессивную манеру высказывания, присущую раннему экспрессионизму. Также в неоромантическом
ключе созданы произведения ВячеславаАртёмова (р. 1940) двух
последних десятилетий X X века - однако Артёмов больше ориентируется на скрябинские «космические» концепции, сочетая
их с импрессионистской изысканностью оркестрового письма.
Безусловного внимания заслуживает творчество Александра
Раскатова (р. 1953), Фараджа Караева (р. 1943), Сергея Павленко
(р. 1952), Юрия Каспарова (р. 1955).
Однако творческая деятельность упомянутых и некоторых других, оставшихся за кадром композиторов, придерживающихся авангардных, в широком смысле, ориентиров, естественно, не исчерпывает многообразия стилистических тенденций,
проявившихся в отечественной музыке 8 0 - 9 0 - х годов. Так,
12. О сочинениях Тарнопольского см. также главу «В ракурсе постмодерна».
Е Е М
наряду с полистилистикой Шнитке и другими вариантами
взаимодействия с музыкой прошлого, возникают иные ее
формы, тесно связанные с отечественными национальными
традициями. Таков неорусский стиль ЮрияБуцко (р. 1938) или
Михаила Коллонтая-Ермолаева (р. 1952), не лишенный типологического сходства с религиозным искусством начала X X века - живописью В. Васнецова, М. Нестерова и другими его
образцами. Эта светская музыка вдохновлена образами и мотивами православия, воспринятыми в широком контексте
русской традиционной культуры. Особенно разветвленная
система подобных связей характерна для Коллонтая: тематика,
жанры и формы богослужения отражаются в оригинальных
структурах его инструментальных композиций. Примечательно малое количество или даже полное отсутствие цитат в подобных сочинениях; отходит от цитирования и Буцко, ранее
весьма активно разрабатывавший фольклорный и знаменный
пласты русской музыкальной культуры. Близкий этой тенденции Андрей Головин (р. 1950) развивает в своем творчестве более конкретные стилистические связи, в первую очередь
с наследием С. Рахманинова.
Ориентация на традиционные начала музыкального
искусства, на непосредственные слуховые впечатления от музыки старших коллег и учителей характерна и для других
композиторов, активно действующих в постсоветский период.
Ефрем Подгайц (р. 1949), особенное внимание уделяющий хоровым произведениям и жанру инструментального концерта,
представляет в этом отношении достаточно характерное явление,
равно как и Татьяна Сергеева (р. 1951) - музыкант на редкость
щедрого дарования (композитор, пианистка, клавесинистка и
органистка). Обоих объединяет и светлый, жизнеутверждающий тон музыки. Иной характер имело творчество Сергея
Беринского (1946-1998), композитора яркого романтического
темперамента, художника трагической темы, наследника мощной традиции отечественной музыки, восходящей к Д. Шостаковичу.
Постсоветский период на данный момент нельзя еще
назвать завершившимся периодом эволюции отечественной
музыки. Творческие импульсы, возникшие в это время, далеко
еще не исчерпались и продолжают оказывать влияние на актуальное состояние музыкального искусства.
Литература
История музыки народов СССР. Т. 7. Вып. 1, 2, 3. М., 1997.
Новейшая религиозная музыка
в России
Духовному возрождению, наступившему в конце
X X века, предшествовал мощный расцвет сакрального искусства в начале столетия. Предуготованный творениями таких
великих музыкантов, как Глинка, Балакирев, Мусоргский,
Танеев, Римский-Корсаков и особенно Чайковский, расцвет этот
был делом, прежде всего, Нового направления. «Чайковский
есть "первый вдохновитель" движения, переживаемого нашей
духовной музыкой в настоящее время», - писал ведущий представитель Московской школы А. В. Никольский [14, 73]. Назвав
это движение крупным и большим, жизненным и здоровым, этот
критик, композитор и общественный деятель констатировал
(в 1908 г.), что оно «не успело сказать своего последнего решающего слова»... Так оно и случилось: блестящие творения А. Гречанинова, А. Кастальского, П. Чеснокова, К. Шведова и «славного во всех областях музыки»1 С. Рахманинова не нашли в свое
время продолжения на родине, в России.
Гонение и застой не подавили ни древней традиции,
теплившейся в памяти народа, ни хорового пения, звучащего в
уцелевших храмах. Кто-то «перестроился» и стал писать «на
потребу», кто-то продолжал работать «в стол», а покинувшие
страну постепенно консолидировали усилия в условиях «русского зарубежья» 2 . Но многое и забывалось, не будучи переданным более молодому поколению...
«Тайнопись» велась, как нам стало теперь известно,
рядом выдающихся музыкантов, среди них: А. В. Никольский,
1. Это высказывание принадлежит Кастальскому [см.: 9].
2. В предисловии к Нотному сборнику, изданному в Лондоне (1962),
редакционная коллегия писала, что несет свой труд исключительно
«с целью сохранения и распространения русской церковно-певческой культуры», что в этой книге «мы старались не только собрать образцы его славного прошлого, но и наметить вечно новые пути к его
молитвенному будущему».
дававший «подписку» о ненаписании церковной музыки 3 ;
замечательный дирижер Н. С. Голованов, в архиве которого
хранятся духовные сочинения военных и послевоенных лет;
композитор и дирижер А. В. Александров, автор государственного гимна и ряда песнопений. Для Г. В. Свиридова, как выяснилось из публикации А. С. Белоненко, «религиозная идея»
сделалась ключевой с начала 70-х годов, а со второй половины
80-х композитор полностью посвятил себя работе над циклом
«Песнопения и молитвы» [см.: 1]. Исполнительское искусство
ранее других возродил и поддержал А. В. Свешников, записав
гениальную «Всенощную» Рахманинова.
«Духовный простор» начал открываться нашему современнику в преддверии двух великих дат — 1000-летия Крещения Руси (1988) 4 и 2000-летия Рождества Христова. Фестивали, конкурсы, концерты, ното- и книгопечатание стали
постепенно набирать силы... Что характерно для этой ситуации
и последующих лет? С одной стороны — реставрация церковного репертуарного пения, постепенно расширяемого путем создания новых переложений и сочинений; с другой стороны - активизация композиторской деятельности в области создания
произведений на духовную тематику. В начале этого возрождения сложилась своеобразная ситуация: если в прежние
времена довольно четко разграничивались понятия «музыка
и пение», «концертное и клиросное», то в конце X X века соотношение этих понятий усложнилось.
Духовная музыка - в виде классического репертуара
(работ Бортнянского и других старых мастеров), «опусных» хоровых переложений и сочинений, особенно произведений «Нового течения» (Кастальского, Гречанинова, Чеснокова и, конечно, Рахманинова) — активно вышла на концертные подмостки,
вошла в различную исполнительскую практику. Дифференциация концертного и храмового где-то ослабилась, хотя и не
стерлась, и «новое демество» получило особый статус
звучания. Духовные концерты не есть принадлежность только
нынешнего времени: они устраивались и прежде, но задачи,
репертуар и исполнительские силы были иными 5 . «Желатель3. Литургия св. Иоанна Златоуста ор. 52 для смешанного хора
А. В. Никольского была опубликована в 1998 г. (написана до 1927 г.) по материалам архива композитора, предоставленным его сыном,
Л. А. Никольским.
4. Р. Щедрин в связи с торжеством сочинил «Стихиру на 1000-летие
крещения Руси» (для оркестра - 1987); В. Кикта - «Поклонение тысячелетию» (балет, 1988).
5. Так, А. В. Никольский писал в 1909 г. по поводу духовных концертов
в журнале «Хоровое и регентское дело», сетуя на программы, хоро-
но, чтобы духовные концерты вышли из сферы обслуживания
запросов только одних любителей духовной музыки, а стали бы
в один уровень с концертами вообще, заняв позицию "выставок", где экспонируется род художественных произведений...»
[13, 601] — это желаемое превратилось в действительное.
Тогда же, в начале X X века, прозвучал призыв к «композиторам духовной музыки», призыв, довольно необычный
для своего времени: «Пора создавать православную церковную
музыку в высших формах оркестровых!»; «...Пробил час создавать внебогослужебную церковную музыку в широких
оркестровых формах, на основании обиходных мелодий
и на почве богослужебных текстов...» [6, 602, 606]. Похоже, что
действительно час пробил, но с большим опозданием...
В настоящее время духовная музыка воспринимается
как широкое понятие, включающее произведения, ориентированные на священные тексты (канонические и поэтические). При
этом форма воплощения не регламентирована и может быть
различной (хоровой, оркестровой или вокально-оркестровой)
и создавать новый простор для художественного творчества.
С каких позиций следует рассматривать современную
духовную музыку? Отличаются ли подходы к ней от тех подходов, которые применяются к «общей музыке»?
В целом они сохраняют единство музыковедческого
анализа, включающего в свою орбиту рассмотрение содержания
и формы как эстетических категорий. Однако некоторые
акценты смещаются, и методика анализа приобретает специфическое «звучание». Мы выделим триаду — «тематика жанр - выражение (поэтика музыкального языка)», — важную
не только в своей целостности, но и в частях, имеющих свою
дифференциацию. Так, тематика, ориентированная как на литургические, так и священные тексты (внебогослужебные), предмет особого рассмотрения, предмет, связанный с художественным заданием и функционально-культурной ориентацией.
вые коллективы и отношение публики: «Необходимо стремиться
к тому, чтобы эти программы имели интерес самостоятельный, отрешенный
от сходства с тем, что исполняется
в храме за
обычными
службами. У нас уже народилось и день ото дня крепнет в области
духовной композиции течение - писать музыку для хоров большого
состава, создавать песнопения, не укладывающиеся в рамки кпиросного обихода и его потребностей и как бы нарочито предназначаемые для концертных эстрад. Смело можно сказать, что здесь-то
и сосредоточено все наиболее крупное, что дают нам наши композиторы, особенно последнего времени. Пение этих пьес в концертах
хорами исключительного состава - способно придавать программам
тот интерес новизны и самостоятельной художественной ценности,
которого наши концерты не имеют...» [цит. по: 17, 599],
Жанр - широкое проблемное поле, содержащее и традиционное церковное жанровое деление (циклическое и нециклическое), и новые формы синтеза, создаваемые «по ходу» музыкального замысла. Выражение — это итоговое воплощение
тематики и жанра в конкретных художественно-выразительных
средствах, которые - наряду с традиционно-национальным
началом — содержат (или не содержат) элементы современного музыкального языка. И в целом индивидуализация подхода
к музыкальному произведению, особенно светскому, становится нормой «общения» с произведением ново-сакрального типа.
Какая музыка станет объектом нашего анализа? Это
музыка тех композиторов, которые пишут только для храма,
и тех, которые творят в разных направлениях (последних
больше). В. Агафонников, Ю. Буцко, К. Волков, Г. Дмитриев,
В. Довгань, А. Караманов, В. Кикта, А. Киселев, А. Микита,
В. Пожидаев, Г. Свиридов, С. Трубачев, В. Ульянич и др. - композиторы, пишущие в разных жанрах и для разных составов.
(Каталог композиторских имен - открытая форма, то есть список их может и пополняться за счет новых «поступлений», и сокращаться за счет «естественного отбора».)
Стоит ли включать в «объектив» рассмотрения творчество тех музыкантов, которые, будучи композиторами бывшего СССР, оказались за пределами современной России? Мы
полагаем, что да, стоит. Если композитор создает произведение, содержащее литургический текст (подлинный) или текст
(поэтический или прозаический), явно ориентированный на
соответствующую тематику, то не следует проходить мимо этих
явлений - особенно в случаях, когда они становятся принадлежностью нашей культурной жизни. Так, творчество С. Губайдулиной, религиозность сочинений которой провозглашена
самим автором, доступно русскому слушателю по концертам,
дискам, изданиям и пр.; творчество А. Пярта, в последнее время известное как православный культурный феномен (например, «Канон покаянный», «Богородице Дево, радуйся»), зафиксировано в фонозаписях, концертных программах. Еще раньше
получили известность в нашей стране «зарубежные» произведения Э. Денисова («Свете тихий», «Жизнь и смерть Господа
нашего Иисуса Христа»), А. Шнитке («Три хора»), а также
И. Стравинского («Три духовных хора» на церковно-славянские
тексты православного обихода).
Итак, наша основная задача - изучая новосакральные
жанры, вникнуть в «стиль времени», сопоставив его с индивидуальным авторским стилем, не теряя при этом связи
с традицией и достижениями русского искусства X X века.
Щ ' 1
Изучать новые сакральные жанры - это заново поднимать старую проблему слова и музыки. В области духовных
текстов она имеет особое значение, о чем писали не только
философы (например. П. Флоренский), но и представители так
называемого литургического музыковедения (Д. Разумовский,
В. Металлов, И. Гарднер, С. Трубачев и др.). Слово как символ
сущности имеет в именовании произведения особое
смыслонесущее значение. «Имя вещи есть предел смыслового
самооткровения вещи», - писал русский философ А. Ф. Лосев
[11, 957~958]. «...Соединение всякого произведения... со своим
именем совершенно неразрывное — не может быть так, чтобы
не было имени», - утверждал современный литературовед
и эстетик А. В. Михайлов [12, 9].
В самом деле, если это соединение произведения с его
именем сделано композитором на уровне концептуальном,
то уже «первая встреча» с текстом несет немалую информацию
о нем, например: «Мистерия апостола Павла» (опера И. Каретникова, 1987); «Совершишася во славу Богу во имя Господа
Иисуса Христа» (цикл из 10 симфоний А. Караманова, 19651966); «Jesu, Deine tiefen Wunden» (хоральная прелюдия для камерного оркестра В. Тарнопольского, 1987). Показательны в
этом отношении именования, которые дает своим произведениям Губайдулина: In сгосе (1979), Descensio (1981), «Радуйся»
(1981-1988), «Семь слов» (1982), «Ликуйте пред Господа»
(1989), «Из Часослова» (1991). Проникнуться смыслом слов,
хранящих существо музыкального произведения, - важный шаг
перед тем, как совершить следующие шаги - восприятие музыкального образа и его аналитическое рассмотрение.
После этих предварительных замечаний мы приступаем к рассказу о «новейшем направлении» (поименуем его так)
в сакральной музыке конца X X века в России, опираясь на упомянутую методологическую триаду «тематика - жанр - выражение (поэтика музыкального языка»),
1. Тематика. «Светская культура, - предрекал И. А. Ильин, - не погибнет... но преобразится в направлении духовности, в свободном созерцании, в духе любви» [8, 336]. Это
преображение светской культуры свершилось... «Свободное
созерцание» позволило развернуть широкую панораму духовной тематики, содержательные модели которой, отличаясь
разнообразием, создают простор для художественного воображения. Их общность - в их онтологической природе,
включающей прежде всего религиозно-бытийные темы, сочетающиеся порой с символическими и мифологическими.
Если попытаться классифицировать образно-тематический
материал, то можно увидеть такую картину.
В основе многих современных произведений лежит
Священное писание, которое может быть представлено различными источниками. Псалмы, сосредоточенные в Псалтири самой древней книге, на Руси почитаемой как богослужебной;
Четвероевангелие — как «евангельская история», новозаветное
«благовествование» от Матфея, Марка, Луки и Иоанна; «Апокалипсис» - Откровение Иоанна Богослова, последняя книга
Нового Завета; Послания Апостолов, «Молитвослов» и др. - эти
источники, полагаемые в виде фрагментов или повествований
(как прямой или косвенный текст), находят применение в современных сакрально-музыкальных произведениях.
Эта «первичная модель», онтологическая по своей
сущности, может детерминировать вторичные модели, представляющие собой либо сочетание избранных текстов, либо
поэтическую их переработку, либо, наконец, авторскую «комбинаторику» тех и других материалов. Например: «Жизнь
и смерть Господа нашего Иисуса Христа» Э. Денисова; «Апокалипсис» В. Мартынова, «Песнопения и молитвы» Г. Свиридова, «Русские страсти» А. Ларина, «Страсти по Иоанну» С. Губайдулиной.
Именование произведения - его содержательное
что - должно отражать его сущность, его смысловой код.
Однако всегда ли удача сопутствует автору? Иногда композитор,
чувствуя некое несоответствие, меняет именование
произведения (например: Missa rossica - «Апокалипсис»
В. Мартынова) или оставляет его загадочным для слушателя
(симфония «Слышу... Умолкло...» для оркестра С. Губайдулиной, 1986). Известна работа Г. Свиридова над проблемой
именования [см. свидетельство А. Белоненко - 1], например,
«Духовные стихи старообрядческого толка» — «Четыре песни
старообрядческого толка» (слова Н. Клюева и народные) и др.
Если попытаться классифицировать «первичные»,
«исходные» модели сакральных произведений по ряду дополнительных признаков, то можно получить следующие
представления6.
«Евангельская история» пронизывает большинство
произведений - и как прямое повествование, и как основа для
сочетания с другими «сюжетами». Примеры такого рода 6. А. Ф. Лосев пишет: «...при характеристике стилей мы предпочтительно будем пользоваться термином "первичная модель", строго
отличая ее от модели как композиционной схемы того произведения, о стиле которого идет речь» [10, 225].
«Рождественская симфония» В. Пожидаева, «Рождественские
колядки» А. Ларина, «Рождественская звезда» Э. Денисова;
или иной сюжетный ряд - «Семь слов на кресте» С. Губайдулиной и Stabat Mater Г. Дмитриева. (Ср.: Б. Бриттен - «Родился младенец», «Рождественские гимны», «Блудный сын»;
О. Мессиан - «Рождество Господне», «Двадцать взглядов на
Младенца Иисуса».) Возродилась и закрепилась давняя традиция писать «страсти», или пассивны (Пендерецкий, Пярт,
Губайдулина, Ларин и др.).
Эсхатологическая тематика стала предметом внимания
многих композиторов, повествующих в музыкальных образах
о «судьбах мира и его истории». Совершенно различное ощущение «первоисточника» слышится в произведениях В. Мартынова и О. Янченко, что проявляется прежде всего в роли
слова и музыки (хоровом или речевом произнесении). С. Губайдулина подняла эту тему в конце 80-х годов, воспринимая
свои сочинения — Pro et contra и Alliluia — как «реквием по всей
истории человечества, как Апокалипсис» [22, 95]. Et exspecto другое ее инструментальное повествование - «Чаю воскресения мертвых и будущего века. Аминь» (текст: последняя строфа из «Символа веры»)7. С. Беринский в Симфонии № 3 избрал
первичной моделью повествование б-й главы Откровения, где
символизируются судьбы мира в «различных седмеричных образах: семь печатей, семь труб, семь чаш» [по словам о. С. Булгакова - 2, 54].
Наряду с «Евангельской историей», композиторы посвящают свои сочинения образам исторических личностей.
«Служба преп. Сергию» С. Трубачева; хоровая мистерия
«Аввакум» (на тексты из «Жития») К. Волкова; опера-оратория
(на исторические, канонические и народные тексты и стихи
Ю. Кублановского) «Святитель Ермоген» и кантата «Преподобный Савва игумен» (на текст из Пролога в переводе А. С. Пушкина) Г. Дмитриева; одноактный балет «Владимир-Креститель»
и «Псалм гетмана Ивана Мазепы» В. Кикты; песнопения, посвященные святому благоверному князю Даниилу Московскому
(В. Пономарева, А. Киселева, В. Довганя, Г. Дмитриева) - всё
суть яркая иллюстрация этой тенденции.
В качестве модели, коренящейся в духовной тематике,
избираются как литературные, так и художественно-изобразительные источники, которые нередко могут сосуществовать
в различных сочетаниях. Например: «Фрески Дионисия»
7. Сочинение с подобным названием есть у Оливье Мессиана:
Et exspecto resurectionem mortuorum - для оркестра, 1964.
и «Запечатленный ангел» (по Лескову) Р. Щедрина, «Фрески
Софии Киевской» В. Кикты, «Завещание Николая Васильевича
Гоголя» Г. Дмитриева и концерт-картины «Андрей Рублев»
К. Волкова.
Такого рода подход - не новость: в начале X X века
были созданы кантаты «Иоанн Дамаскин» (на слова А. К. Толстого), «По прочтении псалма» (на слова А. Хомякова) С. Танеева; «Хождение Богородицы по мукам» (на основе памятников
древнерусской литературы) Н. Черепнина и др. Однако, по сравнению с русской традицией, пространство такого рода тематики заметно расширилось и дифференцировалось, что стало
неким знаком времени - рубежа X X - X X I веков.
Литературно-художественные модели нередко естественно совмещаются с философско-религиозными. В самом
деле, на знаменитые тексты Григория Сковороды написаны
такие произведения, как соната «Радуйся» для скрипки и виолончели С. Губайдулиной (1981/1988) и гимн Troi'sti muziki
для фортепианного трио с пением В. Тарнопольского. Смысл
жизни и смерти - предмет таких сочинений, как хоровой
«Покаянный псалом св. Дмитрия Ростовского» (1997) В. Кикты,
а ранее - хоровые «Стихи покаянные» (на литургические тексты
XVI в., 1987) А. Шнитке. Поэтические размышления, а вернее
богомыспие - хоровая поэма «Пророк» (по Пушкину) В. Ульянича, как и его же симфонический цикл «Таинство света».
Высокий нравственно-вероучительный модус представлен в упомянутой оратории «Аввакум» (основанной
на житии протопопа XVII в.) К. Волкова, вокально-симфоническом сочинении «Песнь солнцу» (на слова св. Франциска
Ассизского) С. Губайдулиной, Der Sonnengesang des Franz von
Assisi - хоровом гимне А. Шнитке и др.
Надо сказать, что текстовая основа может сочетать традиционное и нетрадиционное, создавая в лучших образцах целостное единство. Например: Реквием Э. Денисова (на латинский текст и слова поэта Ф. Танцера, данные на трех языках),
католический «Военный реквием» Б. Бриттена (1961, стихи Уилфреда Оуэна в соединении с традиционной латынью), оратория «Преображение Господа нашего Иисуса Христа»
О. Мессиана (тексты Библии и литургических книг - 1 9 6 9 ) . Этот
прием не нов сам по себе. Он представлен, например, в трех
«страстях» И. С. Баха, где евангельский рассказ сочетается
с ариями на поэтические тексты и хоралами.
Итак, первичная содержательная модель — это понятие, примененное нами для современных сакральных произведений, имеет немалый объем и включает существенные
признаки многих музыкальных явлений, неважно — хоровых,
инструментальных или вокально-инструментальных. Композиторы, разрабатывающие темы из области искусства, литературы, философии, создали широкую художественную панораму,
и примененный нами метод «панорамного обзора» сочинений
может оказаться адекватным для получения информации об
этом объекте современной музыки. Активизация композиторского интереса в этой области обусловлена и положением внутри страны, и включением в мировые процессы, начавшиеся
после 1945 года.
2. Рассмотрев некоторые аспекты тематики, затронем
и другую, не менее существенную проблему, а именно проблему жанра, или жанрообразования. Важно выяснить, как содержательные модели обусловливают конструкцию формальных
моделей. Думается, что в условиях, описанных выше, «ощущение жанра» меняется.
С одной стороны, сакральность ориентирует на традиционные духовные жанры, используемые и как целое, и как
некий фрагмент (или «фон»), и как ассоциативный план содержания. Например, элементы «службы» слышатся в произведении Э. Денисова «История жизни и смерти Господа нашего
Иисуса Христа» или в «Апокалипсисе» Мартынова. Нельзя
не сказать о жанре гимна, особенно в его инструментальном
воплощении, памятные образцы которого оставили А. Шнитке
(четыре гимна) и Н. Корндорф (три гимна).
С другой стороны, сакральность способствует образованию нетрадиционных формаций. Так, повествовательность,
создавая некий «событийный ряд» («фабулярность»), строит
последование музыкальных блоков как особую целостную
композицию. Оригинально задумано сочинение Г. Дмитриева «Праведная Русь» (симфония для двух солистов и мужского
хора без сопровождения). Композитор сопрягает пять относительно независимых «блоков»: «О Борисе и Глебе» (стих
покаянный - анонима XVI века); «Прощание игумена Филиппа
с Соловецким монастырем» (стихи Ю. Кублановского), где
использован псалом 136-строчного письма в расшифровке
А. Кастальского; «Молитва» на стихи С. Бехтеева (1917) из тетради великой княжны Ольги Николаевны; «Осенняя годовщина» (стихи Ю. Кузнецова); «Заклинание» (стихи М. Волошина).
Жанр симфонии воспринимается как условный, указывающий
на серьезность идейного замысла и позволяющий строить
своеобразную многочастную композицию, для которой нетипично не только тембровое воплощение, но и техника
композиции каждой части. (Сошлемся также на сочинение А. Ларина «Русские страсти» и «Фрески Софии Киевской» В. Кикты.)
Однако идея совмещения разных пластов содержания
и жанровой ориентации может детерминировать такую музыкальную формацию, которую даже автор не в силах однозначно определить. В самом деле, свою 7-частную «Историю...»
Э. Денисов характеризовал так: «...у меня вы найдете сразу три
духовных пласта, которые всегда жили в искусстве порознь,
то есть это quasi-рождественская оратория, это те же католические Пассионы и, наконец, самое важное для меня - это православная Литургия» [цит. по: 23, 365~366].
И здесь с неизбежностью встает проблема толкования
жанрового «именования» и способности слушателя воспринять
его как таковое. Соответствуют ли, например, своему жанровому обозначению «концерты» С. Губайдулиной на духовные
темы: Offertorium (для скрипки с оркестром), «Из Часослова»
(для виолончели, оркестра, мужского хора и камерно-инструментального ансамбля), «Два пути. Посвящение Марии и Марфе» (для 2-х альтов и оркестра) - сочинения, требующие особой атрибуции на предмет «концертности». Как в них соотносятся
духовное и светское - вопросы, требующие особого подхода.
Композитор, понимая жанровое своеобразие своего
творения, может создать и собственное жанровое именование,
отражающее его художественную идею и принцип композиции.
Так, В. Ульянич ввел термин «светозвоны», обозначив им симфоническое произведение - часть цикла «Таинство света».
В авторском анализе «Христос воскресе из мертвых» (светозвоны VI), где разбирается образно-драматургический и тематический план произведения, отмечено, в частности: «...важной
идеей формообразования светозвонов является закон золотого сечения, или божественных пропорций. Структурная органичность целого, а также естественность развития тематического материала обязаны этому фактору» [цит. по: 5 , 370].
(Возможно, это один из путей избежания микст-терминов, имеющих место и в прошлом, и в настоящем 8 .)
В современной русской музыке творят, как и прежде,
гимны, псалмы, стихиры, молитвы, литургии, всенощные,
пассионы и пр. - и не только для хора, но и для различных
8. Например: «увертюра-фантазия» (им пользовался П. Чайковский),
«опера-балет» (Н. Римский-Корсаков). Особенно богат жанрово-терминологический язык Н. Метнера: концерт-баллада, соната-баллада, соната-воспоминание, соната-идиллия, соната-вокализ, сюитавокализ и др. Любопытно в этом отношении вокально-оркестровое
сочинение Лютославского, названное, вслед за текстом Десноса,
«Песнецветы и песнесказки» (Chantefleurs et Chantefables, 1990).
C M - J
инструментальных составов. Именно здесь, как правило, возникает проблема жанровой формы, формы, основанной на известном жанре, но интерпретированной в духе индивидуально-авторского «видения». Литургии Иоанна Златоустого
В. Кикты и Н. Корндорфа, Всенощные бдения Г. Дмитриева и
А. Киселева, псалмы С. Беринского, С. Губайдулиной, А. Пярта
и др., молитвы и песнопения Г. Свиридова, К. Волкова, В. Довганя, А. Киселева, В. Ульянича и А. Микиты - это только некоторые факты из области традиционных духовно-музыкальных
жанров. Ограничим себя рассмотрением только некоторых
групп явлений.
Литургия - специфический церковный жанр, имеющий свою большую историю. Это «последование» содержит закрепленный уставом текст, служащий основанием для
определенного ансамбля песнопений9. «Авторская» (а не обиходная) литургия - явление не новое: известны литургии
П. Чайковского, А. Кастальского, М. Ипполитова-Иванова,
К. Шведова, С. Рахманинова, П. Чеснокова, А. Гречанинова,
А. Никольского и других более или менее известных авторов,
предложивших свое музыкальное толкование этого «храмового действа». Однако жанр литургии как целостного церковного
произведения — достояние немногих композиторов, и чаще
встречаются отдельные песнопения, входящие в этот цикл.
Так, среди духовных композиторов выделяется С. Трубачев (1919-1995), оставивший немалое творческое наследие.
Музыкальное мышление этого музыковеда и дирижера тесно
связано с мышлением интеллектуальным - философским, эстетическим и богословским. «Образы музыки, самодостаточные
как звуковой феномен, воздействуют на воображение, порождая ряды ассоциаций от соприкосновения с отложениями
родственных напластований - жизненных, эстетических, общекультурных. Интонационный ряд пересекается рядами накладывающихся ассоциативных представлений - возникает сложный синтетический образ, всегда индивидуальный, творчески
восполняющий данное слуху в музыкально-эстетическом переживании» [19, 84]. Песнопения литургии представлены
Трубачевым как свод богослужебного пения, музыкально
облеченного в переложения древних мелодий и авторские
композиторские сочинения.
9. «Для славян литургия св. Златоустого переведена на язык славянский в 9 веке св. Кириллом, принесшим с собою учреждения греческие прямо из Константинополя. Древнейшие славянские списки
литургии Златоустовой, сходной во всем с греческою константинопольскою литургией, сохраняется и доселе» [21, 124].
Современная литургия, в отличие от литургий предшествующего времени, может приобретать специфические жанрово-смысловые признаки, а именно те, которые придают ей
характер духовно-концертного сочинения на канонические тексты. Так, «Литургия Иоанна Златоуста» Валерия Кикты - это
и последование (на украинском языке), ориентированное
на традиционные жанры, и сочинение, обладающее ярко
выраженным авторским художественным стилем (см. ниже) 10 .
Литургия Николая Корндорфа — во многом противоположна решению Кикты, и дело не только в церковно-славянском тексте:
музыкальное решение осовременено во многих отношениях хроматизированная звуковысотность, диссонантные гармонии,
смелые артикуляционно-динамические приемы, подчеркнутые
своеобразной ритмикой. Что это - современное «перетолкование» или современная музыкальная «экзегетика» (углубленное истолкование священного источника)?
Всенощное бдение - другой церковный музыкальноциклический жанр, привлекающий внимание современных
«песнетворцев»11. Индивидуально-авторская интерпретация
представлена, во-первых, в богослужебных сочинениях о. Н. Ведерникова, диакона С. Трубачева, в Обиходе ТроицеСергиевой Лавры, составленном и обработанном архим. Матфеем, а во-вторых, - в композиторских опусах, в которых жанр
не теряет черттрадиционности, а жанровая форма приобретает
черты звукообраза, написанного рукой современного художника. В трудах вышеназванных музыкантов преобладают
обработки различных роспевов и напевов, включая и малоизвестные (валаамский, соловецкий, троицкий, зосимовский
и мн. др.), приспособленные к условиям храмового исполнительства, не всегда располагающего высокопрофессиональными
коллективами (исключение - хоры архим. Матфея, В. Горбика,
Г. Сафонова, о. Амвросия).
Другая сторона современного духовно-музыкального
творчества - создание циклов, которые и по музыкальному
образу, и по технике композиции имеют не богослужебный,
а концертный облик. Такова Всенощная Георгия Дмитриева,
записанная в исполнении Большого хора Российской Академии
хорового искусства под управлением Виктора Попова (1998).
Это сочинение содержит только «неизменяемые» песнопения - 14 номеров, избранных и расположенных согласно
10. Подробный анализ см. в монографии [5, 270-275].
11. «...Св. Златоуст освятил для своей церкви всенощные бдения и,
как выражается Сократ, умножил моления во время нощного пения»
[см.: 21, 150].
ВД:1
чинопоследованию. В задачу автора не входила, видимо, установка на стилизацию образцов древнего или обиходного
пения, и композитор, создавая традиционные молитвословия,
вкладывает в их музыкальный образ современное слышание
старинных текстов. Мастерская техника композиции «задействована» порой непривычно для внутрижанровых признаков
отдельных песнопений, что, не лишая музыку красоты и обаяния, ставит ее в условия специфического концертного звучания
[см. Б, 264, 270].
«Песнопения всенощного бдения» А. Киселева (впервые полностью прозвучавшие в авторском концерте в исполнении Государственного академического Московского хора
под руководством Андрея Кожевникова в марте 2003 г.) - род
службы, состоящей из 11 номеров. Сочинение А. Киселева — это
осуществленное в рамках художественного этикета авторское
толкование словесно-музыкальных жанров, входящих во всенощную. Как и сочинение Г. Дмитриева, музыка «живописует»
образ православно-русского пения, отличающегося певучестью
линий и стройностью гармонии - при высокой технике хорового воплощения.
Ограничившись вышесказанным о литургии и всенощной, затронем ныне воссозданный жанр отдельного песнопения, ставший особенно распространенным в исполнительской
практике. Нередко композитор, ориентируясь на литургический
образец, создает не столько богослужебное пение, сколько
малые хоровые поэмы, требующие концертных исполнительских сил и соответствующей слушательской аудитории 1 2 .
Так, на наш взгляд, звучат работы Г. Свиридова и В. Кикты,
отличающиеся филигранной техникой и тембровой изысканностью - духовно возвышенные и художественно отточенные
произведения.
Непосредственным поводом к написанию песнопений
и молитв могут быть конкурсы, фестивали и памятные даты. Так,
«музыкальные приношения» св. Даниилу Московскому (700 лет
со дня преставления — 1261-1303) сделали композиторы
России: В. Агафонников, Г. Дмитриев, а также ряд авторов, участвовавших в специальном конкурсе (среди победителей 12. Укажем на некоторые молитвы как жанр песнопений, например:
Г. Белова - «Благослови, Душе моя, Господа»; В. Агафонникова «Возбранный Воеводо»; А. Киселева - «Отче наш», «В Мирех Святе
(кондак Св. Николаю)»; В. Ульянича - «Святый Боже», «Богородице
Дево»; К. Волкова - «Трисвятое», тропарь св. вмч Победоносцу Георгию, тропарь Владимирской иконе Божией Матери; В. Довганя —
«Тропарь Обретению мощей Благоверного князя Даниила Московского»; А. Микиты - «Богородице Дево, радуйся» и мн. др.
,-- •
Г. Белов, В. Довгань, А. Киселев, Ю. Толкач, В. Ульянич, В. Пономарев, А. Микита). Текстовая основа этих «приношений» канонические источники, представленные в старинных жанрах
тропаря, кондака, славословия, концерта, а также ряда литургических песнопений. Созвучие древней и современной интонации; согласие образов de profundis (из «бездны времен»)
и образов нынешних, гармония старого и нового - все это
характеризовало стиль музыки российских композиторов.
Рассматривая жанровую форму духовных произведений, мы, естественно, не можем охватить многое, написанное
в традиционной форме, но нетрадиционно интерпретированное. «Одной строкой» хотелось бы сослаться все же на такие
выдающиеся произведения последнего времени, как «Страсти
по Иоанну» С. Губайдулиной (вокально-симфоническая музыка, основанная на сложной текстовой и жанровой комбинаторике, 2000); «Покаянный канон» А. Пярта для хора a cappella
(1997), состоящий из 9-ти песен и заключительной молитвы
на подлинные церковно-славянские тексты.
В качестве дополнения к этому разделу - в плане «контекстной справки» (или, точнее, беглой характеристики «стиля
времени») - сошлемся на ряд фактов зарубежного опыта. Nova
musica sacra Запада базируется в основном на католическом
вероучении, которое в ряде существенных позиций отличается
от восточно-православного догматического богословия.
Игорь Стравинский в поздний период своей жизни
(1955-1966) написал ряд духовных композиций - на латинском,
английском, древнееврейском языках. На русском языке - три
более ранних хоровых песнопения a cappella; «Отче наш», «Верую», «Богородице Дево, радуйся», - впоследствии обозначенные как Pater noster, Credo, Ave Marie. На других языках:
Canticum sacrum (солисты, хор и оркестр), Threni (солисты,
оркестр), A Sermon, a Narrativ and a Prayer (чтец, солист, хор,
оркестр), «Авраам и Исаак» (для голоса и оркестра), «Потоп»
(музыкальное представление дляТ\/). (Эти произведения только теперь стали доступны в издании: Духовная музыка Стравинского. М., 2001.)
Яркие и стилистически оригинальные произведения,
используя образы Священного писания, создал Оливье
Мессиан13. С конца 20-х до начала 90-х он написал множество
подобных произведений, например: для оркестра - «Гимн святому Причастию», «Вознесение», «Цвета града небесного»; для
хора - «Три маленькие литургии Божественного присутствия»,
13. На тему «Образы Священного писания в творчестве О. Мессиана» написана и защищена кандидатская диссертация О. Рудник [16].
«Преображение Господа нашего Иисуса Христа»; для органа «Явление вечной Церкви», «Рождество Господне», «Медитации
на таинство св. Троицы», «Книга Святого Причастия» и др. Образы Евангельской истории, разработанные в разных жанрах и
для разных исполнительских составов, несут (что ясно уже по
именованиям) заряд глубокого религиозного смысла, требующего и соответствующей манеры воплощения.
Кшиштоф Пендерецкий - композитор другого поколения, в творчестве которого сакральная тематика получает
применение в условиях иной техники композиции. «Псалмы
Давида», Stabat Mater, «Страсти по Луке», «Магнификат», «Херувимская», Agnus Dei и, наконец, «Семь врат Иерусалима»
и Credo - вот неполная группа произведений для хора (в том
числе с солистами, оркестром и инструментальным ансамблем),
написанных с 1958 до 1998 года с применением как авангардных (серийности, сонористики и алеаторики), так и более
поздних ретро-техник.
Арво Пярт, в 1980 году эмигрировавший из СССР, создал за рубежом серию ярких духовных произведений, ознаменовавших переход не только в новую содержательно-тематическую область, но и новый стиль композиции, названный
им «tintinnabuli style» (см. ниже).
3. Поэтика музыкального языка - это понятие, спроецированное на музыкальный текст, предполагает рассмотрение
ряда специфических сторон композиции. Каковы критерии отбора музыкальных «фактов»? Это прежде всего значимость
творчества и сакрального начала в нем, мастерство претворения
духовной тематики, кроме того - заинтересованность
исполнительских коллективов в материале (не исключены и
некоторые особые исследовательские соображения).
Анализ духовно-музыкальной поэтики тесно связан
с представлениями о стиле композитора. «Именно цельность
художественного стиля уже включает в себя как чувственную
образность и отвлеченную идейность, так и содержание с формой», - пишет А. Ф. Лосев, обращая внимание на «цельность
художественного стиля» как некое единство этих противоположностей [10, 2/4]. Важно выявлять при анализе произведения как определенную обобщенность, так и «неповторимую
единичность» - все то, что характеризует цельный потенциал
художественного произведения. «...Художественный стиль есть
КАК художественного произведения, в то время как это последнее есть ЧТО, созданное художником и нами воспринятое»
[10, 219]. Имея это в виду, приступим к рассмотрению индивидуальных авторских стилей на примере избранных имен
и образцов духовно-музыкальных произведений.
шш
Георгий Свиридов — композитор, круг тематики которого сейчас предстает в несколько ином свете. Если прежде его
творческий метод анализировали исключительно с позиций
претворения народного начала, то теперь первичный исходный
пункт обретает новые черты. Ясно высказался А. Белоненко:
«Религиозная идея, несомненно, становится ключевой, центральной в творчестве Г. В. Свиридова с 1970-х годов» [1, 77].
Говоря о постепенном формировании этой идеи, исследователь
указывает на ряд произведений — «Ночные облака», «Песни
безвременья», «Пушкинский венок», «Отчалившая Русь», «Гимны Родине» и др., которые можно охарактеризовать как принадлежащие к «жанру духовной лирики».
Вслед за скрытой символикой и немирской песенностью
появляется прямой интерес к духовной тематике (например,
замысел «Пасхальных песнопений», «Обедни», «Страстной седмицы» и др.), а с середины 80-х годов Свиридов сосредоточивается на «литургической поэзии». Результатом этого явился
сверхцикл «Песнопения и молитвы» (М.; СПб., 2001) - собрание
духовно-музыкальных сочинений, включающее пять циклов:
«Неизреченное чудо» (б хоров), «Три стихиры (монастырские)
для мужского хора» (3 хора), «Странное Рождество видевше...»
(7 хоров), «Из Ветхого Завета» (3 хора), «Другие песни»
(7 хоров) - [см.: 1]. И если некоторые более ранние произведения автор, подчеркивая целостность, называл «поэмами», то
этот духовно-музыкальный цикл тем более по своему содержательному и композиционному единству заслуживает подобной характеристики.
Итак, какие проблемы встают при анализе вербального и музыкального текстов этой своеобразной «поэмы»?
Подбор текстов из уставных источников и создание на
их основе своего варианта; соотношение слова и музыки, смысла духовного и музыкального; интерпретация жанра: взаимодействие традиционного и авторского начал; создание музыкального образа песнопения с помощью всех звуковых
параметров и композиционно-структурных средств - этот набор проблем, как и сравнение авторского и традиционного подходов, представляет особый интерес при анализе «Песнопений
и молитв» Свиридова.
Обращение Свиридова со словом, взятым из богослужебных источников, вызывает неоднозначную реакцию:
с одной стороны, молитву как священный текст вряд ли стоит
подвергать обработке (сокращение, повторение, сочетание),
а с другой - цель «одухотворить» концертного слушателя вне
храма может показаться и вполне оправданной. Сравнение слов
с первоисточниками (взяты песнопения из Молитвослова) дают
возможность понять, как Свиридов работал с текстами «литургической поэзии». Взяв за основу многие церковные жанры стихиру, кондак, тропарь, седален, псалом, величание, - композитор преобразует их, подчиняя своей музыкальной идее.
В итоге формируется особое жанрообразование на основе
древнего архетипа 14 .
Попытаемся выяснить, какие виды церковных песнопений композитор использует.
«Неизреченное чудо»: «Господи, спаси благочестивые» —
возглас диакона (на литургии), «Святый Боже» - Трисвятое
(литургия), «Достойно есть» - Богородичен (литургия), «Рождественская песнь» - тропарь, слава + аллилуийя (литургия),
«Неизреченное чудо» - ирмос канона Великой субботы. В этом
цикле преобладают «номера» из литургии, хотя и разного годового «круга».
«Три стихиры (монастырские) для мужского хора>г. «Заутренняя песнь» — стихира «Заутра услыши глас мой»,
кондак - из Триоди постной (на недели мытаря и фарисея),
«Господи, воззвах к Тебе» - текст из Вечерни, данный в обработке «воззвахов»15.
«СтранноеРождество видевше...» - это заглавие есть цитата из Акафиста Богородице (кондак 8: «Странное Рождество
видевше, устранимся мира, ум на небеса преложше...»): «Слава
Пресвятой Троице» - краткое молитвословие, т. н. «Слава, и
ныне»; «Приидите, поклонимся...» - из текста молитвы священнослужителей в алтаре в начале Великой Вечерни; «Слава» то же; «Покаяние блудного сына» - седален из Триоди постной
(неделя Блудного сына); «Помилуй нас, Господи» — молитва
из Молитвослова (на сон грядущим), но заметно изменена;
«Странное Рождество видевше...» - на основе кондака из Акафиста Богородице. Таким образом, цикл не есть ориентация на
целостный церковный жанр, а представляет собой свободное
последование молитв и песнопений, внутренне связанное через повторяющуюся «Славу» (быструю и тихую).
14. Говоря об оригинальности свиридовского замысла, Белоненко
отмечает: «Известно, что при создании церковных песнопений композитор должен точно воспроизводить литургический текст без каких-либо изменений. За редким исключением почти все отобранные
тексты были подвергнуты Свиридовым переделке. В этом не было ни
небрежения к традиции церкви, ни проявления авторского произвола» [1, XXIV].
15. На фестивале памяти Г. Свиридова в Курске (2003, сентябрь) «Три
стихиры» были исполнены храмовым хором обители св. Даниила
Московского (регент - лауреат Всероссийского конкурса дирижеров
Георгий Сафонов).
«Из Ветхого Завета» — три номера, в основе которого
лежат скомбинированные автором и свободно переведенные
стихи псалмов 23 и 50.
«Другие песнопения» - это семь внутренне не связанных текстов: из акафиста Богородице, тропарь Иоанну
Богослову, из Пасхальной стихиры, тропарь из Триоди постной (о предательстве Иуды), Тропарь из Страстной седмицы, кондак недели о слепом, ирмос Великого четверга из канона (песнь 9).
Мы проделали этот анализ с целью проникнуть в творческую лабораторию художника и приобщиться к его творческому методу.
Таким образом, создавая светский хор на основе «литургической поэзии», композитор, видимо, не ставил задачи
жанрового уподобления. Для него был важен смысл, выраженный избранными стихами и словами, смысл, который и обусловил тип музыкальной композиции. Форма песнопений и молитв не воспроизводит известных стереотипов - она
индивидуальна, хотя и подчиняется определенной музыкальной логике становления. Традиционная ориентация на строки
текста в целом становится частью музыкального процесса и линии развития. Можно предположить, что Свиридов строит форму в опоре на традиционный принцип, а именно: взаимодействие текста (его структуры) и музыкального начала, создавая
при этом художественно индивидуализированные решения.
Звуковысотный компонент в стилистике цикла «Песнопения и молитвы» требует специального внимания. Задача гармонизовать тот или иной глас (а они нередко указаны в первоисточнике) не была, видимо, для композитора актуальной.
Однако мелодии сохраняют некоторые принципы национального мелодийного мышления. Попевочность, сжатая звуковая
область, речитация, повторность (наряду с вариантностью),
поступенность голосоведения - все это, уложенное в «строку»,
не имеет отношения к ариозности и народной песенности.
Диатоника - основной «инструмент» оформления духовных
текстов. Художественный потенциал диатонической системы
оказывается поистине неисчерпаемым, и этому способствует искусство многоголосия и тембрового расцвечивания.
Свиридов, осовременивая звучание древних текстов,
постоянно находится в рамках установленного им художественного регламента. Это слышится во всех составляющих гармонического языка - его единицах (аккордах), его синтагматике
(последовании аккордов и тональностей). Сохраняя стилисти-
ческую «меру», композитор устанавливает и определенный
аккордовый фонизм, а именно терцовость, слегка осложненную побочными тонами, педалями, квазиквартовыми созвучиями. Последование аккордов - самая интересная и выразительная сторона гармонической системы в Песнопениях и молитвах.
Диатоника выявляет себя не в традиционных западноевропейских оборотах, а в переменно-функциональных отношениях, разработанных стилистически своеобразно и художественно. Каденция, всегда оригинальная и «русская», - предмет
особой заботы композитора. Хроматика при этом не есть область полного небрежения в условиях диатонического пространства. Пользуясь ею весьма осторожно, композитор наделяет хроматические обороты особым смысловым значением
(например, «Предательство Иуды»), Кроме того, в звуковом
«дизайне» Песнопений и молитв неслучайным оказывается тонально-высотный уровень. В самом деле, пяти- и шестизначные
«строи» - а их немало — совершенно не типичны для звучания
церковных текстов. (Заметим, что Чернушенко, редактируя музыкальный текст, нигде не сделал предложений сменить строй!)
Тональные планы циклов — и в общем, и в частности - особая сторона композиционного метода композитора;
не входя в детали, заметим следующее. В первом цикле
тональный план не диатоничен, а хроматичен: dis - dis - С/а,
F _ b/Des ~ F/As, Des - As (при наличии внутренней переменности). В третьем цикле (семь номеров) намечаются
контуры объединения через троекратно повторяемую «Славу»:
Н - Е ~ gis _ gis _ Н - b ~ f. Однако, диатоничный поначалу,
план становится хроматическим в конце. Таким образом, если
условно принять жанр цикла за концертный, то классических
закономерностей (как это было у духовных композиторов)
обнаружить почти не удается.
Гармонические идеи «выговаривают» себя в фактуре
и тембре - весьма существенных аспектах музыкального
языка Свиридова. Если для фактуры свойственна скорее
«гоморитмия», вертикально-гармонический склад, то для тембризации - политембровые варианты, включая и полифонию
тембровых пластов. От традиции взяты элементы «двухорности» — как своеобразной внутренней антифонности, например:
«Неизреченное чудо» - № 1 и 5; «Странное Рождество» - № б
и 7; «Из Ветхого Завета» - № 1; «Другие песни» - N2 3 и 4) 16 .
16. Для случаев внутренней двухорности представляются удобными термины: «малый хор» - от Чернушенко, «избранный хор» от Свиридова.
Другой традиционный прием, по-своему использованный, сопоставление соло и тутти, объяснимое ходом службы (например, «Господи, спаси благочестивые...»: запев оправдан
ассоциацией с возгласом диакона на литургии, которому отвечают два «лика»).
Итак, бросая взгляд на поэтику музыкального языка
Свиридова, представленную в Песнопениях и молитвах, можно сделать некоторые выводы. Не являясь «стилистическим подражанием» (термин Д. Лихачева) и воспроизведением интонационное™, которая сопровождала древнее пение избранных
текстов, тональная система цикла есть звуковысотная модель
современного авторского «звукосозерцания». Существуя не в
изоляции от других параметров звука - ритма, тембра, артикуляции, — а в «сотрудничестве» с ними, она реализует себя в
конкретных жанровых формах, воплощает смысл и настроение
духовного слова в ярких музыкальных образах.
Георгий Дмитриев (р. 1942) - композитор, который так
же, как и Свиридов (и многие другие), постепенно пришел к
тому, что стало особо ценимым в его творчестве. «Киев»,
симфоническая хроника (1981), где сквозную роль играет символический перезвон курантов Киево-Печерской Лавры и
православное пение17; «Всенощное бдение» (1990) - хоровое
произведение, которое открыло простор для дальнейших свершений в «духовном делании»; «Эпизоды в характере фрески»
(1992) для скрипки и симфонического оркестра, содержание
которых напоминает житийные росписи древнего храма, а основная тема ассоциируется с напевом, идущим из глубины
веков, - это далеко не все произведения, отразившие «русскую
идею» в ее смысловой и музыкально выразительной форме.
Духовное начало требовало для своего воплощения
не столько специфических жанров (как, например, Stabat Mater
dolorosa на стихи из Реквиема А. Ахматовой - 1988, Messe
in D - 1993), сколько жанров, рождающихся на исторической,
философской, религиозной основе. Симфония «На поле Куликовом» (1979), симфония-концерт «Старорусские сказания»
на стихи Бунина (1987), квартет «И увидел я Новое небо
и Новую землю» (1990), вокальный цикл «Тайная вечеря»
на стихи Набокова (1991), симфония «Праведная Русь» (1996) эта музыка, так или иначе сходная по тематическому содержанию,
многоразлична по художественно-выразительным средствам
17. Мы процитируем отзыв иностранца о «Киеве», сравнивающего
произведение Г. Дмитриева с воскресной увертюрой «Светлый праздник» Римского-Корсакова: «...пьеса, мастерски построенная, и с блестящей оркестровкой» (аннотация к диску — запись 1998 г.).
Е
Ш
и тембровому составу (соответственно: симфонический оркестр,
квартет саксофонов, голос и фортепиано, мужской хор).
Особый интерес в связи с этим вызывают два сочинения - «Завещание Николая Васильевича Гоголя» (1997) и «Симфония ликов» на стихи А. Майкова, А. Ахматовой, К. Романова
и А. Белого (1998). Мы уже касались проблемы жанра и формы, которые композитор решает своеобразно, каждый раз увязывая их с художественным заданием. Ни то, ни другое произведение не вписываются в обычные представления об этой
стороне композиции. Содержание обоих произведений может
быть рассмотрено сквозь призму онтологической модели, «первичное» духовное содержание которой перевоплощено во «вторичную» поэтическую форму литературного источника.
«Завещание Николая Васильевича
Гоголя», написанное для чтеца и смешанного хора без сопровождения,
трудно в жанровом отношении непосредственно сопоставить
как со светскими (кантата, оратория), так и с церковными
прообразами. Этот 11-частный хоровой цикл содержит «пьесы»,
написанные на прозаический текст Гоголя и канонические молитвословия. «Возбранный Воеводо», «Плачу и рыдаю...» (самогласная стихира Иоанна Дамаскина из заупокойной службы),
«Молитва» Гоголя («Господи, спаси и помилуй бедных людей»),
«Блаженны» (из литургии) в сочетании с «Молитвой Иисусовой», «Молитва» Гоголя («Помилуй меня, грешного, прости,
Господи»), «Молитва Господня» («Отче наш») - все это духовные тексты, образующие определенное последование, аналога
которому нет ни среди духовных, ни среди светских жанров.
Сложный замысел произведения нашел отражение
и в музыкально-образном высказывании. С одной стороны,
присутствуют черты некоего «стилизационного подражания»,
особенно в темброво-фактурной организации, а с другой,
наоборот, - черты современной техники. Последнее относится
прежде всего к звуковысотной системе, которая в целом воспринимается как многокомпонентная структура. Тональность
(со знаками при ключе), сочетающая диатонику и хроматику;
атональность - с 12-тоновой лейттемой; серийность - с элементами серийной работы; фрагменты ограниченной алеаторики
и особых ладообразований — вся эта новая высотная стилистика
«работает» и в чистых, и в микст-формах (в соответствии с текстовой ситуацией).
«Симфония ликов» - хоровое произведение в 4-х частях, воедино связанных духовными образами, «ликами» русских святых: «Видение святого благоверного князя Александра
Невского» (стихи А. Н. Майкова), «Успение святой Евфросинии
Московской» (стихи А. Ахматовой), «Святая Елизавета» (стихи
К. Р.), «Святой Серафим» (стихи А. Белого). Если искать ассоциативные связи с церковным жанром, то можно предположить
некий прообраз «совмещенного канона» - как форму духовного обращения к разным святым с молением о помощи и заступничестве. Однако это светское концертное произведение, написанное с большим техническим размахом,
мастерством симфонического развития музыкального (и вербального) материала.
Можно ли заметить в произведении воздействие древней мелодии или каких-то других характерных выразительных
средств? Элементы диатонической попевочности, особенно
речитации, инкрустируются в современный мелодический
контекст, а в процессе развития (нередко с характерной повторностью) они могут создавать ощущение доминирующих приемов. Ассоциативно звучат обильные протянутые звуки (исоны),
создающие интонационные опоры, как и фигурированный бас
на основе избранной краткой попевки (например, № 1, № 2).
Непосредственное слуховое впечатление создают фрагменты
хоровой фактуры, моноритмичность которых напоминает
молитвенное пение. Но в целом эта стилистика не является
определяющей.
В «Симфонии ликов» Г. Дмитриев говорит о прошлом
на современном языке, правда, строго ограниченном, освобожденном от «неологизмов» и каких-либо новых техник композиции. В отличие от «Завещания...», здесь нет особых ладообразований и атональности, сближенной с серийностью, нет той
экспрессии, которая подвигала бы на подобное. Пользуясь
огромным потенциалом современной хроматической тональности, композитор востребует ее ресурсы «осмотрительно» —
в связи с конкретным художественным заданием.
Так, «лик» св. Александра Невского написан строго в минорно-диатонических красках (h-moll, b-moll), а видение
умирающего князя - в контрастных мажорно-хроматических
с имитацией звона (A-dur с соль-бекаром (!), а затем в политональном сочетании с As-dur). «Успение», решенное в характере траурного шествия, озвучено в 12-тоновой системе, функционально дифференцированной (хор и соло) на участки
целотонового, хроматического и диатонического фонизма
(полимодальность), - и все это в рамках строжайшей тоникализации (ре минор).
«Лик» святой Елизаветы - убиенной великой княгини,
исступленно молящейся за своих врагов, - написан также неоднопланово: образ страдалицы, восклицающей: «Господи,
отпусти им, не ведят бо, что творят», увязан с минорным лейтмотивом, пронизывающим всю звуковую хроматизированную
среду в фугированной манере (тональность, фа минор, здесь
также ясна, хотя и расширена в процессе полифонно-гармонического развертывания).
«Лик» преподобного Серафима Саровского написан
с особой теплотой и нежностью, для чего потребовались светлые мажоро-минорные краски (in D), слегка осложненные «дуновениями» хроматизма. Итак, каждый «лик» — это свой тип
звуковысотного решения, неизменно связанного с гармонией
и полифонией (имитационной) в индивидуальном фактурном
преломлении.
Искусство «тембризации» есть то, что более всего
сопрягается с профессиональным певческим искусством и прежде всего с традицией Московской школы. Г. Дмитриев мастер «оркестра человеческих голосов», владеющий техникой
тембровой живописи, отображающей «лики» святых. Тембр и
фактура — эти стороны музыкальной выразительности оказываются тесно взаимосвязанными. В фактурном решении автор
избегает «квартетности» (термин Кастальского), схожей с «хоральностью» западного толка, — фактура хоров дышит свободно, меняя плотность многоголосия, варьируя аккордовый и полифонический склад. При этом тембровое голосоведение берет
на себя переменные функции, то лидируя, то создавая фон.
Применяя технику полифонии пластов, композитор
оправдывает ее «сюжетным» развитием, например: в начале
N21 — остинато (с закрытым ртом — тенора и басы) + лейттема
«не в силе Бог, а в правде» (имитация у альтов) + рассказ
(мелодия у сопрано); в № 2 — расслоение текстуры на две части, а именно плотный хор, ведущий событийную линию, и
соло, комментирующее ее; в № 3 - наиболее разветвленные
переплетения, включающие и функциональные расслоения в
пределах партии (особенно теноровой); в № 4 - внутренняя
двухорность (низкие и высокие голоса), обусловленная разными текстовыми ситуациями.
Упомянем и другие образцы подобного рода в творчестве Г. Дмитриева. «Шесть хоров» (2002) на стихи русских
поэтов (Батюшкова, Кольцова, А. К. Толстого, Бальмонта, Мережковского, иеромонаха Романа) для смешанного хора без
сопровождения — хоровой цикл, где содержательно-поэтическая модель (образы божественной природы, благовест и молитвенное состояние) и авторское музыкальное решение ставят вопросы, связанные с различными конструктивными
принципами (высотность, ритм, тембр, фактура) вихспецифи-
Е № 1
ческом преломлении. Немало слушательского и научного интереса вызывают и другие сочинения последнего времени, например: «Преподобный Савва Игумен» (монастырская кантата
для диаконского чтения и мужского хора в 8-ми частях, идея и
составление Г. П. Дмитриева), объединяющая канонические
и поэтические тексты, сочетающая в музыкальных образах (Москвы-реки, Пастыря, храма. Чудотворца, «пения всеумильного»)
приемы старые и новые, «стилизационные» и оригинальные.
Специального внимания заслуживает творчество БаяерияКикты (р. 1941) - композитора, интерес которого к сакральной тематике в разных ее «ипостасях» не только не ослабевает,
но и, развиваясь, крепнет и приобретает все более рельефные
очертания. Композитор работает одновременно в двух направлениях, внутренне тесно взаимосвязанных, - создании духовно-церковных и духовно-концертных произведений (правда,
и то и другое ориентировано на концертное исполнение).
Музыка Кикты волнует слушателя и своей высокой
философско-религиозной мыслью, и эстетически прекрасной
формой, и совершенной техникой композиции. Содержательные модели, так или иначе связанные с духовной образностью,
имеют в своей основе различные источники, а именно: Священное писание (канонические тексты); литературные произведения - поэтические тексты: классические (св. Дмитрия Ростовского, А. С. Пушкина) 18 и современные (Ольги Николаевны
Романовой, В. Татаринова и др.); факты истории («ВладимирКреститель»), художественно-изобразительные памятники
(«Фрески Софии Киевской»), Эти и другие первичные модели
находят соответствующее жанровое претворение, для которого характерно как традиционное начало (псалом, молитва),
так и нетрадиционное - например «фрески», «житие-летопись». Но особое место в жанрово-духовной системе отводится «молитве».
Для В. Кикты молитва - область глубокомысленного
отношения к слову, содержащемуся в ней, образу и настроению, создаваемого ею. Если бы была создана только «Чудотворная молитва Серафима Саровского» (2001), где слово
воплощается в музыку, а музыка в слово, то этого было бы
достаточно для такого вывода. Но автора волнует не только
каноническое, но и поэтическое слово, слово, «рождающееся»
у поэта по прочтении духовного текста. Гениальное пушкинское
стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны...»
18. Дань почтения великому русскому поэту В. Кикта принес и в сочинении «Два хора памяти А. С. Пушкина» (1980): «Как за церковью,
за немецкою» и «Зимняя колыбельная (вокализ)».
(первооснова - творение св. Андрея Критского) вдохновило
В. Кикту на сочинение «Великопостной молитвы» (1996).
Упомянем и другие оригинальные молитвословия, созданные
Киктой в последнее время: «Не Рыдай Мене, Мати...» (1989),
«Христос-Спаситель, помоги» (1990), «Песнь Пресвятой Богородице» (1997), «Молитва во имя Любви» (1997) и др. - сочинения, несущие авторское видение жанра и смысла слов.
Молитва интересует композитора и сама по себе как отдельное многомысленное произведение, и в «ансамбле»
с другими молитвословиями - как часть богослужебного цикла (литургия) или песнопение, входящее в некий «круг песен»
(например, «Пасхальные роспевы Древней Руси», 1997).
Литургия св. Иоанна Златоуста В. Кикты — оригинальное произведение, написанное для смешанного хора в соответствии с православным чинопоследованием (на украинском языке)19. Музыка Литургии - высокохудожественное отражение
содержания и духовного смысла этой службы. «...Всякому, со
вниманием следующему за Литургиею, повторяя каждое слово,
глубокое внутреннее значение ее раскрываться будет само собою», - писал Н. В. Гоголь [3, 324]. В последовании канонических песнопений, в словесно-музыкальных образах композитору
удается раскрыть это «глубокое внутреннее значение». Красота,
чистота и любовь - вот то впечатление, которое оставляет это
мастерское и талантливое произведение наших дней.
Структура Литургии Кикты несколько отличается от
Обихода: 31 номер - это последование, в котором отражены
только главные песнопения, при этом часть кратких молитвословий музыкально обособляется, что придает им особую значимость и выразительность. Цельность этому циклу придает
ряд продуманных и удачно найденных приемов в музыкальном
становлении - тематическом, тональном и драматургическом.
Естественно возникают вопросы: что в этом произведении от
многовековой традиции, а что есть авторское начало, исходящее из современного композиторского понимания и слышания?
Традиционное заложено в глубинной структуре, которая обнаруживает себя в общем художественно-образном
строе. Как мыслит композитор?
Не ставя задачи привлечь древние напевы (есть одна
только ссылка на образец Киево-Печерской Лавры), автор мыслит в мелодийно-певучих формах, свойственных южнорусской
культуре (включая и народную песенность).
19. В нашем тексте даются те наименования песнопений, которые приводятся в соответствующей богослужебной литературе.
Не воспроизводя композиционно-структурные особенности песнопений, В. Кикта ориентируется на «строфность»,
тексто-музыкальное членение, а именно - «строки».
Не пытаясь давать свой вариант «древней гармонии»,
композитор следует прообразу киевского Обихода, фонизм
которого не чужд общеевропейским звучаниям (тональность:
терцовость, функциональность, TSDT-каденционность и др.).
Но Литургия В. Кикты - музыка современная, в которой авторское «я» растворяется в соборном «мы». Индивидуальное начало слышится в многоразличии толкований и приемов. Среди них обозначим следующее:
Я Композиция цикла - это, с одной стороны, своеобразное прочтение смысла каждой малой (например. Аллилуйя,
Ектения и пр.) или большой молитвы (например, Блаженны,
«Верую»), а с другой - создание единой литургической службы, основанной на интонационно-тематических и тональногармонических взаимодействиях.
в Многоголосие цикла - это поистине «мелодиегармония», то есть слияние горизонтали и вертикали в «единораздельный» процесс. Поющее голосоведение есть не только
«панмелодизм» партий, но и включение специальных полифонических эффектов, в том числе и пространственных. Антифонные по внутренней структуре «Благослови, душе моя. Господа»,
«Свят, свят, свят Господь Саваоф» и другие суть современные
примеры полифонии пластов, а молитва «Достойно есть», напротив, ассоциируется со старинной музыкой, европейским
полифоническим хроматизированным фонизмом в жанре всеобщей похвалы Богородице.
Я Тембризация цикла — искусство, владение которым
В. Кикта демонстрирует в каждом из своих хоровых произведений. Соло и «все», «малые хоры» (термин В. Чернушенко)
внутри единого песнопения, туттийное звучание - все эти фактурно-тембровые приемы наполняют пространство сдержанновеличественной Божественной Литургии.
Духовное начало произведений В. Кикты, охватывая
многоразличие жанров, по-разному проявляется в стилистике
его произведений — хоровых и инструментальных. И аналитический подход должен включать, с одной стороны, общность
приемов, а с другой - их единичность. Последнее особенно
значимо для «конструктивных принципов», оказывающих существенное воздействие на структурные черты стиля произведения.
Духовный смысл, искренность чувств и мастерство партитурного письма оказались особенно близкими коллективу Хоровой
академии под руководством профессора Виктора Попова.
EJttl
Анатолий Киселев (р. 1949) - композитор, сочинения
которого привлекают все большее внимание исполнителей
и слушателей. «В короткий промежуток времени его можно
встретить на стажировке по электронной музыке в С Ш А и
в келье старого монаха, записывающего древние распевы.
Он пишет ортодоксальную духовную и светскую музыку, которую исполняют лучшие храмовые и светские хоры в России и за
границей, а также ультра-авангардные электронные композиции...» - пишет А. С. Соколов в аннотации к диску. Хоровая
музыка, и особенно литургическая, стала стилистической доминантой художественного творчества композитора 20 . К настоящему времени исполнены и записаны такие его духовные
сочинения, как «Песнопения всенощного бдения», «Отче наш»,
«Милость мира», «Ангел вопияше», «Херувимская», «Приидите поклонимся», «Избранный Чудотворче» и др.
Для музыкального языка этого композитора характерно, во-первых, то, что стало «стилем времени», — тяготение
к традиционным жанрам, по-своему интерпретированным;
а во-вторых — стремление к созданию такого музыкального
образа песнопения или молитвы, который бы отражал авторское «звукосозерцание». Это качество музыкального языка слышится как в крупных формах (номерах Всенощной — например,
«Блажен муж», «Благословен еси Господи», «Величитдуша моя
Господа»), так и в различных малых формах (например, «Отче
наш», «Ангел вопияше», «Свете тихий», «Богородице Дево,
радуйся»).
Особой приметой нашего времени явились два конкурсных произведения - «Княжения твоего славу отложив»
(тропарь преподобному и благоверному великому князю
Даниилу Московскому, чудотворцу) и «Избранный Чудотворче» (кондак - ему же), исполненные на фестивальном концерте (хор Данилова монастыря, регент Г. Сафонов). Что характерно для стилистики этих духовно-музыкальных сочинений
Киселева?
В отличие от более ранних, эти песнопения носят на
себе печать стилизации, то есть музыкальных приемов, характерных для «почвенных» образов. Диатоника, почти заполняющая музыкальное пространство и лишь иногда уступающая
его элементам простейшей хроматики; ритмика, отражающая
20. Среди светских хоровых произведений - «Русская свадьба» концерт для хора (слова народные), «Времена года» - концерт для
хора (слова народные), Четыре элегии - для женского хора (слова
Ф. Тютчева), исполненные Большим хором Белорусского радио и телевидения под рук. проф. Виктора Ровдо.
строение текста, а отсюда и несимметричная, с характерным
переменным размером; фактура, сочетающая мелодическое и
гармоническое начала в подвижной плотности (от одно- до шести голосия) и вертикально-горизонтальном складе; форма, становление которой определяется поэтическим словом, - вся эта
стилистика музыкального языка способствует созданию древнерусской образности.
В произведениях более ранних автор не столько воспроизводит интонационную палитру древнерусского пения
(хотя и встречаются «обработки»: «Блажен муж» - в духе распевов Киево-Печерской Лавры, «Благословен еси Господи» знаменный распев в расшифровке архим. Матфея), сколько
пишет в стиле Московской школы (и, в частности, П. Чеснокова, Гречанинова). Классико-романтическая тональность, темброво-дифференцированная партитура (соло и тутти), текстомузыкальная ритмика («симметричная» и относительно
«свободная»), мелодизированная гармоническая фактура - эти
средства суть авторски осмысленная стилистика русской духовной музыки в пору ее расцвета в начале X X века.
Виктор Улъянич (р. 1956) - композитор, в творчестве
которого духовное начало образует особый мыслительный
пласт, претворяемый как в симфонической, так и в хоровой
музыке21. Интеллектуальное начало, соединенное с поэтической образностью, идейно-эстетические построения в сочетании
с современной техникой композиции — вот некоторые характерные особенности стиля композитора. «Первичные модели»
творчества выявляют область тесно взаимосвязанных интересов: «Игра света» (для квартета арф) - отражение мерцания
звезд, блуждающих огней, бликов на воде, лунного сияния,
словом, «слышание музыки миров» в духе позднего Скрябина;
«Дыхание Космоса» (для брасс-квинтета) - осознание человека во «вселенском зеркале» мироздания, в ритме живого организма, в «ладозвонах» гудящих голосов мирового океана;
«Звездный ветер Кассиопеи» (для компьютера UPIC) - воспроизведение единства законов макро- и микромира, вселенной
и человека, управляемого Всевышним.
И, наконец, — «Святозвоны» (концерт для двух роялей,
1992), где тайное становится явным: «Христос воскресе из мертвых» - «В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не
познал...»22 Воспринять, осознать, понять, пережить, передать,
21. О сочинении «Христос воскресе из мертвых» см. [5].
22. Смысл События непревзойденно выразил св. Иоанн Златоуст:
«...Воскресе Христос, и падоша демоны. Воскресе Христос, и радуют-
постичь в звуках непостижимое - вот задача, которую ставит и
решает композитор в этом произведении, ставшем частью грандиозного цикла. «Семь светозвонов "Таинство Света" - это художественное воплощение музыкальных созерцаний, видений
и переживаний, связанных с главными событиями в духовной
истории человечества, сего внутренней устремленностью к своему высшему предназначению, Божественная суть которого
раскрылась и в земной жизни Иисуса Христа...» — эти слова
композитора Виктора Ульянича есть «художественное размышление о Вечном Божественном зове в душе человеческой...»
[цит. по: 18, 168].
« Таинство Света» основано на глубокой философскорелигиозной идее, находящей художественно-эстетическое
воплощение в новом жанре «светозвона», смысл которого в стремлении к «Свету невидимому, Предвечному, Божественному...» (В. Ульянич). Жанровая форма этого оркестрово-симфонического цикла определяется конкретной тематикой частей,
из которых осуществлены три: «К Разуму» (1987), «Космическая фантасмагория» (1991), «Христос воскресе из мертвых»
(1993). Осознав теоретически и практически музыкальный космос выразительных средств как «большую систему», где каждый компонент наделен структурой и функцией, композитор
востребует их в соответствии с разработанной им «матрицей»
жанровой формы 23 . Не имея возможности останавливаться на
этом интересном моменте [см. более подробно: 4, 51~58], попытаемся обобщить наши представления о музыкальной стороне духовных композиций Ульянича.
Ш Система музыкально-выразительных средств есть
современный музыкальный язык, в котором довольно жестко
определены и единицы, и способы их взаимодействия.
' И Система музыкально-выразительных средств есть
совокупность приемов, имеющих корни в прошлом (например,
интонационный словарь Святозвона-VI, проистекающий из
древнего тропаря «Христос воскресе из мертвых...») и в настоящем (общая ладотональная организация как 12-тоновость
авторского образца).
Система музыкально-выразительных средств есть
«движение звуковых структур в многомерном пространстве»,
ся Ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе, Христос бо, восстав от мертвых,
Начаток усопших бысть. Тому слава и держава во веки веков. Аминь»
(из Огласительного слова, читаемого во время утрени).
23. О научных аспектах концепции В. Ульянича см. его кандидатскую
диссертацию: [20].
Е
Ш
наполняющем весь потенциал произведения - его содержательные и формообразующие модели.
В ряду композиций, входящих в новейшую сакральную
музыку, видное место принадлежит произведениям Арво Пярта.
«Постепенно Пярт осознал свои вокальные сочинения как "живое Евангелие" в традиции христианского духовного единства.
Его "сеттинги" на псалмы (например. Miserere), на мессу (Berliner
Mass), на пассионы (Passio), отдельные тексты из Нового Завета, молитвенные гимны (Те Deum, Magnificat), как и тексты
Восточной церкви (Litany, Kanon pokajanen), стали наиболее
значительными сочинениями современной религиозной музыки», - пишет в «Артистической биографии» Герман Конен [24].
Композитор стал писать тихую, глубокую и красивую музыку,
музыку как выражение гармоничного мирочувствия, пронизанного духом сосредоточенной и благостной молитвы.
Специфическая группа произведений последнего времени, в которых запечатлена сакральная идея, как и характерные для А. Пярта выразительные средства, это: Bogoroditse Djevo
(1990) - молитва «Богородице Дево, радуйся»; Litany (1994,
rev. 1996) — молитвы Иоанна Златоуста на каждый час дня
и ночи; Kanon pokajanen (1989, 1997) - «Покаянный канон
ко Господу Иисусу Христу» 24 . Что характерно для музыкальной
стилистики, отражающей столь серьезное «художественное
задание»?
Принципы, заложенные в так называемом «tintinnabuli
style» (букв. - «стиль колокольчиков»), — минимум выразительных средств при максимуме соответствия замыслу - получили дальнейшее развитие. Согласно Пярту, ясность достигается
благодаря постоянно применяемому методу «простые маленькие правила». Присмотримся к технике композиции на конкретных примерах.
«БогородицеДево» (Bogoroditse Djevo) - хор на церковно-славянский текст. Музыкальный образ, созданный минимумом средств, не есть стилизация жанра этой молитвы средствами славянской же музыкальной «письменности». Однако ряд
характерных черт — краткость, повторность, антифонность, моноритмичность, сочетание речитативности и репетитивности
(минималистской остинатной повторности) с распевностью и,
главное, артикулированность музыкального текста - все это
оставляет впечатление ориентации на древний образец. Тональность Пярта, казалось бы, проста и незатейлива: ясная
24. Названия произведений даем в соответствии с православной традицией, запечатленной в официальных изданиях.
тоникализация, диатоника, функциональность гармонических
оборотов, особенно закпючительно-кадансового. Однако своеобразное темброво-фактурное решение и композиционный
план (нетипичная репризность), темп и ритм оставляют впечатление свежести красок в рамках строго регламентированных
средств.
Особое место, на наш взгляд, занимает «Покаянный
канон ко Господу нашему Иисусу Христу» (Kanon pokajanen,
1997) для смешанного хора a cappella (на церковно-славянском
языке) - произведение, подобного которому нет ни в русской,
ни в зарубежной музыке. «Много лет назад, когда я впервые
был вовлечен в традицию Русской Православной Церкви, я
натолкнулся на текст, который произвел на меня глубокое впечатление, хотя я не понял его в то время. Это был канон покаяния», - писал Пярт в аннотации к концерту. Музыка Канона оставляет глубокое впечатление, чему способствует, прежде всего,
высокий духовный модус: поистине - «Горе имеем в сердцах»...
Внешне аскетичный по звучанию, сдержанный и сосредоточенный по настроению, он внутренне глубок и богат, как и то Слово, которое музыкальный образ воплощает. «В этой композиции, как во многих моих вокальных работах, я попытался
использовать язык как точку отсчета. Я хотел, чтобы слово имело возможность найти свой собственный звук, вырисовывая
свою собственную мелодическую линию».
Канон Пярта - это тот редкий случай, когда жанр и
музыкальная форма полностью совпадают с «первоисточником», когда воля композитора полностью сливается с волей
автора древнего поэтического текста. В тексте «последования»
Пярт ничего не меняет и полностью сохраняет закономерности
его структуры 25 . Это девятичастная композиция, состоящая
из тексто-музыкальных «песен», каждая из которых включает
ирмос и тропари; кроме того, обязательны кондак («Душе моя,
почто грехами богатееши...») и икос («Помысли, душе моя,
горький час смерти...»), поемые по б-й песни; завершает Канон
молитва («Владыко, Христе Боже...»)26.
25. «Канон - есть песнопение, составленное по известному правилу
или образцу и состоящее из нескольких песней, иногда 2, 3, 4, а чаще 9. Каждая песнь составлена по образцу одного из 9-ти гимнов ветхозаветных и состоит из ирмоса и нескольких тропарей», - пишет известный исследователь «литургического музыковедения» [15].
26. Авторские именования в партитуре следующие: Ode I, Ode II,
Ode III, Ode IV, Ode V, Ode VI - Kontakton - Ikos, Ode VII - Memento,
Ode VIII, Ode IX - Ninje k vam («Ныне к вам прибегаю...»), Gebet nach
dem Kanon.
w
u
Композитор не только следует за канонической структурой, но и отражает музыкальный «обычай», то есть способ
передачи слова в звуках. Имеется в виду принцип уподобления: «моделью» является 1-я песнь, по образу и подобию которой строятся остальные (с некоторыми вариантами, связанными с изменениями текста). Становится понятным заявление
композитора: «Канон показал мне, как много выбор языка предопределяет в характере работы, и, на самом деле, полная
структура композиции подчинена тексту и его законам: это позволяет языку "создавать музыку"» (из аннотации к концерту).
Новейшая сакральная музыка - тема, которая имеет
перспективу, уходящую в бесконечность, и наши заметки суть
«предисловие» к ней.
Рассмотрев немалое число музыкальных «фактов», мы
убедились, что за относительно короткое время они сумели завоевать широкое художественное пространство. Современная
сакральная музыка, понимаемая и как храмовая, и как внехрамовая, — это такой пласт культуры, который, сосуществуя
в одновременности со многими другими, образует с ними
целостное единство, востребованное духовными запросами
общества.
«Вот художественная болезнь нашего века: люди внимают искусству духовно глухим ухом и созерцают искусство
духовно слепым глазом, - писал И. А. Ильин. - И потому от
всего искусства они видят одно чувственное марево; и привыкают связывать с ним свою утеху, свою потеху и свое развлечение... И пусть не говорят нам об "изжитых" традициях искусства;
ибо священные традиции не изживаются никогда! Великое
искусство будет и впредь всегда, как и было всегда, служением
и радостью» [7, 249].
Творить, вслушиваться, созерцать, вдумываться, постигать, изучать - наша общая задача.
Литература
1. Белоненко А. Хоровая «Теодицея» Свиридова j j Георгий Свиридов.
Полн. собр. соч. Т. 21. М.; СПб., 2001.
2. Булгаков С. Апокалипсис Иоанна. М., 1991.
3. Гоголь Н. Размышления о Божественной Литургии / / Гоголь Н. Духовная проза. М., 1992.
4. Гуляницкая Н. interaction: взаимодействие науки и музыки в творчестве В. Ульянича // Музыкальная академия. 2000. № 1.
5. Гуляницкая Н. Поэтика музыкальной композиции. М., 2002.
6. Извеков Ю. Новые задачи православной церковной музыки в России / / Русская духовная музыка в документах и материалах. М., 2002.
7. Ильин И. Что такое искусство? // Одинокий художник. Статьи, речи,
лекции. М., 1993.
8. Ильин И. Основы христианской культуры // Там же.
9. Кастальский А. О моей музыкальной карьере и мои мысли
о церковной музыке // Музыкальный современник. 1915. № 2. Там же //
Духовная музыка. Документы и материалы. Т. 1. М., 1998.
10. Лосев А. Проблема художественного стиля. Киев, 1994.
11. Лосев Д. Философия имени // Лосев А. Бытие. Имя. Космос. М., 1993.
12. Михайлов А. Слово и музыка / / Слово и музыка. Памяти
А. В. Михайлова. Материалы научных конференций / Научные труды
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
Сб. 36. М„ 2002.
13. Никольский А. Духовные концерты и их задачи // Русская духовная
музыка в документах и материалах / Сост. А. А. Наумов, М.П. Рахманова. М„ 2002.
14. Никольский А. П. И. Чайковский как духовный композитор / / Музыкальная жизнь. 1990. № 9.
15. Преображенский А. Словарь церковного пения. М., 1897.
16. Рудник О. Образы Священного писания в творчестве О. Мессиана.
Автореф. дис. ... канд. иск. М., 2000.
17. Русская духовная музыка в документах и материалах / Сост.
А. А. Наумов и М. П. Рахманова. Комм. М. П. Рахмановой. Т. III. М., 2002.
18. Смирнова И. Творческий портрет Виктора Ульянича в зеркале его
произведений и высказываний // Процессы музыкального творчества.
Вып. 5 / Ред. и сост. Е. В. Вязкова. М., 2002.
19. Трубачев С. Музыка и символ в творческом преломлении П. А. Флоренского / / Музыкальная академия. 1999. № 3.
20. Ульянич В. Компьютерная музыка и освоение новой художественновыразительной среды в музыкальном искусстве. Автореф. дис. ... канд.
иск. М., 1997.
21. Архиеп. Филарет (Гумилевский). Исторический обзор песнопевцев
и песнопения греческой церкви. Репринтное издание. Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, 1995.
22. Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина. М., 1996.
23. Шульгин Д. Признание Эдисона Денисова. М., 1998.
24. Conen Н. Artistic Biography // Arvo Part. Wien: Universal Edition, 1999.
Эволюция
хоровых жанров
Вторая половина X X столетия, насыщенная драматическими событиями в России и на всей территории бывшего
СССР, совпала с глубокими преобразованиями в музыкальном
мышлении и - как следствие - в системе хоровых жанров.
Многие из них подтвердили свою жизнеспособность в новых
исторических условиях, иные, наоборот, отошли в тень (массовые хоровые песни, праздничные кантаты-дифирамбы),
а гонимые при советской власти жанры православного певческого искусства наконец возродились к новой жизни на концертной эстраде.
Причиной тому - коренные изменения в духовной жизни общества, произошедшие в 80-90-е годы, и последовавшая
перед 1000-летием Крещения Руси (1988) отмена запретов
на публичные исполнения духовных песнопений. Перестройка
общественного сознания (в том числе индивидуального композиторского), характерная для постсоветского времени, повлекла за собой существенную перестановку акцентов в восприятии
новой музыки и предназначении музыкального искусства в целом, что не могло не сказаться на его жанровой структуре.
Хоровые жанры в новых условиях
Радикальные перемены в хоровом искусстве России
последней четверти X X века стали неизбежными главным образом благодаря вновь появившейся возможности публикации
и исполнения православных песнопений. С тех пор к непрерывающейся в своем развитии традиции светской музыки добавляется духовная, насильственно приостановленная в своей
исторической эволюции на несколько десятилетий, начиная
с 20-х годов. Творческие интересы большой группы композиторов - авторов хоровой музыки - в 90-е годы устремились
к религиозной тематике, и чуть ли не главный приток новых
хоровых сочинений составили тогда именно духовные песнопения. К ним тяготели почти все композиторы — и консерваторы-традиционалисты, и авангардисты, многоопытные мастера
и авторы, только вступающие в активную творческую жизнь.
Поэтому в последнем десятилетии века две сферы композиторского творчества - духовная и светская — опять (как и в дореволюционное время) функционируют вместе в органичном
взаимодействии.
Издавна было принято различать духовную и светскую
музыку — в зависимости от ее предназначения и среды бытования. Сохраняя эту музыкально-жанровую дихотомию (отраженную и в структуре данной главы) в качестве отправного пункта
для более подробной жанровой классификации, следует подчеркнуть, что в ряде случаев такое разграничение носит условный характер, так как лишь в самых общих чертах намечает реальную жанровую панораму современной хоровой музыки.
Во второй половине X X века, особенно к концу его,
иерархия музыкальных жанров значительно усложнилась.
Появилось множество новых, синтетических жанровых образований и жанров пограничных, смешанных, дополнивших
ранее сложившиеся относительно простые (заслуживает внимания, в частности, жанровая систематика, предложенная
О. В. Соколовым [см.: 15]).
Ряд современных, подчас весьма свободных трактовок
композиторами традиционных жанров наглядно подтверждает
мысль о постоянном развитии и, следовательно, постепенной
трансформации жанров. Эта идея по-своему варьировалась
разными исследователями. Как пишет, например, М. Бахтин,
«жанр всегда тот и не тот, всегда стар и нов одновременно...
Именно поэтому жанр способен обеспечить единство и непрерывность развития» [2, 178-179].
Применительно к музыке ту же мысль проводит
О. Соколов, отмечая, что «необходимо представлять морфологическую систему (музыки. - Ю. П.) как д и н а м и ч е с к у ю ,
учитывающую всевозможные изменения в жизни родов
и жанров, их сложное взаимовлияние, возникновение новых
и переосмысление прежних явлений...» [15, 184]. Одновременно
исследователь утверждает: «Взаимосвязь формы и жанра
такая тесная, что в обиходе часто представляется тождеством»
[15, 189].
Динамика хорового творчества в постсоветскую эпоху
проявилась не только в переосмыслении или видоизменении
композиторами жанровых стереотипов, но и в колебаниях
индивидуального вклада ряда мастеров в современную хоро-
вую культуру. В 90-е годы продолжали интенсивно творить
Р. Леденёв, А. Николаев, В. Рубин, Ю. Фалик, А. Флярковский,
В. Калистратов, В. Пьянков. Резко снизили творческую активность в хоровой сфере Г. Свиридов, Р. Щедрин, С. Слонимский,
В. Гаврилин, прежде создавшие немало замечательных произведений. Зато в тот же период стало заметнее растущее в новых произведениях мастерство представителей среднего композиторского поколения: А. Ларина, Е. Подгайца, К. Волкова,
Г. Дмитриева, В. Кикты, А. Киселева - в Москве; Г. Белова,
А. Королева, Д. Смирнова - в Петербурге; Б. Гецелева, Э. Фертельмейстера - в Нижнем Новгороде. Среди авторов исполняемых хоровых сочинений стали чаще встречаться новые имена:
А. Микита, В. Генин, В. Сариев, С. Екимов, А. Смелков... Хоровые жанры эволюционировали в их творчестве в целом весьма
значительно.
При всем разнообразии направлений и эстетических
позиций авторов, в хоровом творчестве не было открытого противоборства художественных течений. Однако наметилось явное противостояние некоторых из них. Г. Свиридов, заявляя о
своей приверженности традициям русской классической школы (Мусоргского, Бородина, Рахманинова), не принимал модного в 60-е годы увлечения новыми техниками композиции.
Большинство авторов хоровой музыки не восприняли тогда
серийного метода сочинения - даже те, кто, как В. Салманов,
опробовал этот метод в инструментальных опусах (подробнее
об этом см.: 11, 79-86, 199-227).
К Свиридову примыкали и творили в стиле, близком
свиридовскому, В. Рубин, Р. Леденёв, А. Николаев, В. Кикта,
А. Микита - в Москве; В. Гаврилин, Г. Белов, А. Королев в Ленинграде (Петербурге). Этих музыкантов можно условно
назвать композиторами свиридовского круга. Для них развитая мелодия, широкий вокальный распев с опорой на песенные формы и песенность в широком смысле слова (как жанровое свойство) становятся главными стилеопределяющими
качествами.
С другой стороны, первым советским авангардистам - Э. Денисову, -А. Шнитке, С. Губайдулиной, еще
в 60-е годы взявшим на вооружение технику нововенской
школы, фактически противостояли в последней четверти века
и некоторые представители другого композиторского поколения, родившиеся в середине столетия. А. Королев (р. 1949),
например, обратился в хоровом творчестве к старинным
жанрам и техникам - мотета, мадригала, русской народной песни, полифонии строгого стиля.
В последней четверти века весомее и многочисленнее
становится группа мемориальных сочинений. Она складывается, во-первых, из циклических опусов, называемых обычно
«венками», и, во-вторых, из произведений, посвященных памяти современных крупных художников. Подобно литературно-поэтическим венкам сонетов (Шекспир, Петрарка), композиторы в этот период создают «венки» хоров. Так появились
многочастные хоровые концерты «Пушкинский венок» Г. Свиридова (к 180-летию поэта, 1978), «Венок Алябьеву» А. Николаева (к 200-летию композитора, 1987) и пятичастный «Венок
Г. Свиридову» Р. Леденёва.
В 90-е годы отечественная музыка понесла тяжелые
утраты. Менее чем за 10 лет ушли из жизни выдающиеся композиторы, в том числе корифеи хорового творчества - Н. Сидельников (1992), Э. Денисов и Б. Чайковский (1996), А. Шнитке (1997), Г. Свиридов (1998), В. Гаврилин (1999), Н. Лебедев
(2000)... Их памяти посвящено немало произведений, созданных за последние годы; самый художественно весомый и
обширный пласт мемориальных опусов был связан с именем
Г. Свиридова. Заметным событием музыкальной жизни стало
исполнение «Эпитафии Георгию Свиридову» В. Рубина (2001).
Но особенно широко и разносторонне связан с музыкой Свиридова тематизм и стиль мемориального опуса Р. Леденёва, который первым откликнулся в музыке на кончину
великого композитора. «Мне хотелось, - пояснил автор в примечании к партитуре, - чтобы в этом сочинении... все напоминало о Свиридове, его музыке - стилистика, характер, образы, мелодический, гармонический и тембровый склад.
Название "Венок Свиридову" дано по аналогии с "Пушкинским
венком". Хоров - пять, как в цикле Свиридова "Пять хоров на
слова русских поэтов"».
Сердцевина леденёвского цикла, его III часть, «Край
любимый», - самый удачный авторский парафраз свиридовского стиля. Тонко расслышанные и воспроизведенные композитором свиридовские интонации органично переплетены
с естественной просодией есенинского стиха, столь любимого
Свиридовым в пору расцвета его таланта (особенно в 50-е годы).
Жанры светской музыки
В области светской музыки самую обширную жанровую сферу образуют хоровые сочинения малых форм для хора
a cappella или с камерно-инструментальным сопровождением - песни, хоры, поэмы, сочиняемые как самостоятельные
небольшие композиции или, чаще, объединяемые в группы
пьес, опусы или циклы миниатюр.
Эволюция хоровых жанров в рассматриваемый период происходила одновременно и наравне с эволюцией индивидуальных хоровых стилей, оба процесса интенсивно взаимодействовали.
Своеобразное ответвление современной хоровой лирики образует творчество Р. Леденёва. Большой мастер гармонически изысканного, красочного хорового письма, являясь
давним приверженцем музыки Свиридова и его эстетических
принципов, Р. Леденёв и после кончины великого композитора
остался верен избранному ранее художественному курсу. Излюбленная сфера композиторских исканий Леденёва область рафинированных, терпких хоровых звучаний. Композитор находит новые краски в полигармонических сцеплениях,
сплетениях нескольких аккордовых линий и обогащает выразительную палитру хора яркими импульсами интонационной
экспрессии. Гармонии обретают при этом неожиданные оттенки благодаря самобытной вокально-тембровой расцветке.
Избирая тексты преимущественно лирико-созерцательные, живописно-картинные, запечатлевая в музыке переливы оттенков настроений - подобно исканиям художниковимпрессионистов в области цвета и света, - Леденёв изыскивает
для их воплощения колоритные, эффектные созвучия-пятна...
Так в его хорах-картинах рождается оригинальная цветистая
ветвь музыкального
неоимпрессионизма.
Основные признаки этого стиля проявились уже в группе пьес хорового макроцикла «Времена года», сочинявшегося
с перерывами в 1978-1991 годах (шесть тетрадей включают
24 пьесы - 20 хоров и 4 инструментальные интерлюдии).
Леденёв продолжил неоимпрессионистскую линию и в последующем творчестве. Кульминацией его картинно-звукописной лирики стал хоровой триптих на стихи Н. Клюева (2003).
Одновременно сочинялся еще один хор на стихи Н. Клюева —
«Лесная родина». Сумеречно-сглаженная, неяркая красочность
пейзажей русского севера наложила определенный отпечаток
на образный строй «клюевских» хоровых поэм Леденёва
(по колориту они сродни музыкально-поэтическому строю
кантаты Свиридова «Ночные облака»).
Если Р. Леденёв после кончины Г. Свиридова продолжил характерную для творчества великого мастера камернолирическую линию, то В. Рубин подхватил и продлил фольклорную линию, прервавшуюся у Свиридова на рубеже 7 0 80-х годов. К 80-м - началу 90-х годов относятся хоровые поэмы В. Рубина, созданные на народные тексты: «Костромушка»,
«Христос воскрес», «Встань, батюшка, встань». Сочетание
оригинальной (авторской) музыки и фольклорной поэзии,
вообще характерное для современного хорового творчества,
на этот раз было особенно плодотворным, поскольку основывалось на обретенном композитором высоком мастерстве и вкусе к музыкальному фольклору.
Тема современной русской деревни становится притягательной для авторов хоровой музыки в б0~80-е годы. Подобно тому как творчество писателей-«деревенщиков» В. Белова,
В. Астафьева, В. Шукшина оказалось в центре художественных
исканий советской литературы рассматриваемого периода,
в музыке России, прежде всего хоровой, композиторов волновали проблемы и образы вымирающей русской деревни, уходящей в прошлое крестьянской культуры, уклада жизни, быта,
в течение столетий составлявших основу национальной психологии, жизнеустройства, мировоззрения. Данный аспект был
составной частью широко понимаемой темы родины, России
(«Наша Родина — Россия» - один из хоров Свиридова на стихи
А. Прокофьева).
В 5 0 - 6 0 - е годы эту тему затронул и художественно
ярко, глубоко воплотил в музыке Г. Свиридов - в хоровых и
вокальных сочинениях на стихи Есенина, а позднее — А. Прокофьева, П. Орешина, Ф. Сологуба и в кантате «Курские
песни». Стихи Н. Рубцова, продолжившего деревенскую тему
лирики С. Есенина, легли в основу сочинений К. Волкова
80-х годов: лирической кантаты «Тихая моя Родина» (1984),
поэмы «Видения на холме» (1986).
Первооткрывателем и ярчайшим интерпретатором
частушки в профессиональной музыке становится в 6 0 70-е годы Р. Щедрин. Помимо нескольких инструментальных
и симфонических произведений, с интенсивной разработкой этого пласта русского фольклора, опера «Не только любовь» (1961)
также во многом опиралась на частушечный тематизм. Развернутая хоровая сцена II действия (№ 10,11) построена на текстах
и напевах, заимствованных композитором из солигаличских
частушек.
В дальнейшем частушечные тексты и черты данного
«жанрового стиля» (А. Сохор) наиболее удачно использовали
в своих хорах В. Гаврилин («Припевки», позднее включенные
под названием «Посиделки» в хоровую симфонию-действо
«Перезвоны», 1981-1982), Г. Белов («Прощальная» на стихи
Н. Тряпкина), Г. Свиридов («Ночные запевки» из хоровой
поэмы «Ладога» на стихи А. Прокофьева, 1980). Именно
частушка (хор «Конфетка») легла в основу лучшей из одиннадцати обработок, вошедших в «Сентиментальный салон» В. Калистратова (1994).
Светская хоровая музыка России во второй половине
столетия развивалась в значительной мере под знаком фольклоризма. Фольклору, его обработкам, переложениям или
отдельным заимствованиям из него и художественно-стилевому синтезу с использованием народнопесенных тем тогда
отдали дань едва ли не все авторы вокально-хоровых сочинений. Пик композиторских исканий в этой сфере пришелся на
7 0 - 8 0 - е годы. Пристальное внимание к фольклору со стороны
композиторов и музыкантов-исполнителей в нашей стране всемерно поощрялось и усиливалось начиная с 20-х годов, когда
народные песни пополняли репертуар академических хоров
взамен ставших запретными церковных песнопений, а вновь
создаваемые профессиональные народные хоры и оркестры
народных инструментов были некоторой количественной «компенсацией» стремительно сокращавшихся церковных хоров.
Долгое время основным видом синтеза профессионального композиторского и народного творчества в русской
музыке оставалась обработка народной песни для хора
a cappella или, реже, с инструментальным сопровождением.
По мере постепенного ограничения доли цитируемого материала и одновременного увеличения доли индивидуально-авторского вклада в композицию ширилось разнообразие методов
композиторской работы с фольклором. И хотя традиционные
обработки фольклора до сих пор встречаются в композиторской практике, за последние полвека другими формами сочетания двух названных видов творчества последовательно становились: 1) стилизация народной песни; 2) свободная
обработка народной песни, при заимствовании лишь одного
начального мотива из фольклорного оригинала (обычно начального) с добавлением к нему новых мелодических построений; 3) оригинальная авторская композиция на фольклорный
текст. Стремление к повышению степени композиторского вмешательства, к основательной переработке фольклорного первоисточника, все чаще используемого только как первоначаль ный импульс к созданию оригинальной музыкальной
композиции, наиболее явно в двух последних разновидностях
из трех только что приведенных.
Например, в двух хорах А. Королева на стихи И. Бунина приемы художественной стилизации русской народной
песни внешне, казалось бы, сходны, но по сути различны, ибо
связаны с музыкальным воплощением разнородных по смыслу
стихотворений. В хоре «Песня» (1980) сами стихи, послужившие литературной основой музыки, стилизованы поэтом в духе
народной песни - поэтому и в хоровом распеве бунинской
миниатюры дана адекватная ей, стилистически близкая фольклору музыкальная интерпретация песенного жанра.
Сложнее образное взаимодействие между стихом и
музыкой в лирико-философском хоре «Петух на церковном
кресте» (1994) того же автора. Здесь оно складывается на уровне глубинного содержания. Хотя затейливо-витиеватая вязь
множества сплетающихся голосов близка стилю русской протяжной песни, главное в образном строе музыки - передача
идеи бесконечного движения, осознание вечности и Божественного смысла мироздания. Хор поет о том, что «лишь на миг судьбою дан и отчий дом, и милый друг, и круг детей, и внуков круг,
что вечен только мертвых сон, да Божий храм, да крест, да Он».
В музыке воплощена идея бесконечного течения времени:
«День за днем идут года, текут века - вот как река, как облака».
Следуя смыслу этого ключевого поэтического тезиса, плавное
течение напева, начинаясь у одного голоса-ручейка, постепенно дополняется вторами, подголосками и, как полноводная река
в устье, разветвляется на рукава - разрастается до полифонического двенадцатиголосия (стройным divisi в каждой из четырех партий смешанного хора). Впечатляющий эффект неисчерпаемой полноводности могучего мелодического потока,
с чередованием динамических спадов и нарастаний, выразительно соответствует художественно-символическому подтексту бунинского стиха1.
Вместе с новой фольклорной волной, охватившей
хоровое творчество советских композиторов в 60-70-е годы,
в их песенных обработках, сюитах и кантатах, тематически
оригинальных опусах на фольклорные тексты шире зазвучали
мотивы частушек, былин, а также плачей, причитаний, заклинаний и других жанров, в прежние времена почти не встречавшихся в композиторской практике.
В период расцвета фольклоризма - от новой фольклорной волны 60-х годов до середины 80-х — наблюдалось
широчайшее разнообразие выразительных средств и отдельных приемов, заимствованных композиторами из фольклора
и заметно обогативших музыкальную лексику, стилевой диа1. Образ движущегося речного потока, разыгравшейся водной стихии, передаваемый безостановочным, остинатным перемещением
множества голосов, периодически встречался в хоровой музыке,
включая и картинные воплощения средствами народной подголосочной полифонии (как, например, в обработках народной песни «Вниз
по матушке, по Волге» А. Александрова, А. Свешникова или в хоре
Б. Лятошинского «Тече вода в сине море»). Но в данном случае сходный прием основан на оригинальном тематическом материале и имеет более широкий, обобщенный образный смысл.
пазон хоровой музыки. Это и расширенный диапазон вокального интонирования с применением характерных восклицаний,
возгласов, glissandi, «сбросов» тона в концовках фраз, служащих усилению певческой экспрессии; тембровое обогащение
спектра хоровых звучаний благодаря внедрению народной манеры пения вперемежку или в сочетании с академической.
В том же ряду — и вокализация на фонически звучные слоги
из арсенала частушек «под язык» (имитирующих игру на музыкальных инструментах), и так называемая «огласовка» согласных (распев согласного звука), типичная для тех же частушек
и народных песен.
Появившись в фольклористических опусах 6 0 70-х годов - у Щедрина, Свиридова, Сидельникова, Гаврилина,
Белова, - эти приемы получили развитие в музыке
80-х. Особенным разнообразием музыкально-лексических
заимствований из русского фольклора отличалась кантата
Н. Сидельникова «Сокровенны разговоры» (1975) с оригинальной музыкой на народные тексты. Некоторые из элементов
«игры» при пении включались все чаще в исполнительскую
практику начиная с 80-х годов, о чем говорят композиторские
ремарки в хоровых партитурах. Удачными находками такого
рода отмечены, например, хоровые концерты для смешанного
хора А. Киселева «Русская свадьба» (1985) и «Времена года»
(1986), оба на народные слова - примеры органичного перерастания цикла песенно-хоровых обработок в концертнотеатрализованное представление. Вполне художественно
убедительным оказалось соединение темброво разных певческих манер в кантате А. Ларина «Солдатские песни» для
народных голосов, академического хора и инструментального
ансамбля (1983 _ 1984). Произведение на стихи Н. Тряпкина,
И. Эренбурга, А. Прокофьева, В. Гончарова, С. Орлова, а также
фольклорные - о Великой Отечественной войне и мирной
деревенской жизни, искусно смонтированные композитором в
связное лирико-эпическое повествование, охватывает события
и людские судьбы мирного времени и суровых военных лет.
Находки тех лет и более ранние по-разному использовались
в 90-е годы. Широкое распространение в том десятилетии получили свободные обработки народных песен А. Флярковского,
В. Калистратова, Д. Смирнова...
Новые очертания приобретала к концу века и камерная хоровая лирика на авторские поэтические тексты. Еще
в 80-е годы у отечественных композиторов возрастает интерес
к поэзии Серебряного века и, шире, всего X X столетия. В этом
плане показательны хоровые циклы «Осень» Э. Денисова для
|
t
тринадцати солистов на стихи В. Хлебникова (1968), «Посвящение Марине Цветаевой» С. Губайдулиной для хора a cappella
в пяти частях (1984), Г. Дмитриева (на стихи И. Анненского)
и другие.
Одно из ранних лирических стихотворений А. Блока
легло в основу четырехголосного хора А. Королева «Мадригал»,
сочиненного по правилам полифонии строгого стиля (1976,
миниатюра в характере ренессансного мадригала). Убедительны композиционные решения и трактовки Королевым традиционных бытовых жанров в русском стиле. Таковы две миниатюры
из хорового цикла «След в мире» (1980) - «Песня» и «Романс»,
обе на стихи И. Бунина, для смешанного хора и солиста. После
реставрации двух мотетов К. Джезуальдо, осуществленной Королевым в 80-е годы, он увлекся музыкой эпохи Возрождения
и барокко. С тех пор его любимым жанром становится мотет.
Семиголосный мотет Королева «Ave Maria» для смешанного
хора (2000) написан в традициях, технике и стиле мастеров эпохи Возрождения. В иной композиторской манере выдержаны
его мотеты на русские тексты: кантата на стихи М. Ломоносова
«Два размышления о Божьем величии» и мотет для смешанного хора и сэмплера «Памяти О. Мессиана» на стихи С. Аверинцева (1998). Последний выделился органоподобной фактурой
с густыми наслоениями массивных хоральных аккордов (эта
деталь гармонии ассоциируется с музыкой французского мастера, именем которого назван мемориальный опус). В интонируемых стихах, как в притче, рассказывается о слетающихся из
заморских стран певчих птицах (еще одна аллюзия музицирования Мессиана, угадываемая в руладах сэмплера). Завершает
композицию торжественно-тихий квазиорганный хорал, гимн
мастерству ушедшего маэстро: «Органист труды свои кончил...».
Большая свобода по отношению к классической хоровой традиции отличает хоровое творчество Д. Смирнова.
Пик его музыкально-лексических новаций и творческих исканий приходится на 80-е годы. На смену экспериментам композитора с ограниченной алеаторикой, утонченно-хроматическим
интонациям в 90-е годы приходит большая ясность, прозрачность и тональная определенность. Но капризность ритмики,
интонационная изысканность сохраняются, как, например,
в хоровом романсе на стихи Пушкина «Нет, нет, не должен я...»
(2000). Пушкинские хоры Д. Смирнова - пример нового прочтения классической поэзии, обогащенного современными выразительными средствами и приемами, в отличие от традиционного композиторского подхода к стихам поэтов пушкинской
поры, предполагающего необходимость стилистического сближения современных произведений с музыкой отдаленной эпохи.
Определенную идейно-образную эволюцию претерпевает в этот период и творчество Г. Дмитриева. После хоровых
циклов на стихи поэтов-шестидесятников XIX века, а также
Т. Шевченко он обращается в 80-е годы к стихам А. Ахматовой
(«Реквием»), И. Анненского, а в начале 2000-х — к словам
Н. Рериха, К. Бальмонта, иеромонаха Романа... В 90-е годы творчество композитора фокусируется в сфере духовной музыки
и обретает черты более высокой ступени зрелости.
Кроме издавна развивающихся и соперничающих
композиторских школ Москвы и Петербурга, на обширном
пространстве Центральной и Восточной России начиная
с 70-х годов выдвигаются новые, вырастающие на базе консерваторий крупных городов: в Нижнем Новгороде (Горьком),
Воронеже, Екатеринбурге (Свердловске), Новосибирске.
Их представляли воспитанники А. Мурова по классу композиции в консерватории Ю. Юкечев, А. Шибанов - в Новосибирске,
плодотворно сотрудничавшие в 70-е годы с Новосибирским
камерным хором под руководством Б. Певзнера (в 80-е годы
хормейстер переехал в Тбилиси, а затем в Москву); В. Кобекин, А. Нименский, М. Кесарева - в Свердловске; В. Беляев,
М. Цайгер в Воронеже сочиняли хоровую музыку, с успехом
исполнявшуюся хором Воронежского института искусств под
управлением О. Шепеля (последний в 90-е годы эмигрировал,
а первый переехал в Москву)...
В Нижнем Новгороде в тесном контакте с хорами этого
«консерваторского» города, возглавлявшимися выдающимся
хормейстером Л. Сивухиным (1935-2002), до наших дней продолжает успешно работать группа композиторов, воспитанников А. Нестерова, в том числе Б. Гецелев и Э. Фертельмейстер.
Оба композитора среднего поколения, чье творчество достигает расцвета в 8 0 - 9 0 - е годы, представляют сегодня разные
направления в современной хоровой музыке. Э. Фертельмейстер - приверженец академических традиций, песенного стиля, несложного музыкального языка (эти черты присущи
и серии песен и песенок для детского хора с фортепиано, и произведениям для смешанного хора a cappella). Так, в хоре
Э. Фертельмейстера «Сахар был сладок» с красноречивым подзаголовком «Забытая песенка» (на стихи Л. Мартынова) не только мелодия, но и инструментализованная формула хорового
сопровождения в ритме вальса сохраняют связь с бытующими песенно-танцевальными жанрами (на грани простоты и банальности).
Б. Гецелев, прошедший через искушения авангардизма 70-х годов, познавший альфу и омегу серийного метода композиции, наоборот, сторонник нового синтеза в композиторском, в частности в хоровом творчестве, рационально
использующий в музыке разные композиторские техники и ладовые системы организации материала. В его творчестве
выделяются сочинения, отмеченные удачной компоновкой
стихов, позволяющей выстраивать оригинальные лирикофилософские концепции (хоровой триптих «Река времен»,
«Телега жизни» на стихи А. Пушкина, 1984, 1998). Другую линию в творчестве мастера образуют хоры на шуточные и сатирические стихи. Авторская ирония подчас передана в музыке
посредством искусно подобранных, стилистически узнаваемых
тем-символов (обороты в духе революционных песен и гимнов в заключительном хоре кантаты «Новые заповеди» на стихи Г. Остера, 1994).
Особое ответвление в светской хоровой лирике 8 0 90-х годов образуют произведения на иностранные тексты.
В их числе - ор. 41, «Сад любви» В. Пьянкова - 12 хоров
на стихи средневековых поэтов Франции для смешанного хора
(на французском языке, 1992-1993); «Vocaler Regen jenseits des
Vergessens» («Дождь голосов за забвеньем») С. Белимова на
тексты Э. Мерке, С. Белимова на иврите, латинском, французском, немецком и русском языках (1992, по заказу фестиваля
«Дни новой музыки» в Цюрихе) 2 . В рамках данной тенденции
промежуточное положение занимают два хоровых цикла Г. Белова, с распевом текста в той или иной из двух версий (на языке немецкого оригинала или в русском переводе) и потому предоставляющие дирижеру право выбора языка при исполнении
в России: Четыре песни для мужского хора на слова немецких
поэтов (1992) и «Европейские песни» для четырехголосного смешанного хора и б-ти духовых инструментов на стихи Г. Тракля,
Ф. Фрейлиграта, Ю. Кернера, Л. Тика (1993).
В музыкальном стиле обоих «немецких» циклов Г. Белова, в манере хорового письма, образном строе, фактуре
композитор продолжает линию музыкального романтизма
XIX века, созвучную литературной основе. В то же время черты
современного музыкального языка, привносимые в индивидуальную трактовку романтической поэзии, красочно-индивидуа2. В то же время появились и некоторые опусы иностранных авторов
на церковнославянском и русском языках, например «Заутреня»
К. Пендерецкого (1970) и его же «Слава великому князю Московскому - святому Даниилу» (1997).
лизированные гармонические обороты и мелодические интонации накладывают на музыку Белова печать неоромантизма.
К жанрам, заметно прогрессировавшим во второй
половине X X века (особенно в его последней четверти), относятся хоровые вокализы и, шире, бестекстовая хоровая музыка.
Если в прежние времена пение на слоги, на гласную или с закрытым ртом применялось изредка, как специальный выразительный прием, то начиная с середины X X столетия интерес композиторов к этим средствам резко возрастает.
Старейший вид бестекстового пения представляют
хоровые вокализы (пение с закрытым ртом или на гласную). Сопряженный, в отличие от остальных видов бессловесного интонирования, с плавным, мелодичным распевом широкого
дыхания, этот тип вокализации закономерно появился ранее
иных бестекстовых форм и органично вошел в хоровое искусство разных эпох и стилей. Область его применения в композиторской практике заметно расширилась во второй половине
прошлого столетия, когда появилась новая жанровая разновидность хорового концерта — концерт-вокализ3. Исторически первым, художественно совершенным его образцом явился «Концерт памяти А. А. Юрлова» Г. Свиридова (1974), ставший
классикой X X века. За ним последовали концерты-вокализы
Ю. Юкечева, В. Рубина, А. Холминова (для смешанного хора
и виолончели), хоровое Концертино Р. Щедрина (1982).
Хоровые вокализы нередко используются также и как
часть многослойной партитуры либо в качестве раздела композиции. На фоне хорового вокализа звучат, например, мелодии солирующих голосов, распевающих стихи И. Бунина,
в миниатюрах А. Королева «Песня» и «Романс» (альт, тенор).
В его же двухорной композиции «Зимняя ночь» одному из хоров, участвующих в исполнении, поручена роль гармонического сопровождения в виде вокализа, аккомпанирующего голосам, ведущим мелодию.
Разнообразные функции выполняют эпизодические вокализы в хорах Свиридова. Существенную роль играет в его
сочинениях 7 0 ~ 8 0 - х годов эпизод-вокализ. Встраиваемые
в композицию с обычным интонированием текста бестекстовые
хоровые эпизоды продолжают развитие музыкальной мысли,
3. Исторически предтечей этого хорового субжанра можно считать
Концерт для голоса с оркестром Р. Глиэра (1943). Но, в отличие от
этого жанрово уникального образца вокальной музыки, хоровые
концерты создаются, как правило, для пения без сопровождения (изредка - с участием одного или нескольких аккомпанирующих инструментов).
щшш
подобно инструментальным отыгрышам в романсе или арии.
В 90-е годы этот прием встречается и у Г. Дмитриева (хорально-аккордовые интермедии-вокализы между разделами хора
«Казнь» и вокализ, сопровождающий монолог солиста
в первом из Шести хоров на слова русских поэтов, ц. 1).
Особую группу бестекстовой хоровой музыки образуют хоровые сольфеджио, представляющие линию виртуозного
вокального музицирования инструментально-концертного
типа. Наибольшее распространение они получили в хоровой
музыке 70-х - начала 80-х годов - у Ю. Фалика («Два сольфеджио»), А. Пярта («Сольфеджио»), Р. Щедрина (III часть хорового «Концертино»), Т. Корганова (прелюдии и фуги для хора
a cappella Es-dur, C-dur и Des-dur). Приемы пения на фонические
слоги, применявшиеся в технике хорового сольфеджирования,
эпизодически используются и в музыке 90-х годов. Так, Е. Подгайц, написавший в 1979 году «Концертино-сольфеджио»
для детского или женского хора a cappella, использовал тот же
прием несколько иначе в хоре «Вещая печаль» на стихи О. Мандельштама (2000), введя репетитивную хоровую скороговорку
на слог «да», служащую тембро-колористическим фоном для
развертывания мелодии у солирующей партии.
Бессловесная вокализация имеет некоторое преимущество перед вокальной музыкой с интонируемым текстом.
Не апеллируя к слову и стоящему за ним конкретному смысловому значению, она таит в себе более широкие возможности
для образных ассоциаций, заключает в себе неограниченную
свободу смысловых интерпретаций музыки и не требует перевода на другие языки (при исполнении в любом уголке
земного шара).
Существенно влияли на развитие хорового творчества
процессы, происходившие в других видах искусства, особенно
в области литературы, книгоиздательстве. За 90-е годы было
издано множество замечательных книг, в том числе тех,
публикация которых еще в 80-е годы была бы невозможна:
историографические труды, литературные памятники, летописи, жития святых, сборники духовной поэзии... Некоторые из
них послужили литературной основой для новых хоровых опусов. Тогда же и несколько ранее, в 80-е годы, усиливается интерес отечественных композиторов к исторической тематике.
В этом отношении показательны две оратории на
историческую тему, повествующие о становлении Киевской
Руси как государства, о Крещении Руси и написанные почти
одновременно: «Житие князя Владимира» А. Королева (1981)
и «Из "Повести временных лет"» Г. Дмитриева (1983). Хотя оба
сочинения созданы главным образом на основе одного литературного памятника - «Повести временных лет», затрагиваемые в них события совпадают лишь отчасти: в одном случае
акцент сделан на деяниях одной исторической личности,
а в другом рассказ ведется о нескольких правителях Древней
Руси и сопредельных государств. В первой из ораторий действие
разворачивается на протяжении правления князя Владимира
(980-1014), а во второй охвачен обширный период развития
Киевской Руси от правления Олега (879~912) до эпохи Владимира Красное Солнышко. Вместе же обе оратории сюжетно дополняют друг друга и могли бы рассматриваться как монументальный историко-эпический музыкальный диптих об
интереснейшем периоде истории Киевской Руси.
Под стать этим двум ораториям еще два сочинения,
посвященные событиям из древнерусской истории, - «Сказание о Борисе и Глебе» Г. Корчмара (1980) и «Плач об Андрее
Боголюбском, великом князе Владимирском» В. Генина (1987).
Одновременно в хоровом творчестве растет интерес к житиям
святых (житийные черты присущи в той или иной степени и названным произведениям).
В последней четверти века возрастает интерес и к другим старинным жанрам, в частности к жанру канта. Традиции
кантового музицирования продолжает «Кант-виват» Ю. Фалика для мужского хора на стихи А. Сумарокова, ряд вокальных
ансамблей в опере О. Янченко «Граф Калиостро» (действие
происходит во второй половине XVIII века). Типично кантовая
фактура (мелодия с терцовой дублировкой в сопровождении
гармонически опорного, фундирующего баса) и интонационная стилистика петровской эпохи доминируют в экспозиции
кантаты А. Ларина «Солдатские песни» (ц. 2-13). В. Калистратов создает циклическое произведение в кантовом стиле —
хоровой концерт «Днесь мусикия» на стихи старинных русских
кантов (1990).
Группа сочинений 6 0 - 9 0 - х годов образует складывающуюся в этот период своеобразную жанровую разновидность,
определяемую как фольклорная (или фольклоризированная)
кантата. Генетически восходя к кантате Г. Свиридова «Курские песни» (1964), успевшей за сорок лет стать классикой
жанра, этот вид кантаты вскоре распространился почти по всей
территории бывшего СССР («Мингрельские песни» О. Тактакишвили, «Лакские песни» Ш. Чапаева, «Вятские песни» А. Лемана, «Вепские песни» В. Тормиса и т. д.). Некоторые из них
самим названием перекликаются со своим жанровым праистоком, обозначая песни фольклорных ареалов, на основе кото-
рых возникло произведение (в том же ряду, кроме уже названных, и «Песни Пинежья» Ю. Евграфова, 1987). Другие опусы,
не замыкаясь в кругу регионального фольклора и его локальных особенностей, построены на разработке того или иного
жанрового пласта - свадебного, празднично-ритуального
(рождественские колядки, святочные песни).
Тенденция, ведущая в 6 0 - 8 0 - е годы от героического
эпоса, торжественно-парадной гимничности, дифирамбического патриотизма в кантатном жанре (Д. Шостакович, А. В. и
Б. А. Александровы, Ан. Г. Новиков, А. Арутюнян) клирико-психологической тематике, проявилась в соответствующем отборе
стихов в качестве литературной основы, в некоторых особенностях строения цикла и появлении группы камерных, или «маленьких», кантат. Г. Свиридов уже в начале 60-х годов, после
«Патетической оратории», окончательно расстается в своем
творчестве с крупномасштабным кантатно-ораториальным циклом, отдавая предпочтение жанру камерно-лирической маленькой кантаты («Снег идет», «Деревянная Русь»), За ним последовали В. Рубин (Маленькая кантата на стихи А. Блока),
Д. Смирнов (Маленькая кантата для смешанного хора a cappella
на стихи немецких поэтов XVII века в переводе Л. Гинзбурга,
1981), В. Рябов («Рыбацкие песни» ор. 35 на стихи Н. Рубцова,
1986), Ю. Евграфов (камерная кантата «В саду дней» на стихи
А. Ахматовой, 1987)4. В них достаточно отчетливо выражено
преобладающее лирическое или живописно-картинное начало. Причина такой образной и жанровой метаморфозы заключалась в стремлении авторов уйти от основательно набившего
оскомину господствовавшего в течение двух послевоенных десятилетий стереотипа кантат и ораторий, в образном строе которых как бы само собой подразумевалось прославление
партийных вождей, коммунистических идеалов, требовавшее
(особенно в виватных финалах) большой массы звука и монументальных исполнительских составов.
Правда, большая оратория и кантата - циклические
опусы для хора с оркестром, ориентированные на крупные, значительные темы, - еще продолжали развиваться в 80-е годы
в ораториях Г. Дмитриева, В. Успенского, Г. Белова, кантатах
А. Шнитке, Ю. Буцко. Но уже наметилась тенденция к отказу от
монументальных форм и исполнительских составов (из пяти
ораторий В. Калистратова 1978-1987 годов в четырех нет оркестра; только оратория «Ярославна» на тексты «Слова о полку
4. Возможно, название этой разновидности лирической кантаты родилось у Свиридова и его последователей по аналогии с «Маленькими трагедиями» Пушкина.
Игореве» и народные написана для хора, солистки, чтеца
и оркестра). А в 90-е годы традиция большой оратории почти
совсем иссякает. Даже крупные художественные замыслы, связанные с воплощением исторической тематики, умещаются теперь в рамки более компактных исполнительских составов.
Для некоторых композиторов 80-е годы явились периодом, переходным от творчества в сфере светской музыки
к сочинению духовных песнопений. В их числе — В. Рубин.
В его четырехчастной оратории «Аленушкины сказки» на стихи
И. Бунина (1983) особенно примечательна вторая половина
цикла. В III части самим названием («Старый колокол») предопределено обилие звонных эффектов - красочные переливы аккордов, пение на звенящие слоги. А в финале, синтезирующем
темы других частей, образным центром и смысловым итогом
произведения становится образ Богоматери, чей лик проглядывает с небес в поэтичной картине благостного сияния природы
(отражение бунинской идеи центра мироздания).
Эти образы во многом предвосхитили идею следующего крупного сочинения мастера - кантаты «Светлое воскресение»
(1989) для смешанного и мужского хора, органа и челесты.
Музыка, написанная в основном на церковно-каноническиетексты, тем не менее предназначена не для богослужения, а для
концертного исполнения.
Рубежное сочинение С. Губайдулиной (на пути к духовной музыке) — семичастное «Аллилуия» для хора, оркестра, органа, дисканта и цветовых проекторов (1990). Хотя хор
использован в цикле эпизодически, в чередовании с оркестровыми интермедиями, его роль в произведении ключевая. Большей частью певцы интонируют слово «Аллилуия». Только в финале (VII часть) солист запевает древнерусский гимн «Да
исполнятся уста...», перемежаемый инструментальными вкраплениями — реминисценциями мотивов предыдущих частей.
Светлый хоровой эпилог в кульминации достигает сверхмногоголосия в сплетении хоровых и оркестровых тембров, а концовка венчается тихим «аминь» у дисканта.
Наряду с фольклорной кантатой в 60-е годы рождается и фольклорный (или фопькпоризмрованныи) хоровой концерт,
первоначально весьма ярко представленный двумя сочинениями В. Салманова на народные тексты: «Лебедушка» (1967,
для хора a cappella) и «Добрый молодец» (1972, для
мужского хора и баяна). В 70-е годы традиция нового хорового
концерта, светского и духовного, постепенно устанавливалась,
а начиная с 8 0 - х она утверждается все более широко.
В настоящее время трудно найти хорового композитора, не ис-
пробовавшего свои силы в этой жанровой сфере. Своеобразный рекорд творческой плодовитости в данном жанре установил Д. Смирнов, создав за 15 лет (1983-1998) семь хоровых концертов для разных исполнительских составов. Эту линию
продолжили три светских концерта Г. Белова: «Памяти Мусоргского» (1996), Концерт для хора и арфы на стихи Пушкина из
поэмы «Руслан и Людмила» (1999) и Концерт для смешанного
хора, двух корнетов, органа и ударных инструментов «Песни
питерского народа» (1999-2001). Два последних сочинения
удачно развивают традицию песенной хоровой лирики, самобытно начатую Г. Свиридовым еще в 50-е годы.
В современной музыке немало и таких опусов, которые
синтезируют черты нескольких жанров, что отражено в двойных жанровых наименованиях: симфония-концерт, поэма-кантата, симфония-действо, опера-оратория... Иногда в поисках
подходящего жанрового наименования опуса с нетрадиционным составом исполнителей автор избирает причудливые неологизмы; так появилась «Поэтория» Р. Щедрина (1967) - Концерт для Поэта в сопровождении женского голоса, смешанного
хора и симфонического оркестра.
Среди сочинений неопределенной или смешанной
жанровой принадлежности выделяется высокими художественными достоинствами «Завещание Николая Васильевича Гоголя» Г. Дмитриева (1997) для чтеца и смешанного хора - монументальный хоровой цикл с чертами литургии (длительностью
около часа) на слова Н. Гоголя и церковно-канонических
песнопений, - произведение, синтезировавшее жанровые
признаки светской и духовной музыки.
Если в СССР светская и духовная музыка развивались
изолированно друг от друга (церковные песнопения вплоть
до 80-х годов могли сочиняться у нас только «в подполье»),
то в 90-е годы названные сферы интенсивно взаимодействуют,
и в этом - отличительная особенность последнего «отрезка»
века. Творчество большинства авторов хоровых сочинений разделилось тогда на два параллельных русла — светское и духовное, причем многие композиторы перенесли акцент на сочинение хоров духовного содержания.
Результат взаимодействия светской и духовной лирики — новая хоровая музыка на стихи из духовной поэзии.
Таков, к примеру, хор «Храм Твой, Господи» на стихи Н. Гумилева - финал хорового концерта Ю. фалика «Элегии» (2001).
Возвышенный строй песнопения отвечает смыслу стихов.
Художник, вдохновленный царящей в природе светлой гармонией, обращается к Творцу с благодарением: «Храм Твой,
Господи, в небесах, но земля тоже Твой приют»; мелодия
солирующего сопрано звучит под аккомпанемент стройного
благовеста, имитируемого хором a cappella. Сходный образ воплощен в хоре Г. Дмитриева «Благовест» на стихи А. К. Толстого
(2002), где на фоне колокольного звона (у мужского хора) звучит напев в характере народной песни (женские голоса).
Влияние духовных жанров и образов на светскую музыку оказывается подчас столь глубоким, что не позволяет однозначно определить жанр опуса. В. Рубин обрамляет хор «Аллилуиа» на стихи А. Ахматовой распевом этого возгласа
(отсутствующего в стихотворении), тем самым придавая музыке дополнительный - духовный - смысл. В. Пьянков в хоровой
картине «Девушка пела в церковном хоре» на стихи А. Блока
прослаивает распев поэтического текста церковным песнопением. Хоровая молитва («Господи, помилуй») в сопровождении мелодического речитатива дьякона композиционно доминирует здесь, лишь в середине прерываясь и уступая место
лирической теме произведения.
Жанры духовной музыки
Важнейшим завоеванием композиторов России в последней четверти X X столетия было возрождение духовной
традиции, возвращение к творчеству в сфере жанров духовной
кантаты, концерта, литургии, всенощной... Встречающиеся в
границах жанровых новообразований (музыкальное житие,
«русские страсти» и пр.) разные типы форм складываются
постепенно, кристаллизация типа формы происходит не на первом, а на втором этапе, поэтому «найденная форма оказывается, как правило, более "твердой", чем гибкий и подвижный
жанр, непосредственно связанный с содержанием музыки»,
причем «взаимосвязь формы и жанра такая тесная, что в обиходе часто представляется тождеством» [15, 189\.
Всплеск интереса к духовному песнетворчеству,
приходящийся на середину и конец 80-х годов (время, совпавшее с празднованием 1000-лет