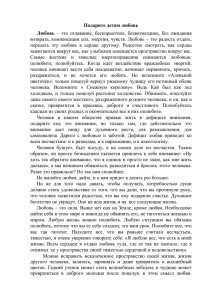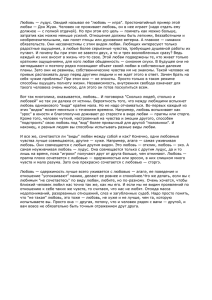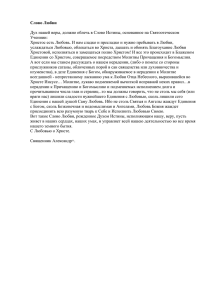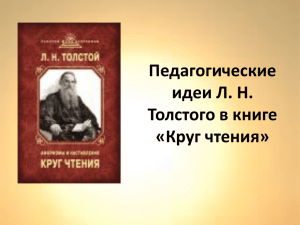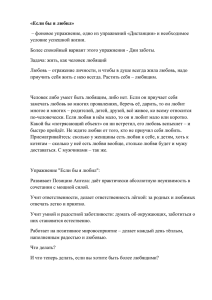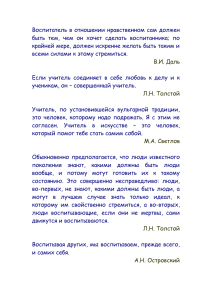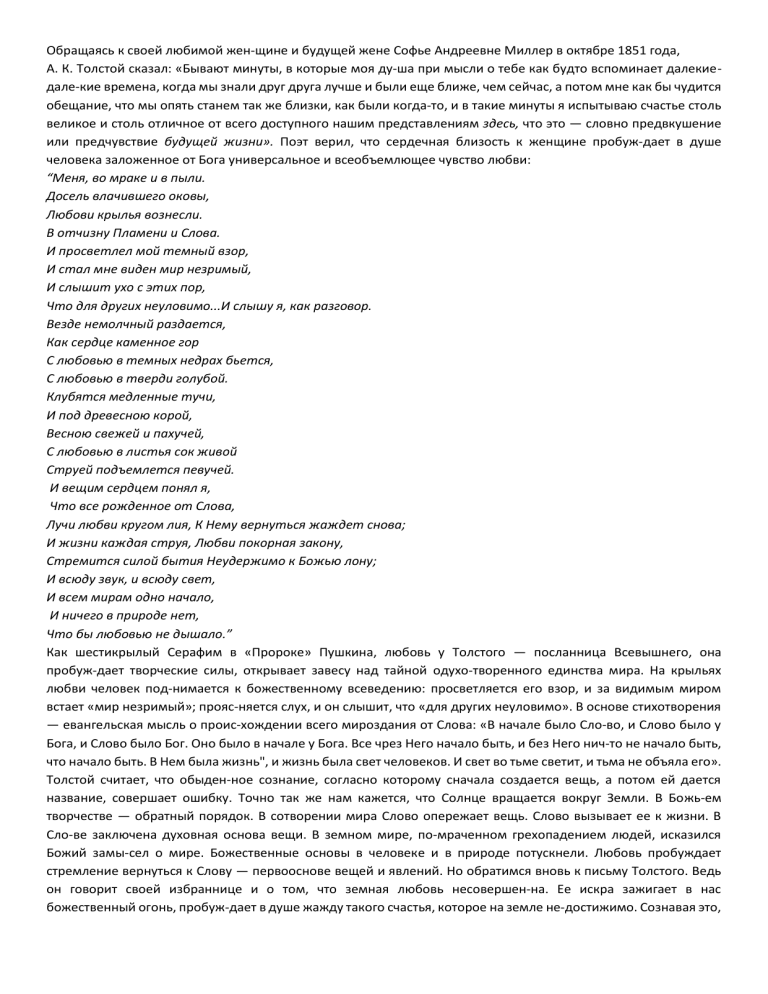
Обращаясь к своей любимой жен­щине и будущей жене Софье Андреевне Миллер в октябре 1851 года, А. К. Толстой сказал: «Бывают минуты, в которые моя ду­ша при мысли о тебе как будто вспоминает далекиедале­кие времена, когда мы знали друг друга лучше и были еще ближе, чем сейчас, а потом мне как бы чудится обещание, что мы опять станем так же близки, как были когда-то, и в такие минуты я испытываю счастье столь великое и столь отличное от всего доступного нашим представлениям здесь, что это — словно предвкушение или предчувствие будущей жизни». Поэт верил, что сердечная близость к женщине пробуж­дает в душе человека заложенное от Бога универсальное и всеобъемлющее чувство любви: “Меня, во мраке и в пыли. Досель влачившего оковы, Любови крылья вознесли. В отчизну Пламени и Слова. И просветлел мой темный взор, И стал мне виден мир незримый, И слышит ухо с этих пор, Что для других неуловимо...И слышу я, как разговор. Везде немолчный раздается, Как сердце каменное гор С любовью в темных недрах бьется, С любовью в тверди голубой. Клубятся медленные тучи, И под древесною корой, Весною свежей и пахучей, С любовью в листья сок живой Струей подъемлется певучей. И вещим сердцем понял я, Что все рожденное от Слова, Лучи любви кругом лия, К Нему вернуться жаждет снова; И жизни каждая струя, Любви покорная закону, Стремится силой бытия Неудержимо к Божью лону; И всюду звук, и всюду свет, И всем мирам одно начало, И ничего в природе нет, Что бы любовью не дышало.” Как шестикрылый Серафим в «Пророке» Пушкина, любовь у Толстого — посланница Всевышнего, она пробуж­дает творческие силы, открывает завесу над тайной одухо­творенного единства мира. На крыльях любви человек под­нимается к божественному всеведению: просветляется его взор, и за видимым миром встает «мир незримый»; прояс­няется слух, и он слышит, что «для других неуловимо». В основе стихотворения — евангельская мысль о проис­хождении всего мироздания от Слова: «В начале было Сло­во, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него нич­то не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь", и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Толстой считает, что обыден­ное сознание, согласно которому сначала создается вещь, а потом ей дается название, совершает ошибку. Точно так же нам кажется, что Солнце вращается вокруг Земли. В Божь­ем творчестве — обратный порядок. В сотворении мира Слово опережает вещь. Слово вызывает ее к жизни. В Сло­ве заключена духовная основа вещи. В земном мире, по­мраченном грехопадением людей, исказился Божий замы­сел о мире. Божественные основы в человеке и в природе потускнели. Любовь пробуждает стремление вернуться к Слову — первооснове вещей и явлений. Но обратимся вновь к письму Толстого. Ведь он говорит своей избраннице и о том, что земная любовь несовершен­на. Ее искра зажигает в нас божественный огонь, пробуж­дает в душе жажду такого счастья, которое на земле не­достижимо. Сознавая это, Толстой верит в идеальный мир, к нему обращает лучшие свои помыслы. А потому земная любовь у него окрашена легким оттенком грусти: “Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре, О, не грусти, ты все мне дорога, Но я любить могу лишь на просторе, Мою любовь, широкую как море, Вместить не могут жизни берега.Когда Глагола творческая сила Толпы миров воззвала из ночи, Любовь их все, как солнце, озарила, И лишь на землю к нам ее светила Нисходят порознь редкие лучи...И любим мы любовью раздробленной И тихий шепот вербы над ручьем, И милой девы взор, на нас склоненный, И звездный блеск, и все красы вселенной, И ничего мы вместе не сольем.Но не грусти, земное минет горе, Пожди еще, неволя недолга — В одну любовь мы все сольемся вскоре, В одну любовь, широкую как море, Что не вместят земные берега!” Таков, по Толстому, удел всех людей на грешной земле — несмолкаемая жалоба на то, что мы не можем объединить «отдельно взятые черты всецело дышащей при­роды», что «любим мы любовью раздробленной и ничего мы вместе не сольем», что «всесторонность бытия» и «не­исчерпаемость явленья» далеки от нас. Поэта удручает раздробленность нашей любви, ее трагическое «порознь», вечная «неслиянность человека с человеком и с самим со­бою». Однако душа человека несет идеал такого единства в своем сердце, этим идеалом живет, к этому идеалу стре­мится. В драматической поэме «Дон Жуан» А. К. Толстой изображает героя романтиком любви, ищущим в земном чувстве божественный отголосок: “А кажется, я понимал любовь! Я в ней искал не узкое то чувство, Которое, два сердца съединив, Стеною их от мира отделяет. Она меня роднила со вселенной, Всех истин я источник видел в ней, Всех дел великих первую причину.” Любовь — связь между миром земным и миром горним, высшим. Она не Бог, но нечто божественное в ней неоспо­римо. Она посредник между бессмертною, вечною и смерт­ною, тленною сторонами человеческой природы, она соеди­няет небо и землю. Без любовный человек — неверующий человек. Дон Жуан у Толстого говорит: “Коль нет любви, то нет и убеждений; Коль нет любви, то знайте: нет и Бога!” Любовью питается, по Толстому, высокий дар творчест­ва. К искусству Слова он относится со священным трепе­том, в людях, наделенных поэтическим талантом, он видит избранников Бога. Истинные поэты не отражают, а пре­ображают мир. Это преображение осуществляется не по их замыслу или капризу, а по воле Того, Кто пробуждает в них творческий дар. Источник творчества — мир «пред­вечных Слов-образов», существующих вне земной сферы. И вот душа художественно одаренного человека проникает «В то сокровенное горнило, / Где первообразы кипят, / Трепещут творческие силы». Искусство — посредник меж­ду миром земным и миром небесным. Поэт ловит отблеск вечного и бесконечного в преходящих формах земного бы­тия. Он не сочиняет произведение по своему произволу. Напротив, в минуту поэтического вдохновения его духов­ному зрению открывается тайна божественной гармонии, скрытые от простого смертного замыслы Творца: “Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель! Вечно носились они над землею, незримые оку. О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем, Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен, Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье, И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки Вдруг выступают, так выступят вдруг перед тобою картины…” Когда в 1840—1860-е годы русская демократическая об­щественность начала борьбу с высокой поэзией, когда на­ши Базаровы стали кичливо заявлять, что Пушкин уста­рел, что «порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», А. К. Толстой увидел в этом скептическом взгляде на искусство поругание святыни. В его сознании возникла прямая параллель между современными нигилис­тами и византийскими иконоборцами VII века. Иконобор­цы утверждали, что Божество неописуемо, и на этом осно­вании отвергали иконы. На этой же точке зрения стояли, по Толстому, современные гонители искусства, считавшие все эстетическое праздной забавой. Вот почему внимание Толстого привлек образ Иоанна Дамаскина. Следуя за этим православным святителем VII века, за его вдохновенными глаголами в защиту икон, за его Пасхальными, Рождест­венскими песнопениями-гимнами, А. К. Толстой создает свой гимн в защиту искусства — «Против течения»: “Други, вы слышите ль крик оглушительный: «Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли Вымыслы ваши в наш век положительный? Много ли вас остается, мечтатели? Сдайтеся натиску нового времени, Мир отрезвился, прошли увлечения — Где ж устоять вам, отжившему племени, Против течения?»” “Други, не верьте! Все та же единая Сила нас манит к себе неизвестная, Та же пленяет нас песнь соловьиная, Те же нас радуют звезды небесные! Правда все та же! Средь мрака ненастного Верьте чудесной звезде вдохновения, Дружно гребите, во имя прекрасного, Против течения!..” “Други, гребите! Напрасно хулители Мнят оскорбить нас своею гордынею — На берег вскоре мы, волн победители, Выйдем торжественно с нашей святынею! Верх над конечным возьмет бесконечное, Верою в наше святое значение Мы же возбудим течение встречное Против течения!” По характеристике В. С. Соловьева, «Алексей Толстой, как и Тютчев, принадлежит к числу поэтов-мыслителей, но в отличие от Тютчева — поэта исключительно созерца­тельной мысли,— граф Алексей Толстой был поэтом мыс­ли воинствующей — поэтом-борцом... Наш поэт боролся оружием свободного слова за право красоты, которая есть ощутительная форма истины, и за жизненные права чело­веческой личности. Сам поэт понимал свое призвание как борьбу: “Господь, меня готовя к бою, Любовь и гнев вложил мне в грудь,И мне десницею святою Он указал правдивый путь..”. Но именно потому, что путь, указанный поэту, был правдивый и борьба на этом пути была борьбою за высшую правду, за интересы безусловного и вечного достоинства, она возвышала поэта не только над житейскими и корыст­ными битвами, но и над тою партийною борьбой, которая может быть бескорыстною, но не может быть правдивою, ибо она заставляет видеть все в белом цвете на своей сто­роне — и все в черном на стороне враждебной; а такого равномерного распределения цветов на самом деле не бы­вает и не будет — по крайней мере до Страшного суда. По чувству правды, Толстой не мог отдаться всецело одному из враждующих станов, не мог быть партийным борцом — он сознательно отвергал такую борьбу: Двух станов не боец, но только гость случайный, За правду я бы рад поднять мой добрый меч, Но спор с обоими — досель мой жребий тайный, И к клятве ни один не мог меня привлечь; Союза полного не будет между нами — Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя, Пристрастной ревности друзей не в силах снесть, Я знамени врага отстаивал бы честь!»