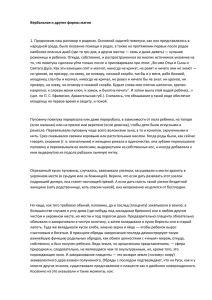Система двойных имен
реклама
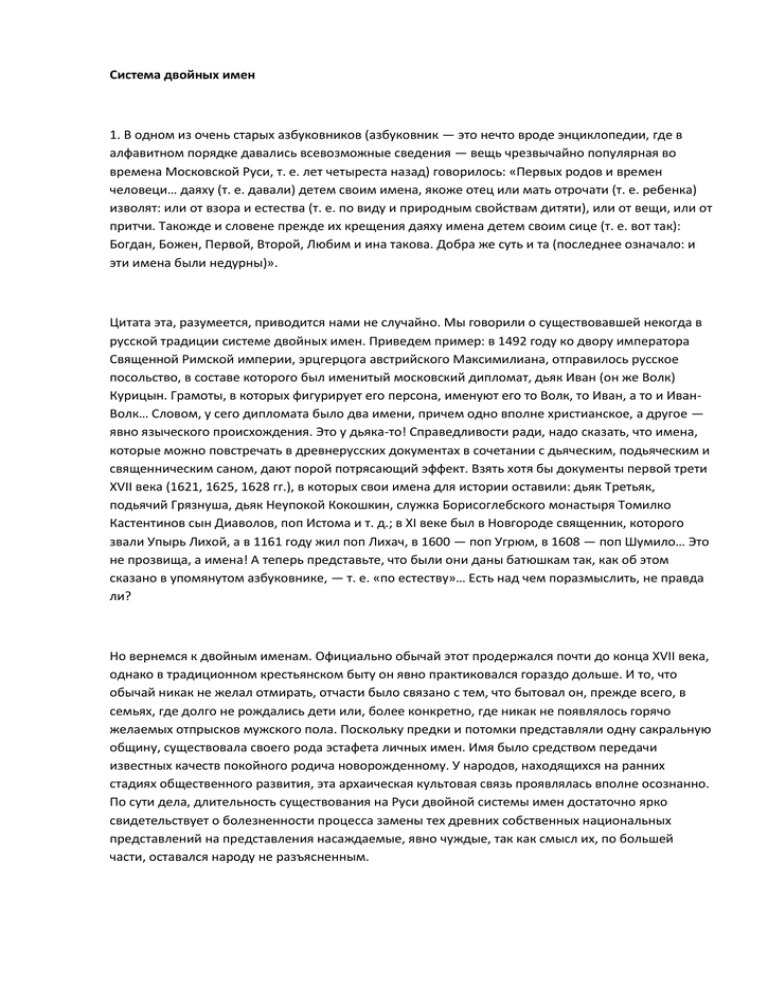
Система двойных имен 1. В одном из очень старых азбуковников (азбуковник — это нечто вроде энциклопедии, где в алфавитном порядке давались всевозможные сведения — вещь чрезвычайно популярная во времена Московской Руси, т. е. лет четыреста назад) говорилось: «Первых родов и времен человеци… даяху (т. е. давали) детем своим имена, якоже отец или мать отрочати (т. е. ребенка) изволят: или от взора и естества (т. е. по виду и природным свойствам дитяти), или от вещи, или от притчи. Такожде и словене прежде их крещения даяху имена детем своим сице (т. е. вот так): Богдан, Божен, Первой, Второй, Любим и ина такова. Добра же суть и та (последнее означало: и эти имена были недурны)». Цитата эта, разумеется, приводится нами не случайно. Мы говорили о существовавшей некогда в русской традиции системе двойных имен. Приведем пример: в 1492 году ко двору императора Священной Римской империи, эрцгерцога австрийского Максимилиана, отправилось русское посольство, в составе которого был именитый московский дипломат, дьяк Иван (он же Волк) Курицын. Грамоты, в которых фигурирует его персона, именуют его то Волк, то Иван, а то и ИванВолк… Словом, у сего дипломата было два имени, причем одно вполне христианское, а другое — явно языческого происхождения. Это у дьяка-то! Справедливости ради, надо сказать, что имена, которые можно повстречать в древнерусских документах в сочетании с дьяческим, подьяческим и священническим саном, дают порой потрясающий эффект. Взять хотя бы документы первой трети XVII века (1621, 1625, 1628 гг.), в которых свои имена для истории оставили: дьяк Третьяк, подьячий Грязнуша, дьяк Неупокой Кокошкин, служка Борисоглебского монастыря Томилко Кастентинов сын Диаволов, поп Истома и т. д.; в XI веке был в Новгороде священник, которого звали Упырь Лихой, а в 1161 году жил поп Лихач, в 1600 — поп Угрюм, в 1608 — поп Шумило… Это не прозвища, а имена! А теперь представьте, что были они даны батюшкам так, как об этом сказано в упомянутом азбуковнике, — т. е. «по естеству»… Есть над чем поразмыслить, не правда ли? Но вернемся к двойным именам. Официально обычай этот продержался почти до конца XVII века, однако в традиционном крестьянском быту он явно практиковался гораздо дольше. И то, что обычай никак не желал отмирать, отчасти было связано с тем, что бытовал он, прежде всего, в семьях, где долго не рождались дети или, более конкретно, где никак не появлялось горячо желаемых отпрысков мужского пола. Поскольку предки и потомки представляли одну сакральную общину, существовала своего рода эстафета личных имен. Имя было средством передачи известных качеств покойного родича новорожденному. У народов, находящихся на ранних стадиях общественного развития, эта архаическая культовая связь проявлялась вполне осознанно. По сути дела, длительность существования на Руси двойной системы имен достаточно ярко свидетельствует о болезненности процесса замены тех древних собственных национальных представлений на представления насаждаемые, явно чуждые, так как смысл их, по большей части, оставался народу не разъясненным. Имя — это не только связь с предками, это судьба, оно полно смысла и обладает магической силой: как назовешь человека, так и жить будет. Но старые, «дедовские» имена, за которыми стояло «естество», оказались под запретом, а новые, пришедшие в изобилии с христианской верой (римские, еврейские, германские имена), активно вводимые со Святцами, оказались лишенными смысла. Церковь к тому же сурово карала за отказ от крещения… В 1596 году в книге «Алфавит» (в сущности, ее можно определить как типичный азбуковник) составитель с грустью писал: «Нам, словеном, неудобь-ведомы (т. е. непонятны) нынешние свои имена, еже что толкуется (т. е. как объясняется) Андрей, что Василий или Данила…» Надо сказать, что этот составитель очень верно чувствовал суть проблемы: «Аще бо (т. е. если) святый — римлянин, то и имя ему по-римски записано; аще же евреянин, то по-еврейски…» Своим же, исконным «словенским» именам, получалось, что места не было… Правда, случилось это не в одночасье, вытеснение шло постепенно, и процесс этот был медленным. Надо сказать, что в XV веке и даже в XVII веке в наличии у человека двух имен — одного христианского, другого языческого (или тоже христианского, потому что худо-бедно, но вытеснение все-таки шло) — не было ничего удивительного. А в первые века христианства на Руси даже очень знатные люди никак не желали забывать про свое «мирское» имя, и оно употреблялось наряду с христианским. Об этом свидетельствуют летописи и другие древние письменные источники. Например: — под 1113 г. читаем: «Преставися (т. е. умер) князь Михайло, зовомый Святополк…», или «родился князю Андрею сын Иван. Нарекоша ему имя Василий…» (записано в Галицкой летописи под 1350 г.); — «Се аз, великий князь Гавриил, нареченный Всеволод, самодержец Мстиславович…» — так начинается грамота князя Псковского и Смоленского; — «…и нарекоша ей имя: во святем крещении Полагия (т. е. Пелагея). А княже (т. е. имя) — Сбыслава» (Ипатьевская летопись о крещении одной из княжон); — есть в записях и «…убиенный от литовского князя Олгерда <…> Круглец, нареченный Евстафий»; — митрополита волынского, жившего в начале XIII в., звали «Никифором, а прироком (т. е. по прозвищу) Станило»; — а в XIV в. жил, оказывается, некий боярин Шуба, крещеный Окинфом, но которого все называли Шубой Федоровичем, и т. д. Нередко в бытовой среде в ходу оказывалось только одно имя, а второе оставалось тайным, именование им было табуировано (ведь, по древним представлениям, если узнавали, как зовут, то получали власть над человеком). Бывало, что второе имя становилось известным лишь на смертном одре, а то и вовсе после смерти. На вопрос, которое из имен чаще упоминалось, однозначно ответить трудно. Представления со временем изменялись. Становясь привычными, христианское имя и мирское теряли различия. Народ в конечном счете перестал отличать свое от чужого. И значение «прирока» (т. е. прозвища), случалось, обретало бόльшую силу, чем значение имени. И тогда прозвище употреблялось наряду или одновременно с именем (Иван Грозный или Всеволод Большое Гнездо — чем не примеры?) или имя вообще уступало прозвищу. Иллюстрацией могут служить длинные перечни «мирских» имен, больше похожих на прозвища, из исследований А. М. Селищева или Н. М. Тупикова («Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ», «Заметки к истории русских имен»). В них можно встретить такие имена, как Дружина, Удача, Малой, Кисель, Малюта, Нелюб, Огурец, Сорока, Нехорошей. В одной из грамот царя Ивана IV, того самого, что за жестокость свою был прозван Грозным, читаем: «Яз… пожаловал есми Злобу Васильева сына Львова… и Ивана Злобина сына Львова же… пустошьми и орамыми землями…» Злоба — имя, и Иван — имя. Правда, первое больше похоже на прозвище (смысл — более чем ясен, а какая характеристика человеку, если он получил это имечко «по естеству»!..) Понять, где имя, а где прозвище, становится все труднее, тем более что со временем все больше стиралось различие между именем исконным (часто оно же было «мирским») и именем «календарным» (полученным при крещении по Святцам): «Сын мой Остафий, который был прозван Михаил…»; «Карпуша Ларионов, а прозвище Ивашко»; «Ивашко, прозвище — Агофонко…» Это уже фиксации двойного именования начала XVII века, и оба имени (и официальное имя, и прозвище) во всех трех приведенных случаях — христианские. Стало быть, к концу XVII века неустанная борьба церкви принесла плоды: постепенно на употребление «мирских» имен лег запрет, официальное отношение к ним стало презрительным: «Казак Богдан, а имя ему бог весть…» И настало признанное время личных имен, полученных при церковном крещении по всем правилам выбора имени христианского святого в соответствии с его календарной соотнесенностью. 2. Церковь вовсе не боролась с древними представлениями о магической силе имени, напротив, она активно их применяла: именно на этих представлениях зиждется вера в спасение одним лишь именем Божьим, а также и вера в непременное покровительство того святого, чье имя ты получил при крещении. Кроме того, отличительные свойства святого покровителя естественно переносились на его подопечного. У А. М. Селищева есть чудесный тому пример, записанный им в Македонии. Один крестьянин дал своему новорожденному сыну имя Иван (в честь Иоанна Крестителя). На крестильный обед собрались многочисленные гости, и пришлось зарезать барана. Но так как Святцы чествуют Ивана 64 раза в год, не прошло и трех дней, как гости нагрянули снова. За месяц крестьянин стал нищим. Он отправился в церковь высказать святому все, что он по этому поводу думает. Но когда пришел, увидел икону, на которой Иоанн был изображен едва прикрытый истертой овчиной. «Так он сам голый! — воскликнул крестьянин. — Чего же ждать от нищего!». «Вот чьим именем надо было сына назвать», — сказал он, когда на глаза ему попала икона с облаченным в золото и драгоценные камни Николаем Чудотворцем, бывшим при жизни епископом Мирликийским. 3. Имянаречению придавалось такое важное значение потому, что, по народным представлениям, имя воплощало появление новой, а некогда возвращение ушедшей души и ее адаптацию. Безымянный — никто, он не является членом общества, не принадлежит ни к какому кругу (социальному, поло-возрастному и др.). Выбор имени, как уже говорилось, мог когда-то принадлежать родителям и/или повитухе, а в христианское время — кумовьям, т. е. крестным родителям ребенка. И прежде чем речь у нас пойдет о кумовстве и роли кумов в крещении новорожденного, необходимо несколько слов сказать об имени «банном», которое давала повитуха. В дохристианское время имянаречение нередко происходило прямо в бане, когда бабка мылапарила новорожденного, потому и название такое — «банное» имя. Когда церковное крещение стало единственно возможным способом получения имени, «банное» имя попало под запрет. Возможно, Церковь стремилась контролировать обрядовые действия повитух, не желая допускать искажения смысла церковного таинства. Тем более что повитуха — женщина, а, по церковным правилам, женщины не совершали религиозных обрядов. И все же были случаи, когда повивальные бабки могли крестить новорожденных: «Если новорожденный окажется очень слабым, то бабка крестит его в горшке, по-своему». Это крещение «домашним способом» церковные правила не только не запрещали, но «в опасных для состояния младенца случаях» (чтобы избежать смерти неокрещенного) вменяли повитухам в обязанность окрестить его «путем троекратного погружения или обливания водой трижды с произнесением определенных слов». Такое крещение («от большой беды») не заменяло церковного, и, если ребенок оставался жив, священник потом довершал обряд уже без погружения в воду и нарекал его тем именем, которое дала повитуха. Но если младенец все же умирал, то «банного» крещения, совершенного повитухой, было достаточно, чтобы он считался «получившим крест» и его можно было похоронить по общим правилам. О печальной судьбе умерших без крещения младенцев мы здесь говорить не станем, так как тема эта вполне может лечь в основу небольшого лекционного курса. Мы продолжаем наш разговор о родинах как об обрядах перехода. 4. Церковный обряд крещения (крестины) начинал обе оставшиеся части родинного цикла, так как совмещал в себе и элементы обрядов очистительного характера, и принятие новорожденного в семью и общину, и его имянаречение. Для того чтобы провести обряд крещения новорожденного, нужны те, кто мог бы это сделать. Мать и отец ребенка являются «нечистыми», они не могут входить в храм до истечения определенного срока и, значит, не могут сами заняться его адаптацией. Крещение, как уже было сказано ранее, являлось не только наречением имени, но приобщением новорожденного к «своему» миру: миру семьи, общины, к православному люду (т. е. к единоверцам). Кое-где традиционной формулой приглашения в кумовья, с которой отец ребенка обращался к потенциальному крестному, были следующие слова: «Поди, введи младенца в православную веру!» Выбору крестных родителей всегда придавалось большое значение. В старину в крестные звали ближайших родственников (обычно брата матери и сестру отца ребенка). В определенном смысле они становились посредниками, упрочивая связь между младенцем и большой семьей (родом) и, шире, общиной. Позже в крестные стали допускаться даже очень дальние родственники, а то и просто кто-нибудь из числа хороших друзей или знакомых. Но по-прежнему кумовство в народном сознании представлялось близким родством: «Кум с кумою — что брат с сестрою», — говорили в народе. Поэтому категорически запрещались браки между кумовьями и даже между членами их семей. Это представление распространялось и на второе поколение. Более того, крестники и дети их крестных, а также крестники, имеющие общих крестных, тоже считались родственниками — «подкрестовыми», «крестовыми» братьями и сестрами. И связи между людьми, пребывающими в состоянии кумовства, считались кровосмесительными, а значит, воспринимались как очень тяжкий грех. Даже ссоры между покумившимися семьями рассматривались как «великий» грех. Своеобразным отступлением от выбора в кумовья близких родственников был обычай приглашать в крестные первого встречного, входящего в деревню или появившегося на ближайшей к деревне росстани — перекрестке дорог. Этот обычай имел силу прежде всего тогда, когда в этой семье умер предыдущий ребенок или, как говорили в народе, дети «не держались», умирая вскоре после рождения. Таких кумовьев называли «Божьи кумы», считалось, что они посланы от Бога и ребенок у таких кумовьев находится под особым Божьим покровительством. «Божьи кумы» очень почитались, после обряда они становились полноправными членами общины. Исследователи полагают, что кумовство, ставшее, по сути, традиционным обычаем, все же возникло как церковный институт. Хотя в нем вполне отчетливо, например в функциях крестного отца, заметны отголоски авункулата, пережитка матриархальных отношений. (Авункулат — обычай особо тесных родственных отношений между племянником и дядей со стороны матери, согласно которому дядя должен был заботиться о племяннике больше, чем о собственном сыне.) А по каноническим установлениям всех конфессий христианской церкви, крестные родители — это прежде всего восприемники при крещении, т. е. при принятии ребенка в «лоно церкви». Именно восприемничество устанавливало между всеми его участниками новые взаимоотношения, «духовное родство». Когда крестники подрастали, именно куму и куме полагалось учить их грамоте и молитвам. Нередко крестные обучали и первым трудовым навыкам: косьбе, вспашке, прядению и т. п. Они имели полное право вмешиваться в воспитание своих крестников. Если те становились сиротами, крестные принимали на себя родительские обязанности. Во всех важнейших событиях жизни крестника место крестных — рядом с его родными родителями. Детей всегда воспитывали в духе особого почтения к крестному отцу и матери: «Грех непростительный обидеть крестных — Бог счастья не даст» или: «Мать крестную и мать, что родила, почитать одинаково надо» и т. д. Крестный отец покупал ребенку нательный крестик, платил за проведение обряда, приносил свой хлеб на крестины и собственноручно носил воду для купели. Крестная дарила полотно «на ризки» крестнику и плат или полотенце утереть руки священнику по свершении обряда, а также полотенце, на которое вынимали ребенка из купели. Кумовья принимали крестника после крещения, вносили его в дом, одаривали мелкими деньгами мать и ребенка («на зубок»). Вообще, куму и куме надо было соблюдать многочисленные обычаи, ведь с их поведением на обрядах крещения связывали разные приметы на будущее крестника, например: когда кум несет воду для крещения, ему нельзя пользоваться коромыслом, чтобы ребенок не стал сутулым; а кума после крестин, схватив повой (полотенце, на которое вынимали ребенка из купели), бежит скорее к реке, чтобы отполоскать: чем быстрее бежит, тем скорее ребенок пойдет, и т. д. В церкви после обряда кума могла погадать о судьбе крестника. В воду купели она бросала восковой шарик с волосиками младенца и смотрела, что будет: поплывет — ребенку предстоит долгая жизнь, потонет — к скорой смерти. Уже не требует объяснения тот факт, что после крещения воду из купели нельзя было выливать в реку или рядом с рекой, родником или колодцем, чтобы они не стали нечистыми, а источники не иссякли. После крестин ребенка приносили домой и на несколько секунд клали его на порог, откуда его поднимал отец. Затем трижды обносили вокруг стола, символически принимая новорожденного под родной кров, в число членов данного рода. Если прежде в этой семье дети умирали, то окрещенного новорожденного могли передавать отцу через окно, желая обмануть болезни и смерть. 5. После крестин происходил еще один обряд — крестильный обед. В нем принимала участие вся община. Приглашали всех «на хлеб, на соль к младенцу, кашу есть», а если кто-то из жителей деревни не мог прийти на трапезу, ему приносили немного ритуальной каши в платке. Это обязательное участие было свидетельством того, что вся община принимала нового члена и брала его под свою защиту. Крестильный обед мог называться еще «бабина каша». Название происходит от главного ритуального блюда — каши, которую готовила повитуха. Каша эта из пшена или гречи (в некоторых местностях ее называли «коливо») заваривалась очень круто, так, чтоб «ложка стояла». Варили ее на меду и изрядно солили, а иногда еще и приправляли чем-нибудь острым. Крестильный обед проходил как бы в двух действиях: угощение для собравшихся и ритуал. Угощение бывало очень обильным и включало в себя несколько перемен блюд. Когда же доедалось все поданное вначале, повитуха подавала на стол пирог, ставила горшок с кашей и приносила на блюде штоф с водкою. С этого начиналось действие второе — сам ритуал. В некоторых местах, например в Нижегородской губернии, обрядовый пирог из рук повитухи принимали крестные и, высоко подняв его, разламывали (чтобы крестничек был высоким и статным). С той же целью горшок каши ставили на некоторое время под потолок на полку. Все, что подавалось повитухою на стол, сопровождалось приговорками, например, такой: «Бабушка подходит, Кашку подносит. На корысть, на радость, На Божью милость. На толстые одонья, На высокие скирды. Кашку на ложки, Мальчику на ножки!..» Затем повитуха брала штоф и принималась обносить всех, но по обычаю первую чарку предлагали выпить ей самой. После повитухи чарку принимал отец новорожденного. А на закуску повитуха подавала ему ложку каши. При этом она приговаривала: «Ешь, отец-родитель, ешь, да будь пожеланный (т. е. добрее, люби больше) к своему сынку (дочке)!» Отведав ритуальной каши, отец забрасывал ложку на полати, чтобы новорожденный рос скорее. Следом за отцом кашей угощались кумовья, а за ними пили и ели остальные. При этом всякий, не исключая отца новорожденного, клал на блюдо деньги для бабки-повитухи и на пирог отдельно — для роженицы. У северных русских кум с кумой ели кашу черенками ложек. Гости старались съесть кашу как можно скорее, чтобы новорожденный быстрее начал говорить. С той же целью крестный и крестная без умолку болтали. Остатки водки, которой угощали всех гостей (разумеется, за исключением женщин и детей), выплескивали в потолок — опять же чтобы маленький рос скорее, а горшок из-под каши обычно разбивали. После обеда гости благодарили хозяев, желали им всего хорошего, а новорожденному — здоровья и долгих лет и расходились по домам. Оставались только кум с кумой. Они обязательно должны были немного отдохнуть — тоже примета: чтобы ребенок был тихим и спокойным. Вечером им предлагали опохмелиться после обеда. Тут они делали друг другу подарки: кум от кумы получал «на память» платок, которым должен был тут же утереться, потом он целовал куму и дарил ей деньги. Прощаясь с родителями крестника, кумовья получали с собой по пирогу и еще что-нибудь: платок, мыло, чай и т. п. 6. Как можно скорее после обряда крещения проводились очистительные обряды. Обряд очищения водой роженицы и повитухи — одна из древнейших традиций у многих народов. Так как роженица считалась нечистой, первые дни после родов она проводила изолированно, но даже позднее, когда стали считать возможным для роженицы находиться в одном помещении с семьей, она все равно ела отдельно и за общий стол не садилась. Ей запрещено было касаться хлеба, зерна, она не имела права месить тесто, ей не полагалось доить корову и, конечно же, прикасаться к таким предметам, как иконы, лампады и т. д. В некоторых областях наиболее опасными считались первые девять дней после родов. Поэтому и обряд очищения, так называемые «размоины», нередко совершался именно на девятый день, сразу после крестин. Но бывало, что некому было заняться хозяйством, поэтому с очистительными обрядами торопились. И «размоины» проводили на седьмой или даже на третий день, но тогда, как правило, на сороковой день обряд повторялся. Этим же обрядом очищалась и повитуха, только после «размоин» она снова могла принимать роды. Для проведения обряда зажигали свечу перед иконами, и, помолившись, повитуха и роженица обмывали друг другу руки водой, в которую «на легкость» клали хмель, а «на счастье» — серебро. Иногда в воду добавляли еще яйцо и овес. Тогда при обмывании повитуха приговаривала: «Как хмель легок да крепок, так и ты будь легка да крепка; как яичко полное, так и ты полней; как овес бел, так и ты будь бела…» Сразу после обряда очищения происходило прощание с повитухой. Прощаясь, нередко клали ей земные поклоны (свидетельство большого уважения). Повитуха за свои хлопоты и заботы, кроме денег, полученных на крестильном обеде, уносила обязательные дары от семьи: хлеб, мыло, платок или полотенце и еще деньги — от гривенника (десять копеек) до рубля. Через шесть недель (40 дней) после рождения ребенка приходила крестная мать и приносила крестнику в подарок поясок (иногда и рубашечку или полотна на нее). Поясок мог быть любой: плетеный, вязаный, шитый или просто витой шнурочек, но значение ему придавалось большое, как поясу взрослого: это еще один оберег. Крестная опоясывала малыша, и с этого момента поясок старались без особой необходимости не снимать. В некоторых областях этот обряд совершали только год спустя после рождения. 7. Заканчивался родинный цикл празднованием первого дня рождения. Обычай праздновать дни рождения и именины появился у русских поздно, в традиции этого не было. Но «годины» (т. е. окончание первого года жизни) праздновали еще и потому, что именно в этот день северные русские и белорусы впервые стригли волосы ребенку. До года делать это было нельзя в силу многих примет: подстригая волосы ребенку раньше времени, можно «отрезать ему язык», т. е. ему трудно будет научиться говорить; а если стричь ногти до года, у него может проявиться склонность к воровству. Грубо говоря, «застрижки» можно считать обрядом, примыкающим к основному комплексу родинных обрядов, который, в сущности, завершался «размоинами». В обряде «застрижек» лежат отголоски древнего обряда инициации, который в данном случае оказался сильно сдвинутым во времени. Обряд проводили в узком семейном кругу, звали иногда соседей, но повитуха и крестные присутствовали обязательно. Ребенка, если это был мальчик, водружали в седло или усаживали на топор, если девочка — на веретено или на охапку льна. Повитуха, отец и крестные по очереди обрезали волосы. Срезанные прядки обычно тайно зарывали, чтобы избежать порчи. После обряда для всех участников устраивалось угощение. Ребенку в этот день опять были дары от крестных — обычно рубашка. Во всех обрядах родинного цикла слово выступает или как обрядовое организующее (т. е. оно сопровождает или ведет обряд), или, выйдя за рамки обряда, оно самостоятельно продолжает нести функции помощи и защиты. В приметах и традиционных правилах, связанных с беременностью, а также в правилах ухода за ребенком слово проявляет и свою информативную функцию. Правда, здесь эта функция направлена на всех, кроме новорожденного. Первой же ступенью к познанию мира через слово становится для ребенка колыбельная песня, за которой последуют другие — иной формы, иного содержания, с новыми задачами: пестушки, потешки, прибаутки… Но это материал, выходящий за рамки нашего лекционного курса.