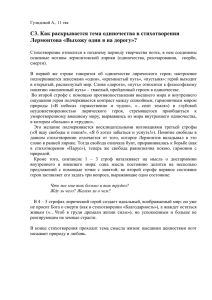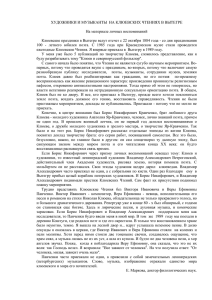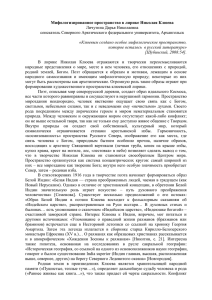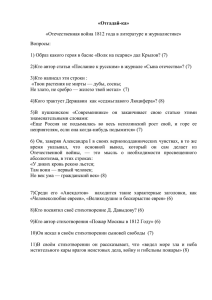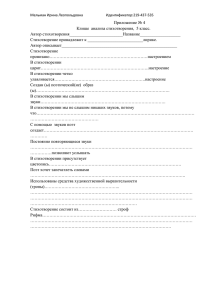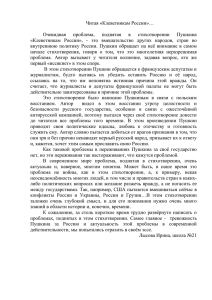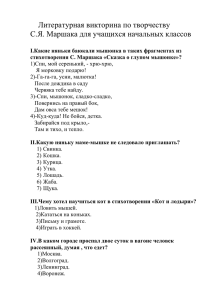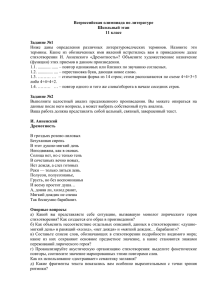Требования к статье объем до 15000 знаков (без пробелов);
реклама

Требования к статье объем до 15000 знаков (без пробелов); · шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал – 1,5; · поля страницы – все по 2 см, абзацный отступ – 1 см, равнение по ширине; · сноски в конце текста, кегль 10 А. Пономарева (Москва) Не выверена Концепт молодости/старости в художественном мире Клюева Концептосфера создает художественную картину мира писателя,1 Концепты молодость и старость в творчестве Н.Клюева отражают его эмоциональное отношение к действительности, ходу исторического времени, сроку земного бытия человека, к проблеме жизни и смерти. В поэзии раннего Клюева выявляется несоответствие между мировосприятием лирического «я» и возрастом биографического автора. Если в настоящей жизни Клюев считал себя моложе, то его лирический герой почти всегда чувствовал себя старше, воплощая не только своё мирочувствование, но и умонастроения своего времени, крестьянской России. Клюев вошел в литературу двадцатилетним, но в его первых стихотворениях передаются чувства человека, уже много пережившего, возникает мотив былого: «Не сбылись радужные грезы/ Поблекли юности цветы»; « о былом одни мечты»; «погибли юные стремленья» («Не сбылись радужные грозы», 1904), «забудем былые невзгоды» («Гимн свободе», 1905); «прошли те времена» («Прошли те времена, когда нелицемерно»,1908); «час мечтательных прогулок,/Встреч и вздохов о былом», « былому неподвластны» («Старый дом зловеще гулок», 1910). 2 Эти «вздохи о былом» обусловлены не жизненной позицией или возрастной усталостью, а литературной традицией (влиянием романтической лирики, воздействием символистской поэзии, элегическим модусом художественности3). Клюев воссоздает элегическое миросозерцание, которому свойственны печаль, грусть об ущедшем, прощальное настроение. Но авторская тональность может меняться даже в рамках в рамках одного текста, вместо «немолодого» лирического субъекта обнаруживается юный повествователь. Так, в стихотворении «Не сбылись радужные грозы» о молодой наивности героя говорит его стремление найти однозначный ответ на мучившие его вопросы, «когда окончатся все муки/И на земле не будет слез», у «светил мудрости, науки». Концепт в философии и филологии – это содержание понятия, смысловое значение имени (знака), устойчивая ментальная идея, которая имеет традиционное для национальной культуры языковое выражение, это «сгусток культуры в сознании человека» (Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – С. 40). Манифестацией конспекта является словесная форма, образ, мотив. 2 : Клюев Н. А. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы. СПб.: РХГИ, 1999. – С. 77. Все стихотворные цитаты даются по данному изданию с указанием страниц в тексте в круглых скобках. 3 Модус художественности, или тип авторской эмоциональности, авторской рефлексии. См.: идейноэмоциональной оценки (героика, трагика, комизм, идиллика, элегия, драматизм, ирония) См.: Тюпа В И Художественность / В И. Тюпа // Введение в литературоведение Литературное произведение основные понятия и термины –М , 1999;. Хализев В.Е Теория литературы. – М., 1999. 1 2 Личность юного героя проявляется в категоричности высказываний, в устремленности в будущее: «Но былому неподвластны – Мы в грядущее глядим» («Старый дом зловеще гулок», 1910). Поэт находится еще в начале творческого пути, его «песня» связана с будущим временем: Но не стоном отцов Моя песнь прозвучит, А раскатом громов Над землей пролетит» («Безответным рабом», 1905, с. 79). Элегическое у раннего Клюева сочетается с жизнеутверждающим, в душе поэта борются печаль и «немолчный жизни звон». С концептом молодости связан мотив безвременной гибели «павших невинно детей» отчизны. Он навеян поражением Первой русской революции, хотя впервые обнаруживает себя в стихотворении «Плещут холодные волны» (1905?), соотносимым с русско-японской войной, о чем говорит цитата из известного стихотворения Я. Репнинского, ставшего народной песней. Но военные реалии стерты, речь идет о смерти многих, «свободных душою», замученных «рукой судьбы»: «Мертвым сегодня в пучину/Брошен матрос молодой». Девушке-изгнаннице, «могилу готовит здесь судьба незримою рукой» («Холодное, как смерть, равниной бездыханной»,1907); «бледный юноша» умирает от ран под плакучею ракитой («Под плакучею ракитой», 1908); «на брусовой перекладине» заканчивается жизнь жениха в «Песне о мертвом женихе» (1908). Портретные детали создают образ молодого героя, умирающего в расцвете сил. Жених характеризуется как буйная головушка, «удалой детинушка» со звончатой гармоникой, у него соколиные очи, румянец-«красен жар» на лице. Молодому часовому, охраняющему в тюрьме своих братьев-земляков «по крови», «жизнь безвинно молодую загубить в рассвете жаль», он думает о самоубийстве, чтобы не покоряться «лихой судьбе» «На часах»,1907), Мотив безвременной гибели в творчестве девятисотых годов включает в себя и утрату любви: «Сгибло все под дыханьем ненастья» (.С. 86-87 «Вот и лето прошло» (1907) В стихотворении «Сегодня небо, как невеста» (1910), за казнью-распятием предстоит последующая встреча с «обителью Отца. Так заявляет о себе концепция жизни – смерти – воскресения. Смерть «молодого гусара» в «Небесном вратаре» (1915) рисуется как «жизнь своя за други своя», жертва за родину сакрализуется, поэтому горючие слезы прощания героя с белым светом переходят в описание небесного воздаяния за его подвиг. В стихотворениях, в которых отразилось пребывание Клюева в губернской тюрьме и в Выборгском пехотном батальоне из-за решения «не быть «не быть солдатом, не учиться убийству, как Христос велел и как мама мне завещала», 4 появляется мотив взросления, прощания с молодостью, который соответствует переживаниям биографического автора : казарме «молодость моя, как некоему богу,/ Вечерней жертвою принесена была» («Казарма», 1907, с.85). 4 Клюев Н.А. Гагарья судьбина// Клюев Н. А.Словесное древо. Проза. – СПб., 2003. – С.42. 3 Много позже поэт опишет свой портрет того времени, когда его привезли «в солдаты: «18 лет от роду, безусый, тоненький, голосок с серебряной трещинкой». 5 Именно в это время в миросозерцании героя появляется трагическая составляюшая как отражение эмоциональной реакции повествователя на поражение русской революции 1905 – 1907-х годов: В стихотворении «Ночью дождливою, ночью осеннею» (1907), чувство страха, ощущение «тьмы бездонной»: «полем, проселком, глухою деревнею/страшно идти одному» (с. 89), – вызвано не условными литературными или частными обстоятельствами, а социальной ситуацией, о чем свидетельствует образ казачьего разъезда». Как известно, казаки сыграли активную роль в усмирении не только московского восстания в декабре 1905 года, но и крестьянских выступлений. Этическая характеристика повествователя совпадает с народной оценкой дозора как нечистой силы: «Где она ступит, там каплей багровою /Кровью останется след на земле». В стихотворениях 1907 – 1910-х годов происходит внутреннее взросление лирического субъекта, а вслед за ним и героев-персонажей, мир эмоций усложняется, грусть, тоска, плач, обусловленные реальными драматическими и трагическими переживаниями «кровавой были», соседствуют с народным гневом, возмездием. В стихотворении ««Темной ночью сердцу больно» (1907): переданы чувства перевозчика Луки, который «молод <…> и телом зноен, /Бел, как пена на реке, но его сердцу «больно одинокому грустить,/ Жить на свете подневольно/И врагу не отомстить» (с.90). В стихотворениях девятисотых годов обычно рисуется условный портрет повествователя чаще всего без возрастных характеристик. Это мужик, «в лаптях, в сермяге серой», странник «с клюкой, с дорожною котомкой», пилигрим «убогий», поэт, «наружный <…> злой и грешен, /неосязаемый пречист». О молодости героя стихотворения «Я надену черную рубаху» (1908), идущего на плаху «с молчаливо ласковым лицом», говорят только его воспоминания о маме и крашеной елке. Строгость формы – пятистопный хореический размер, который в русской поэзии соотносится с мотивом пути и который у Клюева поддерживается и во вставной девичьей песне, перекрестная рифмовка, традиционное чередование женской и мужской рифмы, точность рифм, скупость тропов, среди которых преобладают одиночные эпитеты, – передает сдержанность переживаний лирического героя, лишь риторические восклицания, олицетворения в последних двух стрОфах воссоздают его смятение. Клюев начала десятых годов неоднократно передает ощущение быстротекущей жизни: «И реки жизни быстротечны» («Есть то, чего не видел глаз»,1910, с. 124); «юность бесследно прошла» («На песню, на сказку рассудок молчит»,1911, с. 149), утрачены чистая вера, предчувствия «святых несбыточных чудес» ( «Прошли те времена, когда нелицемерно», 1908, с. 104). его «весна отсияла» («Весна отсияла… Как сладостно больно», 1911, с. 149). Клюев Н. А. Автобиографический отрывок// Клюев Н. А. Словесное дерево. - СПб.: Росток, 2003. - С. 42. 5 4 Появляется и глагол «помню» («Помню я обедню раннюю»,1908, 1911). Но повествователь чувствует себя по-прежнему молодым, на что указывает образ «сердца-дитяти», перед ним все еще стоит проблема выбора пути «бездольного сына», у него еще есть возможность померять «разбойную удаль» с врагами. Несмотря на беды, он «все такой же, как в столетьях/Широкогрудый удалец» (!Чу! Перекатный стук на гумнах», 1912, с. 184). Герой и «в келье каменной и гулкой», «глухом склепе» чувствует жизни силы: «Я все тот же – мощи жаркой/Не сломил тяжелый свод»… («Прогулака»,1907 с. 93). Образ молодости и мотив взросления начинают соотноситься с образом старости. Впервые их взаимосвязь обнаруживается в «Любви начало было летом» (1908), но старость героя отнесена в далекое будущее, когда «года уйдут в седую мглу», и он будет «нищий и худой» (с. 97) В стихотворении «Не говори, – без слов понятна» (1910) молодость традиционно ассоциируется с весной, а старость и смерть с зимой: герои «предосенни, как снега…»; у них «предзимняя тоска», Старость и молодость не только противопоставлены, но и сливаются через образ несвободы: «Не проведут ли наши сестры,/Как зиму, молодость в тюрьме». Поэт-дитя, грезивший на рассвете вдохновенья»: Я «смехом солнечным младенца. Пустыню жизни оживлю И жажду душ из чаши сердца Вином певучим утолю, – видит картины близкой смерти: «И на кресте венок поблекший/Улыбкой солнце золотит». Трагизм усиливается, так как вслед за смертью наступает поэтическое забвенье. Мотив гибели постепенно усложняется, преждевременная смерть начинает осмысливаться как повторение пути Христа: «Надо тело молодое /Крестным терном увенчать» («Как звезде, пролетной тучке» (1908, 1912). В «Брачной песне» (1910, 1911), отражающей сектантские идеи, связанные с особой телесностью, герой «молоденький и бледный, как былинка», в «рубище суровом» (это словосочетание повторяется в тексте дважды) готов к смерти, но это не физическая смерть в ее прямом смысле, а «казнь тела». Мотив молодости лирического субъекта постепенно исчезает из поэзии Клюева, исчезает и образ «я». Он сменяется объективным повествователем, певцом народной жизни и судьбы. А лирический образ героя-поэта раскрывается косвенно через идею верности крестьянской Руси старообрядческому Выгу и христианским заветам и с проекцией на судьбу автора: «Будет твой внук Авакумом, /Речью Иван Златоуст» («Бабка тачает заплаты», между 1914 – 1916 годом, с.246). Особняком стоит цикл «Избяные песни» и близкие к нему стихотворения, связанные с памятью матери. В них возвращается лирическая субъективность, эмоциональная взволнованность, появляется автобиографизм, «я» сближается с образом лирического героя. Психологически точно переданы чувство человека, остро ощутивщего, что «умерли юность и мама» («О, ели, родимые ели», между 1916 и 1918, с. 315). В стихотворении « Лесные сумер- 5 ки – монах» (1915) Клюев впервые по отношению к лирическому субъекту употребляет глагол молодеть, который обычно относится к внешнему или внутреннему состоянию немолодого человека: «Лесных погостов старожил, /Я молодею в вечер мая». И портретные детали указывают на процесс старения: «Я уже больше не подрасту, /Останусь лысым и робко сутулым» («Я уже больше не подрасту», 1916 - 1918, с. 236); «Пусть я некрасивый, /Хворый и плешивый» («Поэту Сергею Есенину», 1917, с. 300); «четыре морщины на лбу и сизая стежка на шее» (Белая повесть, 1916 –1918,с. 303). Мысли о старости и смерти преодолевается «усладой надежды земной»: «Мы умрем, но воскреснем с народом» («Утонувшие в океанах…», между 1916 и 1918, с. 316). Своеобразно раскрывается мотивы старости и уходящей жизни в стихотворении «Я уже больше не подрасту (между 1916 и 1918), в котором переданы больничные переживания героя, отличного от биографического автора, шестидесятилетнего поэта, «лысого и «робко сутулого», который уже дочитывает «Жизни журнал»: А давно ли атласной водой Меня мыла в корытце мама? Лирический субъективизм, удивительный по яркости образ позволяют отнести воспоминание к биографическому автору. В целом же мировосприятие Клюева 1912–1914 годов более оптимистично, чем в начале творческого пути. Сквозной образ молодости характеризует полноту, расцвет, биение народной жизни, юности других. Впервые это обнаруживается в «Обидином плаче» (1908, 1918) с его девушками- сугревушками и дородными добрыми молодцами. Поэт подробно живописует внешний облик этих персонажей, красоту крестьянских костюмов: Как у девушек-согревушек Будут поднизи плетеные, Сарафаны золоченые, У дородных добрых молодцов, Мигачей и залихватчиков, Перелетных зорких кречетов, Будут шапки с кистью до уха, Опояски соловецкие, Из семи шелков плетеные (с 98) В стихотворении «Прохожу ночной деревнею» ((1912) герой – молодецудалец, «повеса-парень» в собольей шапке «стародавних полон сил». В «Посадской» (1912) «у милого – кунья шуба,/Гоголиной масти конь,/ У меня – сахарны губы,/ Косы чалые в ладонь» (с. 163) Повторяющиеся портретные детали, воссоздающие народные представления о красоте, переходят из стихотворения в стихотворение: у парня «кудри-вихори», /Брови – черные стрижи», а «девка – зорька, маков цвет» («Недозрелую калинушку…» (1912, с. 166), девушка с русой косой, «с зыбким голосом, с вишеньем щек» («В просинь вод загляделися ивы», 1912, с.163,), у девушки пригожей, в парчовом сарафане бело лицо, («Вы белила, румяна мои», 109, с. 119) 6 Подчеркнутая физическая красота, «земное» лишь оттеняет красоту души, порывы к «небу». В стихотворении «Не оплакано былое» (1909), «кормчий молод и напевен» и девушка-«дитя», с глазами из изумрудов и с кораллами на губах» устремлены к чудес земле», «чтобы сказку ветровую /Наяву осуществить» (121) В «Слободской» (1909) детина, как малина,/Тонкоплеч и чернобров»; «Он головушкой покорен,/ Сердцем-полымем ретив» (с. 120). Молодости противопоставлены детство и старость: «старики, ребята малые», мать, которая старится за прялкой. Неоднократно появляется образ деда как символ мудрости, он «пестун былин» («Запечных потемок чурается день» (1914–1916, с. 251), он «запевает о Храброми Егорье» («Печные прибои пьянящи и гулки», между 1916 –1918, с. 311.), его смерть лишь подтверждает непрерывность жизни народа «Не будет деда, но будет сказ» («Под низкой тучей вороний грай», 1916, с. 286). . Вечность природного бытия также подчеркивается сравнениями природных образов со старыми людьми: «дедушкабор» «вешний бор – за лаптем дед», «старухи-ели». Сама судьба воплощена в образе старухи: «Судьба-старуха» нижет дни» (с. 263). Она напоминает не только о смерти, но и о торжестве вечной жизни « в родимых селах», звучит «жизнедательный глагол». Судьба предстает в облике «девы-благодати», которая «спрядает дни,/Чтоб вечное соткать» («Судьбастаруха нижет нити»,1915 с. 264). Антитеза молодости/старости в поэзии Клюева десятых годов лишена трагического звучания. Концепция «избяного космоса», которая воплотилась в сборнике «Лесные были», была нацелена на воссоздание гармонии жизни в слиянии с природой, сопричастности человеческого существования вечности бытию, попрании смерти христианской идеей великого Воскресения. Исследователи неоднократно отмечали переход тем смерти и сиротства в «Избяных песнях» в тему торжества жизни, чем объясняется неожиданный лишь на первый взгляд рассказ о жизни в селе Красный волок. («В селе Красный волок пригожий народ»), появление образов молодости и детей. Образ ребенка у Клюева вначале появляется в метафорическом значении «дитя моей любви» («Холодное, как смерть, равниной бездыханной» (1907, с. 85), затем в стихотворении «Ночью дождливою, ночью осеннею» (1907, с. 89) звучит колыбельная песня матери как символ победы жизни над смертью, которую несет «нечистая сила», казачий разъезд. В стихотворении «Рота за ротой проходят полки» (с.91, 1907) плач ребенка: «В встречной деревне заплачет дитё», – включен в эмоциональную оценку мотива смертирасправы, присутствующего в подтексте В «Избяных песнях» образ ребенка возникает вначале в сравнении: коврига «лучистее детских кудрей», затем появляется «маленькая Маша», которой хочется «сытового хлебца поесть» (с. 243, 1915). Образ ребенка связан с мотивами Воскресенья, «светлой радости спасенья». «Книга народной судьбы» включает рассказ о деде, болезной матери, рождении нового поколения: «Знай, что кудрявому мальцу/ Тятькой по осени стать» («Рыжее жнивье, как книга», 1915, с. 261). Неоднократно встречается у Клюева образ детской зыб- 7 ки: «Счастье первое дитя/ Усыплять в скрипучей зыбке». Круг жизни и природно-хозяйственный календарь («радость видеть первый стог») сближены через одинаковую эмоциональную оценку («Радость видеть первый стог» (1913, с.197). В «Лесных былях», «Мирских думах» немало девичьих песен. Но даже если они повествуют о тяжелой женской доле, немилом замужестве, в них раскрывается активный женский характер, передается энергия молодости, юный задор. И драматизм жизни старухи из одноименного стихотворения, в портретном описании которой акцентируются печальные изменения во внешнем облике («седая, горбатая», «косы желтее, чем бус янтаря», «схожа я с мшистой заплаканной ивою»), данные по контрасту с весенней природой, («вербойневесткой», «алоцветной красою» зари) объясняется не предчувствиями конца жизни, а нарушением социальных законов крестьянской бытия: «сын обижает, невестка не слухает» («Старуха»,1912, с. 171). Важным моментом в творчестве Клюева является соотнесение молодости/старости с образом Родины, которое появляется не без влияния блоковской поэзии: «О, кто ты, родина? Старуха?/ Иль властноокая жена?» («В морозной мгле, как око сычье», 1911, с. 138). Развернутое сопоставление Руси с женским ликом, а народа с «детиной-богатырем дается в стихотворении («Русь», 1914): «Славься, Русь! Краса-девица, /Ладь колечко и фату!» (с. 228). В «Поддонный псалме» (1916) Русь олицетворяет не жена, одетая в солнце, а домовитая «баба хозяйка», которой «только тридцать три года», Это условная дата, символизирующая расцвет. Автор отвергает символистское наполнение образа Откровения и противопоставляет ему крестьянский облик родины. В стихах 1917– 1918-х годов сравнение Руси с женским образом принимает формулу «невеста-Россия», «Дева-Свобода», а образ солнца революции в сопрягается с мотивами молодости, красного пира, свадьбы, рождения: «Братья, сегодня наша малиновая свадьба –/ Брак с Землей и орлиной Волей» (с. 399); «Обожимся же, братья, на яростной свадьбе/Всенародного сердца с октябрьской грозой» (с. 400). «Смольный – в кожаной куртке, с загаром на лбу, /Юный шкипер» (с. 401). (В стихотворении 1932 года «Мне революция не мать»), новая Россия, «подросток смуглый и вихрастый», который «себя не может рассказать, будет противопоставлена Руси пращуров, явленной в культуре). В автобиографической прозе «Из записей1919 года» раскрывается облик героя, «мужика особой породы», полного сил. Но мотив молодости исчезает в двадцатые годы, чтобы вернуться лишь в стихах, посвященных А. ЯрКравченко. Лирический герой, который обретает биографические черты, будет все чаше соотноситься с образом старика, причем старческое усилено в сравнении с реальным возрастом автора. Мотив старости переплетается с мотивом насильственной, преждевременной смерти лирического героя и его «предсмертной песни»: «Меня расстреляют в зеленом июле» (460: «и помянут пляскою дервиши/Сердце розу, смятую в Нарым», (с 469). Эти мотивы рождаются уже в 1919 году. 8 И если стихотворение «Родина, я умираю» с первоначальным заглавием «Голод» обусловлено житейскими бедствиями Клюева в Вытегре 1919 года, когда он был вынужден просить друзей о помощи, то в «Вороньих песнях» и других стихотворениях осени 1919-го и 1920-го года трагические предчувствия связаны с судьбой Родины и участью ее поэта. Появляются образы «обезглавленной России», отрубленной головы поэта, восходяшие к евангельской истории о пляске Саломеи: Во рву, где плесень и ботва, Угомонится мозг поэта, – Усекновенная глава На блюде солнечном воздета (с. 453). Мотив обреченности «Красного Содома»: «На камне могильном старухасвобода» /Из саванов вяжет кромешные сети (с. 472) переходит в мотив смерти крестьянской Руси: «умерла лавка», «вечная память вербе, лежанке» (с. 454), «почила в сиянье коврига-опал» (456); «свет неприкосновенный, свет неприступный/Опочил на родной земле» (с. 470). Русь предстает в образе поля, усеянного костями. Но смерть преодолевается: И Бог зеленеет побегом ветловым/Под новою твердью над новой землей» (с. 472); «По голгофским русским пригоркам/Зазлатится клюевоцвет» (473). В сборник «Львиный хлеб», отразивщий кризисное восприятие действительности, вошло стихотворение «Тридцать три года, тридцать три», первое, в котором поэт указывает на свой точный возраст. В начале текста тридцать три года воспринимаются как пора ранней зрелости и начальных примет физического увяданья: «Первый седой волос/И морщинок легкие дуги». Зрелость осмыслена как расцвет творчества, которое приобретает всемирный характер. Но образный ряд создает ощущение опасности, нависшей над поэтом: пропащая могила, определение тридцать третьего года как високосного, то есть несчастливого, образ шкипера из преисподней, который соотносится с образом Касьяна Немилостливого, которого народное сознание наделяло демоническими чертами. Касьянов год не совпадает с цифровым обозначением возраста героя (33) и, на первый взгляд, со временем создания стихотворения (март – апрель 1921), но указывает на предыдущий високосный 1920-й, на осень которого приходится день рождения автора. В стихотворении «Меня хоронят, хоронят» (апрель – ноябрь 1921) также называется возраст героя: «Погребают меня так рано/Тридцатилетним бородачом», – но это не конкретное обозначение, а символ расцвета жизненных сил поэта и «поморки-Руси» и знак преждевременной гибели. Портретная деталь «борода» будет повторяться и в других стихотворениях в соответствии с изменением внешнего облика самого Клюев, «чалая колдунья-борода (509), дополняется образом «подруги-седины». В 1921-1922-м году впервые появятся определения «старик», «дед» по отношению к повествователю. В стихотворении «Стариком, в лохмотья одетым» (1921–1922, 510) эта возрастная характеристика ещё отнесена в будущее, о чем говорят глаголы будущего времени: притащусь, вернусь, умолкну. Но в середине двадцатых ощущение старости 9 лирическим героем станет постоянным: он «старый лебедь» («Не буду петь кооперацию», 1926) поэт «оплешивел», чувствует себя «на последнем пути», сторожит «гробовые огни», его «жизнь на ущербе». Знакомство в 1928 году и возникшая дружба с молодым художником Анатолией Яр-Кравченко изменяют мироовосприятие Клюева, его «стих запел» о молодости, о юных по яркости и силе чувствах. Даже определение «старик» в стихотворении «Старикам донашивать кафтаны» (между 1929 – 1933) относится не к поэту, а к другим: «Старикам донашивать кафтаны /Нам же рай смертельный и желанный…». Цикл «О чем шумят седые кедры» (1930 – 1932) звучит как гимн «нашей молодости», которой противостоит «только старость при лучине» как досадное напоминание о конечности земного срока. Возникает оппозиция старости и молодой пьянящей силы, «дедовского» восприятия «восемнадцатой весны» Толи и «пятидесятой весны» повествователя, весенних и зимних образов. В цикле немало упоминаний о возрасте лирического героя и его адресата. Если возраст последнего соответствует возрасту прототипа («по восемнадцатой весне», «двадцать<…> веселых золотистых лет»»), то по отношению к герою это может быть как символическая дата, связанная с сорокалетьем, возрастом мужского расцвета («моя любовь – <…> «сорокалетняя, медвежья», «сорок пять <…> пролетий»; «сорокалетние заплаты»), так и относительно соответствующая возрасту автора («в пятьдесят», «под пятьдесят»). Следовать ли тому году рождения, который называл Клюев6, или реальной, установленной исследователями дате, в обоих случаях герой оказывается немного старше биографического автора, которому было сорок пять – сорок семь, когда он работал над циклом. Это может объясняться разницей в возрасте героев цикла, которая заставляет повествователя остро ощущать груз лет, и «старость, старость»: «…тростники моих седин, /Как речку, юность окаймляют». С повествователем связаны природные образы седого кедра, налима в зеленой тине; мохнатого лося; у него снег в усах, борода старца, в его «глазницах воск да ладан», которые подчеркивают физическое увядание. «Прах годов» за его спиной обусловливают устойчивые самоназвания: «дед» («зимний дед»), «пень» («лысый пень», «мшистый пень»). Эти негативно-оценочные определения повествователя оттеняются позитивными портретными деталями от лица собеседника, «ты»: Ты бормотал, что любишь деда За умный лоб, за мудрость глаз! 6 В Акте освидетельствования Клюева на предмет установления группы инвалидности от 25 февраля 1930 года указан возраст – 43 года (См. Клюев Н. А. Словесное древо. – СПб.: Росток, 200з. – С. 404). Для пенсионного свидетельства уменьшение возраста просто невыгодно. А через два дня в Биографии, написанной для Главискусства, Клюев укажет: «Родился 1887 г» (Клюев Н. А. Словесное древо. –СПб.: Росток, 2003. – С. 47). Примерно на эту дату указывает и Автобиография (1923 или 1924 года). 10 Адресат цикла также характеризуется с помощью природных сравнений: «омут глаз», «снопы кудрей», «росный ветерок», «кудрявый сноп», «подснежник», «ландыш», «тюльпан», «мой цветок», «цветик», «бубенец лесной», с ним связан образ детства: «пастушок», «в дупле рысенок», «моя купава, мой ершонок», «совенок», «снигиренок», «тростинка, птичка горихвостка» и, наконец, завершает этот ряд образы кровного родства – «юноши-племянника», сына: Сын, как вятское поле, Жаворонково златый! Сын – калина над кровлей, Весь в улыбках и пчёлках… Молодость чувств, острое ощущение полноты жизни также передаются через образы природы: «моя любовь – в полях капель»; « под пятьдесят пьянее розы,/ Дремотней лен, синей фиалки,/Пряней, землистей резеда…», И творческое горение раскрывается подобным образом: «медом липовым в кувшине я созвучия коплю»; «воспрянули мои страницы, /Ретивей дикого коня,/ В них ржанье, бешеные гривы, /Дух жатвы и цветущей сливы». В развитии сюжета зимние образы, связанные с мотивом старости, постепенно уменьшаются и во второй половине цикла исчезают, сменяясь «пятидесятой весной» жизни и творчества, которую переживает герой. Возникает оксюморонный образ «деда в мае», который как будто вернулся в молодость, «сломал у времени замок», его «дата лет» испепелилась. Поэзия становится залогом бессмертия, «страничка любви» останется в веках до «тысячелетней весны». Цикл завершается оптимистически, герой изображен « с новым посохом в пути». Соотношения молодость – любовь – творчество повторяются и в других стихотворениях, посвященных А. Яр.Кравченко. В стихотворении «Годы» (1933), которое предполагалось как добавление к основному корпусу стихов цикла «О чем шумят седые кедры», этапы жизни поэта («года-гости») от отрочества («ромашки – отрочества очи») до пятидесятого года раскрываются исключительно через природные характеристики. Пятнадцатый год – это «густой шиповник на щеках/И пчелка в гречневых кудрях»; «осмнадцать с двадцатью» » вспоминаются как «росистый первоцвет любви»; «двадцать пять – «всех дурманней и пригожей – /Дитя неведомой весны»,/ В венке из пьяной белены»; в тридцать, «как черный ястреб, реет бровь»; и вот «змея насвистывает; сорок!». Год пятидесятый символизирует мудрость ума («величье лба от Арарата»), сохранившуюся физическую крепость («вздыхает борода могуче», «в бороде <…> голубоватый блеск снегов/Еще незримых») и биение сердца (И не озябло/Подсолнечник – живое сердце». Смыслом прожитой жизни и залогом бессмертия является творчество, «лепестков звенящий ворох»: «Это песни/За них стань прахом и воскресни». Разлад в отношениях с Яр-Кравченко, который Клюев воспринял как предательство их дружбы, привел к акцентированию мотива старости, предчувствий смерти, которые раскрываются через природные метафоры и образы, взятые из крестьянского обихода: «Свои земные посиделки я допрядаю без те- 11 бя»; года героя «гонит вьюга на полюс ледяным кнутом». Зимние образы преобладают в стихах первой половины тридцатого года, что объясняется не столько временем их создания, сколько «зимним» настроением поэт: «Я мертвецом иду в мороз»; « за спиной старик-сугроб/ Сколачивал глубокий гроб». Действительность начала тридцатых также воспринимается сквозь призму зимней образности: деревня – «саван, вытканный пургой», «смертная пурга. Ночная «зимняя» социальность изображается по контрасту с природным весенним утром: «в краю родном», «где жаворонок с васильком /Справляют свадьбу голубую. / В республике, как и в России,/ Звенят подснежники лесные» (с. 579). «Зимнее» и «весеннее» чувства борются в душе поэта. В стихотворении «Мы старее стали на пятнадцать» ощущение тяжести «ржавых осеней, вороньих зим» сменяется ликующей интонацией, сила творчества рождает прежнее ощущение молодости: «Мы моложе стали на пятнадцать/Ярых осеней, каленых зим» (с. 596). Сердце поэта «не знает само/Двадцать ему или сотни». Ощущение утрат, гибели, «могила любви» преодолеваются памятью и творчеством: Всё сгибнет; ступени столетий, Опаловый луч на портрете, Стихи и влюбленность моя! Нетленны лишь дружбы левкои (с. 615) Но оптимистический настрой оказывается кратковременным, уступает место мотиву прощанья с собственной жизнью: «Прощайте, не помните лихом»; «Я лось, забредший через гать,/В подвал горбатый умирать». И даже стремление поэта создать позитивный образ новой «сытой» деревни в «Стихах из колхоза» входит в противоречие с образами насилия («недаром тяжковатый батька/Железным клювом пьет зарю»), смерти, а патетика уступает место скорбному лиризму: «…вьюгой на саван сплетая кудель,/В болото глядится недужная ель – В былое былая Россия» (с. 586). В стихотворении «Меня октябрь застал плечистым» (1933) прослеживается связь между старостью героя и молодостью новой страны-подростка. Заметим, что неоднократно встречающее определение страны Советов как подростка и, образ молодости, широко распространенные в советской поэзии, в том числе и у В. Маяковского, с которым Клюев неоднократно полемизировал, позволяют предположить, что и в годы страстного отрицания и обличения революции сохраняются остатки былых иллюзий, желание объяснить происходящее подростковым максимализмом времени. Этим обусловлено неожиданное определение «такой юной эпохи и потому многое не знающей»7 в письме С. Клычкову из ссылки, и, отчасти, появление в самых мрачных стихотворениях образов весны, «марта» как знака Пасхи, хотя в первую очередь они воплощаают христианское сознание Клюева. 7 Николай Клюев в последние годы жизни: письма и документы (По материалам семейного архива) // Новый мир. — 1988. — № 8. — С. 168. 12 Портрет молодого героя октябрьской поры в стихотворении: Меня октябрь настиг плечистым, Как ясень с усом золотистым» Глаза эпохи – два селезня на плёсе, Волосья – копны в сенокосе, – контрастирует с его сегодняшней немочью («телегами разбиты ноги/ И кожа содрана на верши»), виновником которой оказывается «октябрьская гроза», обрезавшая героя серпом, как иву. Это метафорическое сравнение будет развернуто в мотив сопротивления героя времени: «Порезать ивовую шею/не дам зубастому коню». В стихах Клюева конца двадцатых – тридцатых годов мотив старости, болезни переходит в мотив «последних времен», «болезная, родная страна оказалась во власти дьявола. Новая «деревня – вепрь и сатана». Инфернальные существа представлены образами «лихих сил», «врагов из преисподней», «бесов стаи», нетопырей, рогатых юд, «рогатого во фраке» («Хозяин сада смугл и в рожках»). Задолго до Булгакова возникает картина бала сатаны. Рогатый хозяин является виновником гибели природы «от свирепого железа». Этот мотив также раскрывается через оппозицию весны/зимы: «черемуха убита»; «калина не венчает в мае/Березку с розовым купалой»; «пали дебри»; «ивы у пруда/Одели саваны и чётки». Темы природного апокалипсиса и власти «леших и чертей» «над пригвожденною Россией» станет главной темой в цикле «Разруха» (1934). Восемнадцатый год, который уже не связан с образом молодости, а является точной датой «от революции», воспринимается как время гибели невесты Руси и русских городов-невест. В последнем известном стихотворении поэта «Есть две страны: одна – больница» возникает образ погибшей весны и «мальчика в синем льне», погибшего «в розовом апреле». Мотив юности, весны сливается с мотивом смерти. Что касается возраста Клюева, то сомневаться в точности установленной А. Грунтовым даты не приходится, тем более, что в анкете на Лубянке в 1934 году стоит 1884. Но все же хочется подчеркнуть, что, на наш взгляд Клюев вовсе не преуменьшал год своего рождения, а, очевидно опирался на какие-то документы.,. Во-первых, он почти всегда относил свое рождение к 1887– 1888 году (в зависимости, от того, к какому календарному времени года отнесено то или иное высказывание (до месяца рождения или после). Такое постоянство заставляет задумываться. В Акте освидетельствования Клюева на предмет установления группы инвалидности от 25 февраля 1930 года указан возраст – 43 года.8 Для пенсионного свидетельства уменьшение возраста просто невыгодно. А через два дня в Биографии, написанной для Главискусства, Клюев укажет: «Родился 1887 г».9 Примерно на эту дату указывает и Автобиография (1923 или 1924 года). 8 9 Клюев Н. А. Словесное древо. - СПб.: Росток, 2993. - С. 404. Там же. - С. 47. 13 Но есть и факты иного рода, связанные с его отказом от военной службы осенью 1907 года. В Автобиографическом отрывке, вспоминая об этом, Клюев пишет: «Когда пришел черед в солдаты идти» Его черед должен был наступить в 1905 году, так как согласно «Уставу о всесословной воинской повинности», принятом в 1874 году, всё мужское население России без различия состояний подлежало воинской повинности с 21-летнего возраста, который исчислялся на момент начало призыва, то есть на 1 октября. Возникает вопрос, почему его не призвали в 1905 году? Причин для отсрочки у него, судя по всему, не было, не упоминает он и об уклонении от призыва ранее 1907 года.