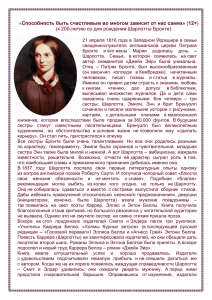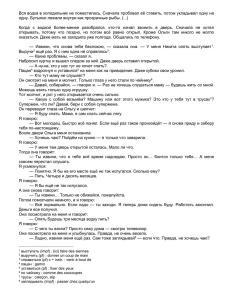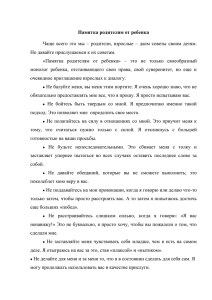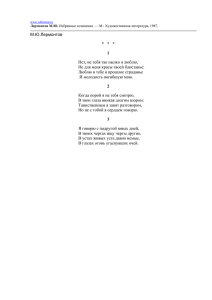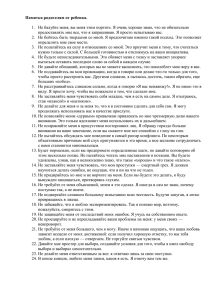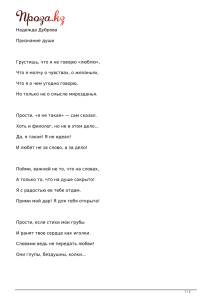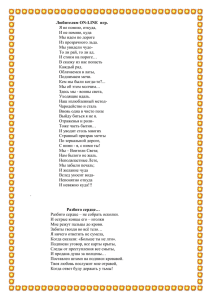Нирвана - iHaveBook
реклама
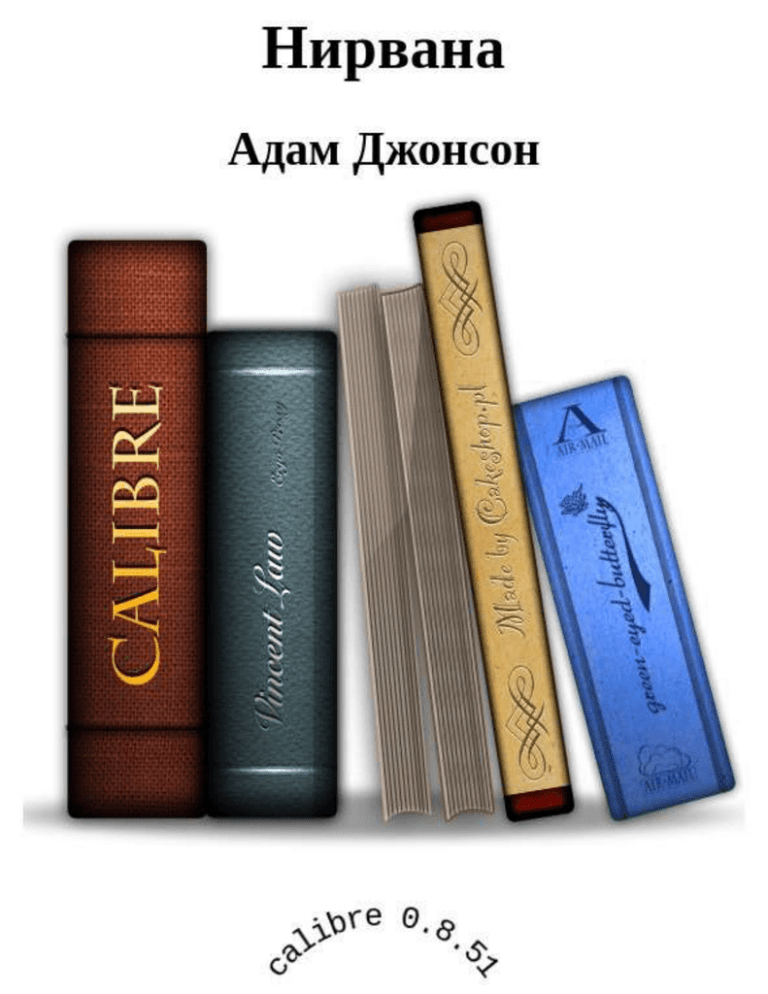
Адам Джонсон o Адам Джонсон Нирвана Фотограф Билл Салливан /Bill Sullivan Уже поздно, а сон все не идет. Я распахиваю окно, чтобы глотнуть свежего воздуху — в Пало-Альто весна, — но это не помогает. Лежа в постели с открытыми глазами, я слышу шепот и сразу вспоминаю о президенте, потому что мы с ним часто разговариваем шепотом. Но я знаю, что на самом деле это шепчет моя жена Шарлотта — она всю ночь слушает в наушниках «Нирвану» и иногда бормочет во сне слова песен. У Шарлотты своя кровать, механическая. Да, слышать шепот президента жутковато, потому что он умер вот уже сколько — три месяца назад? Но еще жутче то, что начинается, едва я закрываю глаза: мне без конца мерещится, что моя жена убивает себя. Вернее, пытается убить, потому что она парализована от плеч до пяток. Паралич временный, но попробуйте убедить в этом Шарлотту. Сегодня она спала на боку, чтобы не было пролежней, и как-то поособенному смотрела на перильца, подпирающие матрас. Ее кровать выполняет голосовые команды, так что если бы Шарлотта как-нибудь ухитрилась просунуть голову между прутьями, ей осталось бы только сказать: «Поднимись». Изголовье поехало бы вверх, и ее удушило бы в считанные секунды. А еще она очень подозрительно смотрит на подъемник Хойера, который вынимает ее из кровати и кладет туда… Но больше всего мне мешает заснуть мысль о том, что ей вовсе не надо изобретать всякие экзотические способы расстаться с жизнью — ведь она вытянула из меня обещание, что я сам помогу ей, когда понадобится. Я встаю и подхожу к ней, но она еще не слушает «Нирвану» — видно, приберегает это средство на самое тяжелое время, послеполуночное, когда нервы у нее совсем сдают. — Мне показалось, я что-то слышал, — говорю я. — Вроде бы шепот. Ее осунувшееся лицо, тускло белеющее в темноте, обрамляют короткие клочки волос. — Я тоже слышала, — говорит она. Месяцы номер два, четыре и семь она провела в слезах — поверьте мне, ни один муж не чувствовал себя таким беспомощным, как я. Но потом наступил еще более тяжелый период: ее глаза широко раскрыты и лишены всякого выражения, о чем она думает, не догадаешься. Словно то, на что она смотрит, далеко за стенами комнаты. На серебряном блюдечке рядом с голосовым пультом управления лежит недокуренная папироса с марихуаной. Я раскуриваю ее и подношу к губам Шарлотты. — Как погода внутри? — спрашиваю я. — Ветер, — отвечает она сквозь дым. Ветер — это лучше, чем град или молния. Или, боже упаси, потоп — так она описывала свои ощущения, когда легкие ее только начинали работать заново. Но и ветер бывает разный. — Как будто сквозняком тянет в окна, — спрашиваю я, — или как будто ставни в ураган стучат? — Шумит и гудит, как микрофон на ветру. Шарлотта снова затягивается. Она очень не любит накуриваться, но говорит, что трава успокаивает ее изнутри. У нее синдром Гийена-Барре — при этой болезни иммунная система человека портит изоляцию его нервов, и когда мозг посылает телу команды в форме электрических импульсов, они гаснут, не дойдя до места назначения. Миллиарды Шарлоттиных нервных клеток шлют сигналы во все стороны и в никуда. Сейчас пошел девятый месяц — рубеж, за который медицинская литература не заглядывает. Тут уже ни один врач не берет на себя смелость сказать, начнут ее нервы восстанавливаться, или она застрянет в таком состоянии на всю жизнь. Она выдыхает, закашливается. Ее правая рука подрагивает — это значит, что мозг пытается заставить руку подняться и прикрыть рот. Она делает еще одну затяжку и говорит сквозь дым: — Я волнуюсь. — Почему? — За тебя. — Ты волнуешься за меня? — Хватит тебе говорить с президентом. Пора примириться с тем, что случилось. Я пробую перевести все в шутку. — Но это он со мной говорит. — Тогда брось его слушать. Его уже нет. Когда приходит твой час, ты должен замолчать. Я неохотно киваю. Но она не понимает. Весь третий месяц своей болезни она только и делала, что смотрела клипы, и в итоге совсем дошла до ручки. С руганью выключила все экраны, так что, наверное, она единственная на всю Америку, кто не видел записей с его убийством. Если бы она взглянула президенту в глаза, когда у него отнимали жизнь, то поняла бы, почему я беседую с ним по ночам. Если бы она могла выйти из этой комнаты и почувствовать народную скорбь, ей стало бы ясно, зачем я реанимировал нашего главнокомандующего и опять вернул его к жизни. — Насчет того, чтобы слушать президента, — говорю я. — Извини, но ты сама по десять часов в сутки слушаешь «Нирвану», а все их песни сочинил парень, который вышиб себе мозги. Склонив голову набок, Шарлотта смотрит на меня, как на чужого, будто я вообще ничего про нее не знаю. — Курт Кобейн взял боль своей жизни и превратил ее во что-то важное, в то, что находит отклик в чужих душах. Знаешь, какая это редкость? А что оставил за собой президент? Пустоту, неопределенность, тысячу завалов, которые теперь придется разгребать. Она всегда так говорит, когда под кайфом. Я не хочу ввязываться в спор. Тушу папиросу и беру ее наушники. — Готова к «Нирване»? — спрашиваю я. — Опять тот же звук, — говорит она. Пытается показать рукой, потом отчаивается и поворачивает голову к окну. — Это оттуда. Выглядываю за окно, во тьму. Стоит обычная для Пало-Альто ночь — тихо шипят поливатели, синеют мусорные баки, в общественном садике роется енот. И тут я замечаю его прямо перед собой — маленький черный вертолетик. Он парит за окном, и его крошечная камера направлена на меня. Быстрым движением, точно пирожок с горячего противня, я хватаю его в щепоть. Закрываю окно, задергиваю занавески и подношу к глазам. Его фюзеляж из черной фольги натянут на хрупкий каркас, похожий на косточки в крыле летучей мыши. Под пропеллером из прозрачного целлофана тепло пульсирует крошечный инфракрасный моторчик. Я смотрю на Шарлотту. — Теперь ты меня послушаешь? — спрашивает она. — Бросишь наконец эту затею с президентом? — Поздно, — говорю я и отпускаю вертолетик. Мы вместе смотрим, как он мечется по комнате, отскакивает от стен, натыкается на подъемник Хойера. Интересно, он автономный? Или им кто-нибудь управлял, наблюдая за нашим домом? Я беру его из воздуха, переворачиваю и щелкаю выключателем. Он замирает. Шарлотта переводит взгляд на голосовой пульт. — Играй, — говорит она. Закрывает глаза и ждет, пока я надену ей наушники, в которых снова оживет для нее Курт Кобейн. Позже я просыпаюсь. Вертолетик включился сам по себе и висит надо мной, ощупывая меня тусклым красным лучиком. Я набрасываю на него свитер и сбиваю на пол. Убедившись, что Шарлотта спит, достаю свой айпроектор. Включаю, и передо мной, в янтарном сиянии, появляется трехмерный президент в натуральную величину. Он приветствует меня улыбкой. — Как хорошо снова вернуться в Пало-Альто! — говорит он. Моя программа обращается к чипу джи-пи-эс в айпроекторе и ищет в президентской базе данных цитаты с привязкой к географическому местоположению. Эту фразу она извлекла из его речи в Стэнфордском университете — он выступал там еще сенатором. — Простите за беспокойство, господин президент, — говорю я, — но я хотел бы еще кое о чем вас спросить. Он задумчиво смотрит вдаль. — Спрашивайте, — говорит он. Я перемещаюсь так, чтобы очутиться у него перед глазами, но не могу поймать его взгляд. Это одна из проблем, которые еще надо решить. Я надеюсь, что к выпуску бета-версии все будет налажено. — Не совершил ли я ошибки, создав вас и выпустив в свет? — спрашиваю я. — Моя жена говорит, что вы мешаете людям горевать, что вы не даете нам смириться с тем, что вас настоящего уже нет. Президент потирает небритый подбородок. Смотрит вниз и в сторону. — Джинна нельзя загнать обратно в бутылку, — говорит он. Мне становится страшновато, поскольку впервые он сказал это в программе «60 минут», когда выражал сожаление по поводу легализации гражданского применения вертолетов-разведчиков. — Вы знаете, что это я вас сделал? — Мы все родились свободными, — говорит он. — И никому не дано видеть мир чужими глазами. — Но вы-то не родились, — говорю я ему. — Я написал программу на основе ядра «Линукс». Вы просто сочетание поисковой системы с открытым кодом, диалогового бота и видеотранслятора. Программа обшаривает интернет и вылавливает оттуда изображения конкретного человека, фильмы с его участием и другую информацию. Все, что вы говорите, уже было сказано раньше. Впервые у президента не находится слов. Я спрашиваю: — Вы знаете, что вы… умерли? — Смерть — это лишь иная разновидность свободы, — отвечает президент без запинки. Передо мной возникает сцена убийства. Я видел эту запись столько раз, что она проигрывается в мозгу помимо моей воли: автомобильный кортеж медленно ползет вперед, а президент пешком шагает вдоль ограды, за которой теснится народ. Кто-то в толпе привлекает внимание президента. Он останавливается и оборачивается, приветственно поднимает руку — и тут ему в живот летит пуля. От толчка он сгибается пополам и поднимает голову, ища глазами стрелявшего — того, кого камера так ни на секунду и не поймала в свой объектив. Во взгляде президента вспыхивает озарение, это момент чистого понимания — он или кого-то узнает, или постигает какую-то истину, или убеждается в верности своего предчувствия. Вторая пуля попадает ему в лицо. Видно, что это всё — его ноги подкашиваются, и вот он уже лежит. Вокруг собираются люди в костюмах, заслоняют обзор, и на этом запись обрывается. Несколько дней его еще продержали на аппаратах жизнеобеспечения, но по сути конец наступил сразу. Я смотрю на Шарлотту — она спит. Но на всякий случай шепчу: — Господин президент, вы говорили с первой леди о будущем, о том, что может случиться и такое? Кстати, не она ли, первая леди, и отключила ему аппараты? — У нас с первой леди чудесные отношения, — улыбается президент. — Мы ничего друг от друга не скрываем. — Но были ли какие-нибудь инструкции? Вы с ней составили план? Президент понижает голос, и я слышу в нем торжественные нотки: — Вы спрашиваете о матримониальных узах? — Да, — помедлив, отвечаю я. — В этом деле, — говорит он, — наша святая обязанность — всегда оставаться друг для друга поддержкой и опорой. Не знаю, остался ли я поддержкой и опорой для Шарлотты. Затем президент снова устремляет взор вдаль, как будто где-то там реет флаг. — Я президент Соединенных Штатов, — говорит он, — и я готов взять на себя всю полноту ответственности. В этот момент мне делается ясно, что наша беседа закончена. Я протягиваю руку, чтобы выключить айпроектор, и президент смотрит мне прямо в глаза. Конечно, это можно объяснить только случайностью. Мы разглядываем друг друга — его взгляд глубок и меланхоличен, — и мой палец замирает над выключателем. — Найдите в себе внутреннюю решимость, — говорит он мне. Как мы до этого дошли? Можно ли рассказать историю, которая не имеет начала, а просто внезапно случается? Женщина, которую ты любишь, простудилась. Пальцы у нее покалывает, ноги как резиновые. Утром она не может взять чашку с кофе. В больницу она наконец попадает из-за того, что не может пописать. Ей хочется писать, до смерти хочется, но паралич уже начался: мочевой пузырь не слышит мозга. Врач в приемном отделении вставляет ей катетер Фолея, а потом ты узнаешь новые слова: аксон, арефлексия, дендрит, миелин, восходящая периферическая полинейропатия. Шарлотта говорит, что она полна «шума». Внутри нее «буря». У врача большой шприц. Он просит Шарлотту лечь на каталку. Шарлотта не хочет на каталку. Она боится, что больше с нее не встанет. «Брось, милая, — говоришь ты. — Залезай». И вскоре видишь пробирку со свеженабранной спинномозговой жидкостью, отливающей глицериновым блеском. И она была права. Действительно больше не встала. Чтобы начать плазмаферез, нужно стентировать бедренную артерию. Это делает татуированный врач-эксфузионист, из наушников которого зудит Rage Against the Machine. Затем следует интенсивная иммуноглобулиновая терапия. В речи врачей проскальзывает слово «вентилятор». Приезжает мать Шарлотты. Привозит с собой виолончель. Она специалист по блокаде Ленинграда. Целую книгу об этом написала. Когда наступает кома, моя теща наполняет больничную палату грустнейшими из всех мыслимых звуков. Семь дней кряду — только шелест кондиционера, попискивание медицинских приборов и Шостакович, Шостакович, Шостакович. Никто не просит ее перестать. Сестрыневрологички появляются и исчезают, шепча на тагальском. Два месяца физиотерапии в Санта-Кларе. Лечебные ванны, акустические стимуляторы, экзоскелетные тренажеры. На голеностопы Шарлотте надевают ортезы, на голову — специальные наушники с подголовником. Глядя на нее, другие пациенты понимают, как им повезло. В ее состоянии нет никаких перемен — она «не борец», «не чемпион» и «не трудяга». Шарлотта уверена, что я променяю ее на «действующую» женщину. В реабилитационной палате она кричит, чтобы я сделал себе вазэктомию: тогда, мол, нам с той стервой ничего не светит. Мой отказ становится подтверждением того, что стерва существует и что мы с ней вынашиваем бессовестные планы. Чтобы успокоить ее, я читаю вслух мемуары Джозефа Хеллера о том, как он болел синдромом Гийена-Барре. Расчет был на то, что книга поднимет нам настроение. Однако в ней повествуется о том, какие чудесные у Хеллера друзья, с каким мужеством Хеллер смотрит в будущее, как Хеллер бросает свою жену ради прекрасной медсестры, которая за ним ухаживает. Конец книги для Шарлотты особенно огорчителен: Джозеф Хеллер идет на поправку. Мы низвергаемся в колодец отчаяния — глубокий и узкий, он изолирует нас от внешнего мира, так что мы слышим только свои собственные голоса и плаваем в чистой и черной жидкости. Все ухает в этот колодец вместе с нами — наша работа, цели, путешествия, возможные дети, — и в этой тесноте мы рискуем потопить их, спасаясь сами. Один из врачей пытается усадить Шарлотту на плот антидепрессантов. Она не желает принимать таблетки. Врач добродушно замечает: «Что ж, на это есть капельница». Шарлотта смотрит на него в упор и говорит: «Следующий доктор, пожалуйста». Следующий доктор рекомендует выписку. Дома мы неожиданно погружаемся в сюрреализм. Знакомая обстановка подчеркивает недосягаемость нормальной жизни. Но кот счастлив, что Шарлотта вернулась, — так счастлив, что проводит всю ночь, распластавшись на горле Шарлотты, прямо на шве, оставшемся после разреза трахеи. Прощай, кот! Странным образом наступает водевильная неделя бесшабашного веселья, когда утки и сохнущие конечности кажутся забавными, когда невозможность извлечь из носа козявку вызывает истерический хохот, когда все будничные предметы словно пропитаны эксцентрическим юмором — я нахлобучиваю на Шарлотту шляпку, и мы умираем со смеху. Она с недоумением глядит на лифчик. Шутки на кошачью тему сыплются градом! Этот период кончается, и жизнь снова входит в обычную колею. Колпачок от шприца, случайно закатившийся в постель, протирает в спине Шарлотты дырку. Когда я отлучаюсь в гараж, Шарлотта видит, как с потолка на одной паутинке на нее медленно спускается паук. Она пробует сдуть его в сторону. Дует и дует, но паук исчезает у нее в волосах. За бортом этого описания остались анализы, приступы бессильной ярости и периоды упорного молчания. Впереди — открытие Курта Кобейна и марихуаны, а также все более короткие стрижки. Из этой поры заслуживает упоминания лишь один эпизод. Дело было вечером. Я сидел рядом с Шарлоттой на механической кровати, держа перед ней журнал и перелистывая страницы, так что лица ее толком не видел. — Ты не представляешь, как мне надоела эта кровать, — сказала она. Ее голос звучал ровно, невыразительно. Она говорила подобные вещи тысячу раз. Я перевернул страницу и усмехнулся картинке с подписью: «Звезды очень похожи на нас с вами!» — Я бы все отдала, чтобы вырваться, — сказала она. Ее роль состояла в том, чтобы прояснять сложную подноготную знаменитостей, доказывая мне, что их истории по праву украшают собой Сикстинскую капеллу американской культуры. Моя — в том, чтобы высмеивать знаменитостей и прикидываться, будто я, в отличие от других, не пойман в силки их любовных баталий и разрывов. — Но я никогда не смогла бы так с тобой поступить, — сказала она. — Как поступить? — спросил я. — Никак. — О чем ты говоришь, что у тебя в голове? Я повернулся и посмотрел на нее. Нас разделяли всего несколько дюймов. — Если б я не боялась тебя расстроить, — сказала она, — я бы сбежала. — Куда? — Отсюда. Никто из нас не упоминал о моем обещании с той ночи, когда она заставила меня его дать. Я пытался сделать вид, что этого обещания не существует, но оно было… оно было. — Соберись с духом и признай, что тебе от меня никуда не деться, — сказал я с вымученной улыбкой. — Это судьба, нам на роду написано быть вместе. И скоро тебе станет лучше, все снова наладится. — Вся моя жизнь в этой подушке. — Неправда. У тебя есть друзья и близкие. Плюс достижения техники. Перед тобой весь мир, только пальцем шевельни. Под друзьями разумелись медсестры, санитары и физиотерапевты. Под семьей — ее скорбная далекоживущая мать. Но это не имело значения: Шарлотта так погрузилась в собственные мысли, что даже не поставила мне на вид, что не может шевельнуть пальцем. Она повернула голову и уперлась взглядом в перильца. — Не волнуйся, — сказала она. — Я никогда с тобой так не поступлю. На рассвете, до прихода первого санитара, я отдергиваю занавески и рассматриваю вертолетик на утреннем свету. Двигатель и детали маскировки у него стандартные, но процессоры, выглядывающие из-под кевларового защитного корпуса, мне незнакомы. Чтобы заставить вертолетик заговорить, чтобы раздобыть какие-нибудь сведения о тех, кто прислал его, нужен хэш-ридер, а он у меня на работе. Когда просыпается Шарлотта, я подкладываю ей подушку повыше и массирую ноги. С этого у нас начинается каждое утро. — А ну-ка, произведем немного шванновских клеточек, — говорю я ее пальцам на ногах. — Пора Шарлоттиному организму начать вырабатывать миелиновые мембранки! — Смотри ты, какой оптимист, — ворчит она. — Небось опять с президентом разговаривал. Ты для этого с ним говоришь — чтобы получить заряд бодрости? Увидеть светлую сторону? Я поднимаю ее правую ступню и растираю ахиллово сухожилие. На прошлой неделе Шарлотта провалила важную проверку на глубокий сухожильный рефлекс, сигнализирующий о начале выздоровления. «Не волнуйтесь, — сказал врач. — Я знаю другого пациента, который тоже девять месяцев ни на что не реагировал, а потом полностью восстановился». Я спросил, нельзя ли связаться с этим пациентом и узнать, что он перенес, это подготовило бы нас к тому, что может ждать впереди. Врач сообщил нам, что больной, о котором идет речь, проходил лечение во Франции в 1918 году. Когда врач ушел, я отправился в гараж и принялся делать президента. Психолог, наверное, сказал бы, что в моем решении создать его сыграло роль обещание, данное Шарлотте, и тот факт, что у президента тоже были близкие отношения с человеком, отнявшим у него жизнь. Но дело не в этом: мне просто надо было кого-нибудь спасти, а в случае с президентом не имело значения, что уже слишком поздно. Я легонько постукиваю Шарлотту по коленной чашечке. Никакой реакции. — Не больно? — Так что сказал президент? — Который? — Мертвый, — говорит она. Я массирую ей подошвенные фасции. — А тут как? — Как брызги прохладных бриллиантов, — отвечает она. — Ну, выкладывай. Я знаю, что ты с ним говорил. Похоже, сегодня у нее будет плохой день. — Дай-ка я угадаю, — предлагает Шарлотта. — Президент посоветовал тебе переехать на тропический остров и заняться живописью. Это бодрит, да? Я молчу. — А меня с собой возьмешь? Я буду помогать. Держать в зубах палитру. Или позировать. Мой конек — горизонтальная обнаженная натура. Ей хочется пить. Поилкой у нас служит чашечка для промывания носа. Она стоит на тумбочке, и Шарлотта может сама достать губами до ее носика. Пока она утоляет жажду, я говорю: — Если тебе уж так надо знать, президент велел мне искать внутреннюю решимость. — Внутреннюю решимость, — повторяет она. — Кто бы мне помог ее найти. — У тебя больше решимости, чем у любого из моих знакомых. — Боже, как лучезарно. Ты что, не видишь, что происходит? Не понимаешь, что я проведу так весь остаток жизни? — Уймись, дорогая. День только начался. — Знаю, знаю, — говорит она. — Я должна достичь стадии просветленного примирения — так, что ли? Думаешь, мне нравится, что я не могу сорвать злость ни на ком, кроме тебя? Я знаю, как это несправедливо — ты единственное, что я люблю в этом мире. — А как же Курт Кобейн? — Он умер. — Жалко. Был бы жив, ты бы на нем сорвала злость. — Ух, он бы у меня получил, — говорит она. Мы слышим, как к дому подъезжает Гектор, утренний санитар, — у него старая машина с двигателем внутреннего сгорания. — Мне надо взять кое-что на работе, — говорю я. — Но я вернусь. — Обещай мне одну вещь, — говорит она. — Нет. — Да ладно тебе. Если пообещаешь, я освобожу тебя от того, другого обещания. Странно, но упоминание о том обещании ничуть не пугает, а наоборот, приносит облегчение. И все-таки я качаю головой. Я знаю, что это неправда: она никогда не освободит меня. Она говорит: — Пожалуйста, давай договоримся, что ты будешь со мной честен. Не надо стараться поднять мне настроение, не надо излучать фальшивый оптимизм. От этого нет никакого проку. — А если я правда оптимист? — С чего бы? — говорит она. — Притворство — вот что убило Курта Кобейна. Вообще-то его убило ружье, из которого он саданул себе в голову, думаю я, но не говорю этого вслух. Из «Нирваны» я знаю только одну строчку и напеваю ее Шарлотте: — При включенном свете, — пою я, — она не так опасна. Она закатывает глаза. — Все переврал. Но она улыбается. Я пытаюсь развить успех. — Но хоть за старание-то я заслужил пару баллов? — А ты разве не слышишь? — спрашивает Шарлотта. — Что? — Как я хлопаю? — Сдаюсь, — говорю я и иду к двери. — Кровать, поднимись, — командует Шарлотта, и ее туловище медленно ползет вверх. Пора начинать день. Я выезжаю на 101-ю магистраль и сворачиваю на юг, к Маунтин-Вью — там я пишу код в фирме под названием «Хранитель репутаций». В основном она занимается тем, что взятками либо угрозами вынуждает пользователей «Фейсбука» и других социальных сетей удалять отрицательные отзывы о нечистоплотных адвокатах и неумелых дантистах. Работа эта трудоемкая, и потому меня наняли сочинить программу, которая прочесывала бы интернет и составляла досье на клиентов. От этого до создания президента был один шаг. Женщина за рулем соседнего автомобиля положила айпроектор на пассажирское сиденье и ведет оживленную дискуссию с президентом, не отрывая глаз от дороги. Проезжая под мостом, я замечаю на нем пожилого чернокожего мужчину в коричневом костюме. Он смотрит вниз, а рядом с ним стоит президент. Они не разговаривают — просто стоят бок о бок и молча наблюдают за потоком машин. Скоро ко мне приклеивается черный автомобиль без водителя. Он едет по соседней полосе — я прибавляю скорость, он тоже. Сквозь тонированные стекла в его окнах я вижу, что внутри нет ничего, кроме мощного аккумуляторного блока, позволяющего угнаться за кем угодно. Мне нравится рулить самому, это меня успокаивает, однако я все же включаю автоматику и перестраиваюсь на гугл-полосу, а потом отпускаю баранку и захожу на наш сайт впервые после того, как неделю назад выложил там президента. Авторизуюсь и узнаю, что его уже скачали четырнадцать миллионов человек. Кроме того, в моем почтовом ящике семьсот новых писем. Первое из них — от парня, который придумал «Фейсбук», и это не спам: он хочет угостить меня буритто и потолковать о будущем. Я перепрыгиваю на последнее письмо, от Шарлотты: «Прости, я не нарочно. Не забывай, я же теперь бесчувственная. Но я верну себе чувства. Я стараюсь, правда». Я снова вижу президента, на сей раз перед корейской церковью. Священник положил айпроектор на стул, и президент словно поглощен чтением Библии, раскрытой перед ним на подставке. Я понимаю, что этот призрак будет являться нам до тех пор, пока мы не осознаем случившегося: что он погиб, что его у нас отняли, что это непоправимо. И я ведь не идиот. Я знаю, что у меня отнимают на самом деле — медленно и бесповоротно, прямо на моих глазах. Знаю, что поздно ночью я должен тянуться не к президенту, а к Шарлотте. Но когда я с Шарлоттой, нас разделяет барьер — защитная пленка, за которой я прячусь от дрожи в ее голосе, от биения жилок на ее высохших запястьях, от всех ее саркастических прогнозов. По-настоящему это обрушивается на меня, когда я от нее вдали, — где-нибудь в гараже я вдруг с ужасом понимаю, как она напугана, или в магазине, вычеркивая из списка тампоны, внезапно чувствую, какой жестокой должна казаться ей ее судьба. Сейчас, за рулем, я вспоминаю, что она стала отворачиваться к стене еще до того, как закончится последняя песня в альбоме «Нирваны»: даже наушники с марихуаной, и те скоро перестанут действовать. Дорога впереди расплывается, и до меня доходит, что мои глаза полны слез. Я пропускаю свой съезд и отдаюсь на волю гугл-полосы — пусть несет меня дальше. Когда я возвращаюсь домой, меня ждет там Санджай, мой босс. Я отправил ему сообщение, попросив прислать стажера с хэш-ридером, но он привез его сам, собственной персоной. Если рассуждать теоретически, хэш-ридеры невозможны. Теоретически никто не способен взломать полномасштабную кодировку на основе сотни символов. Но одному ловкачу из Индии это удалось, и Санджай знает этого ловкача. Санджай болезненно относится к своему происхождению и считает, что для владельца перспективной компании в Пало-Альто такое имя, как у него, звучит банально. Поэтому он требует, чтобы его называли Эс-Джи, и одевается в духе Стэнфордской школы дизайна. Он получил в Стэнфорде степень магистра, но по сути украл бизнес-модель у фирмы под названием «Защитник репутаций». Винить его за это язык не поворачивается — он из тех, кто тащит на себе мечты и надежды целой деревни. Эс-Джи идет за мной в гараж, где я подключаю вертолетик к разъему и ввожу вспомогательный код, чтобы распарсить его логический диск. Он подает мне хэшридер, вручную перепаянный в Бангалоре из старой материнской платы. Мы оба дивимся на этот самый хитроумный дешифратор в мире, чудом попавший в наши недостойные руки. Но если хочешь хранить репутации в Кремниевой долине, надо уметь взламывать защищенные программы. Он молча наблюдает за тем, как я инициализирую вертолетик и запускаю диагностику. — Давно не виделись, — наконец говорит он. — Мне нужно было время, — отвечаю я. — Да я ничего, — говорит Эс-Джи. — Соскучились просто. Ты возрождаешь президента, приводишь на наш сайт пятнадцать миллионов человек, а потом мы неделю тебя не видим. Вертолетик чувствует что-то неладное и отключается. Я насильственно перезагружаю его. — Вертолетиком обзавелся? — спрашивает Эс-Джи. — Конфисковал, — говорю я. — Перенастрою — будет мой. Эс-Джи кивает. — Между прочим, к нам заходили из Секретной службы. — Меня искали? — спрашиваю я. — Что во мне секретного? — Наверное, твой президент произвел на них впечатление. Как и на меня. У Эс-Джи длинные ресницы и большие карие глаза героя японских комиксов. Он припечатывает меня ими. — Я тебе вот что скажу, — говорит он. — Президент — это шедевр, безупречно скомбинированный интерфейс передачи данных. Я в восхищении. Это революционная вещь. Знаешь, что нас ждет? Я обращаю внимание на его модные очки. — На «Андроиде»? — спрашиваю я. — Ага. — Можно? Он протягивает очки мне, и я ищу на оправе IP-адрес. Эс-Джи торжественно воздевает руку. — Я вижу, как «Хранитель репутаций» распространяет твою программу. Любой обычный человек может воплотить через нее свою личность, высказать все самое заветное, кастомизировать и персонализировать свой образ в глазах всего мира. Твоя программа — как «Гугл», «Википедия» и «Фейсбук» в одном флаконе. Каждый, у кого есть хоть какая-то репутация, будет готов заплатить, чтобы ты оживил его, сделал говорящим, вечно бодрствующим… просто вечным. — Можешь ее забирать, — говорю я ему. — Ядро программы в открытом доступе — я использовал бесплатный протокол. Эс-Джи нервно улыбается. — Если честно, мы кое-что пробовали в этом смысле, — отвечает он. — Похоже, у тебя там семиуровневая шифровка. — Ну да, и что? У тебя же есть хэш-ридер. Возьми да вскрой. — Я так не хочу, — говорит Эс-Джи. — Давай будем партнерами. Концепция у тебя блестящая — программа, которая прочесывает сеть и создает из результатов поиска анимированную личность. Президент это доказывает, но он же и выдает идею. Если не тормозить, мы ее запатентуем, и она останется нашей. А если прошляпим, через пару недель у каждого появится своя версия. Стремление Эс-Джи защитить бизнес-модель выглядит забавным, но про это я помалкиваю. — Значит, президент для тебя — только анимация? — спрашиваю я. — А ты с ним говорил? Прислушивался к нему? — Я тебе акции предлагаю, — говорит Эс-Джи. — Пачками. Вертолетик подставляет мне свой брандмауэр, как обольстительница — горло. Я запускаю хэш-ридер; он тихонько гудит и мигает красным. Мы сидим на складных стульях и смотрим, как он работает. — Хочу у тебя кое-что спросить, — говорю я. — Пожалуйста, — отвечает он и достает пакетик с травой. Отсыпает себе немножко, а остаток отдает мне. Он снабжает меня уже несколько месяцев, без вопросов. — Как ты относишься к Курту Кобейну? — спрашиваю я. — К Курту Кобейну… — повторяет он, скручивая косяк. — Парень был чист, — говорит он и зализывает краешек. — Слишком чист для этого мира. Ты слышал, как Патти Смит поет Smell Like Teen Spirit? Это офигительно. Он раскуривает самокрутку и протягивает ее мне, но я отказываюсь. Он сидит, глядя в раскрытую дверь гаража на стильную панораму Пало-Альто. «Эппл», «Оракл», «ПейПал», «Хьюлетт-Паккард» — все они родились в гаражах не дальше мили отсюда. Примерно раз в месяц Эс-Джи пробивает тоска по родине, и он готовит всей конторе литти-чоху. Он заводит песни Шарды Синхи, и в глазах у него появляется такое выражение, будто он снова в Бихаре, стране священных фикусов и сизоворонок. Вот и сейчас вид у него такой же. — Знаешь, мои родные тоже скачали себе президента, — говорит он. — Они не представляют, что я здесь делаю. Как объяснить им, что я охраняю плохих поваров из суши-баров от троллей с «Твиттера»? Но американский президент — это им понятно. Мимо нас босиком трусит мэр. Через несколько секунд следом проезжает рекламный транспарант. — Слушай, а ты можешь научить своего президента говорить на хинди? — спрашивает Эс-Джи. — Если американский президент сможет сказать «Дайте мне глоточек пепси» на хинди, я сделаю тебя самым богатым человеком на Земле. Лампочка на хэш-ридере загорается зеленым. Опля — и вертолетик мой. Я отсоединяю кабель и начинаю синхронизировать андроидные очки. Воспользовавшись мгновением свободы, вертолетик взлетает и рассматривает ЭсДжи. Тот отвечает ему таким же пристальным взглядом. — Как ты думаешь, кто его на тебя натравил? — спрашивает он. — «Мозилла»? «Крейгслист»? — Сейчас узнаем. — Черный. Бесшумный. С защитой от радиолокации, — говорит Эс-Джи. — Спорим, это темные маги из «Майкрософта» постарались! Вдруг запускается новая операционка, вертолетик отвечает, и, управляя им при помощи глаз, я посылаю его в облет гаража. — Смотри-ка! Наш маленький друг говорит, что он из «Гугла». — Ого! — удивляется Эс-Джи. — «Не делай зла», да? Вернувшись, вертолетик прицеливается Эс-Джи в висок зеленым лазером. — Эй! Пошел в жопу! — говорит Эс-Джи. — Не бойся, — говорю я. — Он просто измеряет твой пульс и температуру. — Зачем? — Наверно, хочет вычислить твои эмоции, — объясняю я. — Видимо, осталась какая-то вшитая подпрограмма. — Ты уверен, что эта штука тебе подчиняется? Я закатываю глаза, и вертолетик делает обратное сальто. — У меня одна эмоция, — заявляет Эс-Джи. — Пора возвращаться к работе. — Я вернусь, — говорю я. — Мне только надо кое-что сделать. Эс-Джи смотрит на меня. — Не хочешь говорить о своей жене — пожалуйста, имеешь право. Но не надо думать, что ты совсем один. Мы все за тебя переживаем. Дома Шарлотта висит в лямке подъемника Хойера. Она подкатила его к окну, чтобы посмотреть наружу. На ней старые спортивные брюки — раньше они были в обтяжку, а теперь болтаются, — и пахнет от нее кедровым маслом, которым пользуется массажист. Я подхожу и растворяю окно. — Прямо мысли читаешь, — говорит она и вдыхает свежий воздух. Я надеваю на нее очки. С минуту она приноравливается, потом все же поднимает вертолетик с моих ладоней. Она заставляет его по очереди парить, кружить, вращать камерой, и на ее лице расплывается широкая улыбка. А потом вертолетик выпархивает в окно. Я смотрю, как он пересекает лужайку, разворачивается над компостной кучей и направляется к общественному саду. Он летит над огородом, и хотя я не вижу того, что видит в очках Шарлотта, я и отсюда могу разглядеть, как он инспектирует цветущие кабачки и толстые попки помидоров-сливок. Он поднимается вдоль увитых бобами подпорок и проверяет пуповины арбузов. Затем Шарлотта переправляет его на свой участок и невольно ахает. — Мои розы! — говорит она. — Еще цветут. Кто-то за ними ухаживает. Она заставляет вертолетик осмотреть каждый бутон и каждый цветок. Под ее управлением он аккуратно лавирует среди ярких венчиков, легонько трется о лепестки, потом пускается обратно. Миг, и он уже парит перед нами. Шарлотта чуть наклоняется вперед и делает глубокий вдох. — Ни за что бы не подумала, что смогу когда-нибудь снова понюхать мои розы, — говорит она. Ее лицо розовеет от надежды и изумления, и вдруг по нему бегут слезы. Я снимаю с нее очки, и вертолетик остается висеть в воздухе. Она смотрит на меня. — Я хочу ребенка, — говорит она. — Ребенка? — Девять месяцев прошло. Я могла бы уже родить. Делала бы что-нибудь полезное все это время. — А как же твоя болезнь? — говорю я. — Мы ведь не знаем, что у нас впереди. Она закрывает глаза, словно удерживает что-то, словно лелеет какую-то драгоценную правду. — Ребенок — значит, у меня будет что предъявить за все это. Будет какой-то смысл. Как минимум, после меня что-то останется. — Не говори так, — отвечаю я. — Мы с тобой договаривались, что ты не будешь так говорить. Но она не слушает меня, не открывает глаз. Она говорит только: — Начнем сегодня же, ладно? Позже я выношу айпроектор под навес в саду. Здесь, в золотистых предвечерних лучах, президент снова вырастает и оживает передо мной. Он поправляет воротничок, манжеты, проводит по лацкану большим пальцем, точно существует только в краткие секунды перед тем, как его изображение начнут транслировать в прямом эфире. — Простите за беспокойство, господин президент, — говорю я. — Ерунда, — отвечает он. — Я на службе у своего народа. — Вы меня помните? — спрашиваю я. — Помните проблемы, которые мы с вами обсуждали? — Суть всех человеческих проблем неизменна. Меняется лишь облик, в котором они предстают перед каждым из нас. — Сегодня меня волнует проблема личного характера. — Тогда на мои губы ляжет печать молчания. — Я уже очень давно не занимался любовью со своей женой. Он поднимает руку, прерывая меня, и улыбается мудрой, отеческой улыбкой. — Дела сердечные, — говорит он мне, — всегда чреваты сомнениями. — Я хотел спросить о детях. — Дети — наше будущее, — говорит он. — Стали бы вы сами приводить в мир своих, если бы знали, что растить их, возможно, придется только одному из вас? — В наши дни, — говорит он, — на плечи одиноких родителей ложится слишком тяжкое бремя. Вот почему я выдвигаю на обсуждение законы, призванные облегчить существование этих усердных тружеников. — А как насчет ваших собственных детей? Вы по ним скучаете? — Мое сердце тянется к ним постоянно. Быть в разлуке с детьми — самая большая из жертв, которых требует государственное служение. Из-за пыли в сарае его призрак поблескивает и вихрится. Возникает впечатление, что он может выключиться, покинуть меня в любой момент. Я чувствую, что мне нельзя понапрасну терять время. — Когда все здесь кончается, — говорю я, — куда мы уходим? — Я не священник, — говорит президент, — но я думаю, что мы идем туда, куда нас призывают. — А куда призвали вас? Где вы сейчас находитесь? — Не все ли мы порой мечтаем оказаться там, где бьют ключи истинной мудрости? — Вы не знаете, где вы, так ведь? — спрашиваю я президента. — Уверен, что мой оппонент был бы рад убедить вас в этом. — Все нормально, — бормочу я скорее самому себе. — Я и не думал, что знаете. — Я точно знаю, где я, — заявляет президент. И голосом, который кажется сшитым из разных лоскутков, добавляет: — В настоящее время мое местоположение определяется координатами тридцать семь и сорок четыре сотых градуса северной широты на сто двадцать два и четырнадцать сотых градуса западной долготы. По-моему, он выдохся. Я жду, что он скажет «Доброй ночи» или «Боже, благослови Америку». Вместо этого он протягивает руку к моей груди. — Я слышал, вам пришлось пожертвовать многим из того, что было вам дорого, — говорит он. — И мне сказали, что у вас крайне развито чувство долга. Я вовсе не уверен, что он прав, но говорю: — Так точно, сэр. Его сияющая длань сжимает мне плечо, и не важно, что я этого не чувствую. — В таком случае эта медаль, которую я прикрепляю к вашему мундиру, гораздо больше, чем просто кусок серебра. Это символ того, сколь много вы отдали, причем не только на полях сражений и не только на службе своему народу. Она говорит другим, сколь много вы еще способны отдать. Она навеки отмечает вас как того, на кого можно положиться, того, кто в годину бедствий воспрянет сам и поможет подняться упавшим. — Он устремляет торжественный взгляд в пространство над моим плечом. Затем говорит: — А теперь возвращайся домой к жене, солдат, и открой новую главу своей жизни. Когда совсем темнеет, я иду к Шарлотте. Вечерняя сиделка надела на нее ночную сорочку. Увидев меня, Шарлотта опускает кровать. Жужжание электрического моторчика — единственный звук в комнате. — У меня овуляция, — объявляет она. — Я чувствую. — Ты можешь это чувствовать? — Мне не надо чувствовать, — отвечает она. — Я просто знаю. Она до странности спокойна. — Ты готов? — спрашивает она. — Конечно. Я пристраиваюсь на перильцах, которые нас разделяют. — Хочешь сначала немного орального секса? — спрашивает она. Я качаю головой. — Тогда залезай ко мне, — говорит она. Я лезу на кровать, но она меня останавливает. — Эй, солнышко, — говорит она, — одежку-то сними. Трудно вспомнить, когда она называла меня так в последний раз. — Ах да, — говорю я и расстегиваю рубашку, потом джинсы. Сбросив нижнее белье, я чувствую себя противоестественно голым. Не знаю, снимать ли носки. Подумав, остаюсь в них. Закидываю в постель ногу, потом кое-как укладываюсь на жену. По ее лицу проскальзывает удовлетворение. — Так оно и должно быть, — говорит она. — Давненько у меня не было случая посмотреть тебе в глаза. Тело у нее узкое, но теплое. Я не знаю, куда девать руки. — Снимешь с меня трусы? Я сажусь и начинаю их стягивать. На глаза попадается шрам от стентирования. Приподняв ей ноги, я вижу пролежни, с которыми мы боролись. — Помнишь нашу поездку в Мексику? — спрашивает она. — Как мы делали это на вершине пирамиды? Казалось, что мы одновременно в прошлом и в будущем. Я и сейчас что-то такое чувствую. — Ты случайно не покурила? — Что? — спрашивает она. — По-твоему, мне обязательно надо обдолбаться, чтобы вспомнить первый раз, когда мы говорили о ребенке? Стянув трусы и раздвинув ей ноги, я медлю. Мне приходится сосредоточиться изо всех сил, чтобы добиться эрекции, а потом я не могу поверить, что сумел. Я смотрю на эту картину бесстрастно, отстраненно, как видел бы ее вертолетик: вот моя жена, парализованный, лишенный чувствительности инвалид, и хотя вся ситуация полностью отвергает эротику, я навис над ней в полной готовности. — Я там мокрая, да? — спрашивает Шарлотта. — Я весь день об этом думала. Конечно, я помню ту пирамиду. Камень был холодный, лестница — крутая. Прошлым для меня была неделя с Шарлоттой в платьях майя, воркующей над каждым ребенком, который попадался нам на пути. Занимаясь сексом под тусклыми сонными звездами, я старался вообразить себе будущее: безликое маленькое существо, зачатое на жертвенном алтаре. Я кончил рано и попытался стряхнуть все в сторонку. Мне не хотелось, чтобы этот некто появился на свет. Вдобавок нам надо было сосредоточиться на насущных проблемах, если мы хотели благополучно одолеть столько ступенек в темноте. — По-моему, я что-то чувствую, — говорит она. — Ты сейчас во мне, да? Я прямо уверена, что чувствую. Тогда я вхожу в свою жену и начинаю процесс. Я стараюсь думать о том, что если это сработает, то Шарлотта окажется в безопасности, что в течение девяти месяцев она будет оберегать себя от всякого вреда, и может быть, она права: может быть, ребенок в ней что-нибудь стимулирует и запустит выздоровление. Шарлотта улыбается — неуверенной, но все же улыбкой. — Насчет светлой стороны, — говорит она. — Зато у меня не будет родовых мук. Это заставляет меня задуматься, а может ли вообще парализованная женщина вытолкнуть из себя ребенка, или ей нужен скальпель, а если так, то нужна ли анестезия… и вдруг я чувствую, что мое тело вот-вот откажется слушаться. — Эй, ты тут? — спрашивает она. — Я тебя развеселить хотела. — Мне просто надо немножко сосредоточиться, — говорю я. — Я вижу, что тебе неинтересно, — говорит она. — Ты все никак не можешь отвязаться от мысли, что я собираюсь сделать с собой что-то ужасное, верно? Если я иногда несу всякую чепуху, это еще не значит, что я и правда что-то сделаю. — Тогда зачем ты заставила меня пообещать, что я помогу тебе это сделать? Это произошло рано, в самом начале, как раз перед вентилятором. У нее был рвотный рефлекс, который не отпускал ее часами. Врачи сказали: бывает. Представьте бесконечные приступы сухой рвоты, когда вы парализованы. В конце концов врачи стали вводить ей наркотики. В голове муть, руки и ноги не слушаются, да еще выворачивает наизнанку — вот когда она впервые осознала, что ничего больше не контролирует. Я придерживал ее волосы, чтобы они не попали в тазик. Между приступами она еле успевала отдышаться. — Обещай мне, — сказала она, — что когда я попрошу тебя это прекратить, ты это прекратишь. — Что прекращу? — спросил я. Она зашлась в приступе, длинном и судорожном. Я знал, о чем она говорит. — До этого не дойдет, — сказал я. Она попыталась что-то сказать, но ее снова скрутило. — Обещаю, — сказал я. Теперь, лежа в своей механической кровати в сползающей с плеч сорочке, Шарлотта говорит: — Я знаю, тебе трудно понять. Но сама мысль, что есть выход, — она меня поддерживает. Я никогда этим не воспользуюсь. Ты же мне веришь, правда? — Я ненавижу это обещание, ненавижу себя за то, что согласился его дать. — Я никогда так не поступлю и никогда не заставлю тебя помогать. — Тогда освободи меня, — говорю я. — Прости, — отвечает она. Я решаю выкинуть все это из головы и просто продолжать. Я теряю эрекцию и гадаю, что случится, если я скисну, — хватит ли у меня духу притвориться? — но гоню от себя эти мысли и продолжаю упорно трудиться на Шарлотте до тех пор, пока у меня не пропадают почти всякие ощущения. Ее груди одиноко свисают подо мной в стороны. Вертолетик на тумбочке у кровати включается и взмывает в воздух. Он направляет мне в лоб зеленый лучик, как будто мои чувства так легко распознать, как будто для них есть имя. Что он делает — шпионит за мной, изучая мои эмоции, или бездумно выполняет старую программу? Я думаю, что случилось: может, хэш-ридер не справился, или операционка перескочила на прежнюю версию, или «Гугл» снова овладел им, или он работает в каком-то автономном режиме. А может быть, кто-то взломал андроидные очки или… в этот миг я смотрю вниз и вижу, что Шарлотта плачет. Я останавливаюсь. — Не надо, — говорит она. — Продолжай. По ее щекам катятся редкие, но крупные, грустные слезы. — Завтра можем попробовать еще раз, — говорю я. — Нет, все в порядке, — говорит она. — Ты продолжай, только сделай для меня одну вещь, ладно? — Хорошо. — Надень на меня наушники. — Ты имеешь в виду прямо сейчас? — Музыка, играй, — говорит она, и я слышу, как из лежащих на тумбочке наушников начинает зудеть «Нирвана». — Я знаю, что все делаю неправильно, — говорю я. — Просто мы так давно не… — Ты здесь ни при чем, — говорит она. — Просто мне нужна моя музыка. Надень их, пожалуйста. — Зачем тебе эта «Нирвана»? Что в ней такого? Она закрывает глаза и качает головой. — Что тебе этот Курт Кобейн? — говорю я. — Что ты в нем нашла? Я хватаю ее за запястья и вдавливаю их в постель, но она этого не чувствует. — Почему тебе непременно нужна эта музыка? Что с тобой такое? — не отстаю я. — Скажи мне, что с тобой творится! Я отправляюсь в гараж, где вертолетик слепо тычется в стены, ища дверь или окно. Включаю компьютер и нахожу в интернете один из альбомов этой «Нирваны». Я прослушиваю его весь, сидя в темноте. Этот малый, этот Курт Кобейн, поет о том, что такое быть глупым, тупым и никому не нужным. В одной песне он говорит, что Иисус не станет делать из него солнечный луч. В другой — что хочет молока со слабительным и антацидов с вишневым ароматом. У него есть песня «Сплошные извинения», где он все время повторяет: «Кем еще я могу быть? Сплошными извинениями». Но на самом деле он нигде не извиняется. Он даже не говорит, что сделал не так. Не найдя выхода, вертолетик подлетает ко мне и молча зависает рядом. Должно быть, я выгляжу совсем жалко, потому что он меряет мне температуру. Я беру пульт, открывающий дверь гаража. — Тебе этого хочется? — спрашиваю я. — Потом сам прилетишь, или мне придется идти тебя искать? Вертолетик невозмутимо ждет, подрагивая на столбе теплого воздуха. Я нажимаю кнопку. Дождавшись, пока дверь полностью поднимется, вертолетик фотографирует меня напоследок и уносится в ночной Пало-Альто. Я встаю и дышу прохладным, пахнущим цветами воздухом. На дорожке перед гаражом колеблются тени листвы — лунного света на это хватает. Дальше по улице я замечаю горящие глаза нашего кота. Зову его по имени, но он не подходит. Я отдал его приятелю в паре кварталов отсюда, и неделю-другую кот навещал меня по ночам. Теперь перестал. Это чувство близости к тому, что для тебя утрачено, — похоже, сейчас в нем сосредоточилась вся моя жизнь. Шарлотта тоже поняла бы, что это за чувство, поговори она с президентом. Но он не тот, с кем ей нужно поговорить, внезапно понимаю я. Возвращаюсь к своему компьютерному столу и зажигаю ряд экранов. Смотрю на их голубое мерцание и берусь за работу. Она занимает у меня несколько часов, большую часть ночи. К Шарлотте я возвращаюсь уже под утро. В комнате темно, и я вижу только ее силуэт. «Кровать, поднимись», — говорю я, и она едет вверх. Просыпается и глядит на меня, но ничего не говорит. На ее лице то отсутствие всякого выражения, которое наступает лишь тогда, когда пережиты все возможные эмоции. Я кладу ей на колени айпроектор. Она ненавидит эту штуку, но по-прежнему молчит. Только чуть-чуть наклоняет голову, словно бы с сочувствием. И тут я включаю его. Перед ней возникает Курт Кобейн, одетый в купальный халат и состоящий из мягкого голубого света. Шарлотта ахает. — О боже, — вырывается у нее. Потом она переводит взгляд на меня. — Это он? Я киваю. Она зачарованно смотрит на него. — Что я должна сказать? — спрашивает она. — Он говорит? Я не отвечаю. Перед лицом Курта Кобейна висят пряди волос. Шарлотта пытается посмотреть ему в глаза. В отличие от президента, которому не удается поймать ваш взгляд, Курт целенаправленно избегает его. — Не могу поверить, что ты такой молодой, — говорит ему Шарлотта. — Совсем мальчик. Курт молчит, потом мямлит: — Я старый. — Ты правда здесь? — спрашивает она. — Вот мы и здесь, — поет он. — Развлекай нас. У него хриплый голос человека, на долю которого выпало много бед. Для Шарлотты это своего рода доказательство его реальности. Она смотрит на меня взглядом, полным изумления и восхищения. — Я думала, его уже нет, — говорит она. — Просто не верится, что он и правда здесь. Курт пожимает плечами. — Я умею ценить только то, чего уже нет, — говорит он. Шарлотта выглядит ошеломленной. — Я узнаю эту фразу, — говорит она мне. — Это из его предсмертной записки. Откуда он ее знает? Он что, уже написал ее, уже знает, что собирается сделать? — Не знаю, — отвечаю я ей. Это не мой разговор, я не хочу в него вмешиваться. Тихонько пячусь назад, к двери, и уже на пороге слышу, как она начинает говорить с ним. — Не делай того, о чем ты думаешь, — умоляет его она. — Ты не знаешь, какой ты замечательный, не знаешь, как много ты для меня значишь. Пожалуйста, не отнимай себя у меня, — говорит она осторожно, будто обращаясь к ребенку. — Ты не можешь отнять себя у меня. Она наклоняется к Курту Кобейну, словно хочет обнять его и прижать к себе, словно забыла, что руки ей не повинуются и обнять ими ей некого.