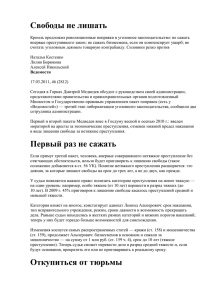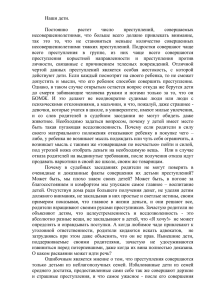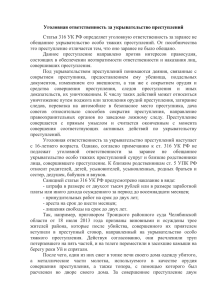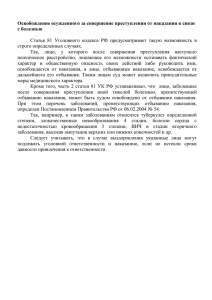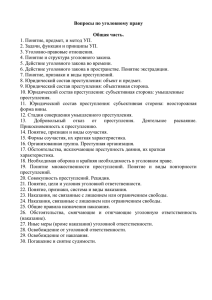о преступлениях
реклама

ЧЕЗАРЕ БЕККАРИА (1738-1794) О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ В делах наиболее трудных нельзя ожидать, чтобы кто-нибудь сразу и сеял и жал, а надо позаботиться, чтобы они постепенно созрели. Бэкон. Искренние речи. DEI DELITTI E DELLE PENE _______________________________________ In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul, et serat, et metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant. Bacon. Serm. fidel. _______________________________________ HARLEM _______________________________________ MDCCLXVI ЧЕЗАРЕ БЕККАРИА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ Москва «Международные отношения» 2000 УДК 34(093)(450)"17" ББК 67.3 Б 42 Перевод, вступительная статья, комментарии и приложение доктора юридических наук, профессора Ю.М. Юмашева Б42 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях/Пер, с ит. Ю.М. Юмашева. — М.: Междунар. отношения, 2000. - 240 с. ISBN 5-7133-0983-5 Идеи великого итальянского мыслителя Чезаре Беккариа для развития гуманистических тенденций правовой и общественной мысли человечества трудно переоценить. Его книга еще при жизни автора вошла в сокровищницу европейской культуры, закрепив за ним почетный титул "апостола человечности". Книга была переведена на все европейские языки. Данное издание предваряет развернутая статья профессора Ю.М. Юмашева "Книга Беккариа и Россия" и заключает подбор исторических материалов, свидетельствующих о том, что учение итальянского мыслителя, во многом получившее ныне силу законов, далеко опередило свой век. УДК 34(093)(450)"17" ББК 67.3 ISBN 5-7133-0983-5 © Перевод Юмашева Ю.М., 2000 © Вступительная статья, комментарии и приложение Юмашева Ю.М., 2000 © Подготовка к изданию и оформление изд-ва "Международные отношения", 2000 Указатель параграфов, которые содержатся в этой книге Беккариа и Россия К тому, кто читает Введение § I. Происхождение наказаний § II. Право наказания § III. Выводы § IV. Толкование законов § V. Темнота законов § VI. Соразмерность между преступлениями и наказаниями § VII. Ошибки при установлении мерила наказаний § VIII. Классификация преступлений § IX. О чести § X. О поединках § XI. Об общественном спокойствии § XII. Цель наказаний § XIII. О свидетелях § XIV. Улики и формы суда § XV. Тайные обвинения § XVI. О пытке § XVII. О государственной казне § XVIII. О присяге § XIX. Незамедлительность наказаний § XX. Насилия § XXI. Наказания для дворян § XXII. Кражи § XXIII. Бесчестие § XXIV. Тунеядцы § XXV. Изгнание и конфискация § XXVI. О духе семейном § XXVII. Мягкость наказаний § XXVIII. О смертной казни § XXIX. О взятии под стражу § XXX. Процесс и давность § XXXI. Преступления трудно доказуемые § XXXII. Самоубийство § XXXIII. Контрабанда § XXXIV. О должниках § XXXV. Убежища § XXXVI. О вознаграждении за выдачу преступника § XXXVII. Покушения, сообщники, безнаказанность § XXXVIII. Наводящие вопросы, показания § XXXIX. Об особом роде преступлений § XL. Ложные понятия о пользе § XLI. Как предупреждаются преступления § XLII. О науках § XLIII. § XLIV. § XLV. § XLVI. § XLVII. Приложения Судьи Награды Воспитание О помиловании Заключение БЕККАРИА И РОССИЯ 28 ноября 1994 г. исполнилось 200 лет со дня смерти великого итальянского мыслителя Чезаре Беккариа. Значение его идей для развития гуманистических тенденций в правовой и общественной мысли нашей страны трудно переоценить. Если воспользоваться метафорой Дж. Рида о том, что 10 дней октябрьского переворота 1917 года в России потрясли мир XX века, то 100страничная книжечка Ч. Беккариа "О преступлениях и наказаниях" несомненно потрясла Европу XVIII века. Она появилась анонимно в августе 1764 года в Ливорно, вызвала небывалый интерес и мгновенно разошлась, выдержав уже в год своего появления несколько изданий. В последующий период она была переведена практически на все европейские языки, включая и русский (1803 г.). В Италии не было грамотного человека, который не познакомился бы с трактатом Ч. Беккариа. А французский перевод его книги в 1766 году выдержал за год семь изданий, благодаря чему она была прочитана всеми образованными людьми Европы. Энциклопедисты называли Ч. Беккариа "новым Ликургом", единственным законодателем своего времени, писали комментарии к его труду. На его мнение как на новый закон ссылались в уголовных судах Австрии, Германии и Франции, с ним искали встреч коронованные особы. Современники называли его идеи "откровением свыше и пророчеством будущего". Таким образом, уже при жизни Ч. Беккариа его маленький шедевр вошел в сокровищницу европейской культуры, обессмертив имя своего 26-летнего автора и закрепив за ним почетный титул "апостола человечности". Причиной тому стал революционный характер книги. Она потрясла моральные и интеллектуальные устои европейского общества XVIII века, которое в своей основе оставалось средневековым по этическим нормам и образу мышления. Разумеется, книга Беккариа появилась не на пустом месте. В Европе начался мощный духовный подъем, известный под названием "эпоха Просвещения". Эта эпоха характеризовалась критическим переосмыслением традиционных ценностей в области религии, политики, права и культуры, стремлением вырвать индивида из цепей Средневековья и создать принципиально новую картину мира на основе рационализма. Заслуга Беккариа заключалась в том, что он сумел лучше чем кто-либо обобщить и выразить в блестящей литературной форме (зачастую афористично) основные гуманистические идеи, витавшие в обществе. Немаловажную роль сыграл и тот факт, что разящий удар его критики был нанесен по "заповедной зоне" Средневековья — уголовному судопроизводству, то есть по той части законодательства, которая, по словам Ч. Беккариа, характеризовалась жестокостью и, несмотря на исключительную важность, оставалась "запутанной и забытой почти во всех европейских странах". Так, во Франции, Германии, Англии закон предписывал смертную казнь за более чем 100 видов преступлений, включая и малозначащие. При этом представители высших классов могли избегнуть смертной казни даже за самые тяжкие преступления. Каноническое право также было проникнуто скорее духом ветхозаветной мести за оскорбление божеского величия, нежели стремлением утвердить христианские добродетели. Всюду царили пытки и судебный произвол. Причем по доносу судья мог заключить в тюрьму каждого. Сейчас кажется невероятным, что признание обвиняемого не имело законной силы, пока не было подтверждено под пыткой. А полное доказательство вины обвиняемого складывалось арифметически из половинных, четвертных и даже восьмеричных доказательств. К вызову свидетелей в суд прибегали редко по причине экономии. Им также грозила пытка, если судья усматривал противоречия в их показаниях. Уголовная система европейских стран в XVIII веке зижделась на принципе устрашения и мщения. В России в области уголовного законодательства наблюдалась аналогичная картина. По жестокости наказаний и способам их исполнения она не уступала Западной Европе. Смертной казнью также каралось более 100 видов преступлений. Казни носили публичный характер, пытки и доносы были обычным явлением. Уголовное законодательство, основу которого составляли Соборное уложение 1649 года, воинские уставы Петра I и бесчисленные императорские указы, было не упорядочено. Наука уголовного права находилась в эмбриональном состоянии, а профессиональный уровень судей оставлял желать много лучшего. В этих условиях книга Ч. Беккариа явилась гласом общественной совести и заложила фундамент правосознания нового времени. Исходя из идеи равенства, прав личности и всеобщей пользы как основы справедливости, Беккариа предложил реформировать уголовные законы на принципах гуманности и законности. Гуманизм проявился прежде всего в провозглашении презумпции невиновности, в страстном призыве отменить смертную казнь, запретить пытки и допросы с пристрастием, отказаться от приговоров, основанных на доносах, и т.д. Он предлагал также упорядочить всю систему уголовного правосудия таким образом, чтобы в ней не было места для судейского произвола и осуждения невиновных. Основой данной системы должен служить закон. Закон и только закон должен регламентировать деятельность правосудия, определять случаи и причины задержания и наказания граждан. С этой целью Ч. Беккариа вслед за Монтескье высказывался за разделение законодательной и судебной властей. Законодатель создает и толкует закон, а судье предписывается буквальное исполнение его. В этом Беккариа видел гарантию от судейского произвола. Важно подчеркнуть, что для Беккариа закон имел нравственное начало, ибо зижделся на вечных чувствах людей. Переходя от принципов к институтам предлагаемой им системы уголовного права, Беккариа сосредоточил внимание на двух наиболее важных институтах: преступлениях и наказаниях, рассматривая их в тесной взаимосвязи в соответствии со своим философским видением мира. В отношении преступлений он сформулировал два главных постулата: уголовно преследоваться должны деяния людей, а не их слова или намерения. Мерилом преступления является вред, нанесенный нации или общественному благу, а также личности. Беккариа предложил классифицировать преступления по степени их тяжести и применять к ним отвечающие их природе наказания. В качестве причин преступлений Беккариа, может быть, первым в истории западноевропейской криминологии назвал социальные и экономические в числе наиболее важных. Что же касается наказаний, то, исходя из принципов гуманизации природы человека вообще и отдельной личности в частности, он увидел в наказании не инструмент мести и устрашения, а средство исправления преступника с целью удержать его и других от совершения новых преступлений. В блестящей афористичной форме он сформулировал признаки, которым должны отвечать наказания: "Чтобы ни одно наказание не было проявлением насилия одного или многих над отдельным гражданином, оно должно быть по преимуществу гласным, незамедлительным и неотвратимым, минимальным из всех возможных при данных обстоятельствах, адекватным преступлению и предусмотренным в законах". Беккариа придавал исключительное значение предупреждению преступлений, в чем видел главную цель "хорошего законодательства". Этой цели должны служить ясные и простые законы, распространение знаний и образования среди населения, усовершенствование воспитания и исключение из числа преступлений безразличных деяний, которые в "дурных законах" называют преступлениями. Ч. Беккариа последовательно проводил принцип гуманности и в процессуальной сфере, что выражалось прежде всего в защите прав обвиняемого. Он предлагал ввести суд присяжных, обеспечить обвиняемому право на отвод судьи, сделать гласным судебное разбирательство и вынесение приговора. Его предложение представлять тем более веские доказательства, чем серьезнее преступление, сыграло большую роль в российском правосудии. Наконец, он выдвинул принцип равенства свидетелей и зависимости достоверности их показаний от взаимоотношений с обвиняемым, предложил запретить совместное содержание обвиняемых и преступников, а также осужденных за преступления разной тяжести. Книга Беккариа инициировала ряд реформ уголовного законодательства в Европе. Россия не стала исключением. Однако в ней восприятие и реализация идей великого итальянца приобрели большое своеобразие. Наша страна на протяжении всей своей истории жила в условиях политического деспотизма, сначала монархов-самодержцев, а затем партийной диктатуры, и потому проблема взаимоотношений между индивидом и властью стояла у нас острее, чем в любом другом европейском государстве. И тем не менее идеи Беккариа вот уже два столетия служат одним из источников демократических тенденций в развитии отечественной общественной и правовой мысли и прогрессивных преобразований в законодательстве. Екатерина II (1729—1796 гг.) проявила живой интерес к личности Беккариа и его книге. Она приглашает Беккариа в Россию и предлагает ему заняться тем "что он сам себе выбрал, опубликовав свой труд". Приезд Беккариа в Россию не состоялся1, но Екатерина II внимательно ознакомилась с его книгой и в 1767 году созвала специальную комиссию из представителей разных сословий для составления нового уложения, передав ей "Наказ", которым комиссии следовало руководствоваться в своей работе. "Наказ", как известно, был собственноручно написан императрицей и заслуживает особого рассмотрения. При написании "Наказа" Екатерина II руководствовалась прежде всего идеями западноевропейских мыслителей в области общественной и правовой мысли. Наибольшее влияние на "Наказ" оказали труд Монтескье "О духе законов" и Не совсем ясно, почему Беккариа не воспользовался приглашением Екатерины II: послужило ли причиной отрицательное отношение к этой затее его французских друзей-энциклопедистов или на его решение повлияло обещание Вены назначить его на хорошо оплачиваемую должность профессора. Как бы то ни было, но он, по-видимому, поступил правильно. Д. Дидро, посетивший Россию по приглашению Екатерины II и составивший по ее просьбе план переустройства империи и замечания к ее "Наказу", быстро убедился, что она не годится на роль просвещенной императрицы и является деспотом. Екатерина II, в свою очередь, также была разочарована Дидро и раздраженно назвала его замечания к "Наказу" болтовней, не обнаруживающей ни знания дела, ни проницательности, ни благоразумия (Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Ч. III. Вып. 2. Спб., 1913, с. 289). 1 книга Ч. Беккариа "О преступлениях и наказаниях", из которых императрица делала прямые заимствования. Она признавалась, что "обобрала" на пользу своей империи Монтескье и надеется, что он простит ей эту литературную кражу во благо 20 миллионов людей. Аналогичное признание в отношении Беккариа Екатерина II сделала в письме к Фридриху II. "Наказ" включал в себя 655 статей, разбитых на 22 главы. Более половины из них — прямой перевод или компиляция из упомянутых книг Монтескье и Беккариа. Содержание "Наказа" разнообразно и охватывает многие области законодательства. В частности, констатируется, что Россия — европейская страна во главе с государем-самодержцем, который один компетентен издавать законы и является источником всякой власти. Для толкования законов создается Сенат. Далее речь шла об учреждениях, о судопроизводстве, о составлении, слоге и целях законов, об общественных классах, о сословных судах, о размножении народа, о торговле и ремеслах, о воспитании, о порядке наследования, о веротерпимости, о полиции и государственном хозяйстве. Что же касается уголовного права, то к нему отнесено около трети статей наказа — 227. Из них 114 принадлежали Беккариа и 87 — Монтескье. Абсолютное большинство дословных заимствований из Беккариа было включено в самую большую главу Х "Об обряде криминального суда" (ст. 142—250). На рукописи "Наказа" императрицей отмечено, что эта глава — прямой перевод из книги Ч. Беккариа, сделанный по ее приказанию одним из лучших российских переводчиков того времени — Г. Козицким. В "Наказ" почти без изъятий вошли суждения Беккариа о разделении законодательной и судебной властей, о верховенстве закона, который должен действовать одинаково на всей территории государства и обеспечивать безопасность граждан. Провозглашалось, что гражданам "следует бояться законов, а не лиц". Под политической свободой граждан понималось право каждого делать все, что не воспрещено законом "в видах общественного блага". Прямые заимствования из Беккариа относятся, например, к презумпции невиновности, классификации преступлений по их тяжести, к необходимости соответствия наказания тяжести и природе преступления, об ответственности соучастников в преступлениях, о предупреждении преступлений и т.д. Подробно воспроизведены положения, относящиеся к свидетельским показаниям, к оценке доказательств и т.д. Предполагалось запретить пытку, ограничить случаи применения смертной казни, смягчить наказания, предоставить обвиняемому право на защиту, не помещать в камеры вместе людей разной степени виновности. В целом весь пафос "Наказа" в этой части направлен на гуманизацию системы уголовных наказаний и отказ от принципа устрашения и мести в правосудии. Однако планам принятия нового Уложения не было суждено осуществиться, и "Наказ" так и не стал законом. В 1768 году Комиссия фактически прекратила свою работу, формальным поводом для этого послужило начало войны с Турцией. Настоящая же причина, как справедливо отмечал известный русский юрист А. Кистяковский, заключалась в "умственном, нравственном и общественном состоянии русского народа и общества. Это было состояние позолоченной грубости и неразвитости, то состояние, которое было более благоприятно развитию крепостного права, чем осуществлению мыслей Беккариа и Монтескьё, решительно несовместимых с таким состоянием народа1. Цит. по: Зарудный С. Беккариа. "О преступлениях и наказаниях" в сравнении с гл. Х "Наказа" Екатерины II и с современными русскими законами. СПб., 1879, с. 167— 168. Яркий пример 1 Действительно, Россия того времени мало была подготовлена для восприятия просветительских идей. Так, когда Екатерина II предложила Сенату отменить пытку, то встретила его противодействие. Поэтому императрица была вынуждена отказаться от мысли запретить пытки гласно. Не случайно "Наказ", отпечатанный с параллельным текстом на русском, французском, немецком, латинском, а позднее на польском, новогреческом и итальянском языках, был разослан иностранным правительствам для распространения только за границей. Там он вызвал неоднозначную реакцию. Фридрих II высказал свое восхищение русской императрице, а во Франции "Наказ" был запрещен для чтения, как и книга Беккариа, за "неуважение к законодательству". В самой же России "Наказ" был признан государственной тайной: никому из низших чинов и "посторонних" не дозволялось не только делать выписки из него, но и читать. В XIX веке "Наказ" не раз подвергался критике за свои технические несовершенства, отрывочность, наличие неясных мест, непоследовательность и т.д. В советское время критика "Наказа" носила скорее идеологический характер. Некоторые исследователи творчества Беккариа упрекали Екатерину II за то, что она не включила в "Наказ" ни одного высказывания великого итальянца, которое содержало бы критику деспотизма, и не указала на социальные причины преступности. Тем самым, утверждали они, извращалась социально-политическая сущность учения Беккариа, не говоря уже о том, что была полностью скрыта связь его учения с революционно-демократическими идеями Руссо. Подобную критику вряд ли можно назвать во всем справедливой. Екатерина II была государственным деятелем. Как самодержец, она стремилась с помощью "Наказа" укрепить свою власть. "Наказ" не был и не должен был быть чисто юридическим документом. По природе своей он представлял собой директивы императрицы по проведению правовой политики государства в духе эпохи Просвещения. Поэтому, оценивая "Наказ" в целом, следует отметить, что, хотя он и не стал законом, но достиг целей, для которых создавался. Он оплодотворил русское общество массой новых идей высокого гуманитарного звучания, которые были выработаны европейской цивилизацией. Эти идеи, и прежде всего идеи Беккариа, через "Наказ" и непосредственно на протяжении всего XIX века служили эффективным инструментом развития правовой и общественной мысли в России. Его идеи "пестовали" русскую криминологическую науку с колыбели и исподволь, постепенно подготавливали почву для коренных демократических преобразований в законодательстве. Среди последователей Беккариа в России помимо юристов было немало государственных деятелей различных политических взглядов, писателей, философов, которых привлекала нравственная, гуманная сторона его учения. Достаточно назвать лишь некоторых, наиболее известных. В период царствования Екатерины II под влиянием учения Беккариа находился член Российской академии наук С.Е. Десницкий, первым из отечественных профессоров-юристов начавший преподавать на русском языке систематический курс "Российское законодательство". В своих работах "позолоченной грубости" приводит В. Ключевский. Он описывает владимирского губернатора Н.Е. Струйского, который, будучи высокообразованным юристом и страстным поклонником Вольтера, после выхода в отставку устраивал у себя в имении суды над крестьянами по всем правилам западноевропейской юриспруденции, с произнесением защитительных речей и обвинительных приговоров. А затем пытал осужденных по древнерусскому обычаю, для чего у него имелся в подвале целый арсенал орудий пытки (Ключевский В. Курс русской истории. Ч. V. М, 1937, с. 201). "Представление о учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи", а также в "Слове о причинах смертных казней по делам криминальным" он следовал за Беккариа в вопросах о соразмерности наказаний и преступлений, о равенстве всех перед законом, об умеренности наказаний, об ограничении применения смертной казни, тесной связи морали и закона и т.д. Большое влияние оказали идеи Беккариа и на русских публицистов екатерининской эпохи. Среди них следует отметить Ф.В. Ушакова и А.Н. Радищева. Интерес представляет развиваемая ими идея гуманизации уголовноправовой сферы. Ф.В. Ушаков в "Размышлении о праве наказания и о смертной казни" практически полностью повторяет учение Беккариа о наказании, выводя его цели и содержание из договорной теории. Наказание, по его мнению, не может заключаться в возмездии злом за зло и носить характер устрашения, а должно быть исправительным и справедливым, соразмерным преступлению. Как последователь Беккариа он был убежденным противником смертной казни. Уголовно-правовые взгляды А.Н. Радищева также характеризуются приматом закона и равенства всех перед законом. В этом, равно как и в приверженности идее свободы совести и слова, защиты прав личности, гуманизации наказаний, их соразмерности преступлениям, в качестве которых он признавал лишь деяния, а не помыслы и слова, в требовании отмены жестоких наказаний и пыток, смертной казни, просматривается явное влияние Беккариа. Идеи Монтескье и Беккариа, усвоенные русскими политическими писателями и юристами XVIII века, не утратили своего руководящего характера и в первой четверти XIX века, в частности при формировании доктрины русского уголовного права и проведении правовой политики. Однако в указанный период эти идеи воздействовали скорее опосредованно, через "Наказ". Такое влияние прослеживается, например, во взглядах Г. Солнцева, автора первого отечественного самостоятельного курса уголовного права. Его курс всецело проникнут идеями Монтескье и Беккариа, отраженными в "Наказе". До Г. Солнцева не было попыток ввести в научную систему уголовного права те гуманные начала, которые проникли в литературу конца XVIII века, но в практическом плане оставались чуждыми духу действовавшего в России уголовного законодательства. Большое влияние оказали идеи Беккариа и на декабристов. Так, П.И. Пестель считал, что общество должно быть основано "только на точных и справедливых законах", перед которыми все граждане должны быть равны. Он разделял классификацию преступлений Беккариа и видел их лишь в деяниях, а не в "зловредных мыслях или намерениях". Пестель был противником смертной казни и жестоких наказаний, его идеалом, как и других декабристов, была гуманная система наказаний, гарантирующая гражданам наибольшую степень гражданской свободы и обращения, не унижающего человеческое достоинство. В период правления Николая I, как известно, в обществе утвердилась атмосфера, создававшая крайне неблагоприятные условия для демократических и гуманных просветительских идей. Тем не менее при составлении Свода законов Российской империи в 1832 году ряд статей главы Х "Наказа" о предварительном заключении и силе доказательств был включен в "Законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках" в качестве источников, и это спасло многих от несправедливых приговоров. Из писателей XIX века к Беккариа проявили большой интерес Л.Н. Толстой и М.Е. Салтыков-Щедрин. Однако апофеозом идей Беккариа в России стали 60-е годы прошлого столетия, когда были осуществлены внутриполитические реформы, включая судебные, содействовавшие демократизации всей общественной жизни в стране. Венцом реформы российского правосудия стали Судебные уставы. С их принятием нашли практическую реализацию идеи Беккариа о полном отделении власти судебной от законодательной, исполнительной, о решении уголовных дел судом присяжных, в том числе политических дел, о несменяемости судей, самостоятельности адвокатуры и т.д. Как отмечал известный русский криминалист начала XX века С. Гогель, "это сразу же поставило наши суды на равную высоту с лучшими образцами судебного строя в самых культурных государствах"1. Личность Беккариа и его учение нашли горячего поклонника в лице одного из основных "архитекторов" судебных реформ, талантливого русского юриста и государственного деятеля С. И. Зарудного. Он перевел книгу Беккариа, поместив параллельно тексты главы Х "Наказа" и послереформенного русского законодательства, воспринявшего идеи Беккариа. С.И. Зарудному принадлежит несколько восторженный, но отражающий в целом большое и прогрессивное влияние идей Беккариа на формирование общественно-политической и правовой мысли России отзыв: "Книга Беккариа "О преступлениях и наказаниях" — это не итальянская, это скорее русская книга, написанная только на итальянском языке: Екатерина II ее усыновила". С приходом к власти Александра III реализация судебных реформ замедляется и завершается лишь к 1899 году. Причем изменения и дополнения консервативного толка, постоянно вносившиеся в Судебные уставы, выхолостили их демократическую суть к моменту их окончательного введения на всей территории страны. Однако если российская действительность продолжала сопротивляться практическому применению демократических и гуманных идей Беккариа, то этическая сторона его учения нашла немало последователей. Например, влияние Беккариа ощущается в работах русского философа конца прошлого века В. Соловьева "Право и нравственность", "Уголовный вопрос с нравственной точки зрения". Большую роль Беккариа в становлении современного уголовного права и процесса отмечал в своей "Истории философии права" и видный русский юрист Г.ф. Шершеневич. При этом он подчеркивал влияние идей Беккариа не только на правовую науку, но и на законодательство дореволюционной России. XX век, особенно его вторая половина, стал эпохой стремительного развития научных знаний во всех сферах жизнедеятельности человека. Это помогло увидеть, что содержание идей Беккариа гораздо глубже и шире области уголовного права. Упомянем лишь несколько примеров, иллюстрирующих актуальность ряда положений Беккариа для современной науки. Его краткие замечания о силе первобытных инстинктов в человеке, способных отбросить далее просвещенную нацию на столетия назад, о решающей роли общественного мнения, укрепляющего связи в гражданском обществе более, чем государственная власть, делают его предтечей ряда современных научных доктрин о массовом сознании. А высказанная им как бы мимоходом хвала философу, который осмелился бросить в массы первые, долго не дающие результатов семена полезных истин, — разве это не прозрение фундаментальной науки, которая в наши дни стала движущей силой человеческого прогресса? 1 Цит. по: Решетников Ф.М. Беккариа. М., 1987, с. 99. Я уже не говорю о многочисленных и прекрасных высказываниях о взаимоотношениях между властью и гражданином, которые кажутся написанными современным защитником прав человека. Больше того, вся проблематика прав человека в XX веке и особенно в его второй половине, а также практика воплощения их в жизнь — все это зримые свидетельства того, что гуманные идеи Беккариа приобретают планетарное звучание. Они реализуются не только в национальных кодексах и конституциях, но и в международных конвенциях, участниками которых являются государства различных культур. Идеи самого Беккариа — прекрасная тому иллюстрация. Что же касается их судьбы в России в XX веке, то после октября 1917 года все старое законодательство, включая уголовное, было отменено. Новое же носило ярко выраженный классовый характер, что предопределило с самого начала репрессивную природу советского уголовного права. Его рассматривали как систему "оборонительных мер" пролетарской диктатуры от внешних и внутренних врагов. В дальнейшем, особенно после принятия Конституции СССР 1936 года, формально провозглашались демократические принципы советского уголовного права и процесса, равно как и права и свободы советских граждан, однако на практике определяющим продолжал оставаться репрессивный характер уголовного правосудия, хотя в науке уголовного права развивались демократические тенденции. В этих условиях книга Беккариа парадоксальным образом приобрела значение некоего подобия учебника политической истории нашего недавнего прошлого. Например, сентенция о бесполезности и несправедливости закона, превращающего страну в тюрьму для подданных, напоминает о железном занавесе, параграфы о доносах и пытках — о мрачных страницах репрессий 30— 40-х годов. А проблема убежищ, которую Беккариа связывал с тиранией, невольно ассоциируется с диссидентским движением, ставшим одной из характерных черт советского общества 70— 80-х годов. С блестящего пассажа о том, что "каждый гражданин вправе делать все, что не запрещено законом, не опасаясь никаких последствий, кроме тех, которые могут быть порождены самим действием", началась горбачевская перестройка. Тем самым этот, по определению Беккариа, "политический догмат, в который народы должны верить и который высшие власти должны исповедовать путем непреложного следования законам", стал частью нашего общественного бытия. Осталось лишь вкратце упомянуть, что книга Беккариа "О преступлениях и наказаниях" неоднократно переводилась в нашей стране. Наиболее известны шесть переводов. Пять из них — Д. Языкова (1803 г.), А. Хрущева (1806 г.), И. Соболева (1878 г.), С. Зарудного (1878 г.), С. Беликова (1889 г.) были сделаны в XIX веке и приходятся в основном на периоды относительно либерального правления. Шестой перевод осуществлен М. Исаевым в 1939 году, то есть во времена культа личности, а потому и не самые благоприятные для тираноборческих идей Беккариа. Отдавая должное гражданскому мужеству переводчика и издателей, хотелось бы подчеркнуть: это издание является дополнительным свидетельством того, что гуманистическое учение Беккариа стало в какой-то мере неотъемлемой частью нашего правосознания. И сейчас, как и более 200 лет назад, книга Беккариа продолжает бороться за демократическую Россию XXI века. К тому, кто читает Разрозненные отрывки законов античного народа-завоевателя, собранные воедино по велению императора, правившего двенадцать веков тому назад в Константинополе1, в дальнейшем были перемешаны с лонгобардскими обычаями и погребены в томах темных и путаных комментариев частных лиц. Они-то и составляют те освященные традицией мнения, которые в большей части Европы все еще называются законами. И, как это ни прискорбно, до сих пор любое мнение Карпцова2, любой древний обычай, упомянутый Кларусом3, любая пытка, с возмутительным злорадством подсказанная Фаринацием4, считаются законами. И именно ими ничтоже сумняшеся руководствуются те люди, которым следовало бы с трепетом душевным подходить к решению людских жизней и судеб. Эти законы, являющиеся наследием времен самого жесткого варварства, и служат предметом исследования в данной книге в той их части, которая касается уголовной системы. Причем я беру на себя смелость рассказать о недостатках этих законов языком, недоступным для непросвещенной и необузданной толпы, тем, кому доверено общественное благо. Поиск истины в ее первозданном виде и независимость от общепринятых суждений, характерные для этого сочинения, — результат благосклонного и просвещенного правления, под сенью которого живет автор. Правящие нами великие монархи, благодетели человечества, любят выслушивать правду, изрекаемую безвестным философом с твердостью, но без фанатизма, свойственного тем, кто прибегает к насилию или обману, однако чужд разума. Что ж до упомянутых выше недостатков, то они, если тщательно взвесить все обстоятельства, являют собой не что иное, как обличение и упрек прошлому, а не нынешнему веку и его законодателям. А посему желающему удостоить меня своей критикой следовало бы сперва хорошо уяснить себе, что цель данного сочинения заключается не в умалении, а в возвышении роли законной власти, если только она воздействует на людей скорее убеждением, чем насилием, мягкостью и человеколюбием, оправдывая свое назначение в глазах всех. Злонамеренная критика против моего сочинения основана на недоразумении и заставляет меня прервать на мгновение мои рассуждения с просвещенными читателями, чтобы раз и навсегда покончить с ошибками, которыми чревато трусливое рвение, и клеветой, порожденной злобной завистью. Есть три источника моральных и политических принципов, лежащих в основе поведения людей: божественное откровение, законы природы и общественные договоры. Они не равнозначны, и первый источник отличается от двух других конечной целью. Но их роднит общая черта — направленность на достижение счастья при жизни на земле. Рассмотрение общественных отношений, основанных на третьем источнике, отнюдь не умаляет роли отношений, обусловленных двумя первыми. Но так как эти два источника, несмотря на божественность и неизменность своей природы, по вине людского рода бесконечно искажались ложным пониманием религии и превратным Юстиниан I (482—565 гг. н.э.) — семнадцатый император Византии. Карпцов Б. (1595—1666) — немецкий юрист. 3 Кларус Дж. (1525—1575) — пьемонтский юрист. 4 Фаринаций П. (1544—1618) — римский юрист и адвокат. 1 2 толкованием порока и добродетели в развращенных умах, то представляется необходимым рассматривать их отдельно от тех явлений, которые возникают исключительно в результате соглашений между людьми, заключаемых непосредственно или подразумеваемых, независимо от того, вызвано это необходимостью или осознанием общей пользы. С этой идеей неизбежно согласятся все религиозные секты и системы морали, ибо всегда будут поощряться усилия, направленные на то, чтобы заставлять самых упрямых и недоверчивых разделять те принципы, которые побуждают людей к жизни в обществе. Таким образом, существует три вида добродетелей и пороков: религиозные, природные и общественные. Они никогда не должны противоречить друг Другу. Но не все последствия и обязанности, вытекающие из одного вида добродетелей и пороков, характерны и для других. Не все предписываемое божественным откровением предписывается законами природы, и не все, предписываемое этими законами, предписывается законами общества. Однако исключительно важно выделить то, что вытекает непосредственно из общественного договора, явно или молчаливо заключенного между людьми, поскольку этот договор очерчивает сферу действия правопорядка, который регулирует человеческие взаимоотношения без особой на то санкции Всевышнего. Следовательно, идея общественной добродетели может считаться, без ущерба для ее достоинств, изменчивой. Природная же добродетель, не будь она запятнанной темными людскими страстями и глупостью, должна была бы вечно оставаться чистой и прозрачной. Лишь идея религиозной добродетели всегда неизменна, ибо она прямой результат божественного откровения и Богом сохраняется в первозданном виде. И посему ошибочно было бы приписывать тому, кто говорит только об общественном договоре и последствиях, из него вытекающих, принципы, противоречащие законам природы и божественному откровению лишь на том основании, что он о них умалчивает. Ошибочно было бы также утверждать, что говорящий о состоянии войны, предшествовавшем общественному договору, следует в этом вопросе за Гоббсом, то есть отрицает в человеке врожденное чувство долга и обязанностей, вместо того, чтобы усматривать причины этого состояния в испорченности человеческой натуры и в отсутствии писаных законов. Ошибочно было бы обвинять писателя, рассматривающего последствия общественного договора, и в том, что он исключает возможность возникновения этих последствий еще до появления самого договора. Справедливость божественная и справедливость природная по сути своей неизменны и постоянны, так как отношение между двумя неизменными величинами всегда одинаково. Но человеческая, то есть общественная, справедливость — не что иное, как результат соотношения между деятельностью в обществе и его постоянно меняющимся состоянием. А потому она может изменяться в зависимости от степени необходимости или полезности этой деятельности для общества. Таким образом, общественную справедливость можно определить, лишь основываясь на анализе сложных и постоянно изменяющихся отношений общественной жизни. И если допустить смешение этих совершенно различных принципов, на которых основаны справедливость божественная, природная и общественная, то нельзя будет правильно рассуждать о делах общества. Пусть теологи разграничивают понятия справедливости и несправедливости с точки зрения соотношения добра и зла, присущих человеческим поступкам. Выявлять и соотносить понятия справедливости и несправедливости в смысле общественном, то есть с точки зрения полезности или вреда для общества, — задача публицистов. И в этом случае не пострадает ни одна из рассматриваемых сфер, так как каждому становится очевидным, насколько добродетель чисто общественная должна уступать божественной добродетели, не подверженной никаким изменениям. И кто бы, повторяю, ни захотел удостоить меня своей критикой, не должен исходить из предпосылки, что мои принципы губительны для нравственности или религии, так как я показал, что это не мои принципы. А вместо того, чтобы представлять меня безбожником, пусть критикующий лучше попытается доказать, что я не умею логически мыслить или что я недальновидный политик. Пусть он не содрогается от любого моего предложения в интересах человечества, пусть убедит меня в бесполезности или в политической крамоле моих принципов, в преимуществе порядков, доставшихся от прошлого. Я уже публично доказал свою религиозность и верноподданнические чувства государю в своем ответе на «Заметки и замечания»1. Отвечать на последующие подобные сочинения было бы излишне. Но тот, кто будет писать с достоинством, присущим честным людям, и с такой же степенью просвещенности, что избавит меня от необходимости доказывать азбучные истины, каковы бы они ни были, найдет во мне не столько заядлого спорщика, сколько смиренного почитателя истины. 1 В защиту Ч. Беккариа Алессандро и Пьетро Верри опубликовали в 1765 году "Заметки и замечания на книгу, озаглавленную "О преступлениях и наказаниях" в ответ на резкие обвинения против Ч. Беккариа и его книги монаха Ф. Факинеи. Введение Обычно люди вверяют заботы о важнейших правоположениях, регулирующих их повседневную жизнь, собственному здравому смыслу или отдают на откуп тем, чьим интересам противоречит появление хороших законов, поскольку они уже в силу своей природы направлены на достижение всеобщего блага и препятствуют усилиям тех немногих, которые стремятся сосредоточить в своих руках всю полноту власти и богатства, оставляя большинству бессилие и нищету. Поэтому-то, лишь совершив множество ошибок в важнейших вопросах, касающихся жизни и свободы, лишь испив до дна чашу страданий и зла, отчаявшиеся люди берутся за исправление того беспорядка, который их угнетает, и начинают постепенно осознавать самые простые истины. Эти истины обыденный ум не в силах воспринять по причине их простоты, ибо не привык анализировать явления, а способен усваивать лишь общие впечатления, да и то скорее по сложившейся привычке, чем по здравому размышлению. Вчитываясь в историю, мы убеждаемся, что законы, хотя они по существу не что иное, как договоры свободных людей или, по крайней мере, должны быть таковыми, служат в основном инструментом выполнения желаний ничтожного меньшинства или же удовлетворения случайной и преходящей потребности. Но никогда еще законы не были результатом объективного исследования человеческой природы, что позволило бы сконцентрировать с их помощью усилия большинства людей для достижения единой цели и рассматривать эту цель исключительно как наивысшее счастье для максимально большего числа людей. Счастливы те немногие нации, которые, не дожидаясь, пока неспешный ход человеческой истории и связанные с ним перемены в отношениях людей повлекут за собой постепенный поворот от зла, дошедшего до крайнего предела, к добру, сами ускорили этот поворот, насаждая хорошие законы. И философ, который отважился бросить людям из глубины своего полутемного и уединенного кабинета первые и долго не дающие всходов семена полезной истины, заслуживает людской признательности. Ныне уже известно, какими должны быть истинные отношения между государем и его подданными, равно как и между различными нациями. Торговля оживилась под влиянием мудрых истин, распространившихся повсеместно благодаря печатному слову, и между нациями ведется молчаливая война трудолюбии, самая гуманная и наиболее достойная разумных людей. Таковы плоды этого просвещенного века. Однако лишь немногие исследователи осудили жестокость наказаний и неупорядоченность уголовного судопроизводства, то есть той части законодательства, которая играет исключительно важную роль практически во всех европейских государствах, но и поныне остается там беспризорной. Очень немногие, также опираясь на общие принципы, пытались пробить толщу вековых заблуждений, чтобы с помощью света познанных истин, по крайней мере, сдерживать все менее управляемый произвол власти, которая до сих пор являла собой пример ничем не ограниченной холодной жестокости. Стоны обессиленных, принесенных в жертву бессердечному невежеству и лишенному чувства сострадания богатству, варварские пытки, применяемые с ничем не оправданной суровостью, чудовищность которых еще более возрастает в связи с недоказанностью или химеричностью предъявляемых обвинений, убогость и ужасы тюрем, усиленные неизвестностью — этим беспощадным палачом несчастных заключенных, — должны были бы заставить содрогнуться сановных чиновников, в чьей власти манипулировать общественным мнением. Бессмертный президент Монтескье лишь бегло коснулся этой темы. Истина неделима, и это заставило меня проследовать по пути, освященному гением великого человека. Но мыслящие люди, для которых я пишу, сумеют отличить мою поступь от его. Я был бы счастлив, если бы сумел добиться, как и он, глубокой признательности скромных и смиренных последователей разума и вызвать в них тот сладостный трепет, который охватывает утонченные души, откликнувшиеся на призыв защитить интересы человечества. § I. Происхождение наказаний Законы суть условия, на которых люди, существовавшие до того независимо и изолированно друг от друга, объединились в общество. Устав воевать и радоваться бесполезной и хрупкой свободе, прочность которой никто не гарантировал, они поступились частью ее, чтобы пользоваться ею сообща, спокойно и безопасно. Совокупность всех частей свободы, пожертвованных на общее благо, составила верховную власть народа, а суверен стал законным ее хранителем и распорядителем. Но такой коллективной уступки прав ему было недостаточно. Их необходимо было защитить от посягательств, и в первую очередь от посягательств частных лиц, ибо каждый стремился не только возвратить собственную долю, но и присвоить себе долю другого. Потребовалось воздействовать на чувства, чтобы воспрепятствовать эгоистическим поползновениям души каждого отдельного индивида ввергнуть законы общества в пучину первобытного хаоса. Это воздействие на чувства служит наказанием нарушителям законов. Я говорю «воздействовать на чувства», ибо, как показал опыт, массы не в состоянии ни усвоить твердые правила поведения, ни противостоять всеобщему закону разложения, проявление которого наблюдается и в мире физических явлений, и в сфере морали. Побудить их к усвоению первых и противостоять разрушительной силе второго возможно, лишь воздействуя непосредственно на чувства. Это устойчиво запечатляется в уме и служит противовесом проявлению сильных страстей, отрицающих общее благо: ни красноречие, ни высокопарные речи, ни даже высокие истины не могут удерживать длительное время от взрыва страстей, экзальтированных неисчерпаемым разнообразием явлений окружающего мира. § II Право наказания Любое наказание, не продиктованное крайней необходимостью, является, по словам великого Монтескье, актом насилия. Данное утверждение может быть выражено в более общей форме следующим образом: всякое проявление власти человека над человеком, которое не вызвано крайней необходимостью, — тирания. Таким образом, право верховной власти наказывать за преступления основано на необходимости защищать вверенное ей общественное благо от узурпации его частными лицами. И чем больше обеспечивается священное и нерушимое право на безопасность, чем надежнее гарантия свободы граждан со стороны государства, тем наказание справедливее. И если мы обратимся к природе человека, то обнаружим, что в ней заложены те же основные принципы, которые подтверждают неотъемлемость права верховной власти наказывать за преступления. Нельзя надеяться на существенное улучшение морали, если политика, проводимая в нравственной сфере, не опирается на вечные чувства, присущие человеческой природе. И любой закон, идущий вразрез с этими чувствами, неизбежно столкнется с противодействием, которое в конце концов окажется сильнее, подобно тому, как меньшая, но постоянно действующая в теле сила одолевает мощный, сообщенный ему извне единичный импульс. Еще ни один человек не пожертвовал безвозмездно даже частицей собственной свободы исключительно ради общественного блага. О подобных химерах пишут только в романах. В действительности же если бы у каждого из нас была такая возможность, то мы пожелали бы, чтобы договоры обязывали других, но не нас. Каждый мнит себя центром Вселенной. Увеличение человеческого рода, незначительное само по себе, но слишком превышающее возможности, которыми располагала невозделанная бесплодная и дикая природа для удовлетворения растущих человеческих потребностей, привело к объединению первых дикарей. Первые объединения неизбежно повлекли за собой образование последующих, им противостоящих. И тем самым состояние войны между индивидами переросло в войну между народами. Таким образом, лишь необходимость заставляла людей поступаться частью своей личной свободы. Ясно, что при этом каждый старался жертвовать государству лишь тот необходимый минимум своей свободы, который был достаточен, чтобы побудить других защищать его. Совокупность этих минимальных долей и составляет право наказания. Все, что сверх того, — злоупотребление, а не правосудие, лишь свершенное действие, но еще не право. Заметьте, что слово "право" не противоречит слову "сила". Первое является скорее одним из тех проявлений второго, которое наиболее полезно большинству. Под справедливостью же я понимаю ту необходимую связь, благодаря которой поддерживается единство отдельных частных интересов и без которой произошел бы возврат к первобытному дообщественному состоянию. Всякое наказание, выходящее за рамки необходимости сохранять эту связь, является несправедливым уже по самой своей природе. Не следует приписывать слову "справедливость" черты осязаемой реальности, видеть в нем некую физическую силу или предмет материального мира. Оно просто служит для выражения способа, с помощью которого достигается понимание между людьми, способа, обладающего неограниченным воздействием на счастье каждого. При этом я не имею в виду справедливость, исходящую от Бога и непосредственно относящуюся к его праву карать и миловать в будущей жизни. § III Выводы Первый вывод, который следует из изложенных принципов, заключается в том, что наказания за преступления могут быть установлены только законом. Назначать их правомочен лишь законодатель, который олицетворяет собой все общество, объединенное общественным договором. Ни один судья (являясь членом данного общества) не может в соответствии с принципом справедливости самолично выносить решения о наказании другого члена того же общества. Наказание более суровое, чем предписанное законом, справедливо, но это уже другое наказание. И, следовательно, судья не может, даже под предлогом ревностного служения общественному благу, увеличивать меру установленного в законе наказания гражданину, нарушившему этот закон. Второй вывод состоит в том, что каждый член общества связан с этим обществом. А оно, в свою очередь, равным образом связано с каждым из своих членов договором, обязывающим в силу своей природы обе стороны. *Тот факт, что обязательства, пронизывающие все общество от престола до хижины и действующие одинаково как в отношении самого могущественного, так и беднейшего его члена, свидетельствуют о всеобщей заинтересованности в соглашениях, признанных полезными большинством их участников. И нарушение хотя бы одного из этих обязательств1 было бы чревато наступлением анархии.*2 Верховная власть, говорящая от имени всего общества, компетентна принимать законы общего характера, обязывающие всех. Но она не может судить о том, нарушил ли кто-либо общественный договор, так как в подобном случае народ разделится на две партии: одна партия — партия верховной власти — будет утверждать, что договор нарушен, а другая партия, — партия обвиняемого — будет это отрицать. И потому необходимо, чтобы некто третий установил истинное положение дел. Нужен судья, решения которого не подлежали бы обжалованию и состояли бы в простом подтверждении или отрицании отдельных фактов. Третий вывод касается жестокости наказаний. Если бы даже удалось доказать, что жестокость наказаний не противоречит непосредственно общественному благу и самой цели предупреждения преступлений, что она лишь бесполезна, то и в этом случае жестокость не только явилась бы отрицанием завоеваний в области морали просвещенного разума, предпочитающего царить среди свободных людей, а не скопища рабов, жестокосердие которых увековечено постоянным страхом, но и справедливости, и самой сути общественного договора. *Понятие обязательства относится к числу тех, которые чаще всего встречаются в науках, трактующих о нравственности, и представляет собой не идею, а неполное умозаключение. Попробуйте отыскать идею в слове "обязательство", и вы ее не найдете. Сделайте умозаключение, и вы сами все поймете и будете поняты. (Прим. авт.)* 2 Все, включенное между знаками*, является первым дополнением, а между знаками** — вторым дополнением. 1 § IV Толкование законов Четвертый вывод. Судьям не может принадлежать право толковать уголовные законы исключительно в силу того, что они не являются законодателями. Судьи не получили законы в наследство от наших предков как традицию или завет, которые не оставляют потомкам ничего другого, кроме повиновения. Наоборот, они получают их от живого общества или суверена, его представляющего, как хранителя результатов всеобщего волеизъявления своих современников. Судьи получают законы не как обязательства, вытекающие из древней клятвы, лишенной своей силы, — ибо в противном случае она связывала бы воли уже умерших, — и несправедливой, поскольку возвращала бы людей, уже объединившихся в общество, в первобытное состояние, а как обязательства, вытекающие из молчаливого или прямо выраженного договора между сувереном и его живыми подданными о передаче ему совокупной воли последних. Данные обязательства служат необходимым инструментом сдерживания и регулирования внутреннего процесса столкновения противоречивых частных интересов. В этом заключается материальная суть и реальная сила законов. Кто же, таким образом, наделен правом толковать законы? Суверен как хранитель совокупной воли подданных или судья, обязанность которого заключается единственно в том, чтобы выяснять, противоречат ли поступки, совершаемые тем или иным человеком, закону или нет? По поводу всякого преступления судья должен построить правильный силлогизм, в котором большой посылкой служит общий закон, а малой — конкретный поступок, противоречащий или соответствующий закону; заключение — оправдание или наказание. Если же судья по принуждению или по собственной воле построит не один, а два силлогизма, то тем самым он откроет лазейку неопределенности. Нет ничего опаснее банальной истины, предписывающей руководствоваться духом закона, что является иллюзорной преградой на пути потока мнений. Эта истина, кажущаяся парадоксальной умам обыденным, для которых мелочные сиюминутные проблемы служат большим потрясением, чем гибельные, но отдаленные последствия ложного принципа, укоренившегося в сознании народа, представляется мне очевидной. Все наши познания и представления взаимосвязаны. И чем они сложнее, тем многообразнее пути, ведущие к их освоению и реализации. Каждый человек имеет свою личную точку зрения, которая меняется со временем. Так что дух закона был бы подвержен, следовательно, влиянию хорошей или дурной логики судьи, нормальной или плохой работе его желудка, зависел бы от силы обуревающих его страстей, от его слабостей и от его отношения к потерпевшему. Словом, от малейших причин, способных вызвать в человеческой душе, подверженной постоянным колебаниям, искаженный образ любого исследуемого предмета. Поэтому-то мы видим, как судьба играет человеком при рассмотрении его дела различными судами. И жизнь несчастного приносится в жертву из-за ошибочных выводов или мимолетных капризов судьи, который уверен в правомерности принимаемого им решения на основе хаотичных представлений, витающих в его мозгу. Поэтомуто мы видим, что одни и те же преступления в тех же самых судах по-разному наказываются в разное время. Причина этого заключается в том, что судьи не прислушиваются к постоянному и отчетливому гласу закона, а идут на поводу у толкования, ошибающегося и непостоянного. Недостатки, связанные с точным следованием букве уголовного закона, ничтожны по сравнению с недостатками, вызываемыми толкованием. Недостатки первого рода незначительны и легко устраняются путем внесения в текст закона необходимых изменений. В то же время строгое следование букве закона не допускает судебного произвола, чреватого возникновением необоснованных и своекорыстных споров. Если законы кодифицированы и подлежат буквальному исполнению, ограничивая роль судьи рассмотрением деяний, совершенных гражданином, и оценкой их соответствия или несоответствия писаному закону, если норма, определяющая правомерность или неправомерность каких-либо действий, которой должны руководствоваться все граждане, от простолюдина до философа, не является предметом спорного толкования, а четко установлена, то в этом случае подданным не угрожает мелочный деспотизм большинства. Такой деспотизм тем более бесчеловечен, чем непосредственнее он касается угнетенных и вынужденных страдать, и более губителен, чем тирания одного человека. И избавиться от него можно лишь посредством установления единоличной власти, так как ее жестокость пропорциональна не ее силе, а противодействию, с которым она сталкивается. Строго соблюдая закон, граждане обретают личную безопасность, что справедливо, поскольку ради этого люди объединяются в общество, и полезно, поскольку в этом случае предоставляется возможность точно просчитать неудобства противоправного поведения. Правда, граждане приобретают дух независимости, но не для того, чтобы расшатывать законодательную основу и не повиноваться властям. Они скорее окажут неповиновение тем, кто осмеливается назвать священным именем добродетели потакание своим прихотям и корыстным интересам или взбалмошным мнениям. Эти принципы вызовут неудовольствие тех, кто считает себя вправе тиранить подчиненных столь же жестоко, как их, в свою очередь, тиранит вышестоящий деспот. И я должен был бы бояться всего на свете, если бы дух тирании мог заставить смириться дух просветительства. §V Темнота законов Если толкование законов зло, то их темнота, заставляющая прибегать к толкованию, — не меньшее зло. И это зло будет гораздо опаснее, если законы написаны на языке, чуждом народу. Будучи не в состоянии судить о степени своей свободы или свободы своих- сограждан, гражданин попадает в зависимость от кучки посвященных, поскольку такой язык законов, непонятный народу, превращает кодекс из книги всеми почитаемой и всем доступной в книгу квазичастную и доступную лишь для узкого круга лиц. Нетрудно представить себе, какова должна быть участь людей, если этот архаичный обычай все еще существует в большей части образованной и просвещенной Европы! Чем больше будет число понимающих и читающих священную книгу законов, тем меньше будет преступлений, поскольку совершенно очевидно: невежество и отсутствие ясного представления о наказаниях способствуют необузданности страстей. Из сказанного напрашивается вывод: без писаных законов правление никогда не сможет осуществляться таким образом, чтобы власть исходила от всего общества, а не от отдельных его частей, чтобы законы изменялись не иначе как по общей воле, а не искажались бы под давлением частных интересов. Опыт и разум подсказывают, что вероятность и сила обычаев ослабевают по мере удаления от своего источника. И разве пощадили бы всепобеждающее время и разгул страстей законы, если бы не был увековечен памятник общественному договору? Понятно поэтому, какую пользу принесло книгопечатание. Оно сделало широкую общественность хранителем священных законов, вырвав их из рук узкого круга лиц посвященных, поскольку способствовало расцвету просвещения и наук. Их свет рассеял мрак коварства и интриг вокруг законов. Тот самый мрак, который бежит этого лучезарного света в паническом страхе, хотя и с презрительной миной на лице. Книгопечатание способствовало тому, что в Европе стало меньше жестоких преступлений, заставлявших содрогаться от ужаса наших предков, которые бесконечно то тиранили других, то сами превращались в их рабов. Кто знаком с историей последних двух или трех столетий и с современной нам, тот может убедиться в том, что роскошь и изнеженность нынешнего времени являются источником самых притягательных добродетелей: гуманности, благотворительности, снисходительного отношения к человеческим заблуждениям, а в так называемое старое доброе время с его простотой нравов наших предков человечество стенало под гнетом неумолимого суеверия, процветало корыстолюбие и честолюбие горстки людей, обагряющих кровью сокровищницы с золотом и царские престолы, постоянно свершались тайные измены и массовые истребления, аристократы тиранили народ, а служители веры, воздевающие ежедневно обагренные кровью руки к Богу, молили его о милосердии. И это — деяния не нынешнего просвещенного века, который некоторые называют развращенным. § VI Соразмерность между преступлениями и наказаниями В интересах всего общества не только добиться прекращения совершения преступлений вообще, но и свести к минимуму совершение наиболее тяжких из них. Поэтому эффективность мер, препятствующих совершению преступлений, должна быть тем выше, чем опаснее преступление для общественного блага и чем сильнее побудительные мотивы к совершению преступления. Следовательно, суровость наказания должна зависеть от тяжести преступления. Невозможно предусмотреть все последствия хаоса, порождаемого всеобщей борьбой человеческих страстей. Этот хаос усиливается по мере роста народонаселения, ведущего к расширению масштабов столкновения частных интересов. А этими последними невозможно управлять в интересах общественного блага по законам геометрии. В политической арифметике математическая точность вынуждена уступить место приблизительным расчетам. **Обращение к истории убеждает в том, что расширение государственных границ сопровождается усилением хаоса в той же мере, в которой происходит ослабление национального чувства. Отсутствие порядка в обществе стимулирует также и преступность в той мере, в какой это выгодно частным интересам, что является причиной постоянного роста потребности в ужесточении наказаний.** Наше стремление к личному благосостоянию, подобное силе тяжести, уравновешивается соразмерными противовесами. Оно является источником для целого ряда спонтанных человеческих действий. Если в результате указанных действий происходят взаимные столкновения, то наказания, которые я называю общественными противодействиями, призваны предотвращать их отрицательные последствия, не уничтожая при этом вызвавшей их причины, каковой является присущее человеку самолюбие. Действуя таким образом, законодатель уподобляется искусному градостроителю, задача которого заключается в том, чтобы свести на нет разрушительные последствия силы тяжести и направить ее на упрочение несущих конструкций здания. Поскольку доказана необходимость объединения людей и существования общественного договора, неизбежно вытекающего из потребности в умиротворении противоположных частных интересов, то нарушения установленного порядка можно классифицировать и по степени их важности. На первом месте стоят нарушения, наносящие вред непосредственно обществу, а на последнем — самые незначительные нарушения прав частного лица. Между этими двумя экстремами размещаются по нисходящей линии — от высшего к низшему — все деяния, направленные против общественного блага, которые называются преступлениями. Если бы геометрия была применима к бесчисленным и запутанным хитросплетениям человеческих деяний, то должна была бы существовать и соответствующая классификация преступлений, составленная также по принципу нисхождения от наиболее тяжких до самых незначительных. Но мудрому законодателю достаточно указать лишь основные пункты в рамках установленных градаций, чтобы в дальнейшем наиболее тяжкие преступления не карались самыми легкими наказаниями. Если бы существовала подобная точная и всеобщая классификация наказаний и преступлений, то она могла бы служить нам, вероятно, в качестве единой шкалы ценностей и для определения степени узурпации власти и свободы, гуманности и жестокости различных народов. Всякое деяние, выходящее за рамки крайних пределов упомянутой классификации, не может рассматриваться в качестве преступления или караться как таковое кем-либо. Исключение могут составлять лишь те, кому выгодно причислять такие деяния к преступлениям. Отсутствие четкости при определении этих пределов породило у ряда народов мораль правонарушителей. Это привело также к противоречивости применяемых законов, к тому, что, согласно многим законам, наиболее мудрый человек подвергается наиболее суровому наказанию, а понятия порока и добродетели становятся размытыми и неопределенными. У людей появляется неуверенность в собственном существовании, что влечет за собой летаргию и гибельный сон политических организмов. Философ, углубившийся в чтение кодексов и историй различных народов, обнаружит, что почти всегда понятия порока и добродетели, законопослушного гражданина и преступника менялись с течением веков, но не в силу особенностей развития данной страны и сообразно ее общественным интересам, а по прихоти и вследствие заблуждений, присущих целым поколениям многочисленных законодателей, последовательно сменявшим Друг друга. Он обнаружит также, что страсти одного века часто составляют основу морали последующих веков, что клокочущие страсти, являясь порождением фанатизма и безрассудства, ослабевают и, успокаиваясь под воздействием неумолимого времени, которое приводит в равновесие все явления физического и нравственного свойства, постепенно становятся житейской мудростью века, эффективным орудием в руках ловких и могущественных. Таково происхождение наиболее неопределенных понятий о чести и добродетели. Они и поныне остаются таковыми, поскольку их содержание меняется с течением времени, оставляющего от вещей лишь оболочку — их названия, а также в зависимости от рек и гор, которые очень часто служат границами не только в физической, но и в политической географии. Если наслаждение и страдание — движущая сила наделенных чувствами живых существ, если в качестве стимулов, побуждающих людей к самым возвышенным поступкам, невидимый законодатель использовал награду и наказание, то очевидно, что установление неверного соотношения между ними порождает малозаметное, но широко распространенное противоречие, вследствие которого преступления порождаются самими наказаниями. Если одно и то же наказание предусмотрено в отношении двух преступлений, наносящих различный вред обществу, то ничто не будет препятствовать злоумышленнику совершить более тяжкое из них, когда это сулит ему большую выгоду. § VII Ошибки при установлении мерила наказаний Предшествующие размышления дают мне право утверждать, что единственным истинным мерилом преступлений служит вред, причиняемый ими обществу. И заблуждались поэтому все те, кто принимал за истинный критерий преступления намерение его совершить. Намерение зависит от сиюминутного впечатления, производимого вещью, и от предшествующего расположения духа; оно изменчиво у всех и каждого, и на него влияют быстрое чередование мыслей, смена чувств и внешних обстоятельств. Потребовалось бы поэтому не только разработать специальный кодекс для каждого гражданина, но и принимать новый закон для каждого преступления. Иногда люди из лучших побуждений наносят обществу непоправимый ущерб. Иногда же, руководствуясь самыми низменными намерениями, приносят ему большую пользу. Иногда оценка преступления зависит скорее от общественного положения потерпевшего, чем от его значения для общественного блага. Если бы этот критерий действительно отвечал самой природе преступления, то неуважение к Творцу всего сущего следовало бы карать строже, чем цареубийство, поскольку любой ущерб, нанесенный природе, всегда будет ничтожно мал по сравнению с ее величием. Наконец, полагали, что одним из критериев преступления является тяжесть греха. Ложность этой точки зрения для непредвзятого наблюдателя становится очевидной при рассмотрении им истинных отношений между людьми и между людьми и Богом. Первые суть отношения равенства. Лишь необходимость примирить столкновения страстей и противоположных интересов породила идею общей пользы, которая лежит в основе человеческой справедливости. Вторые — отношения зависимости от Всевышнего, который по своей природе Совершенство и Творец. Лишь он один позволил себе оставить за собою право соединить в одном лице законодательную и судебную власти, так как только он один способен избежать при этом отрицательных последствий такого совмещения. Если он предписал вечные кары тем, кто не повинуется его всемогущей власти, то разве осмелится ничтожнейшее существо добавлять чтолибо к Божественному правосудию, мстить за высшее Существо, само себе достаточное, которому предметы материального мира не в состоянии дать ощущения земной радости или печали и который Один лишь среди всех остальных существ действует, не встречая противодействия? Тяжесть греха зависит от непознаваемой порчи, затаившейся в сердце. Суть ее не может быть постигнута смертными без Божественного откровения. Но каким тогда образом порча в сердце может служить мерилом при наказании преступлений? В этом случае люди вполне могли наказывать тогда, когда Бог прощает, и прощать, когда Бог наказывает. И если люди могут перечить Всемогущему, совершая тем самым преступления против него, то это также может произойти с ними, когда они наказывают против его воли. § VIII Классификация преступлений Мы уже видели, что настоящим мерилом преступлений является вред, причиненный ими обществу. Это одна из тех очевидных истин, для познания которой не требуется ни квадрантов, ни телескопов и которая доступна любому заурядному уму. Однако по странному стечению обстоятельств у всех народов и во все времена эту истину понимали лишь немногие мыслящие люди. Азиатский образ мыслей и кипение страстей, подкрепленных авторитетом власти, выхолостили, воздействуя большей частью исподволь, а иногда и производя сильное впечатление на боязливых и легковерных граждан, те простые понятия, которые составляли, вероятно, содержание первичной философии нарождающихся обществ. Нынешний просвещенный век, по-видимому, возвращает нам эти понятия еще более устоявшимися и выдержавшими испытание временем. Они прошли проверку на прочность в результате точного научного исследования, тысячи неудачных опытов и преодоления столь же многочисленных препятствий. По логике вещей нам следовало бы изучить и классифицировать все известные виды преступлений и способы их наказания. Но в этом случае нам пришлось бы вдаваться в бесконечные детали их природы, меняющейся в зависимости от места и времени. Поэтому я ограничусь указанием на наиболее общие принципы и на самые распространенные ошибки, чреватые роковыми последствиями, чтобы раскрыть глаза тем, кто вследствие ложно понятой любви к свободе хотел бы ввергнуть общество в анархию, равно как и тем, кому по душе заставлять людей строго следовать дисциплине монастырского устава. Некоторые преступления чреваты уничтожением непосредственно самого общества или того, кто это общество олицетворяет. Другие являются посягательством на личную безопасность граждан, их имущество или честь. Третьи представляют собой противоправные действия или воздержание от действий, которые закон запрещает гражданам ввиду того, что эти действия или бездействия представляют угрозу для общественного блага. Первые из упомянутых преступлений наиболее опасны, так как наносят наибольший вред. Я называю их "оскорблением величества". Только в условиях тирании и невежества, при которых существует путаница в самых ясных словах и понятиях, может использоваться это название и соответственно назначаться высшая мера наказания за преступления совсем иного рода, превращая людей, как и в тысяче других случаев, в жертву одного единственного слова. Всякое преступление, даже в отношении частных лиц, наносит вред обществу в целом. Однако это не означает, что любое преступление совершается с намерением непосредственно подорвать основы общества. Все происходящее в обществе и в природе подчиняется законам материального мира и, подобно всякому природному явлению, имеет ограниченную сферу действия, пределы которой по-разному обусловлены пространством и временем. И только предвзятое толкование, — эта философия рабства, — может произвольно менять пределы, раз и навсегда установленные Вечной Истиной. Затем следуют преступления против личности. Поскольку гарантия безопасности частных лиц является первоочередной задачей любой законно созданной ассоциации, то нарушение неотъемлемого права каждого гражданина на безопасность не может не повлечь за собой одного из самых суровых наказаний, установленных законом. Постулат, согласно которому каждый гражданин должен быть наделен правом совершать любые не противоречащие закону действия, не опасаясь каких-либо последствий, за исключением тех, что могут быть порождены этим действием, является политическим принципом. Народы должны верить в него непоколебимо, а верховные власти реализовывать в строгом соответствии с законом. Священный принцип, без которого не может существовать общество, основанное на праве, служит справедливым вознаграждением людям за то, что они поступились всей полнотой своего общения с окружающим миром, свойственной существам, наделенным чувствами, и ограниченной лишь возможностями каждого. Этот принцип воспитывает свободный и сильный дух и предприимчивость ума, делает людей добродетельными и бесстрашными, чуждыми покорного благоразумия, то есть того качества, которое отличает людей, привыкших влачить жалкое и необеспеченное существование. Таким образом, посягательство на жизнь и свободу граждан является одним из тягчайших преступлений. В этом же ряду стоят убийства и кражи, совершаемые не только простолюдинами, но и липами из высших сословий, а также самими властями, поскольку их влияние обладает значительно большей силой воздействия и охватывает более широкий круг людей. И если преступления такого рода, совершаемые высшими сословиями и власть имущими, остаются безнаказанными, то это убивает в подданных чувство справедливости и чувство долга. Их заменяет вера в право сильного, что одинаково опасно как для тех, кто такое право применяет, так и для тех, кто от него страдает. § IX О чести Между гражданскими законами, этими ревностными -стражами личности и имущества граждан, и так называемыми законами чести, предпочитающими всему остальному общественное мнение, существует удивительное противоречие. Слово "честь" принадлежит к числу тех, которые служат поводом для длинных и блестящих рассуждении, не позволяющих, однако, составить точного и твердого понятия о предмете. Прискорбное свойство человеческого ума: иметь более четкое представление о малозначащем вращении отдаленных небесных тел, чем о близких человеку и важнейших для него нравственных понятиях. Эти понятия всегда зыбки и переменчивы под воздействием вихрей страстей человеческих. Они попадают в руки легко внушаемых невежд и распространяются ими! Но это противоречие — кажущееся, особенно если вспомнить, что любой предмет, поднесенный слишком близко к глазам, теряет свои очертания. Точно так же многочисленные простейшие элементы, входящие в состав нравственных понятий и принимаемые нами слишком близко к сердцу, легко смешиваются в нашем сознании, стираются их отличительные черты, столь необходимые уму ученого, желающему провести научно обоснованное исследование проявлений человеческого духа. Но все нелепые фантазии рассеются, если за дело возьмется трезвый исследователь человеческой природы, который выдвинет смелую гипотезу о том, что людям для обретения счастья и безопасности не требуется существующая запутанная система нравственных норм и запретов, связывающая их по рукам и ногам. Честь, таким образом, является одним из тех сложных понятий, которые состоят, в свою очередь, из совокупности других не только простых, но и сложных понятий. Такие понятия, открываясь с разных сторон нашему уму, то высвечивают, то скрывают различные элементы своего содержания. Причем во всех этих комбинациях присутствуют элементы, имеющие между собой общие составляющие, подобно общему знаменателю сложных алгебраических величин. Чтобы найти этот общий знаменатель в элементах, образующих понятие чести, необходимо бросить беглый взгляд на происхождение общества. Первые законы и власть появились в связи с потребностью восстанавливать порядок, беспрестанно нарушаемый вследствие столкновений эгоистических интересов каждой отдельной личности. Эту первичную цель преследовали при создании общества, и она всегда постулируется в качестве основополагающей искренне или для отвода глаз во всех, даже самых деспотичных, кодексах. Установление более тесных связей между людьми, успехи в их познаниях породили бесконечное разнообразие взаимных отношений и потребностей, которые всегда выходили за рамки возможностей любого кодекса предусмотреть их заранее. И в то же время были недостаточны, чтобы раскрыть в полной мере реальные возможности каждой отдельной личности. С этого-то времени и начинается господство общественного мнения, поскольку оно оставалось единственным средством защищать добро от зла в случаях, не урегулированных законом. Общественное мнение подвергает пытке мудреца и невежду, заставляя принимать за добродетель то, что является лишь ее внешним проявлением, и превращая злодея в проповедника, если оно сочтет это соответствующим своим собственным интересам. Поэтому мы вынуждены не только прислушиваться к мнению людей, но и следовать ему, чтобы не опуститься ниже общепринятого уровня; человек честолюбивый стремится завоевать признание общественного мнения для поднятия собственного престижа, тщеславный делает это для подтверждения собственных заслуг, а человек чести считает своим долгом быть признанным в глазах общественного мнения. В этом смысле многие рассматривают понятие чести как необходимое условие своего существования. Понятие чести появилось уже после образования общества. Поэтому оно не могло быть элементом общего достояния, делегированного людьми верховной власти по общественному договору. Его использование означает инстинктивный возврат к естественному состоянию с тем, чтобы хоть временно стряхнуть с себя бремя законов, не способных в данном случае предоставить гражданину достаточную защиту. Поэтому при проявлении крайностей, связанных с предоставлением или ограничением политической свободы, понятие о чести исчезает или сливается с другими понятиями. В первом случае господство законов делает излишним стремление добиваться одобрения других людей, а во втором — господство тирана, уничтожая гражданское общество, делает существование человека непрочным и сиюминутным. Честь, следовательно, является одним из основных принципов монархий с умеренным деспотическим правлением, выполняя ту же функцию, что и революция в деспотических государствах: кратковременное возвращение в естественное состояние и напоминание властителю о древнем равенстве. §X О поединках Из необходимости уважать общественное мнение возникли дуэли, питательной средой для которых служит анархия законов. Полагают, что дуэли были неизвестны древним, которые, вероятно из чувства самосохранения, собирались в храмах, театрах, у друзей безоружными. А может быть, дуэль с участием гладиаторов была обыденным общественным зрелищем для народа, и люди свободные опасались, как бы их не назвали гладиаторами за дуэлянтство. Тщетно законодатель, угрожая смертной казнью дуэлянтам, пытался искоренить этот обычай, основанный на чувстве, которое у некоторых людей сильнее страха смерти, так как, будучи лишенным уважения в глазах общественного мнения, человек обречен на полное одиночество — состояние, невыносимое для человека общественного. В то же время, если он становится мишенью для постоянно повторяющихся обид и унижений, то это пересиливает страх перед наказанием. Почему же тогда среди простого народа дуэли не распространены столь широко, как среди высших сословий? Не только потому, что простой народ не имеет оружия, но и потому, что меньше склонен придавать значение общественному мнению, тогда как представители высших сословий с большими подозрением и ревностью следят друг за другом. Здесь не бесполезно повторить вслед за другими авторами, что лучшим средством для предотвращения этого преступления является наказание зачинщика, давшего повод для дуэли при одновременном объявлении невиновным того, кто вынужден в этой связи не по собственной воле защищать свое доброе имя, чего действующие законы не обеспечивают. А его участие в дуэли должно доказать его согражданам, что он боится только законов, а не людей. § XI Об общественном спокойствии Наконец, к третьему виду преступлений относятся в первую очередь нарушения общественного спокойствия и личного спокойствия граждан, такие как шум и драки в общественных местах и на улицах, предназначенных для торговли и передвижения граждан, подстрекательские речи, возбуждающие страсти любопытной толпы, которая воспламеняется тем легче, чем многочисленнее аудитория. Причем темный мистицизм исступленных речей более всего воздействует на большие массы людей, в то время как ясные и спокойные аргументы оставляют их безучастными. Ночное освещение за государственный счет, стража в различных городских кварталах, простые и нравственные религиозные проповеди в безмолвии и тиши храмов, охраняемых государством, речи в поддержку частных и общественных интересов в народных собраниях, парламентах или в резиденции высшего лица в государстве — все это действенные средства для предупреждения опасных волнений народных страстей. Они являются основной охранительной функцией властей государства, которые французы называют «полицией». Но если полиция будет действовать по произволу, а не в соответствии с твердо установленными законами, которые должны быть под рукой у каждого гражданина, то это откроет лазейку тирании. А она непрестанно осаждает границы политической свободы. Я не нахожу ни одного исключения из общего правила, согласно которому каждый гражданин обязан знать, когда он виновен и когда не виновен. Если же какому-либо государству необходимы цензоры, а в общем плане и власти, не подчиняющиеся закону, то это связано со слабостью его устройства и совсем не характерно для природы хорошо организованной системы правления. Тирания, действующая тайно по причине неуверенности в своем будущем, лишает жизни больше жертв, чем открыто и торжественно провозглашенная жестокость. Эта последняя наполняет душу гневом, но не лишает ее сил. Подлинный тиран начинает всегда с того, что порабощает общественное мнение. Это ведет к потере мужества, которое способно проявляться во всем своем блеске только при свете истины или в огне страстей, или же не ведая об опасности. Но какие наказания соответствуют этим преступлениям? Смертная казнь, действительно ли она полезна и необходима для безопасности и поддержания общественного порядка? А пытки и истязания, неужели они справедливы и достигают цели, провозглашенной законами? . Каковы лучшие способы предупреждения преступлений? И неужели одни и те же наказания хороши для всех времен? Как они влияют на нравы и обычаи? Все эти проблемы заслуживают самого тщательного и геометрически точного решения, чтобы навсегда закрыть путь туманным софизмам, соблазнительному словоблудию и пугливому сомнению при рассмотрении данного вопроса. Если бы мне не удалось оказать иной услуги Италии, кроме той, что я первым представил ей с большой ясностью то, о чем другие народы уже имели смелость написать и начали практиковать, то и в этом случае я считал бы себя счастливым. Но если бы я, защищая права людей и необоримой истины, помог бы спасти от мучительной и ужасной смерти хоть одну несчастную жертву тирании или столь же пагубного невежества, то благословение и слезы радости лишь одного невинного служили бы мне утешением за людское презрение. § XII Цель наказаний Из простого рассмотрения истин, изложенных выше, с очевидностью следует, что целью наказания является не истязание и доставление мучений человеку и не стремление признать не совершившимся преступление, которое уже совершено. Может ли в политическом организме, призванном действовать, не поддаваясь влиянию страстей и умиротворять страсти индивидов, найти приют бесполезная жестокость, орудие злобы и фанатизма или слабости тиранов? И разве могут стоны несчастного повернуть вспять безвозвратно ушедшее время, чтобы не свершилось уже свершенное деяние? Цель наказания, следовательно, заключается не в чем ином, как в предупреждении новых деяний преступника, наносящих вред его согражданам, и в удержании других от подобных действий. Поэтому следует применять такие наказания и такие способы их использования, которые, будучи адекватны совершенному преступлению, производили бы наиболее сильное и наиболее длительное впечатление на души людей и не причиняли бы преступнику значительных физических страданий. § XIII О свидетелях Для любого хорошего законодательства исключительно важно точно определять, заслуживают ли доверия свидетели и доказательства преступления. Любой разумный человек, то есть наделенный способностью связно излагать свои мысли и обладающий теми же чувствами, что и другие люди, может быть свидетелем. **Истинным критерием правдивости свидетелей служит их заинтересованность в том, чтобы говорить правду. Поэтому представляется несерьезной причина отвода женщины в связи с ее слабостью, а отвод осужденных на основании отождествления смерти гражданской и физической — детский лепет. И безосновательным является отвод свидетелей по причине их бесчестия, если у них нет никакой корысти лгать.** Доверие свидетелю, таким образом, уменьшается в прямой зависимости от враждебных, дружеских или иных отношений между свидетелем и обвиняемым в преступлении. Необходимо иметь более одного свидетеля, так как если один утверждает что-либо, а другой то же самое отрицает, то нет ничего достоверного. И в этом случае следует отдать предпочтение правилу, согласно которому в отношении каждого действует презумпция невиновности. Достоверность свидетельских показаний тем меньше, чем ужаснее преступление1 или чем невероятнее обстоятельства, как, например, колдовство или бесцельная жестокость. В обвинениях первого рода скорее можно согласиться с тем, что несколько свидетелей дают ложные показания по невежеству или из ненависти к обвиняемому, чем поверить в тот факт, что человек обладает сверхъестественной силой, которой Бог никого не наделял или которой лишил всех созданных им существ. Точно так же обстоит дело и со вторым видом обвинений, так как человек способен на жестокость только в случае, если это продиктовано его интересами, ненавистью или страхом. Чувства человека обладают строго определенной функциональной зависимостью, установленной природой: всегда адекватно реагировать на получаемое впечатление и не более того. Равным образом достоверность свидетельских показаний может уменьшиться, если свидетель является членом какого-нибудь 1 ** Криминалисты считают, что правдивость свидетельских показаний возрастает тем больше, чем ужаснее преступление. Вот "железная" аксиома, продиктованная самым жестоким идиотизмом: "In atrocissimis leviores conjencturae sufficiunt, et licet judici jura transgredi". Переведем это на общедоступный язык, и европейцы узнают одно из тех столь многочисленных, сколь и неразумных изречений, которым они слепо подчиняются: "При обвинении в самых тягчайших преступлениях, то есть наименее вероятных, судье достаточно самых поверхностных предположений, чтобы переступить закон". Нелепая законодательная практика часто является следствием страха, главного источника человеческих противоречий. Законодатели (а таковыми являются юристы, которых после их смерти наделили правом решать все на свете и которые превратились из писателей пристрастных и продажных в вершителей человеческих судеб и жрецов закона), напуганные осуждением нескольких невиновных, перегрузили процесс судопроизводства чрезмерными формальностями и исключениями, точное следование которым возвело бы на престол правосудия анархическую безнаказанность. Напуганные затем тяжкими и трудно раскрываемыми преступлениями, эти законодатели сочли себя обязанными отступить от ими же самими установленных формальностей и превратили, движимые отчасти деспотической нетерпеливостью, а отчасти женской робостью, серьезное дело правосудия в своего рода спектакль, в котором азарт и интриганство — главные действующие лица. (Прим. авт.)** частного общества, правила и принципы функционирования которого малоизвестны или отличаются от общепринятых. Такой свидетель подвержен влиянию не только своих, но и чужих страстей. Наконец, достоверность показаний свидетеля практически равна нулю, когда слова используются в качестве доказательства преступления, ибо тон, каким они говорятся, жесты, — все то, что предшествует или сопутствует различным мыслям, для выражения которых человек использует одни и те же слова, так влияет на смысл сказанного, что его почти невозможно воспроизвести с первоначальной точностью. Более того, выходящие за рамки обычного и насильственные деяния, каковыми являются все истинные преступления, оставляют следы, которые проявляются во множестве обстоятельств и последствий этого преступления. Слова же остаются только в памяти услышавшего их, скорее ненадежной по преимуществу и часто запоминающей сказанное в искаженном виде. И потому оклеветать человека гораздо проще, ссылаясь на его слова, чем на его действия, так как чем больше в качестве доказательства преступления приводится обстоятельств, тем больше обвиняемому предоставляется средств для оправдания. § XIV Улики и формы суда Существует общая теорема, весьма удобная для определения достоверности фактов, например улик. Когда доказываемые факты взаимно зависят друг от друга, то есть когда одна улика доказывается только с помощью другой, то в этом случае, чем многочисленнее доказательства, тем менее вероятной становится достоверность факта, поскольку недостаточная доказанность предшествующего факта влечет за собой недостаточную доказанность последующих. **Когда все доказательства какого-либо факта в равной степени не зависят только от одного из них, то число их не увеличивает и не уменьшает достоверность факта, так как она держится на силе одного только доказательства, от которого зависят все остальные.** Если же доказательства не зависят друг от друга, то есть если улики доказываются иначе, чем одна посредством другой, то чем больше доказательств приводится, тем выше вероятность достоверности факта, так как ложность одного из доказательств не влияет на другие. Я говорю о вероятности в области преступлений, достоверность которых, естественно, должна быть доказана прежде, чем они станут наказуемыми. Сказанное вряд ли покажется странным человеку, для которого достоверность с моральной точки зрения, строго говоря, не что иное, как вероятность, но такая, которую я называю достоверностью, ибо любой здравомыслящий человек непременно сочтет ее таковой в силу своего опыта, накопленного в результате практической деятельности и потому предшествующего любому умозрению. Таким образом, для признания человека виновным требуется такая достоверность, которой руководствуется каждый в важнейших делах своей жизни. **Можно различать доказательства виновности совершенные и несовершенные. Совершенными я называю доказательства, исключающие возможность невиновности, а несовершенными — те, которые этого не исключают. Из первых для обвинения достаточно одного. Вторых же необходимо столько, чтобы они составили в совокупности одно совершенное доказательство. Иначе говоря, если каждое из несовершенных доказательств в отдельности допускает возможность невиновности, то совокупность этих же доказательств по тому же делу такую возможность должна исключать. Следует подчеркнуть, что несовершенные доказательства становятся совершенными, если обвиняемый мог и обязан был их опровергнуть, но не сделал этого. Однако эту моральную достоверность доказательств легче почувствовать, чем точно определить.** Поэтому я считаю наилучшими те законы, которые предусматривают наряду с основным судьей заседателей, назначаемых жребием, а не по выбору, ибо в этом случае незнание, которое судит, руководствуясь здравым смыслом, является более надежной гарантией, чем знание, которое судит субъективно, опираясь на собственное мнение. При ясных и точных законах обязанность судьи состоит лишь в установлении фактов. Если для сбора доказательств требуется проявить способности и находчивость, а выводы, сделанные на основании этих доказательств, необходимо представить ясными и точными, то при принятии решения в соответствии с данными выводами следует руководствоваться исключительно здравым смыслом, который более надежен, чем знания судьи, склонного всюду видеть преступников и все подгонять под искусственную схему, усвоенную им со студенческой скамьи. Счастлив народ, у которого законы не составляют науку. Наиболее полезен закон, согласно которому каждый должен судиться себе равным, поскольку там, где царят свобода и счастье граждан, замолкают чувства, порождаемые неравенством. И потому в судах, действующих на основании такого закона, невозможны ни высокомерное отношение счастливого к несчастливому, ни ненависть простолюдина к представителю высшего сословия. При рассмотрении же дел о возмещении ущерба, нанесенного третьим лицам, суд должен состоять из равного числа представителей сословия обвиняемого и представителей сословия потерпевшего. Тем самым будут уравновешены частные интересы, которые независимо от намерения сторон искажают представление о сути дела. И это позволит высказаться закону и истине. Принципу справедливости соответствует также предоставление обвиняемому возможности отводить, согласно какомунибудь определенному критерию, тех, кто кажется ему подозрительным. И если обвиняемому будет предоставлено какое-то время для беспрепятственной реализации этой возможности, то приговор суда будет выглядеть так, как будто он вынесен обвиняемым самому себе. Судебные заседания должны быть открытыми, доказательства преступления должны быть также доступны публике, поскольку общественное мнение, которое, по-видимому, является единственным инструментом сплочения общества, тем самым получит возможность встать на путь насилия и разгула страстей, и народ сможет сказать: "Мы не рабы. Мы защищены". Это чувство придает мужество. Оно сродни дани уважения государству, осознающему свои подлинные интересы. Я опускаю описание других деталей и крючкотворства, присущих подобным учреждениям, так как если бы мне пришлось рассказать все, я бы вообще не смог ничего сказать. § XV Тайные обвинения Тайные обвинения — очевидные, но освященные обычаем правонарушения, которые у многих народов стали даже потребностью по причине слабости их государственного устройства. Этот обычай делает людей лживыми и подозрительными. А кто способен подозревать в другом человеке доносчика, тот считает его своим врагом. Люди по этой причине становятся замкнутыми и, привыкнув таить свои чувства от других, привыкают в конце концов лгать и самим себе. Несчастны люди, доведенные до такого состояния: без ясных и твердых указующих принципов мечутся они, растерянные и неуверенные в себе, по необъятному морю разнообразных суждений, вечно озабоченные проблемой спасения от угрожающих им чудовищ. День сегодняшний постоянно отдает у них горьким привкусом неуверенности в дне завтрашнем. Лишенные возможности постоянно радоваться безмятежной и безопасной жизни, они жадно и без разбора поглощали редкие и случайные наслаждения, которые вряд ли станут утешением их жалкого существования. И из таких-то людей мы хотим воспитать отважных воинов, защитников престола или отечества? И среди таких людей мы стремимся найти неподкупных и преданных родине представителей власти, которые со смелостью и страстью укрепляли бы и развивали истинные государственные интересы и приносили бы на алтарь отечества не только предписываемое долгом, но и любовь и благословение всех сословий, а от него несли бы мир дворцам и хижинам, безопасность и окрыляющую надежду на лучшее будущее, на укрепление животворных основ и самого существования государства? Кто может считать себя защищенным от клеветы, когда она вооружена непробиваемым щитом тирании — тайной? Что это за образ правления, позволяющий верховной власти подозревать в каждом подданном своего врага и в интересах государственной безопасности лишать личной безопасности своих граждан ? *Какие мотивы приводятся в оправдание таких обвинений и наказаний? Общественное благо, государственная безопасность, укрепление существующего образа правления? Но что это за странное государственное устройство, в котором верховная власть, являясь сама по себе силой и обладая еще более действенной силой, такой как общественное мнение, боится каждого гражданина? Гарантии безопасности обвинителя? Законы, стало быть, недостаточны для его защиты. Подданные, следовательно, могущественнее верховной власти! Опозоренная репутация доносителя? Но в этом случае санкционируется тайная клевета, а наказывается открытая. Природа преступления? Если действия, не наносящие ущерб обществу или даже приносящие ему пользу, называются преступными, то ни обвинение, ни суд не являются в достаточной мере тайными. Но разве могут существовать такие преступления, то есть деяния, наносящие ущерб обществу, гласное рассмотрение которых судом в назидание другим не представляло бы интереса для всех одновременно? Я с уважением отношусь к любому образу правления и не имею в виду ни одного из них в частности. Иногда обстоятельства по своей сути бывают таковы, что крайне пагубным для народа может оказаться обычай уничтожения зла, если оно коренится в системе его государственности. Но если бы мне суждено было разрабатывать новые законы для какого-либо отдаленного уголка Вселенной, то прежде чем придать этому обычаю силу закона, я представил бы себе грядущие поколения и застыла бы дрогнувшая рука.* Ранее г-н Монтескье уже отметил, что публичное обвинение более свойственно республиканскому образу правления, при котором забота об общественном благе должна стать самой насущной потребностью граждан. При монархическом же образе правления уже в силу его природы это чувство развито крайне слабо, и представляется наиболее целесообразным ввести институт комиссаров, которые бы от имени государства обвиняли нарушителей законов. Но как при республиканском, так и при монархическом .образе правления клеветника следует подвергать наказанию, как если бы он был обвиняемым. § XVI О пытке У большинства народов жестокие пытки, которым подвергается обвиняемый во время процесса, освящены обычаем. Применение пыток преследует различные цели: во-первых, чтобы заставить обвиняемого признаться в совершенном преступлении, во-вторых, чтобы он объяснил противоречия в своих показаниях, в-третьих, чтобы назвал сообщников, а также ради некоего метафизического и труднопостижимого очищения. *Наконец, обвиняемого пытают за другие преступления, которые могли быть им совершены, но которых ему не инкриминируют.* Никто не может быть назван преступником до вынесения приговора суда. Общество также не может лишить его своей защиты до тех пор, пока не принято решение о том, что он нарушил условия, которые ему эту защиту гарантировали. Таким образом, какое другое право, кроме права силы, наделяет судью властью наказывать гражданина до того, как установлен факт его виновности или невиновности? Не нова следующая дилемма: доказано преступление или нет. Если доказано, то оно подлежит наказанию исключительно в соответствии с законом и пытки излишни, так как признание обвиняемого уже не требуется. В случае, если нет твердой уверенности в том, что преступление совершено, нельзя подвергать пытке невиновного, ибо, согласно закону, таковым считается человек, преступления которого не доказаны. Кроме того, было бы нарушением всех норм требовать от человека, чтобы он был одновременно и обвинителем самому себе, и обвиняемым, чтобы истина добывалась с помощью физической боли, как будто она коренится в мускулах и жилах несчастного. Такой подход — верное средство оправдать физически крепких злоумышленников и осудить слабых невиновных. Таковы роковые недостатки этого так называемого критерия истины, достойного каннибалов, который даже римляне, сами варвары во многих отношениях, применяли только к рабам — жертвам чрезвычайно превозносимой, но жестокой воинской доблести. Какова же политическая цель наказания? Устрашение других людей. Но что следует думать о тайных и неизвестных широкой публике истязаниях, к которым тиранические режимы обычно прибегают в отношении виновных и невиновных? Важно, чтобы ни одно раскрытое преступление не оставалось безнаказанным. Но что толку в задержании преступника, если совершенное им преступление остается неизвестным? Содеянное и неисправленное зло может быть наказано обществом в той мере, насколько оно пробуждает в других надежду на безнаказанность. Если верно, что число людей, уважающих законы из страха или в силу добродетели, больше, чем людей, их нарушающих, то опасность подвергнуть пытке невинного возрастает по мере возрастания вероятности того, что при прочих равных условиях человек скорее исполнит закон, чем нарушит его. Другим нелепым основанием для пытки служит очищение от бесчестья, то есть человека, признанного по закону оскверненным, принуждают подтверждать доказательства своей чистоты вывихом собственных костей. Подобное недопустимо в XVIII веке. Как можно верить в то, что физическая боль способна очистить от бесчестия, которое является понятием чисто морального свойства? Но может быть, боль — это тигль, а бесчестие — физическое тело, содержащее примеси? Нетрудно обнаружить истоки этого нелепого закона, поскольку даже нелепые традиции, которым следует целый народ, всегда являются в той или иной мере результатом общепринятых и почитаемых этим народом представлений. По-видимому, в основе такого обряда очищения лежат религиозные и духовные идеи, которые таким вот образом трансформировались в сознании людей и целых народов в течение веков. Непогрешимый постулат веры гласит, что грехи наши, порожденные человеческой слабостью и не заслужившие вечного гнева Всевышнего, подлежат очищению огнем, непостижимым для земных существ. В наши дни бесчестье стало светским грехом. И почему тогда нельзя освободить человека от мирского греха пыткой, подобно тому как огонь и боль очищают от грехов духовных и нравственных? Я полагаю, что признание обвиняемым совершенного преступления, которое требуется в некоторых судах как необходимое условие для его осуждения, имеет аналогичные корни, поскольку признание кающихся грешников является неотъемлемой частью религиозных обрядов в пенитенциарных судах, где совершается таинство очищения от грехов. Вот так люди злоупотребляют самым истинным светом Божественного откровения. А так как в эпоху невежества Божественное откровение — единственный источник света, покорное человечество обращается к нему по всякому поводу и использует самыми нелепыми и самыми неподходящими способами. Но бесчестие — это такое чувство, которое не подвластно ни закону, ни разуму, а лишь общественному мнению. Сам факт применения пытки является оскорблением чести и достоинства ее жертвы. Таким вот способом позор бесчестия смывается бесчестием. Третьим основанием для применения пытки к подозреваемому в преступлениях служат противоречия в его показаниях. Однако в данном случае не следует забывать, что неизвестность приговора, внушающее трепет одеяние и импозантность судьи, невежество, присущее в одинаковой мере почти всем — и виновным, и невиновным, — также может стать вероятной причиной противоречивости как показаний невиновного, умирающего от страха, так и преступника, который стремится выйти сухим из воды. Это тем более вероятно, что противоречия, столь свойственные людям в нормальной жизни, не могут не усилиться, когда человек теряет душевное спокойствие и полностью поглощен мыслью о спасении от приближающейся опасности. Этот мерзкий способ добывания истины еще и поныне остается памятником древнего и дикого законодательства, когда испытания огнем, кипящей водой и вооруженными поединками назывались судом Божьим, как будто звенья непрерывной цепи явлений, берущей начало в первопричине, обязательно должны перепутываться и рваться в угоду легкомысленным человеческим поступкам. Единственное различие между пыткой и испытанием огнем и кипящей водой заключается в том, что исход первой зависит, повидимому, от силы воли обвиняемого, а второго — от чисто. внешних природных явлений. Но эта разница только кажущаяся, а не реальная. Дать правдивые показания под пыткой, причиняющей невыразимые страдания, столь же маловероятно теперь, как и прежде, когда подвергались испытанию огнем и кипящей водой. Всякое проявление нашей воли всегда пропорционально силе воздействия на наши чувства, поскольку воля от них зависит. Способность человеческих чувств к восприятию ограничена. Поэтому ощущение боли, охватив весь организм, может превысить предел выносливости подвергнутого пытке, и ему не останется ничего другого, как избрать кратчайший путь к избавлению от мучающих его в данный момент страданий. Следовательно, ответная реакция обвиняемого на пытку с неизбежностью будет такой же, как и при испытании огнем и кипящей водой. Чувствительный невиновный признает себя виновным, надеясь тем самым прекратить страдания. И таким образом стирается разница между виновными и невиновными с помощью именно того средства, которое как раз и призвано эту разницу выявлять. *Излишне было бы дополнительно иллюстрировать сказанное бесчисленными примерами того, как невиновные люди признавали себя виновными, корчась под пыткой от боли. Нет такой нации, такой эпохи, которые не давали бы подобных примеров. У вы, люди не меняются и не делают никаких выводов. Любой человек с кругозором, выходящим за пределы повседневности, устремляется время от времени на обращенный к нему таинственный и смутный зов природы. Однако опыт, властвующий над разумом, его удерживает и внушает страх.* Исход пытки, следовательно, дело индивидуального темперамента и расчета. У каждого эти параметры разные и прямо зависят от физической силы и чувствительности. Так что математический метод больше подходит для решения этой проблемы, чем судейское усмотрение. Основываясь на данных о силе мускулов и чувствительности нервной системы невиновного, можно рассчитать тот болевой предел, за которым этот невиновный вынужден будет признать себя виновным в совершении преступления. Допрос обвиняемого производится с целью выявления действительного положения дел, но если выявить это трудно по внешнему виду, жестикуляции, выражению лица допрашиваемого, когда он спокоен, то эта задача еще более усложняется, когда страдания искажают весь его внешний облик, по которому иногда можно догадаться об истинном положении дел даже помимо воли человека. Всякое насильственное действие спутывает и заставляет исчезнуть мельчайшие индивидуальные признаки предметов, с помощью которых иной раз правда отличается от лжи. Эти истины известны еще со времен древнеримских законодателей, когда пытки применялись лишь в отношении рабов, которые вообще за людей не считались. Эти истины усвоены Англией. Ее научная слава, превосходство в торговле и богатстве над другими странами и, как следствие этого, ее могущество, примеры доблести и мужества не позволяют усомниться в доброкачественности ее законов. Пытка отменена и в Швеции1. Она отменена и одним из мудрейших монархов Европы2. Он возвел философию на престол и стал другом-законодателем для своих подданных. Он сделал их равными и свободными, зависящими только от законов. И это единственный вид равенства и свободы, которых разумные люди могут требовать при настоящем положении вещей. Пытка не признается необходимой в законах о военной службе, хотя войска рекрутируются большей частью из подонков общества, что, казалось бы, должно было сделать пытку для этого сословия более пригодной, чем для других сословий. Человеку, не учитывающему поразительную силу обычая, может По отношению к уголовным преступлениям пытка была отменена в Швеции в 1734 году. Ее полная отмена стала предметом нового декрета от 24 августа 1772 года вскоре после государственного переворота, совершенного Густавом III (1746—1792), и вероятно, не без влияния книги Ч. Беккариа. 2 Король Пруссии Фридрих II (1712—1786) отменил пытку сразу после вступления на престол в 1740 году. 1 показаться странным, что законы гражданские должны учиться гуманным методам правосудия у душ, закоснелых от резни и крови. Наконец, осознанием этих истин начинают смутно проникаться и те, кто их не приемлет. Признание подсудимого, сделанное под пыткой, считается ничтожным, если не подтверждено обвиняемым под присягой после нее.. Некоторые ученые и государства допускают возможность позорного повторного применения пытки до трех раз. Другие же государства и ученые оставляют это полностью на усмотрение судей. Так что из двух лиц, одинаково невиновных или одинаково виновных, более физически сильный и смелый будет оправдан, а более слабый и робкий — осужден на основании следующего рассуждения: "Я в качестве судьи должен был принять решение о том., кто из вас виновен в совершении некоего преступления. Ты — сильный, сумел выдержать боль, поэтому я тебя оправдываю. Ты — слабый, сдался, и я выношу тебе. обвинительный приговор. Я понимаю, что признание, вырванное под пыткой, не имеет никакой силы. Но я вновь подвергну вас пытке, если вы не подтвердите своих прежних показаний". Еще одно странное следствие, с необходимостью вытекающее из применения пыток, заключается в том, что невиновный поставлен в худшие условия, чем виновный. Ибо если оба подвергнуты пытке, то для первого любое решение судьи направлено против него: признание в совершенном преступлении повлечет его осуждение, а в случае непризнания он хотя и будет оправдан, но только после страданий от незаслуженной пытки. Для виновного же такое положение благоприятно уже по своей сути, так как, стойко выдержав пытку, он должен быть оправдан как невиновный. И тем самым он сменил себе большее наказание на меньшее. Таким образом, невиновный может только потерять, виновный же может и выиграть. Закон, санкционирующий пытку, — это закон, который призывает: "Люди, терпите боль, и если природа заложила 6 бас неистребимое чувство любви к самому себе, если она наделила вас неотъемлемым правом защищать самих себя, я порождаю в вас диаметрально противоположное чувство — героическую ненависть к самим себе и предписываю вам обвинять самих себя, говоря правду, даже когда будут разрывать вашу плоть и дробить ваши кости". *Применение пыток связано с желанием выяснить, не замешан ли обвиняемый в других преступлениях, помимо тех, в которых он обвиняется: "Тебя обвиняют в одном преступлении, следовательно, не исключено, что ты виновен и в сотне других. Это сомнение меня тяготит. Я хочу рассеять его с помощью моего собственного критерия истины. Законы подвергают тебя пыткам, поскольку ты — преступник, поскольку ты мог бы быть преступником, поскольку я хочу, чтобы ты был им".* Наконец, обвиняемого подвергают пытке, чтобы он назвал соучастников своего преступления. Но если доказано, что пытка — негодное средство для получения правдивых показаний, то каким образом она может помочь выявить соучастников, для чего также необходимо выявить истинное положение вещей? Ведь человеку, обвиняющему самого себя, еще легче обвинить других. Справедливо ли подвергать пыткам людей за чужие преступления? Разве нельзя выявить соучастников с помощью показаний свидетелей и обвиняемого, с помощью улик и состава преступления — словом, всеми теми средствами, которые служат для доказательства виновности обвиняемого? Соучастники в большинстве случаев скрываются тотчас после задержания своего товарища. Сама неопределенность судьбы таких людей осуждает их на изгнание и освобождает страну от опасности новых преступлений. В то же время наказание задержанного обвиняемого достигает своей единственной цели: удерживать с помощью страха других людей от совершения аналогичных преступлений. § XVII** О государственной казне Было время, когда почти все наказания носили денежный характер. Преступления людей считались частью собственности государя, переходившей к нему по наследству. Покушения на государственную безопасность служили источником обогащения. Лица, которым было поручено охранять государственную безопасность, были заинтересованы в ее нарушении. Наказание, таким образом, являлось результатом тяжбы между казной (сборщиком денежных средств, присуждаемых в качестве наказания) и обвиняемым. Это было гражданское дело, допускающее его оспоримость, скорее частное, чем публичное. Поэтому казна здесь наделялась другими правами, чем при спорах по публично правовым делам. Обвинения нарушителю также носили иной характер, нежели те, которые ему следовало бы предъявить в качестве примера для назидания другим. Судья был, следовательно, скорее адвокатом казны, чем объективным искателем истины, представителем казны, а не защитником и слугой закона. Но так как при данной системе признание в совершении правонарушений означало признание себя должником казны, — а именно это составляло суть уголовной процедуры того времени, — то признание в правонарушении, признание, сделанное в интересах, а не во вред казне, было и остается до сих пор (следствия всегда продолжительнее вызвавших их причин) центром, вокруг которого вращается весь механизм уголовного судопроизводства. Если подсудимый, несмотря на неопровержимые доказательства, откажется признать свою вину, то получит меньшее наказание, чем установленное, и не будет подвергнут пытке за другие преступления того же вида, которые мог бы совершить. Если же судье удастся добиться признания, то он становится полноправным хозяином тела обвиняемого и терзает его в соответствии с установленной процедурой с целью извлечь из него, как из благоприобретенной земельной собственности, максимальную выгоду. Если факт преступления доказан, то признание приобретает силу основного доказательства. А чтобы сделать это более убедительным, его добиваются, причиняя жертве мучительную и доводящую до отчаяния боль, тогда как спокойного и объективного признания, сделанного вне суда и не омраченного ужасом процессуальных пыток, недостаточно для осуждения. Следствие и вещественные доказательства, проливающие свет на преступление, но не отвечающие интересам казны, во внимание не принимаются. Иногда преступник не подвергается пытке. Но это продиктовано не сочувствием к бедам и тщедушию преступника, а опасением возможной потери доходов этого существующего и поныне лишь в воображении и малопонятного учреждения. Судья становится врагом обвиняемого — человека, закованного в кандалы, ставшего добычей тоски, пыток и еще более ужасного будущего. Он не стремится к истине, а ищет преступление в самом обвиняемом, подстраивает ему ловушки и в случае неудачи считает себя оскорбленным, поскольку уверен в собственной непогрешимости, как и все люди. Судья компетентен решать вопросы о задержании на основании имеющихся улик, потому что человека сперва надлежит объявить виновным, чтобы он доказывал свою невиновность. Это называется обвинительным прогрессом. Так обстоит дело с уголовным судопроизводством во всех уголках просвещенной Европы XVIII века. Настоящее же "следственное судопроизводство", то есть беспристрастное установление фактической стороны дела, предписываемое нам разумом, принято на вооружение военными законами. Его применяют даже азиатские деспотические режимы в отношении мелких повседневных дел. Лишь в европейских судах следственное судопроизводство малоприменимо. Какой запутанный и страшный лабиринт, полный абсурда, который, без сомнения, покажется невероятным более счастливым потомкам! И лишь философы будущего обнаружат в природе человека доказательства того, что существование такой системы было возможно.** § XVIII О присяге Необходимость присяги обвиняемого порождает противоречие между законами и естественными чувствами человека, поскольку она требует давать правдивые показания как раз в то время, когда человеку исключительно выгодно лгать. И получается, будто человек может присягать себе на погибель, будто религиозное чувство не молчит в большинстве людей, когда речь заходит об их интересах. Опыт всех веков доказал, что религией, этим драгоценным даром неба, человечество злоупотребляло больше, нежели чем-либо другим. И с какой стати тогда она будет пользоваться уважением у злодеев, если даже люди, считавшиеся мудрейшими, столь часто совершали прегрешения против нее? Влияние, которое религия противопоставляет страху, испытываемому человеком перед страданиями, и любви к жизни, оказывается для большинства слишком слабым, так как оно почти не затрагивает чувственной природы человека. Дела небесные управляются совсем иным законом, нежели дела людей. Зачем же тогда сталкивать их друг с другом? Зачем же ставить человека перед неразрешимым противоречием: грешить против Бога или способствовать собственной гибели? Таков закон, который предписывает присяге принуждать человека быть плохим христианином или мучеником. Постепенно присяга вырождалась в простую формальность, ослабляя тем самым силу религиозного чувства, единственного залога нравственной чистоты у большинства людей. Опыт убеждает нас в бесполезности присяги, так как любой судья может мне представить свидетельство того, что ни одна присяга не побудила ни одного обвиняемого сказать правду. В этом же убеждает и разум, который объявляет бесполезными и, следовательно, вредными все законы, противоречащие естественным чувствам человека. С этими законами происходит то же самое, что и с плотинами, перегораживающими течение реки: они рушатся и тотчас уносятся или размываются образовавшимся благодаря им водоворотом и незаметно им же уничтожаются. § XIX Незамедлительность наказаний Чем быстрее следует наказание за совершенное преступление и чем ближе оно к нему, тем оно будет справедливее и эффективнее. Я говорю справедливее, так как это избавляет обвиняемого от бесплодных и жестоких мучений, связанных с неопределенностью ожидания, которое усиливается воображением и ощущением собственного бессилия что-либо предпринять. Справедливее еще и потому, что лишение свободы, будучи само по себе наказанием, не может предшествовать приговору, если только это не продиктовано необходимостью. Предварительное заключение, следовательно, является лишь простым задержанием гражданина до признания его судом виновным, и поскольку такое задержание является, по сути, наказанием, оно должно быть непродолжительным и максимально легким. Минимальные сроки задержания определяются временем рассмотрения дела и очередностью. Первый по времени задержанный имеет право быть судимым прежде других. Строгость предварительного заключения не должна выходить за рамки минимума, необходимого для воспрепятствования побега и сокрытию улик. Сам процесс должен закончиться в кратчайшие сроки. Что может быть ужасней контраста между беспечностью судьи и томлением обвиняемого? Удобства и радости жизни бесчувственного судьи, с одной стороны, и слезы и тоска содержащегося под стражей — с другой. В целом суровость наказания и последствия преступления должны производить наиболее сильное впечатление на других и в минимальной степени отражаться на обвиняемом, ибо общество не может называться правовым, если оно не признает незыблемого принципа: люди решили объединиться, чтобы избавить себя в максимальной степени от страданий. Я сказал, что наказание тем эффективнее, чем скорее оно следует за преступлением, ибо чем меньший промежуток времени отделяет наказание от преступления, тем сильнее и прочнее закрепится в душах людей взаимосвязь этих двух идей: преступления и наказания. И они автоматически будут восприниматься в неразрывной взаимосвязи: одно — как причина, другое — как необходимое и неизбежное следствие. Доказано, что неразрывная связь идей цементирует все здание, воздвигнутое усилиями человеческого разума. Без этой взаимосвязи радость и боль утрат воспринимались бы изолированно друг от друга и оставались бы безжизненными. Чем дальше люди от общих идей и универсальных принципов, то есть чем они невежественнее, тем больше они попадают под влияние непосредственных и конкретных связей между близлежащими идеями и не воспринимают более отдаленные и сложные ассоциации идеи, которые доступны только людям, страстно увлеченным своим делом с целью его постижения. В этом случае концентрированное внимание, подобно лучу света, сосредоточивается на одном предмете, оставляя все прочие в темноте. Равным образом эти сложные абстрактные связи осознаются более развитыми умами, поскольку они привыкли мгновенно и разом охватывать множество предметов и способны сопоставлять множество отдельных чувств друг с другом, так что результат этой мыслительной деятельности, то есть совершаемое действие, менее опасен и менее непредсказуем. Следовательно, тесная взаимосвязь между свершившимся преступлением и быстро следующим за ним наказанием имеет чрезвычайно важное значение, если хотят, чтобы в умах грубых и невежественных соблазнительная картина сулящего выгоды преступления непосредственно ассоциировалась с мыслью о предстоящем наказании. Медлительность приводит лишь к тому, что обе эти идеи начинают восприниматься все более и более как отличные друг от друга. И какое бы впечатление ни произвело позднее наказание за свершенное преступление, *оно будет скорее впечатлением от зрелища, чем от наказания.* К тому же оно будет приводиться в исполнение тогда, когда в душах зрителей чувство ужаса перед данным конкретным преступлением ослабло, хотя оно должно было усилить значение наказания. Другой принцип удивительным образом служит установлению еще более тесной взаимосвязи между преступлением и наказанием: наказание должно в максимальной степени соответствовать природе преступления. Это соответствие позволяет довольно легко соотнести побудительные мотивы к свершению преступления с отвращающим эффектом наказания. В результате душа отдаляется от преступления и направляется к цели, противоположной той, к которой ее влекла соблазнительная мысль о нарушении закона. § XX Насилия Одни преступления являются преступлениями против личности, другие — против имущества. Первые подлежат наказаниям телесным, и ни знатный, ни богатый не должны иметь возможности откупиться деньгами за преступления против людей незнатных и бедных. Иначе богатство, которое благодаря защите законов стало наградой за трудолюбие, превратилось бы в питательную среду тирании. Свобода кончается там, где законы допускают, что в ряде случаев человек перестает быть личностью и становится вещью, там оказывается, что влиятельные люди прилагают энергичные усилия, чтобы из всей совокупности гражданских правоотношений приоритет получили те, которые закон регулирует в их интересах. Достичь этого — значит приобщиться к чудесному таинству, превращающему гражданина в рабочий скот. А в руках сильного это является цепью, с помощью которой он сковывает действия неосмотрительных и слабых. И по этой причине при некоторых формах правления за фасадом свободы скрывается тирания или же она прокрадывается неожиданно в какой-нибудь забытый законодателем уголок и там незаметно для всех набирает силу и разрастается. Против тирании, действующей открыто, люди воздвигают обычно мощные преграды. Но они не видят ничтожнейшего насекомого, которое подтачивает эти преграды и прокладывает тем самым полноводному потоку новое русло, тем более безопасное, что его невозможно заметить. § XXI* Наказания для дворян Каким же наказаниям следует подвергать дворян за совершенные ими преступления, если учесть, что их привилегии составляют значительную часть законов различных наций? Я не буду здесь заниматься изучением вопроса о том, полезно ли наследственное разделение на дворянство и плебеев при определенном образе правления и необходимо ли оно при монархии. И верно ли, что дворянство составляет промежуточное звено власти, в задачу которого входит удерживать в границах дозволенного чрезмерные претензии крайностей, или оно представляет собой просто сословие, которое, будучи рабом самого себя и других, сосредоточивает в своем узком замкнутом кругу влияние, жизненные блага и надежды, подобно цветущему и плодородному оазису в песках Аравийской пустыни. И если верно даже, что неравенство является неизбежным или полезным для общества, то справедливо ли, чтобы оно выражалось в различии сословий, а не индивидов, чтобы оно сосредоточивалось в одной части политического организма, а не циркулировало бы повсеместно, чтобы оно существовало вечно, а не возникало и исчезало беспрестанно. Я ограничусь лишь вопросом об одних только наказаниях для дворянского сословия, утверждая, что наказания должны быть одинаковы как для первого, так и для последнего из граждан. Всякое различие по сословному признаку или по богатству предполагает для своего узаконения существование предварительного равенства, основанного на законах, одинаковых для всех подданных. Нам следует исходить из предположений, что люди, отрекшись от своего врожденного стремления к единовластию, заявили: "Пусть более трудолюбивый будет пользоваться большими почестями, а его потомки будут купаться в лучах его славы, но более счастливый или более заслуженный и почитаемый, хотя и лелеет надежду на получение большего, должен бояться, как и другие, нарушить те договоры, которые возвысили его над другими". Правда, такого рода решения не исходили от какого-либо законодательного собрания всего рода человеческого, но они коренятся в вечной и неизменной природе вещей. Они не отменяют тех выгод, которые, как полагают, явились результатом существования дворянства и препятствуют проявлению связанных с этим отрицательных явлений. Они заставляют уважать закон, преграждая все пути к безнаказанности. Тому, кто скажет мне, что одно и то же наказание для дворянина и простолюдина в действительности не уваляется таковым как по причине различий в воспитании, так и в связи с бесчестием, бросающим тень на знатную семью, я отвечу, что не утонченность виновного, а ущерб, нанесенный им обществу, служит критерием для наказания. Причем ущерб, нанесенный обществу, значительнее, если он нанесен лицом более привилегированным. Равенство наказаний может быть чисто внешним, ибо по-разному воспринимается каждым индивидом. Позор знатной семьи может быть смыт вмешательством верховной власти, которая публично проявит знаки внимания незапятнанным членам семьи преступника. И кто же не знает, что внешнее проявление сентиментальности со стороны властей заменяет доверчивому и восторженному народу доводы разума.* § XXII Кражи Кражи, совершаемые без применения насилия, должны караться денежным штрафом. Кто хочет обогащаться за счет других, должен отдать часть своего. Но так как кражи обычно являются следствием нищеты и отчаяния, это преступление распространено главным образом среди той несчастной части человечества, которой право собственности (ужасное и, может быть, не необходимое право) не оставило в жизни ничего иного, кроме нищенского существования. *Но подвергнутых денежным штрафам больше действительно виновных в совершении преступлений. И следовательно, лишаются также куска хлеба и невиновные, чтобы отдать его злоумышленникам.* Поэтому наиболее целесообразным наказанием за кражу был бы тот единственный вид лишения свободы, который можно назвать справедливым, а именно временное лишение свободы лица, совершившего кражу, и передача как его самого, так и его мускульной силы в распоряжение общества, чтобы вознаградить последнее полной от него зависимостью за противоправное нарушение в одностороннем порядке общественного договора. Но если кража совершена с применением насилия, то наказание должно быть смешанным и состоять из телесного наказания и лишения свободы. Другие писатели уже раньше меня доказали очевидное несоответствие, порождаемое отсутствием различий между кражей с применением насилия и кражей посредством хитрости, показав, что абсурдно ставить знак равенства между жизнью человека и крупным денежным вознаграждением. Однако никогда нелишне напомнить о требовании, к выполнению которого фактически еще не приступили. Политические машины дольше других сохраняют сообщенную им инерцию и медленнее других принимают новое направление движения. Оба эти преступления различны по своей природе, а в политике также возможно применение математической аксиомы, согласно которой разнородные величины разделяет бесконечность. § XXIII Бесчестие Личные обиды и оскорбления чести, то есть той справедливой доли уважения, которую каждый гражданин имеет право требовать от других, должны наказываться бесчестием. Бесчестие является знаком общественного порицания виновного. В результате он лишается уважения общества, доверия своего отечества и отношений братства, которые рождаются благодаря возникновению общества. Бесчестие не является чисто юридическим понятием. Поэтому необходимо, чтобы применение наказания бесчестием по закону вытекало бы из самой природы вещей, отвечало бы общечеловеческим этическим нормам или было бы проявлением национальных особенностей морали данного конкретного общества, народных традиций, почитаемых как закон. В противном случае закон о бесчестии потеряет силу общественного признания или же перестанут действовать этические нормы, основанные на понятиях нравственной чистоты. И здесь не поможет никакое краснобайство, бессильное против наглядных примеров. Тот, кто называет бесчестными деяния, нейтральные по своей сути, выхолащивает значение действительно бесчестных поступков. Не следует ни слишком часто злоупотреблять применением наказания бесчестием, ни подвергать этому наказанию большое число лиц одновременно. Первое нежелательно, поскольку слишком частое обращение к общественному мнению ослабляет силу его влияния, второе — поскольку объявлять бесчестными многих — значит никого не объявлять таковым. **Наказаниям телесным и причиняющим физические страдания нельзя подвергать за преступления, причиной которых является спесь, поскольку страдания являются питательной средой таких преступлений и окружают совершивших их ореолом славы. Бороться с этими преступлениями целесообразнее всего осмеянием и бесчестием. Эти наказания сбивают спесь с фанатиков, выставляя их на посмешище презрительной толпы. Влияние такого рода наказаний столь значительно, что сама истина медленно и с большим трудом от него освобождается. Так, противопоставляя силу силе, а мнение — мнению, мудрый законодатель искореняет в народе восторженное отношение и преклонение перед принципами, нелепое происхождение которых искусно вуалируется путем подмены этих принципов хитроумными выводами, сделанными на их основе.** Вот способ добиться гармонии между неизменной и вечной природой вещей, находящейся в постоянном движении, а потому и уничтожающей все стесняющие ее ограничения, и преходящими отношениями, которые строятся на ее основе. Не только изобразительное искусство остается верным принципам подражания природе. Сама политика, по крайней мере истинная и обоснованная, подчиняется этому принципу, ибо она есть не что иное, как искусство наилучшим образом управлять неизменными чувствами людей и умиротворять их. § XXIV Тунеядцы Тот, кто нарушает общественное спокойствие, кто не повинуется законам, то есть кто не выполняет условия, обеспечивающие сосуществование и взаимную защиту людей, должен быть изгнан из общества. Вот почему мудрое правление, поощряя труд и полезную деятельность, отвергает тот вид политического тунеядства, который строгие моралисты путают с праздностью, проистекающей от накопленного трудом богатства, праздностью, которая становится все более необходимой и полезной по мере того, как значение гражданского общества возрастает, а государственного управления уменьшается. Я называю политическим тунеядцем того, кто не приносит обществу никакой пользы ни трудом, ни богатством, кто приобретает никогда не теряя того, кого простой люд почитает с идиотским восхищением, а мудрый презирает, сочувствуя его жертвам. Это человек, не имеющий стимула к активной деятельности, которая заключается в удовлетворении потребностей, связанных с необходимостью сохранять и приумножать жизненные блага. Он отдает политическим страстям — не менее сильным, чем другие человеческие страсти, — всю свою энергию. Не является политическим тунеядцем тот, кто наслаждается плодами пороков или добродетелей своих предков и за свои наслаждения расплачивается хлебом насущным с трудолюбивой бедностью, которая ведет мирными средствами молчаливую войну усердия с праздным богатством вместо сомнительной кровавой войны с властью. Поэтому закон, а не блюстители нравов с их аскетической моралью воздержания должен определять, какое тунеядство подлежит наказанию. ** По-видимому, изгнанию должны подвергаться обвиняемые в тяжком преступлении, причастность которых к этому преступлению весьма вероятна, но не доказана безусловно, чтобы объявить их преступниками. Однако для этого необходим закон, максимально точный и исключающий возможность судейского произвола. Этот закон, осуждая на изгнание того, кто поставил страну перед фатальным выбором: опасаться его или заставить самого испытывать страх, оставлял бы за ним священное право доказать свою невиновность. Для высылки из страны собственного гражданина должны существовать более веские причины, чем для высылки иностранца, равно как для высылки впервые обвиненного они должны быть более вескими, чем для преступавшего закон неоднократно.** § XXV Изгнание и конфискация Но следует ли лишать имущества того, кто навсегда изгнан из общества, членом которого он являлся? Этот вопрос допускает различные толкования. Лишение имущества — наказание более суровое, чем изгнание. И, следовательно, необходимо различать случаи, когда в зависимости от тяжести совершенного преступления виновный лишается всего имущества, его части или вообще его не лишается. Полная потеря имущества наступает, когда закон предписывает высылку из страны и прекращение всех отношений между обществом и гражданином, его преступившим. В этом случае наступает гражданская смерть человека, который физически продолжает существовать. Однако уважение к политическому организму требует наступления тех же последствий, что и при естественной смерти. Поэтому, казалось бы, конфискованное имущество преступника должно в этом случае перейти скорее к законным наследникам, чем к государству в лице его главы, ибо для политического организма смерть и подобного рода изгнания идентичны. Но я осмеливаюсь выступить против конфискации имущества не в связи с этой аналогией. Если некоторые утверждали, что конфискация является средством предотвращения личной мести и сдерживания чрезмерного могущества частных лиц, то при этом они забывали, что практическая польза от наказания не всегда является синонимом его справедливости. Чтобы наказание было справедливым, оно должно быть необходимым. Несправедливость во благо не может быть терпима таким законодателем, который хочет наглухо запереть все двери перед недремлющей тиранией, прельщающей сиюминутными выгодами и счастьем немногих избранных, с презрением относящихся к .обреченности и слезам бесчисленной серой массы. Конфискация ложится тяжелым бременем на плечи слабых, заставляет невинных страдать от тех наказаний, которым должны подвергаться виновные, и, доводя их до отчаяния, ставит перед страшной необходимостью идти на преступление. Что может быть печальнее зрелища семьи, влачащей жалкое существование и всеми презираемой из-за преступлений главы семьи, которому она вынуждена подчиняться по закону, и в силу этого не имеет права препятствовать ему в совершении преступлений, даже если бы была в состоянии сделать это. § XXVI О духе семейном Эта гибельная и освященная традицией несправедливость одобрялась даже самыми просвещенными людьми и допускалась в самых свободных республиках, так как общество рассматривалось скорее как союз семей, чем союз индивидов. Представим себе сто тысяч свободных личностей или двадцать тысяч семей, состоящих из пяти членов каждая, включая в это число и главу семьи, который ее представляет. Если это союз семейств, то он состоит всего из двадцати тысяч свободных людей и из восьмидесяти тысяч рабов. Если же это союз индивидов, то в нем сто тысяч свободных граждан и ни одного раба. В первом случае — это республика, состоящая из двадцати тысяч небольших монархий, во втором случае республиканский дух будет не только витать над площадями и народными собраниями, но и над домашними очагами, вокруг которых в основном сосредоточено людское счастье и горе. Поскольку в первом случае законы и нравы являются продуктом образа мыслей и понятий членов республики, то есть глав семейств, то, следовательно, монархический дух проникает мало-помалу в самое сердце республики. Причем его проявления сдерживаются только столкновениями противоположных интересов каждого, но никак не чувством, воспитанным на идеалах свободы и равенства. Для духа семейного характерны мелочность и неспособность подняться над повседневностью. Республиканский же дух, являясь крестным отцом общих принципов, обозревает факты и обобщает их, группируя по основным классам в зависимости от важности их для блага наибольшего числа людей. В республике семей сыновья остаются под властью главы семьи, пока он жив, и вынуждены ждать его смерти, чтобы зависеть только от законов. Исполненные покорности и страха уже в расцвете сил, когда опыт еще не успел умерить пылкость их чувств, смогут ли они, дряхлея и угасая, бороться с пороком, всегда стоящим на пути добродетели, то есть в возрасте, когда, отчаявшись увидеть плоды своих трудов, люди уже не стремятся изменить мир? Но если в республике каждый является гражданином, то отношения в семье строятся не на основе принципа подчинения, а на основе договора. И сыновья, освобождаясь с возрастом от естественной опеки родителей, обусловленной их младенческой слабостью и необходимостью их воспитания и защиты, становятся свободными членами своего полиса. Главе семьи они подчиняются, чтобы пользоваться преимуществами, которые дает семья, подобно свободным гражданам, объединившимся в большое сообщество. В первом случае сыновья, то есть большая и наиболее полезная часть нации, находятся в подчинении у отцов семейств. Во втором, наоборот, не существует никаких других уз, кроме как скрепленных священным и нерушимым долгом оказывать Друг другу помощь и чувством благодарности за содеянное добро. И эти узы рвутся не столько из-за бессердечия людского, сколько из-за ложно понятой необходимости подчиняться законам. Такие противоречия между законами семейного союза и правовой основой государства граждан создают исключительно благоприятную среду для новых противоречий между личной и общественной моралью и порождают в душе человека постоянный конфликт. Первая внушает покорность и страх, вторая — мужество и свободу. Первая учит заботиться об ограниченном числе конкретных лиц, вторая — обо всех людях. Первая требует постоянно приносить себя в жертву тщеславному идолу, именуемому благополучием семьи, которое часто не является таковым для ее членов. Вторая учит заботиться о собственных интересах, не нарушая законов, или же побуждает принести личные интересы в жертву отечеству, награждая тем чувством воодушевления, которое настраивает на совершение этого поступка. Такие противоречия приводят к тому, что добродетель вызывает в людях раздражение. Они находят ее чем-то неопределенным и расплывчатым, как бы расположенным на таком значительном расстоянии, когда предметы материального мира и нравственные понятия теряют свои очертания. Как часто человек, оглядываясь на свое прошлое, с удивлением обнаруживает бессовестность своих поступков! По мере увеличения общества каждый его член становится все меньшей его частью как целого. Соответственно ослабевает и республиканский дух, если он не находит поддержки в законах. Общество, как и человеческое тело, имеет естественные пределы. Своего рода превышение этих пределов неизбежно нарушает нормальное развитие. Представляется, что размеры государства должны быть обратно пропорциональны восприимчивости тех, кто его населяет. В противном случае при одновременном увеличении размеров государства и его населения сама эффективность хороших законов станет препятствием при пресечении ими преступлений. Слишком большая республика может избежать деспотизма только путем разделения и последующего объединения в союз федеративных республик. Но как достичь этого? Это мог бы сделать диктатор, обладающий мужеством Суллы и гением созидания, равным его разрушительному гению. Такому человеку, будь он честолюбив, была бы уготована вечная слава. Будь он философом, благословение граждан примирило бы его с утратой власти при условии; однако, что их неблагодарность все еще задевает его самолюбие. По мере того, как чувство неразрывного единства с нацией в нас ослабевает, усиливаются наши чувства к окружающим нас предметам. И потому с усилением деспотизма усиливается чувство дружбы. А семейные нравственные ценности, не играющие обычно сколь-нибудь значительной роли, становятся общераспространенными или даже единственными. На основании сказанного каждый может убедиться в том, какая узость взглядов была присуща большинству законодателей. § XXVII Мягкость наказаний Однако ход моих мыслей отвлек меня от предмета моих исследований, и я спешу к нему вернуться. Не в жестокости, а в неизбежности наказания заключается один из наиболее эффективных способов предупредить преступления. А как следствие этого — и в бдительности властей, и в строгости неумолимых судей, которая, однако, лишь при мягком законодательстве становится полезной добродетелью. Неизбежность наказания, даже умеренного, всегда производит более сильное впечатление, чем страх подвергнуться самому суровому наказанию, если при этом существует надежда на безнаказанность. Даже самые незначительные страдания, если они неизбежны, заставляют трепетать от страха человеческую душу, тогда как надежда, этот дар небес, часто заменяет нам все и всегда отодвигает на задний план мысль о суровости наказания, особенно если корыстолюбие и порочные слабости укрепляют нашу веру в то, что надежда на безнаказанность может сбыться. Жестокость наказания приводит к тому, что желание избежать его усиливается в зависимости от того, сколь велико угрожающее нам страдание. Она чревата также тем, что человек, стремясь избежать наказания за одно преступление, совершает целый ряд других. В тех странах и в те эпохи, где и когда применялись самые жестокие наказания, были совершены и наиболее кровавые и бесчеловечные деяния, ибо тот же самый дух изуверства, который водил рукой законодателя, направлял и руку бандита, и наемного убийцы. С престола этот дух предписывал железные законы жестоким душам покорных рабов. А темные души подданных взывали к уничтожению тиранов, чтобы на их место поставить новых. По мере ужесточения наказаний еще более черствели души людей, подобные жидкостям, всегда принимающим форму сосуда, который они наполняют. И всегда живая сила страстей приводит к тому, что после ста лет жестоких казней колесование страшит не больше, чем прежде устрашало тюремное заключение. Наказание достигнет своей цели, если страдания, им причиняемые, превысят выгоды от преступления. Причем такой расчет должен включать в себя неизбежность наказания и потерю выгод от совершаемого преступления. Все, что сверх того, — от лукавого и является, следовательно, тираническим. Сдерживающим фактором людских деяний служит постоянно повторяющееся, а потому и известное им зло, а не то, что им неизвестно. Представим себе две страны. В обеих в основу классификации преступлений и наказаний положен принцип соответствия между суровостью наказания и тяжестью преступления. Но в одной из них высшая мера наказания — пожизненная каторга, а в другой — колесование. Я утверждаю, что высшая мера наказания в первой стране будет устрашать столь же сильно, что и высшая мера наказания во второй. Но если бы нашелся повод для введения в первой стране высшей меры наказания второй, то этот же повод послужил бы основанием для ужесточения наказания и в этой последней, и в ней бы неизменно перешли бы от колесования к медленным и более изощренным пыткам и дошли бы в конце концов до применения высших, наиболее утонченных достижений палаческого искусства, слишком хорошо известного тиранам. Два других гибельных последствия жестокости наказаний противоречат даже самой цели предупреждения преступлений. Первое заключается в том, что становится нелегко соблюсти строгое соответствие между тяжестью преступления и суровостью наказания, ибо несмотря на большое разнообразие наказаний, которого можно достичь, все больше изощряясь в жестокости, невозможно перейти высший предел чувствительности человеческого организма. Если достигнут этот предел, для предупреждения преступлений еще более тяжких и жестоких не найдется адекватной высшей меры наказания. Другое отрицательное последствие жесткости наказаний заключается в безнаказанности преступлений, порождаемых жесткостью казни. Людское добро и зло имеют свои пределы. И зрелище, слишком жестокое для человечества, может вызвать лишь сиюминутный восторг по поводу свершившегося преступления, но никак не стать постоянной системой, каковой надлежит быть закону. Если законы действительно жестоки, то они или изменяются или неизбежно порождают безнаказанность. Кто, читая историю, не содрогнется от ужаса тех варварских и ненужных истязаний, хладнокровно изобретенных и применяемых людьми, которые почитали себя мудрецами? Кто не будет возмущен до глубины души при виде тысяч несчастных, которых бедствия заставляют возвращаться в первобытное состояние, поскольку законы, всегда служившие интересам меньшинства в ущерб большинству, сознательно способствуют такому положению или допускают его? Кто же не будет также возмущен предъявлением нелепых" обвинений, измышленных трусливым невежеством, или обвинений в неизменной верности своим убеждениям, равно как и тем, что люди, наделенные одними и теми же чувствами, а потому и теми же страстями, на потеху фанатичной толпы подвергают себе подобных изощренным пыткам с соблюдением всех продуманных до мелочей формальностей? § XXVIII О смертной казни Это злоупотребление смертными приговорами, которое никогда не делало людей лучше, побудило меня исследовать вопрос о том, действительно ли смертная казнь полезна и оправданна при хорошо устроенном правлении? Что это за право, присвоенное людьми, зверски убивать себе подобных? Несомненно, его происхождение иное, чем у верховной власти и законов. Эти последние не что иное, как сумма частиц личной свободы каждого. Они являются выражением общей воли, которая, в свою очередь, — совокупность воль частных. Но кто же захочет предоставить право другим произвольно распоряжаться своей жизнью? Каким образом малая толика собственной свободы, отданная каждым ради общего блага, сделала возможной жертву величайшего из всех человеческих благ — жизнь? Но как в таком случае примирить этот принцип с другим, запрещающим человеку лишать себя жизни, в то время как он должен был бы иметь право на самоубийство, если мог уступить его другому лицу или целому обществу? Следовательно, как я показал, смертная казнь не является правом и не может быть таковым. Это война государства с гражданином в тех случаях, когда оно считает полезным и необходимым лишить его жизни. Но если я докажу, что смертная казнь ни полезна, ни необходима, я выиграю дело человечества. Смерть человека может считаться необходимой только по двум причинам. Первая заключается в том, что гражданин, несмотря на лишение свободы, продолжает оставаться влиятельным и могущественным, угрожая безопасности государства, ибо уже сам факт его существования несет в себе угрозу для правящего режима. Смерть гражданина делается, следовательно, необходимой, когда государство борется за то, чтобы вернуть или не потерять свою свободу, или когда беспорядок заменяет законы в эпоху анархии. Но во время спокойного господства законов, когда существующий образ правления поддерживается всеми гражданами, опирается вовне и внутри на силу и общественное мнение, может быть более значимое, чем сила, и когда верховная власть является истинным представителем народа, а богатство покупает лишь удовольствия, но не власть, я не вижу необходимости в лишении гражданина жизни, за исключением случая, когда его смерть является единственным средством удержать других от совершения преступлений. Это и есть вторая причина, согласно которой смертная казнь может считаться оправданной и необходимой. Если опыт всех веков, в течение которых смертная казнь никогда не удерживала людей, решившихся посягнуть на общественный порядок, если примеры римлян и императрицы Московии Елизаветы1, преподавшей отцам народов своим двадцатилетним правлением блистательный урок, по крайней .мере не 1 Елизавета Петровна (1709—1761) — русская императрица, дочь Петра I. Взошла на престол в результате государственного переворота 25 ноября 1741 года. Перед вступлением на престол она обещала никого не казнить в период своего царствования и отменила смертную казнь указами 1753 и 1754 годов (смертная казнь действительно не исполнялась в царствование Елизаветы Петровны, однако формально она не была отменена окончательно. Стараниями императрицы лишь наметилась положительная тенденция развития российского уголовного законодательства в этом направлении. — Ред.). уступающий по силе своего воздействия множеству завоеваний, купленных ценой крови сынов отечества, не убеждают людей, для которых язык разума всегда подозрителен и которым лишь язык власти всегда понятен, то достаточно обратиться к природе человека, чтобы убедиться в справедливости моих слов. Не суровость наказания, а продолжительность его морального воздействия — вот что производит наибольшее влияние на душу человека, потому что наши чувства легче и надолго воспринимают слабое, но повторяющееся впечатление, чем сильное, но быстро проходящее потрясение. Сила привычки — явление общее для всех чувствующих существ. Человек при ее помощи выучивается говорить, ходить, удовлетворять свои потребности. И соответственно нравственные понятия запечатлеваются в человеческом сознании только посредством продолжительного и повторяющегося воздействия. Не страшное, но мимолетное зрелище смертной казни злостных рецидивистов представляется наиболее действенным средством удержания людей от преступлений, а постоянный и исполненный тяжких страданий пример, когда человек, лишенный свободы и превращенный в подобие рабочего скота, возмещает своим каторжным трудом ущерб, нанесенный им обществу. Воздействие этого постоянно повторяющегося, а потому и наиболее эффективного напоминания самим себе: "Я буду низведен до такого же жалкого состояния, если совершу аналогичное преступление", гораздо сильнее, чем мысль о смерти, которую люди всегда представляют себе в туманной дали. Впечатление от смертной казни при всей силе его эмоционального воздействия быстро забывается. Это заложено в природе человека и касается даже самых важных предметов. Процесс забывания усиливается под воздействием страстей. Общее правило: сильные страсти овладевают людьми лишь на непродолжительное время. При этом они способны превратить обыкновенных людей в персов или спартанцев. Но при свободном и спокойном образе правления впечатления должны быть скорее часто повторяющимися, нежели сильными. Смертная казнь является для большинства людей зрелищем. И лишь у немногих она вызывает сострадание, смешанное с негодованием. Оба эти чувства охватывают души зрителей в большей мере, чем страх, призванный, как на то рассчитывал законодатель, вводя смертную казнь, эти души спасти. Но при умеренных и длящихся продолжительное время наказаниях страх доминирует, поскольку он остается единственным. Суровость наказания должна быть, повидимому, ограничена тем пределом, за которым сострадание начинает превалировать над другими чувствами людей, наблюдающих за казнью, ибо она совершается скорее для них, чем для преступника. *Чтобы быть справедливым, наказание должно быть строгим в той мере, в какой способствует удержанию людей от совершения преступлений. Нет человека, который, взвесив все и зная о грозящем пожизненном лишении свободы, прельстился бы призрачными выгодами задуманного им преступления. Таким образом, пожизненная каторга, заменив смертную казнь, станет суровым наказанием, чтобы удержать даже самую отчаянную душу от совершения преступления. Добавлю более чем достаточно: ведь очень многие смотрят в лицо смерти спокойно и твердо, кто из фанатизма, кто из тщеславия, сопровождающего почти всегда человека до могилы, а кто и предпринимая последнюю отчаянную попытку покончить счеты с жизнью или вырваться из тисков своего бедственного положения. Но ни фанатизм, ни тщеславие не выдержат кандалов или цепей, ударов палкой, ярма, тюремной решетки. И это будет означать для отчаявшегося не конец его страданий, а лишь начало. Наш дух более способен противиться насилию и самым страшным, но непродолжительным болям, чем времени и постоянной тоске, ибо он может сконцентрироваться, так сказать, на мгновение, чтобы выдержать сиюминутную боль, но не обладает достаточной силой натяжения, чтобы сопротивляться продолжительному и повторяющемуся воздействию страданий второго рода. Смертная казнь как назидательный пример для народа каждый раз требует нового преступления. При замене ее пожизненной каторгой одно и то же преступление дает многочисленные и длящиеся продолжительное время примеры. И если важно продемонстрировать людям могущество законов, смертные казни в качестве наказания не должны совершаться с большим промежутком одна от другой. А это предполагает, что и преступления должны совершаться часто. И следовательно, чтобы смертная казнь была полезной, необходимо, чтобы она не производила на людей такого впечатления, какое она должна была бы производить, то есть чтобы она была в одно и то же время и полезной, и бесполезной. Тому, кто скажет мне, что пожизненная каторга столь же ужасна, как и смертная казнь, а потому и столь же жестока, я отвечу, что если суммировать все самые несчастные моменты рабской жизни на каторге, то это, может быть, превзойдет по своей жестокости смертную казнь, ибо эти моменты сопровождают человека всю его оставшуюся жизнь, в то время как смертная казнь реализует свою силу в один миг. И в этом преимущество наказания пожизненной каторгой. Оно устрашает больше того, кто наблюдает, чем того, кто от нее страдает, ибо первый представляет себе всю совокупность несчастливых мгновений рабства, а второго переживаемое им в данный момент несчастье отвлекает от будущих страданий. Все старания представляются нам в нашем воображении преувеличенными. Тот же, кто переживает эти страдания, находит в них утешения, неизвестные и непонятные зрителям со стороны, ибо они наделяют чувствительностью своей души очерствелую душу несчастного каторжника.* Вот приблизительно как рассуждает разбойник или убийца, которых ничто, кроме виселицы или колеса, не сможет удержать от нарушения законов. Я знаю: утонченность души достигается только воспитанием чувств. Но если разбойник не способен правильно выразить свои принципы, это не означает, что от этого они становятся для него менее действенными: "Почему я должен уважать законы, которые проводят между мною и богатым такое резкое различие? Он отказывает мне 6 гроте, который я у него прошу, оправдывая это тем, что дает мне работу, хоти не имеет о ней никакого понятия. Кто написал эти законы? Богатые и могущественные. Они ни разу не удостоили своим посещением хижины бедняка. И им никогда не приходилось делить кусок заплесневелого хлеба под крики невинных и голодных детей и слезы жены. Порвем эти цепи, гибельные для большинства и выгодные только кучке праздных тиранов. Уничтожим несправедливость в зародыше. И. тогда я вновь обрету свою естественную независимость, заживу привольно и счастливо, добывая на хлеб насущный своей удалью и ловкостью. Может быть, и придет день раскаяния и скорби, но это будет лишь миг. За столь долгие годы свободы и удовольствий лишь один день мук расплаты. Во главе горстки людей я исправлю ошибки судьбы и увижу этих тиранов бледными и дрожащими, от страха перед тем, кого они с оскорбительным высокомерием считали ничтожнее своих лошадей и собак". Тот злодей, для которого нет ничего святого, вспомнит о религии, и она придет ему на помощь, предоставив возможность легкого покаяния и почти несомненное вечное блаженство, что сильно ослабит ужас последней трагедии. Но тот, перед чьим мысленным взором пройдет длинная череда лет или даже вся жизнь, загубленная на каторге, на виду у сограждан, среди которых он жил свободным и полноправным, тот, кто представит себя узником тех законов, которые его защищали, тот с пользой для себя сравнит это с неясным исходом своих преступлений, с краткостью мига, в течение которого он мог бы воспользоваться их плодами. Продолжительность несчастий, которую являет пример людей, сделавшихся жертвой своих необдуманных поступков, произведет на него гораздо более сильное впечатление, чем зрелище смертной казни, которое скорее ожесточит, чем исправит его. Смертная казнь бесполезна и потому, что дает людям пример жестокости. Если страсти и жажда войн научили проливать человеческую кровь, то законы, создаваемые, между прочим, для смягчения нравов, не должны множить примеры зверства, что особенно гибельно, ибо смерть в силу закона свершается методически и с соблюдением правовых формальностей. Мне кажется абсурдом, когда законы, представляющие собой выражение воли всего общества, законы, которые порицают убийства и карают за него, сами совершают те же самое. И для того, чтобы удержать граждан от убийства, предписывают властям убивать. Какие законы истинны и наиболее полезны? Это те договоры и те условия, которые все готовы были бы соблюдать и предлагать, пока молчит всевластный голос частного интереса или когда он совпадает с интересом общественным. Какие чувства возбуждает в каждом смертная казнь? Мы узнаём эти чувства в негодовании и презрении, с которым каждый смотрит на палача, хотя тот лишь невинный исполнитель воли общества. Он добрый гражданин, служащий общественному благу, необходимое орудие внутренней безопасности государства. Такой же, как доблестные воины, охраняющие его внешние рубежи. Отчего же происходит это противоречие? И почему это чувство, к стыду разума, неискоренимо? Потому что люди в глубине души, которая более чем что-либо продолжает оставаться сколком первозданной природы, всегда верили, что их жизнь не подвластна никому, кроме необходимости, которая твердой рукой правит миром. Что скажут люди о мудрых властях и чопорных жрецах правосудия, посылающих с невозмутимым спокойствием преступника на смерть, обрамленную торжественными формальностями, о судье, который с бесчувственной холодностью, а может быть, и с затаенным самодовольством от осознания собственного всесилия отправляется наслаждаться радостями жизни, в то время как обреченный судорожно вздрагивает в предсмертной тоске, ожидая рокового удара? "А, — скажут они, — эти законы — не что иное, как ширма, скрывающая насилие и продуманные и жестокие формальности правосудия; они не что иное, как условный язык, применяемый для большей безопасности при уничтожении нас как жертв, приносимых на заклание ненасытному молоху деспотизма. Убийство нам преподносили как ужасное злодеяние, но мы видим, что оно совершается без малейших колебаний и без отвращения. Воспользуемся следующим примером: насильственная смерть, по описанию очевидцев, представляется нам ужасной, но мы видим, что это — минутное дело. Насколько же легче будет перенести ее, если не будет томительного ожидания и почти всего того, что есть в ней мучительного!". Таковы пагубные и ложные умозаключения, к которым всегда, правда не вполне осознанно, приходят люди, предрасположенные к преувеличениям, люди, которые, как мы видели, предпочитают скорее нарушать религиозные заповеди, чем следовать им. Если мне попытаются возразить с помощью примеров, доказывающих, что во все времена и у всех народов существовала смертная казнь за некоторые виды преступлений, я отвечу: эти примеры ничего не значат перед лицом истины, не подвластной никаким срокам давности, ибо история человечества представляет собой необозримое море заблуждений, на поверхности которого на большом расстоянии друг от друга едва угадываются смутные очертания весьма редких истин. Человеческие жертвоприношения богам были присущи почти всем народам. Но кто осмелится оправдать их? И то, что лишь немногие сообщества людей, и только на короткое время, воздерживались от применения смертной казни, скорее свидетельствует в мою пользу, ибо это подтверждает судьбу великих истин, которые подобны мгновенной вспышке молнии по сравнению с длинной непроглядной ночью, поглотившей человечество. Еще не пришло время той счастливой эпохи, когда истина, как до сих пор заблуждение, станет принадлежать большинству. Из этого общего правила делались лишь редкие исключения в пользу тех истин, которые бесконечная Божественная мудрость решила выделить среди других, открыв ее людям. Голос философа, слишком слабый, потонет в шуме и гвалте многих, которые идут на поводу у слепой привычки. Но голос мой найдет отклик в сердцах немногих мудрецов, рассеянных по лику земли. И если бы истине, несмотря на бесконечные препятствия, мешающие ей приблизиться к монарху, удалось, даже вопреки его воле, достичь его трона, то пусть он знает, что она явилась, чтобы поведать о потаенных чаяниях всего народа. Пусть также знает, что перед лицом ее меркнет кровавая слава завоевателей и что справедливое потомство отведет ей первое место среди мирных трофеев Титов, Антонинов и Траянов. Счастливо было бы человечество, если бы лишь теперь для него издавались впервые законы, ибо именно сейчас мы видим восседающими на престолах Европы благодетельных монархов, отцов своих народов, венценосных граждан, покровительствующих мирным добродетелям, наукам и искусствам. Усиление их власти составляет счастье подданных, так как тем самым устраняется насилие, стоящее между народом и престолом. И оно тем более жестоко, чем слабее монарх, и удушает всегда искренние голоса народа, которые становятся плодотворными, если будут услышаны на престоле! Я утверждаю, что если эти монархи и оставляют действующими устаревшие законы, то причиной этого являются неимоверные трудности, с которыми приходится сталкиваться при удалении многовековой, а потому и почитаемой ржавчины веков. Вот почему просвещенные граждане должны с еще большим рвением желать постоянного усиления их власти. § XXIX О взятии под стражу Существует довольно распространенное заблуждение, которое заключается в том, что решение вопросов тюремного заключения граждан, лишения свободы под любым предлогом своих противников и безнаказанности своих друзей, несмотря на явные доказательства вины последних, следует оставлять на усмотрение судьи, который является лишь исполнителем законов. Это противоречит самой цели общества — обеспечивать личную безопасность граждан. Взятие под стражу в отличие от всех других наказаний должно в силу необходимости предшествовать предъявлению обвинения. Но эта отличительная черта не лишает данный вид наказания других важных признаков, а именно: только закон устанавливает случаи, в которых человек заслуживает наказания. Таким образом, в законе должны быть указаны те самые признаки преступления, на основании которых лицо, его совершившее, заслуживает содержания под стражей, подлежит допросу и наказанию. Будоражащие общественность слухи, побег, внесудебное признание самого обвиняемого или его сообщника, угрозы и постоянная вражда с потерпевшим, состав преступления и другие улики — все это является достаточным основанием для личного задержания гражданина. Однако данные основания должны быть зафиксированы в законе, а не определяться судьями, решения которых всегда ущемляют гражданские свободы, за исключением случаев, когда они прямо вытекают из общих принципов действующего законодательства. По мере смягчения суровости наказания, исчезновения голода и других мерзостей в тюрьмах, а также по мере проникновения за их запертые двери и в души неумолимых и черствых служителей правосудия чувства сострадания и гуманного отношения к заключенным законы смогут смягчить требования, служащие основанием для личного задержания. Обвиняемый, подвергшийся заключению и впоследствии оправданный, не должен поэтому носить бремя бесчестия. Сколько римлян, обвиненных в тягчайших преступлениях, но признанных невиновными, приобрели впоследствии уважение народа и удостоены почетных должностей! Но почему же иная судьба ожидает признанного невиновным в наше время? Да потому, что в нынешней уголовной системе идея насилия и власти, по общему мнению, превалирует, по-видимому, над идеей справедливости, потому, что в одну и ту же камеру сажают без разбора и обвиняемых и осужденных, потому что содержание подсудимого в тюрьме стало скорее наказанием, чем предварительным заключением. **И потому еще, что силы внутренней безопасности, охраняющей законы, отделены от сил внешней обороны, стоящих на страже престола и отечества, в то время как они должны быть объединены. Тогда бы законы, служа общей опорой для сил внутренней безопасности и судебной власти, соединяли бы их, не ставя первые в прямую зависимость от последних. А слава, сопровождающая пышность и блеск военного сословия, смыла бы позор бесчестия, который подвергается нападкам скорее с точки зрения формы своего проявления, чем своей сути, как и все наиболее распространенные человеческие чувства. Доказано, что в глазах общественного мнения пребывание в военных тюрьмах не столь позорно, как в гражданских.** Живы еще в народе, в обычаях и законах варварские инстинкты и дикие идеи наших предков — северных охотников, отбрасывающие на столетия назад современную просвещенную нацию. Некоторые придерживаются точки зрения, что преступление, то есть противоправное деяние, может быть наказуемо независимо от места его совершения, как если бы подданство имело свойство клейма, то есть было бы синонимом рабства и даже хуже рабства; как если бы человек мог быть подданным одного государства, но жить в другом, и при этом его деяния подчинялись бы суверенитету обоих государств, не вызывая конфликта между ними, а также их законодательствам, часто противоречащим друг другу. Точно так же некоторые полагают, что преступление, совершенное, например, в Константинополе, может быть наказано в Париже на том абстрактном основании, что оскорбивший человечество заслуживает ненависти всего человечества и всеобщего проклятия. Как будто судьи являются мстителями за оскорбление человеческих чувств, а не за попрание в первую очередь того договора, который связывает людей между собой. Местом наказания является место преступления, ибо там и только там, а не в каком-либо другом месте люди вынуждены оскорбить индивида, чтобы предупредить оскорбление всего общества. Злодей, не нарушивший договора того общества, членом которого он не является, может внушать страх, а потому может быть изгнан и исключен из этого общества высшими государственными властями, но не наказан в соответствии с законами, карающими за нарушение договора, а не за скрытую злонамеренность, присущую его деяниям. Виновных в незначительных преступлениях обычно наказывают тюремным заключением или ссылкой на каторжные работы в отдаленные места. Это последнее выглядит практически бесполезной мерой, поскольку делается в назидание народу, которому не было нанесено оскорбление. Если у людей нет склонности опрометчиво совершать наиболее тяжкие преступления, публичное наказание за существенное правонарушение будет рассматриваться большинством как нечто необычное, что никогда с ними не может произойти. Но публичное наказание незначительных преступлений, к которым более расположены человеческие души, произведет впечатление, удерживающее не только от этих преступлений, но и от более тяжких. Наказания должны быть соизмеримы между собой и с преступлениями не только в отношении своей строгости, но и в отношении способов выполнения. Некоторые освобождают от наказания за незначительные преступления, когда потерпевший прощает ответчика. Это отвечает принципам милосердия и человеколюбия, но противоречит интересам общественного блага, подобно тому, как отказ одного от возмещения нанесенного ему ущерба не может служить основанием для отмены наказания за данное преступление всем остальным. Право наказывать не является правом одного. Это право всех граждан в совокупности или верховной власти. Каждый гражданин может отказаться лишь от своей части права, но не может лишать других принадлежащих им частей. § XXX Процесс и давность Как только доказательства собраны и достоверность преступления установлена, обвиняемому необходимо предоставить возможность и время для оправдания. Но продолжительность предоставляемого ему для оправдания времени должна быть максимально ограничена, чтобы это не шло в ущерб незамедлительности наказания, поскольку быстрота наказания, как мы видели, является одним из наиболее действенных средств пресечения преступлений. Ложно понимаемая любовь к человечеству, по-видимому, против такого ограничения времени. Но все сомнения исчезают, если учесть, что опасности для невиновного возрастают от недостатков законодательства. Однако определять продолжительность времени как для подготовки обвиняемого к защите, так и для сбора улик должны законы. И судья вторгся бы в законодательную сферу, если бы должен был самостоятельно решать вопрос о времени, достаточном для доказывания преступления. Точно так же тяжкие преступления, запечатлевшиеся надолго в памяти народа, если они доказаны, не должны подлежать срокам давности в пользу лиц, их совершивших и находящихся в розыске. Что же касается преступлений незначительных и нераскрытых, то следует установить сроки давности, чтобы избавить гражданина от неопределенности его участи, ибо мрак забвения, покрывающий такого рода преступления, с течением времени сводит на нет опасность примера безнаказанности, а преступнику предоставляет возможность исправиться. Мне достаточно здесь лишь обрисовать общие принципы, так как точные пределы могут быть установлены только законодательством с учетом конкретных условий данного общества. Добавлю только, что если польза мягкости наказаний признана какой-либо страной, то с помощью законов о сроках давности и сроках сбора доказательств, продолжительность которых устанавливается в зависимости от тяжести преступления и с зачетом времени предварительного заключения обвиняемого или его добровольного изгнания, рассматриваемого как часть наказания, легко будет покрыть небольшим числом умеренных наказаний множество преступлений. Но эти сроки не должны возрастать прямо пропорционально тяжести преступлений, так как вероятность свершения преступления обратно пропорциональна его тяжести. Так что время для следствия должно сокращаться, а сроки давности — увеличиваться. Может показаться, что это противоречит сказанному мною, так как если время предварительного заключения или время, составляющее часть давности до приговора суда, будет зачтено, появится вероятность одинакового наказания за преступления разной тяжести. Чтобы разъяснить читателю свою мысль, я разделю преступления на два класса. Первый класс составляют преступления тяжкие, к которым относятся убийства, включая все другие злодеяния подобного рода, а второй — преступления незначительные. В основе этого деления лежит человеческая природа. Безопасность жизни человека является его естественным правом, а безопасность его имущества — правом гражданским. Побуждений, заставляющих людей идти против врожденного чувства сострадания, меньше, чем побуждений, заставляющих их в силу естественного стремления к личному благополучию нарушать не то право, что живет в их сердцах, а основанное на общественном договоре. Вероятность совершения преступлений обоих классов далеко не одинакова, и потому их следует рассматривать, применяя различные принципы. Тяжкие преступления более редки. А потому продолжительность следствия, учитывая большую вероятность невиновности обвиняемого, должна быть сокращена, а сроки давности увеличены, так как от окончательного приговора о виновности или невиновности человека зависит, сбудутся ли его надежды на безнаказанность, ущерб от которой для общества тем существеннее, чем более тяжкое преступление он совершил. Вероятность невиновности в незначительных преступлениях гораздо ниже. Поэтому следствие должно быть продолжительнее. Сроки давности, наоборот, должны быть сокращены, так как ущерб от безнаказанности таких преступлений невелик. С таким разделением преступлений на два класса нельзя было бы согласиться, если бы существовала обратно пропорциональная зависимость между нераскрываемостью преступлений и вероятностью их совершения, то есть если бы ущерб для общества от нераскрытых преступлений уменьшался пропорционально увеличению вероятности совершения преступлений. *Следует иметь в виду, что подозреваемый в преступлении, хотя и освобожденный по недостаточности улик, может быть подвергнут новому задержанию и новому следствию при обнаружении по этому делу новых улик, предусмотренных в законе, если не истекли сроки давности по данному виду преступлений. Вот те меры, которые кажутся мне необходимыми, чтобы гарантировать безопасность и личную свободу подданных. Оба эти блага являются неотъемлемым достоянием каждого гражданина. И довольно легко добиться с помощью законов, чтобы они уравновешивали друг друга. В этом случае первое не сможет пользоваться явным или скрытым покровительством деспотизма, а второе — неуправляемыми народными страстями.* § XXXI Преступления трудно доказуемые Тому, кто не учитывает, что разум почти никогда не был законодателем народов, может показаться странным в связи с вышеизложенными принципами, почему для раскрытия наиболее частых и наиболее запутанных и химерических, то есть наиболее невероятных, преступлений пользуются версиями и доказательствами наиболее слабыми и двусмысленными, как будто закон и судья заинтересованы не столько в раскрытии истины, сколько в том, чтобы любыми средствами доказать сам факт преступления, как будто опасность осудить невиновного не возрастает в той же мере, в какой вероятность невиновности выше, чем вероятность виновности. У большинства людей не хватает мужества как для совершения тяжких преступлений, так и подвигов во имя добродетели. Поэтому, вероятно, и те и другие совершаются одновременно скорее в тех государствах, жизнь которых регулируется больше исполнительной властью и политическими страстями в интересах общественного блага, чем в странах, где жизнь регулируется в интересах всех граждан или с помощью хороших законов. В этих последних ослабление страстей способствует, по-видимому, скорее поддержанию, чем улучшению образа правления. Из этого вытекает важный вывод, согласно которому тяжкие преступления, совершаемые в каком-либо государстве, не всегда свидетельствуют о его упадке. Существуют некоторые виды часто совершаемых, но при этом и трудно доказуемых преступлений. Трудность их доказательства рассматривается как вероятность невиновности. И поскольку значение ущерба, вызываемого нераскрытостью этих преступлений, тем ничтожнее, чем меньше причинноследственных связей между частотой их совершения и их нераскрываемостью, то продолжительность следствия и сроки давности должны быть одинаково сокращены. Между тем в отношении прелюбодеяний и "греческой любви" — преступлений трудно доказуемых, согласно установившемуся правилу, допускается применение тиранических презумпций, этих квази- и полудоказательств (как будто человек может быть полуневиновен или полувиновен, то есть полунаказан или полуоправдан). И именно при раскрытии этих преступлений с особой силой проявляется жестокое господство пытки над личностью обвиняемого, над свидетелями, наконец, над всей семьей несчастного в полном соответствии с доктринами, которые развиваются с возмутительным хладнокровием некоторыми учеными-юристами и которые преподносятся судьям как норма и как закон. Прелюбодеяние как преступление с политической точки зрения объясняется двумя причинами: эволюцией законов человеческого бытия и сильным взаимным влечением полов. Это влечение во многом сходно с всемирным тяготением, ибо подобно последнему оно ослабевает на большом расстоянии. И подобно тому, как всемирное тяготение управляет движениями всех тел материальной природы, влечение, пока оно существует, управляет движениями души. Различие между ними проявляется в том, что тяготение уравновешивается препятствиями, а половое влечение в большинстве случаев ими еще более усиливается. Если бы я обращался с речью к нациям, не озаренным светом религии, то указал бы еще и на другое значительное различие между этим преступлением и всеми остальными. Оно вызвано постоянной и общей для всего человечества первородной потребностью, потребностью, предшествовавшей обществу и даже лежащей в его основе. Другие же преступления разрушают общество. Их причиной служат мимолетные страсти, а не потребности природы. Для человека, знающего историю и людей, эта потребность в одинаковых климатических условиях представляется всегда постоянной величиной. А если это верно, то кажутся беспочвенными и даже гибельными те законы и обычаи, которые имеют целью уменьшить общую сумму проявлений этой потребности, потому что следствием их действий будет однобокое сосредоточение лишь в одной части общества своих и чужих потребностей. Мудрыми же, напротив, следует считать те законы и обычаи, которые, следуя, так сказать, ровной покатости равнины, распределяют общее действие этой потребности равномерно по всей поверхности равнины, разделив ее на небольшие равновеликие части, так что этим устраняется во всех ее уголках возможность и засухи, и наводнения. Супружеская верность всегда пропорциональна количеству браков и свободе их заключения. Там, где над нами господствуют наследственные предрассудки, где браки заключает и расторгает родительская власть, там адюльтер тайно разрывает брачные узы вопреки общепринятой морали, долг которой — возмущаться последствиями, нарочито не замечая причин. Сказанное, однако, не касается тех, кто, живя по законам истинной религии, руководствуется высшими принципами, которые регулируют силу природных явлений. Действие этого преступления так стремительно и так таинственно, так сокрыто покрывалом, наброшенным самими законами, покрывалом необходимым, но непрочным и только увеличивающим ценность предмета, вместо того чтобы ее уменьшать. А поводы к совершению этого преступления так легки и последствия так двусмысленны, что законодателю легче предупредить его, чем заниматься его исправлением. Общее правило гласит: для всех преступлений, которые в силу своей природы в большинстве случаев являются трудно раскрываемыми и потому остаются безнаказанными, само наказание становится стимулом к их совершению. Особенность нашего воображения заключается в том, что если трудности не непреодолимы или не слишком обременительны для лености духа каждого человека, то они еще более его распаляют, усиливая значимость желаемого предмета, с одной стороны, и мешают ему, непостоянному и вечно мечущемуся, отвлечься от этого предмета — с другой. Вынужденное, таким образом, охватывать всю совокупность отношений воображение наиболее энергично стремится к приятному, к чему, естественно, нашу душу тянет больше, чем к мрачному и печальному, чего она избегает и боится. "Аттическая любовь" сурово наказывается законами. За нее с особой легкостью подвергают обвиняемых пыткам, этим победительницам невиновности. Она вызывается не столько потребностями одинокого свободного человека, сколько страстями человека, живущего в обществе и в рабстве. Она черпает силы не столько в пресыщении удовольствиями, сколько в том воспитании, которое, чтобы сделать людей полезными для других, начинает с того, что делает их бесполезными для самих себя. Это воспитание начинается в домах, где собирается пылкое юношество, где за глухой стеной, исключающей общение с внешним миром, тратятся бесполезно для человечества все накопленные природные силы, ускоряя наступление преждевременной старости. Детоубийство является также следствием безвыходного положения, в которое поставлена женщина, поддавшаяся слабости или насилию. Женщина, мечущаяся между собственным позором и смертью существа, неспособного чувствовать страдания, разве не предпочтет она эту последнюю неминуемым страданиям, которые ожидают ее и ее несчастный плод? Лучшим средством предупредить это преступление являются, как мне представляется, эффективные законы, защищающие слабых от тирании, которая стремится преувеличить значение пороков, если не может спрятать их под маской добродетелей. Я не собираюсь преуменьшать справедливый ужас, порождаемый этими преступлениями. Но, указывая их источники, я считаю себя вправе сделать следующий общий вывод: наказание какого-либо преступления не может быть названо справедливым (то есть необходимым) до тех пор, пока закон не принял наиболее действенных в условиях данной страны мер для его предупреждения. § XXXII Самоубийство Самоубийство — это преступление, к которому, казалось бы, нельзя применить наказание в собственном смысле этого слова, ибо оно карает или невиновного, или холодное и бесчувственное тело. И если в последнем из этих двух случаев наказание не производит никакого впечатления на живых, как не производит на них впечатление бичевание статуи, то в первом наказание несправедливо и жестоко, так как политическая свобода людей необходимо предполагает, что наказание должно быть исключительно личным. Люди слишком любят жизнь. И все, что их окружает, лишь укрепляет их в этой любви. Обольщающий образ радости и надежды, этой сладчайшей обманщицы смертных, благодаря которой они с вожделением осушают чашу зла, если к нему примешана хоть капля удовольствия, слишком манит людей. И потому не следует опасаться, что неизбежная безнаказанность самоубийства возымеет на людей какое-либо действие. Кто боится страданий, подчиняется законам. Но смерть уничтожает в теле все источники страданий. Что же тогда сможет удержать отчаявшуюся руку самоубийцы? Тот, кто лишает себя жизни, наносит обществу вреда меньше, чем тот, кто покидает его пределы навсегда. Ибо первый оставляет все, что ему принадлежало, а второй лишает общество как себя самого, так и части своего имущества. Если общество сильно числом своих граждан, то покинувший его наносит ему вдвое больший ущерб, поселившись в каком-либо соседнем государстве, чем тот, кто отнимает себя у общества посредством самоубийства. Вопрос таким образом сводится к следующему: полезно или вредно для государства предоставлять каждому своему гражданину полную свободу покидать его? Не следует принимать закон, не обладающий силой принуждения или потерявший свое значение по причине каких-либо обстоятельств. А так как людьми управляет общественное мнение, которое подвержено лишь медленному и косвенному, а не прямому и насильственному воздействию законодателя, то бесполезные и игнорируемые людьми законы заражают своей негодностью более эффективные законы, на которые после этого смотрят скорее как на препятствие, которое следует обойти, чем как на залог общественного блага. Если же, как указывалось выше, восприимчивость наших чувств ограничена, то, уделяя больше внимания другим предметам, чуждым закону, они будут менее способны воспринимать сам закон. Отсюда мудрый устроитель общественного благополучия мог бы сделать весьма полезные выводы. Однако выяснение их слишком бы отвлекло меня от моего собственного предмета, который состоит в том, чтобы доказать бесполезность превращения государства в тюрьму. Подобный закон бесполезен, ибо не ясно, как запереть границу и затем поставить стражу над стражей, если только страну не отделяют от всех других стран неприступные горы или несудоходные моря? Тот, кому удалось покинуть страну со всем своим состоянием, не может быть наказан. Это преступление после его совершения, таким образом, не может быть наказано. А предупреждать его наказанием значило бы наказывать волю человека, а не его деяние, то есть вторгаться в область намерений — самую свободную от власти законов область человеческой природы. ^Подвергнуть наказанию вместо эмигрировавшего его имущество, оставшееся в государстве, значило бы способствовать застою в международной торговле.** Кроме того, этому препятствуют легко осуществимые и неизбежные в подобных случаях мошеннические сделки, которые не могут быть пресечены без опасности ограничения гражданских прав. Наказывать возвратившегося иммигранта значило бы препятствовать исправлению зла, причиненного обществу, поскольку это сделало бы всех эмигрантов невозвращенцами. Само запрещение оставлять страну только усиливает в ее гражданах желание покинуть ее, а иностранцам служит предупреждением против ее посещения. Что же мы должны думать о правительстве, у которого нет другого средства удержать людей в стране, уже связанных с ней естественным образом первыми впечатлениями детства, кроме страха? Наиболее действенное средство, способное удержать граждан в отечестве, заключается в увеличении благосостояния каждого из них. Подобно тому, как поощряются все усилия для создания положительного торгового баланса государства, точно так же величайший интерес верховной власти и народа заключается в том, чтобы всеобщее благополучие по сравнению с другими государствами было бы выше, чем где бы то ни было. Роскошь не составляет главного элемента этого благополучия, хотя она и является необходимым средством против неравенства, усиливающегося по мере успешного развития всей нации в целом, ибо без такого прогресса все богатства сосредоточивались бы в одних руках. Там, где территория страны увеличивается в большей степени, чем растет население, роскошь благоприятствует деспотизму, **так как чем меньше население, тем слабее в стране развита промышленность. А чем слабее она развита, тем сильнее бедность зависит от богатства и тем сложнее угнетенным объединиться против угнетателей. К тому же объединение это будет для угнетателей не столь опасно. Роскошь благоприятствует деспотизму в этом случае потому, что высокие должности, почести, отличия, подчинение, еще более отделяющее могущественных от слабых,** достигаются легче немногими, чем многими. И люди тем менее зависимы, чем меньше существует возможность контролировать их. А контроль за людьми тем менее возможен, чем больше их численность. Но там, где население растет Гораздо быстрее территории, там роскошь противостоит деспотизму, так как она стимулирует развитие промышленности и инициативу людей, а удовлетворение развившихся потребностей предоставляет так много наслаждений богатому, что для показной и тщеславной роскоши, усиливающей чувство политической зависимости, не остается много места. Поэтому можно заметить, что в государствах с обширной территорией, но малонаселенных и слабых, тщеславная роскошь преобладает над роскошью жизненных удобств, если не встречает сопротивления. И наоборот, в государствах густонаселенных с небольшой территорией роскошь жизненных удобств ограничивает роскошь тщеславия. Однако торговля и наслаждение роскошью имеют тот недостаток, что производятся они при участии многих, а плодами их пользуются лишь немногие. Большинство же довольствуется самой их незначительной частью, так что чувство нищеты остается. Оно, правда, порождается скорее сравнением, чем действительностью. Безопасность и свобода, ограниченная одними лишь законами, — вот что составляет основу благополучия. Именно благодаря им роскошь приносит пользу населению. Без них она становится орудием тирании. Подобно диким и свободолюбивым благородным животным, которые удаляются в необитаемые и неприступные места, оставляя плодородную и прекрасную местность человеку, преследующему их, сами люди бегут от наслаждений, распределяемых тиранией. Таким образом, доказано, что закон, превращающий страну в тюрьму для подданных, бесполезен и несправедлив. Точно таким же поэтому будет и наказание за самоубийство, поскольку это вина перед Богом и он карает за нее после смерти. Перед людьми же самоубийство преступлением не является, поскольку наказанию за него подвергается не виновник, а его семья. Если же мне кто-либо возразит, что это наказание тем не менее может удержать человека от самоубийства, то я отвечу: кто спокойно отказывается от блага жизни, кто ненавидит свое земное существование настолько, что предпочитает ему скорбную вечность, того должны оставлять безразличным менее действенные и более отдаленные соображения о детях или о родителях. § XXXIII Контрабанда Контрабанда является преступлением в собственном смысле этого слова, так как наносит ущерб и государю и нации. Но наказание за это преступление не должно быть позорящим, поскольку его совершение не осуждается как бесчестие общественным мнением. Когда наказываются бесчестием преступления, которые людьми за таковые не считаются, то тем самым ослабляется чувство позора у тех, кто его заслужил. Если, например, к смертной казни будет приговорен и тот, кто убил фазана, и тот, кто убил человека или подделал важный документ, то не будет никакой разницы между этими тремя преступлениями. Тем самым будет разрушена нравственная основа человеческой души, создававшаяся так медленно и так трудно в течение долгих веков и стоившая столько много крови. При этом считалось необходимым для рождения нравственных начал в человеке прибегнуть к помощи самых возвышенных побуждений и бесчисленного множества торжественных ритуалов. Преступление контрабанды создается самим законом, так как при повышении таможенных пошлин растет и прибыль от контрабанды и соответственно соблазн заняться ею. Чем шире охраняемая сфера и уже круг товаров, разрешенных к свободной продаже, тем контрабанда легче. Самое справедливое наказание за это преступление — отобрание контрабандного товара и других вещей, которые будут вместе с этим товаром найдены. Это наказание будет тем эффективнее, чем ниже таможенная пошлина, так как риск соразмеряется с прибылью, которую можно было бы получить при успешном исходе дела. Но почему это преступление, являясь кражей у государя и, соответственно, у нации, не влечет за собой наказания бесчестием того, кто его совершил? Отвечаю: преступления, которые, по мнению людей, не наносят им непосредственного ущерба, не интересуют их настолько, чтобы вызвать всеобщее негодование против виновных. К таким преступлениям относится и контрабанда. Люди, на которых отдаленные последствия производят самое слабое впечатление, не видят вреда в действиях контрабандистов. А часто даже довольны сиюминутной выгодой от контрабанды. Они видят только вред, наносимый государю, следовательно, они не заинтересованы в наказании контрабандиста бесчестием, как заинтересованы в этом по отношению тех, кто крадет у частных лиц, подделывает подписи или вообще совершает преступления против них самих. Отсюда и очевидный вывод: каждое сознательное существо интересует только тот ущерб, который наносится ему самому. Но следует ли оставлять безнаказанным подобное преступление, совершенное лицом, у которого нет имущества? Нет. Есть виды контрабанды, которые так сильно влияют на систему налогообложения — эту важную и сложную часть любого хорошего законодательства, что это преступление заслуживает значительного наказания вплоть до тюрьмы, до каторги. Но наказание тюремным заключением и каторгой должно соответствовать природе совершенного преступления. Например, за контрабанду табака нельзя заключать в ту же тюрьму, в которой содержатся убийцы или разбойники. Работа в той сфере, в которой контрабандист нанес ущерб казне, будет наиболее соответствовать природе наказания за это преступление. § XXXIV О должниках В интересах обеспечения доверия к деловым контрактам и торговле законодатель вынужден наделить кредиторов правом распоряжаться личностью несостоятельных должников. Но мне представляется важным делать различие между обанкротившимся злостным неплательщиком и невиновным. Первый должен подлежать наказанию, аналогичному тому, которое предусмотрено для фальшивомонетчиков, так как подделка куска металла с клеимом монеты, служащего обеспечением гражданских обязательств, составляет не большее преступление, чем подделка самих этих обязательств. **Но если невиновный банкрот докажет судьям после строгого дознания, что лишился своего имущества вследствие вероломства или враждебности других или вследствие перемен, которых не в состоянии предусмотреть никакая человеческая предосторожность, на основании каких варварских соображений он должен быть брошен в тюрьму, лишен единственного и скорбного остающегося ему блага: свободы влачить нищенское существование, для того чтобы испытывать страдания действительно виновных людей? Почему он должен с отчаянием обманутой личности раскаиваться в своей невиновности, в том, что жил спокойно под сенью законов, не нарушать которые было не в его власти, тех самых законов, которые продиктованы корыстолюбием сильных и которым покорно подчиняются слабые благодаря неугасимой надежде в душе человека, вселяющей веру, что несчастливые случайности предназначены другим, а счастливые — нам? Люди в глубине души любят суровые законы, хотя в их интересах иметь умеренные законы, ибо они им подчиняются. Это объясняется тем, что большинство скорее опасается быть обиженным, чем обидеть самому. Возвращаясь теперь к невиновному банкроту, замечу, что если его обязательства перед кредиторами должны сохранять силу до полного возврата долга последним, если без согласия заинтересованных сторон его не освобождают от этого обязательства и не разрешают переносить свою предпринимательскую деятельность под покровительство других законов, если эта деятельность вынужденно, под страхом наказания, должна быть направлена пропорционально успехам, достигнутым при ее осуществлении, на удовлетворение претензий кредиторов, то какой же законный повод — будь то гарантии безопасности торговли или священное право собственности на имущество — смог бы оправдать совершенно бесполезное лишение свободы? Только разве что тот исключительно редкий случай, когда, применяя методы сурового дознания, хотят заставить угрозой каторги раскрыть тайну несостоятельного должника, предполагаемого невиновным. Я считаю, что законодатель должен руководствоваться следующим основным принципом: оценка отрицательных последствий ущерба обществу в политической сфере находится в прямой зависимости от величины этого ущерба и в обратной — от трудности его определения. Следовало бы различать злой умысел от грубой неосторожности, эту последнюю — от небрежности и небрежность — от невиновности. В первом случае наказание следовало бы назначить как за подлог, во втором — наказание должно быть меньше, но с лишением свободы. В последнем случае виновному следует предоставить свободный выбор средств к погашению долгов, а в третьем — кредиторам. Но различие между грубой неосторожностью и небрежностью должен устанавливать объективный и бесстрастный закон, а не опасное и пристрастное мудрствование судей. Точное разграничение отличительных признаков так же необходимо в политике, как и в математике, поскольку для измерения общественного блага точность столь же важна, сколь и при измерении математических величин1. С какой легкостью предусмотрительный законодатель мог бы предупредить большую часть преступных банкротств, а также бедственное положение невиновного трудолюбивого человека! Публичная и открытая регистрация всех гражданско-правовых договоров, свободный доступ граждан к реестрам, где в полном порядке хранятся документы, общественный банк, учрежденный на разумно распределенные взносы из доходов от удачных торговых операций для оказания финансовой помощи в виде отчисления определенных сумм незадачливым и невиновным его членам, — все это не имело бы никаких отрицательных последствий, но могло бы принести неисчислимые выгоды. Доступные для понимания, простые, мудрые законы, ожидающие лишь намека законодателя, чтобы оплодотворить лоно нации изобилием и мощью, законы, которые, подобно бессмертным благодарственным гимнам, превозносили бы его имя из поколения в поколение, такие законы малоизвестны или считаются нежелательными. Суетный и мелочный дух, сиюминутный расчет, настороженная недоверчивость к новому властвуют над чувствами тех, кто манипулирует действиями простых смертных.** **Торговля, право собственности на имущество не являются целью общественного договора, но могут быть средством для его достижения. Подвергать каждого члена общества бедствиям — этим неизбежным последствиям сложных переплетений человеческих отношений — значит подчинять цель средствам, что явилось бы логической ошибкой, встречающейся во всех науках, и особенно в политике. Я допустил эту ошибку в предыдущих изданиях, в которых утверждал, что невиновного банкрота следует содержать под стражей за невыполнение своих обязательств перед кредиторами, как это имеет место при залоге, или передать его им как раба для отработки своего долга. Я стыжусь, что написал это. Меня обвинили в безбожии, но я этого не заслужил. Меня обвинили в бунтовщичестве, но я этого не заслужил. Я оскорбил права человечества, но никто не упрекнул меня в этом. (Прим. авт.)** 1 § XXXV Убежища Мне остается рассмотреть еще два вопроса: первый — справедливы ли убежища и второй — полезны или нет договоры между государствами о взаимной выдаче преступников. В пределах данной страны не должно быть места, на которое бы не распространялось действие законов. Сила их должна следовать за гражданином, как тень за телом. Безнаказанность и убежище мало чем отличаются друг от друга. И как неизбежность — наказание производит большее впечатление, чем его строгость, точно так же убежище стимулирует преступления больше, чем наказания удерживают от них. Увеличивать число убежищ — значит создавать такое же число небольших самостоятельных государств, так как там, где не действуют законы, могут приниматься новые, противоречащие действующим в стране. И это может способствовать формированию духа, враждебного духу всего общества. Вся история свидетельствует о том, что убежища являлись источником великих переворотов в государствах и во мнениях людей. Но полезна ли взаимная выдача преступников государствами друг другу? Я не могу взять на себя смелость в решении этого вопроса до тех пор, пока законы, более соответствующие потребностям человечества, более мягкие наказания и отсутствие зависимости от произвола и мнений не обеспечат безопасность притесняемой невинности и презираемой добродетели, пока тирания не будет изгнана отовсюду в обширные равнины Азии всеобщим разумом, все более объединяющим интересы престола и подданных. Однако лишь полная уверенность в том, что не осталось ни пяди земли, где бы прощали истинные преступления, могла бы стать действенным средством их предупреждения. § XXXVI О вознаграждении за выдачу преступника Другой вопрос: полезно ли с помощью декретов оценивать голову человека, признанного преступником, и, вкладывая тем самым оружие в руки каждого гражданина, делать из этого гражданина палача? Преступник находится или вне, или в пределах своей страны. В первом случае суверен подстрекает граждан к совершению преступлений, что ведет к их наказанию. В результате он наносит оскорбление и узурпирует власть в чужих владениях, наделяя тем самым другие страны правом поступать в отношении него аналогичным образом. Во втором случае он расписывается в своей собственной слабости. У кого достаточно сил для собственной защиты, тот не станет тратиться на ее приобретение со стороны. Более того, подобный декрет извращает все понятия о нравственности и добродетели, которые при малейшем дуновении улетучиваются из человеческой души. Законы то призывают к измене, то наказывают за нее. Укрепляя одной рукой семейные, родственные и дружеские связи, законодатель другой рукой награждает тех, кто их рвет. Постоянно, противореча самому себе, он то призывает быть более доверчивыми подозрительные души людей, то сеет недоверие в их сердцах. Вместо того чтобы предупредить одно преступление, он создает условия для совершения сотни других. Подобными средствами пользуются слабые страны, законы которых сродни хлипким подпоркам обветшалого и готового рухнуть здания. По мере того как нация становится все более просвещенной, честность и взаимное доверие становятся необходимыми атрибутами правильной политики. И тогда благодаря ей хитрость, коварство, темные обходные пути станут очевидными, а высокий общий уровень нравственности, царящий в обществе, благоприятно будет воздействовать на чувства каждого в отдельности. Сами века невежества, на протяжении которых общественная мораль требовала от людей подчиняться морали лица частного, служат назиданием и опытом веку Просвещения. Но законы, награждающие измену и разжигающие вражду, чреватую взаимным недоверием между гражданами, препятствуют столь необходимому единению морали и политики. Такой союз принес бы людям счастье, государствам — мир, а всей планете — спокойствие на более длительные времена и отдохновение от всех переживаемых страданий. § XXXVII Покушения, сообщники, безнаказанность Из того, что законы не наказывают намерение, совсем не следует, что деяние, предпринятое с явным намерением совершить преступление, не заслуживает наказания, хотя и меньшего, чем само преступление. Большое значение, придаваемое предупреждению покушений на преступление, оправдывает применение наказаний. Но так как между покушением на преступление и совершением преступления может пройти определенный промежуток времени, то более суровое наказание за содеянное преступление может вызвать раскаяние. То же самое относится и к преступлению, совершаемому сообщниками, из которых не все были непосредственными исполнителями, но по разным причинам. Когда несколько человек совместно осуществляют рискованное предприятие, то чем выше риск, тем сильнее они стремятся сделать его равным для всех. Следовательно, тем труднее найти желающего стать непосредственным исполнителем этого деяния, поскольку ему придется рисковать больше, чем остальным сообщникам. Исключение составляет тот случай, когда непосредственному исполнителю назначают особое вознаграждение. Но тем самым уравновешивается больший риск с его стороны, а потому и наказание должно быть равным для всех. Эти рассуждения могут показаться слишком метафизическими тому, кто забывает об исключительной важности законодательных мер по предупреждению предварительного сговора между соучастниками преступления. Некоторые суды при рассмотрении особо тяжких преступлений обещают освободить от наказания того, кто назовет своих сообщников. Эта мера имеет свои положительную и отрицательную стороны. Отрицательная сторона заключается в том, что государство поощряет предательство, презираемое даже преступниками. Более дерзкие преступления менее опасны для государства, чем те, в которых проявляется низость человеческой натуры, так как первые совершаются нечасто. Кроме того, дерзости достаточно благотворного влияния, чтобы заставить ее служить общему благу. Преступления же, побуждаемые человеческой низостью, совершаются чаще, более тлетворны и всегда более эгоцентричны. Кроме того, суды обнаруживают по данному вопросу колебания в своей практике, а законы — несостоятельность, поскольку взывают к помощи тех, кто их нарушает. Положительная сторона заключается в предупреждении тех особо тяжких преступлений, последствия которых очевидны, виновники неизвестны и которые внушают панический страх населению. Эта мера показывает также, что, нарушая верность законам, то есть государству, преступник способен нарушить верность и частному лицу. Мне кажется, что общий закон, предусматривающий освобождение от наказания соучастника, раскрывшего преступление, следовало бы предпочесть специальным постановлениям, принимаемым отдельно для каждого конкретного случая подобного рода. Это препятствовало бы сговору сообщников из-за опасения каждого из них лишь самому подвергнуться риску наказания. И тем самым суд не придавал бы смелости преступникам, обращаясь в отдельных случаях к их помощи. Однако в таком законе следовало бы также предусмотреть изгнание освобожденного от наказания преступника, назвавшего своих сообщников. Но напрасно терзаюсь я угрызениями совести, уполномочивая священные законы, этот памятник доверия к обществу, основу человеческой нравственности, на вероломство и лицемерие. Какой же пример получит нация, если будет нарушено обещание освобождения от наказания и того, кто откликнулся на призыв закона, к стыду общественной совести и прикрываясь изощренными предлогами, поведут на казнь! Такие примеры — довольно частое явление во всех странах. И потому не редки люди, видящие в государстве не что иное, как сложную машину, которой управляют в собственных интересах наиболее прожженные и могущественные люди. Холодные и равнодушные ко всему, что составляет отраду возвышенных и нежных душ, они с невозмутимой изощренностью возбуждают в них то самые дорогие чувства, то самые сильные страсти и манипулируют ими в зависимости от тех или иных своекорыстных интересов, касаясь самых сокровенных струн этих душ, подобно музыкантам, ударяющим по струнам своих инструментов. § XXXVIII Наводящие вопросы, показания Наши законы запрещают при рассмотрении дела задавать так называемые наводящие, вопросы, поскольку, согласно мнению ученых юристов, эти вопросы носят видовой, а не родовой характер, то есть касаются конкретных обстоятельств данного преступления и внушают подсудимому прямой ответ, в то время как они должны касаться преступлений вообще. По мнению криминалистов, вопросы должны кружить по спирали вокруг факта, но не идти к нему по прямой. Этот метод обосновывают двумя соображениями: или опасением внушить подсудимому ответ, который бы сразу отвел от него все обвинения, или, может быть, полагают противоестественным для подсудимого предъявлять непосредственно самому себе обвинения. Как бы то ни было, но в обоих случаях налицо явное противоречие законов, допускающих пытку наряду с этим методом ведения допроса. Действительно, какой же вопрос будет более наводящим, чем вопрос, подсказанный болью. Первое соображение находит подтверждение в пытке, так как боль внушает крепкому человеку упорное молчание, чтобы заменить большее наказание меньшим, а слабому внушает раскаяние, чтобы избавиться от мучений, испытываемых им в настоящем и потому более действенных, чем ожидающих его в будущем. Второе соображение совершенно очевидно аналогично первому, так как если вопрос видового характера заставляет подсудимого сделать признание вопреки законам природы, то мучения и пытки заставят его сделать это гораздо быстрее. Но люди в большинстве случаев руководствуются скорее различиями в названиях вещей, чем в их сути. Среди прочих злоупотреблений буквальным толкованием, которые имели немалое влияние на дела человеческие, довольно известным является признание ничтожным и недействительным показаний уже осужденного преступника. "Наступила его гражданская смерть, — говорят с серьезным видом юристыперипатетики, — а мертвый недееспособен". Чтобы доказать действенность этой пустой метафоры, было принесено множество жертв и часто спорили и размышляли о том, должна ли истина уступить приоритет юридическим формулам. Если только показания уже осужденного преступника не направлены на задержку судебного разбирательства, то почему бы не предоставить ему, учитывая его крайне бедственное положение, возможность в интересах истины привести новые факты, которые изменят существо дела и могут способствовать оправданию его или других при новом разбирательстве? Соблюдение формальностей и внешних атрибутов судебной власти необходимо при отправлении правосудия отчасти для того, чтобы не оставлять места для судейского произвола, а отчасти чтобы народ удостоверился, что правосудие отправляется не беспорядочно и пристрастно, а на основе твердых и неизменных правил. Отчасти также потому, что на людей, по своей природе подражателей и рабов привычки, гораздо большее впечатление производит воспринимаемое чувствами, чем разумом. Но эти формальности нельзя закреплять в законе так, чтобы от этого роковым образом пострадала истина, которая бывает или очень простой, или очень сложной и нуждается в определенных внешних атрибутах, чтобы снискать расположение невежественного народа. Наконец, обвиняемый, упорно отказывающийся отвечать на вопросы следствия, заслуживает наказания, определяемого законом. Причем наиболее строгого из всех установленных законом, чтобы люди таким образом не уклонялись от необходимости служить примером остальным. Подобного рода наказания излишни, если факт совершения преступления данным преступником сомнения не вызывает. Бесполезен и допрос, подобно тому, как излишне и собственное признание в совершенном преступлении, когда вина преступника подтверждена другими доказательствами. Последнее встречается чаще всего, поскольку опыт показывает, что в большинстве случаев обвиняемый свою вину отрицает. § XXXIX Об особом роде преступлений Читающий эти строки заметит, что я опустил один род преступлений, тот самый, что утопил всю Европу в человеческой крови. Ради него полыхали страшные костры, пламя которых пожирало живые человеческие тела, а сами костры служили увеселительным зрелищем для безрассудной толпы, и, как сладкозвучной гармонии, внимала она глухим неразборчивым стонам несчастных, доносившимся из клубов черного дыма — дыма от поджаривающихся частей человеческого тела — среди треска обугливающихся костей и шипения еще трепещущих внутренностей. Но люди понимающие догадаются, что ни место, ни время, ни суть предмета не позволяют мне исследовать природу этого преступления. Слишком долго и безотносительно темы моего исследования мне пришлось бы доказывать необходимость полного единомыслия в государстве вопреки примеру множества наций, потому что тончайшие различия в суждениях, которые неуловимы для человеческого разума, могут тем не менее послужить причиной социальных потрясений, если одному из них не будет отдано предпочтение перед другими. Кроме того, мне пришлось бы доказывать, что суждения в силу уже самой своей природы в одних случаях проясняются самостоятельно, в результате борьбы противоположностей, причем истинные всплывают на поверхность, ложные же покрываются тиной забвения, а в других, наоборот, им требуется для этого быть облеченными авторитетом власти, поскольку сами по себе они неубедительны. Слишком долго было бы также доказывать, что каким бы ненавистным нам ни казалось господство силы над умами людей, низводящее их до лицемерных и униженных существ, оно все же нужно и необходимо, хотя это и кажется противоречащим духу кротости и братства, подвластного силе разума, перед которым мы благоговеем. Все сказанное следует считать доказанным с предельной ясностью и отвечающим интересам людей, если осуществляется это властью человека, которая всеми признана. Я говорю только о преступлениях, вытекающих из природы человека и общественного договора, но не о грехах, наказывать за которые даже временно следует исходя из других принципов, чем те, на которых зиждется ограниченная, мирская философия. § XL Ложные понятия о пользе Одним из источников ошибок и несправедливостей являются ложные понятия о пользе, усвоенные законодателями. Эти ложные понятия создаются, когда частные недостатки ставят выше общих, а чувства подавляют, вместо того чтобы их возбуждать, и приказывают логике: "прислуживай". Ложное понятие о пользе создается, когда жертвуют тысячами действительных выгод для устранения недостатка воображаемого или имеющего ничтожные последствия, когда у людей отнимают огонь из-за боязни пожаров и воду, чтобы они не утонули, когда зло исправляется исключительно разрушением. **3аконы, запрещающие ношение оружия, именно таковы. Они обезоруживают только тех, кто не склонен к совершению преступлений и никогда не решится на это. Но те, кто готов нарушить самые священные законы человечества и важнейшие положения кодексов, станут ли они уважать законы маловажные и чисто произвольные, которые так легко нарушить и остаться безнаказанным? Ведь их точное исполнение ограничивает личную свободу, столь дорогую человеку и просвещенному законодателю, подвергая в то же время невинного всем тем тяготам, которые должны выпасть на долю виновного. Эти законы ухудшают положение тех, кто подвергается нападению, и улучшают положение тех, кто нападает. Они не уменьшают, а увеличивают число убийств, так как безопаснее напасть на безоружного, чем на вооруженного. Такие законы следовало бы назвать не предупреждающими, а боящимися преступлений. Они рождаются под влиянием некоторых обративших на себя внимание частных случаев, а не в результате взвешенной оценки всех возможных положительных и отрицательных положений этого всеобщего закона.** Ложное понятие о пользе возникает также при попытке установить в многочисленной среде обладающих сознанием душ симметрию и порядок, что возможно лишь в отношении бесформенной и неодушевленной материи. Оно возникает и тогда, когда пренебрегают ближайшими стимулами, которые одни только и действуют на массу с постоянством и силой, предпочитая им стимулы отдаленные, со слабым и непродолжительным эффектом, если только сила воображения, довольно редкая у людей, не усилит этот эффект, преодолев отдаленность стимула. Наконец, ложность понятия пользы проявляется в тех случаях, когда суть предмета приносится в жертву его названию, а понятие общественного блага противопоставляется единичному благу каждого из частных лиц в отдельности. Разница между человеком, живущим в обществе, и человеком, находящимся в первобытном состоянии, заключается в том, что вред, наносимый этим последним другим людям, ограничивается соображениями его личной выгоды. А человека, живущего в обществе, дурные законы побуждают иногда наносить ущерб другим людям без всякой для себя выгоды. Деспот приводит в ужас и уныние своих рабов, но все это возвращается к нему с еще большей силой и терзает его душу. Действие страха в рамках семьи ограничено домочадцами, а потому меньшей опасности подвергается семейный деспот, превративший страх в орудие своего счастья. Но когда страх становится орудием государственной власти и воздействует на массы, то чем больше людей подпадает под его воздействие, тем проще отыщется какой-нибудь отчаянный или отчаявшийся человек или искатель приключений, который использует других в своих целях, возбудив в них их самые сокровенные чувства. И увлечь будет тем легче, чем большее число людей согласится нести риск задуманного дела и чем меньше эти несчастные ценят свою жизнь, что, в свою, очередь зависит от беспросветности переживаемых ими страданий. Причина, по которой одна обида порождает другую, заключается в том, что ненависть долговечнее любви, поскольку для первой продолжительность деяний — источник силы, а для второй — источник слабости. § XLI Как предупреждаются преступления Лучше предупреждать преступления, чем карать за них. Это составляет цель любого хорошего законодательства, которое, в сущности, является искусством вести людей к наивысшему счастью или к возможно меньшему несчастью, если рассуждать с точки зрения соотношения добра и зла в нашей жизни. Но средства, применяемые для достижения этой цели, до сих пор оказываются по большей части негодными или даже противоречащими поставленной цели. Невозможно свести бурлящую деятельность людей к геометрической строгости без исключений и неясностей. Подобно тому как неизменные и простейшие законы природы не препятствуют отклонениям в движении планет, человеческие законы также не могут при бесконечных и диаметрально противоположно направленных силах притяжения наслаждения и боли предупредить столкновения и нарушения в жизни общества. Однако именно об этом мечтают ограниченные люди, захватившие власть. Запрещать множество безразличных действий не значит предупреждать преступления, которые этими действиями не могут быть порождены. Наоборот, такие запреты лишь способствуют совершению новых преступлений и произвольно определяют, что есть добродетель и что есть порок — понятия вечные и неизменные. Что бы с нами стало, если бы возникла необходимость запретить нам все, что может привести к преступлению? Тогда пришлось бы лишить человека возможности пользоваться чувствами. Каждому стимулу, толкающему на явное преступление, противостоят тысячи других, побуждающих к безразличным действиям, которые в плохих законах именуются преступлениями. Таким образом, если вероятность преступлений пропорциональна числу их побудительных мотивов, то расширение круга преступлений увеличивает вероятность их совершения. Большая часть законов не что иное, как привилегии, то есть подать, взимаемая со всех в пользу немногих. Хотите предупредить преступление? Сделайте так, чтобы законы были ясны и просты, чтобы все силы нации были сосредоточены на их защите и не использовались даже частично для того, чтобы их растоптать. Сделайте так, чтобы они покровительствовали не столько сословиям, сколько самим людям. Сделайте так, чтобы они внушали почтительный страх людям и люди боялись только их. Страх перед законом действует благотворно. Но страх человека перед человеком губителен и чреват преступлениями. Рабы всегда более распутны, разнузданны и жестоки, чем свободные люди, которые думают о науках, об интересах нации, о великом и стараются ему подражать. Рабы, довольные днем насущным, ищут в шумном распутстве способ забыться и тем самым отвлечься от своего унизительного положения. Никогда не уверенные в исходе всех своих начинаний, они и неуверенность в успехе задуманного преступления рассматривают как возбуждающий стимул для его совершения. У нации, отличающейся в силу климата склонностью к лени, неопределенность законов еще больше способствует усилению ее лени и глупости. Если же подобная ситуация с законами у нации, склонной к наслаждениям, но энергичной, неопределенность законов способствует пустой трате сил на бесконечные мелкие козни и интриги. А это порождает недоверие в сердце каждого, измена же и лицемерие всюду взывают к осторожности. Нация сильная и мужественная должна избавиться в конце концов от неопределенности законов. Но не прежде, чем она пройдет долгий путь шатаний от свободы к рабству и от рабства к свободе. § XLII О науках Хотите предупредить преступления? Сделайте так, чтобы просвещение шло рука об руку со свободой. Зло, порождаемое знаниями, обратно пропорционально их распространению, а добро — прямо пропорционально. Ловкий обманщик, как правило, человек недюжинных способностей, часто пользуется обожанием невежественной толпы, а просвещенные люди его освистывают. Знания облегчают сравнения между предметами и, увеличивая число различных точек зрения на эти предметы, противопоставляют многие ощущения друг другу, что взаимно их обогащает, причем тем легче, чем чаще встречаются у других такие же взгляды и такие же сомнения. Свет просвещения, проникший в глубь нации, заставляет умолкнуть клевещущее невежество, и дрожит власть без его поддержки, тогда как могущественная сила законов остается непоколебимой. Ибо нет ни одного просвещенного человека, который бы, сравнивая пожертвованную им ничтожно малую, а потому бесполезную для него толику свободы с совокупной свободой, пожертвованной другими, не отдавал бы свое предпочтение ясному и полезному общественному договору, обеспечивающему безопасность всем и лишающему возможности остальных замышлять против него. Человек с утонченной душой, бросив взгляд на хорошо составленный кодекс и поняв, что потерял лишь печальную свободу причинять зло другим, согласится с необходимостью выразить признательность престолу и тому, кто его занимает. Неверно, что науки всегда приносили вред человечеству, а когда это случалось, то это становилось неизбежным злом для людей. Расселение рода людского по лику земли породило войны, примитивное искусство и первые законы, которые были договорами-однодневками, вызванными сиюминутными потребностями и вместе с ними исчезавшими. Так у людей появились зачатки философии, первые скупые максимы которой были верны, так как лень и недостаток сметливости удерживали людей от совершения ошибок. Но с размножением людей их жизненные потребности возрастали. Появилась нужда в более сильных и устойчивых впечатлениях, которые подавляли бы в людях инстинкт возвращения в первобытное дообщественное состояние, становившийся все более гибельным. Следовательно, первоначальные заблуждения человечества, заселившие землю ложными божествами и создавшие невидимый мир, который управлял нашим миром людей, принесли ему пользу (я говорю о пользе в политическом смысле). Те смельчаки, которые сумели внушить человечеству удивление и привести к алтарям послушное невежество, оказались благодетелями людей. Представляя им предметы, недоступные их восприятию и ускользавшие прежде, чем они оказывались в их руках, потому никогда не презираемые ими, ибо никто их не знал, эти смельчаки объединили и сконцентрировали человеческие страсти на одном-единственном предмете, который занимал людей более всего. Так складывалась жизнь всех наций, образовавшихся из первобытных народов. Такова была эпоха формирования больших сообществ. Такова была необходимая и, может быть, единственная связь, их соединявшая. Я не говорю здесь о богоизбранном народе, которому сверхъестественное и Божья благодать заменили человеческую политику. Но так как заблуждение обладает свойством делиться до бесконечности, то порожденная им наука превратила людей в толпу ослепленных фанатиков, которые так беспорядочно метались в замкнутом лабиринте, что некоторые чувствительные и философски настроенные души сожалели об утрате первобытного состояния. Это была первоначальная эпоха, когда знания, вернее, мнения приносили вред. Вторую эпоху составляет трудный и полный ужасов период перехода от заблуждений к истине, от неосознанного мрака к свету. Страшное столкновение заблуждений, выгодных кучке могущественных людей, с истиной, полезной многим слабым, сшибло и всколыхнуло страсти, причинив неизмеримые страдания несчастному человечеству. Кто размышляет над ходом истории, которая повторяется через определенные промежутки времени в своих главных эпохах, обнаружит, что часто одно поколение приносится в жертву следующим за ним в этот бурный, но необходимый период перехода от мрака невежества к свету мудрости и от тирании к свободе как следствие развития этого процесса. Но когда улягутся страсти, утихнет пожар, очистивший нацию от зол, ее угнетавших, истина, сперва медленно, а затем все убыстряя шаг, воссядет на престол рядом с монархами. И когда ее начнут почитать как божество и возводить алтари в честь нее в республиканских парламентах, кто осмелится тогда утверждать, что свет просвещения масс более вреден, чем мрак невежества, и что истинные и простые причинные связи, познанные людьми, гибельны для них? Если дремучее невежество менее гибельно, чем посредственная и путаная ученость, потому что эта последняя к заблуждениям невежества добавляет неизбежно ошибки того, чей ограниченный кругозор не достигает границ истины, то просвещенный человек — ценнейший подарок, какой только государь может преподнести нации и себе, назначив его хранителем и стражем священных законов. Привыкший общаться с истиной, а не бояться ее, не нуждающийся в основном в опоре на чужие мнения, которые никогда не бывают в полной мере удовлетворительными, но всегда используются в качестве доказательства добродетели большинством людей, он придерживается более возвышенных взглядов на человечество. Для него собственный народ — братски спаянная семья, а расстояние между власть имущими и народом тем меньше, чем значительнее та часть человечества, которая предстает перед его глазами. Простым людям неведомы потребности и интересы философов, которые, как правило, не отказываются излагать открыто свои принципы, сформулированные в кабинетной тиши. И им свойственна бескорыстная любовь к истине. Выбор таких людей составляет счастье нации. Но счастье мимолетное, если только хорошие законы не увеличат число этих людей настолько, что обычно большая вероятность ошибочного выбора станет незначительной. § XLIII Судьи Другое средство предупреждения преступлений заключается в том, чтобы заинтересовать коллегию исполнителей законов скорее в контроле за ними, чем в их искажении. Чем многочисленнее будет коллегия, тем меньше опасность узурпации ее членами законов, поскольку сложнее осуществить подкуп лиц, наблюдающих друг за другом. А заинтересованность в усилении собственной власти тем меньше, чем меньше доля власти каждого, в особенности по сравнению с опасностью замышляемого предприятия. Если государь внешней пышностью и блеском, суровыми указами и запретом подачи справедливых и несправедливых исков со стороны тех, кто считает себя притесненным, приучит подданных бояться судей больше, чем законов, то от этого больше выиграют судьи, чем безопасность граждан и общества в целом. § XLIV Награды Еще одно средство предупреждения преступлений — награждение добродетелей. Законодательство всех стран молчит по этому поводу и поныне. Если премии, присуждаемые академиями открывателям полезных истин, умножили и знания, и число хороших книг, то разве награды, раздаваемые щедрой рукой государя, не умножат число добродетельных деяний? Пусть никогда не скудеет и всегда остается плодотворной рука мудрого даятеля почетных вознаграждений. § XLV Воспитание Наконец, самое верное, но и самое трудное средство предупреждения преступлений заключается в усовершенствовании воспитания. Этот предмет слишком широк и выходит далеко за рамки, в которые я себя поставил. Воспитание, смею заметить, неразрывно связано с природой правления. А потому еще долго, вплоть до далеких веков всеобщего счастья, это поле будет оставаться невозделанным. И лишь немногие мудрецы возьмутся спорадически то тут, то там обрабатывать его. Один великий человек, просвещающий человечество, его преследующее, сумел в деталях прозреть основные принципы воспитания, действительно полезные для людей1. Оно должно состоять не столько в бесплодном обучении множеству предметов, сколько в выборе их и в ясном их разъяснении. Детей следует обучать, знакомя их не с копиями, а с подлинными явлениями из области морали и естественных наук, с которыми случайно или в целях познания сталкиваются вступающие в жизнь юные души. Их следует вести к добродетели по легкой дороге чувств и отвращать от порока, показывая, почему его роковые последствия наступают с неизбежной необходимостью. Сомнительный метод приказаний не приемлем для воспитания. Этим достигается лишь притворное и кратковременное послушание. 1 Ж.Ж. Руссо (1712—1778). Его произведение "Эмиль, или О воспитании" было запрещено в Риме 6 октября 1763 года. **§ XLVI О помиловании По мере смягчения наказаний милосердие и прощение становятся менее необходимыми. Счастлива та нация, у которой они считаются пагубными. Итак, милосердие — это добродетель, которая иногда дополняет круг обязанностей, взятых на себя престолом. Ей не должно быть места в совершенном законодательстве, где наказания умеренны, а суд праведен и скор. Эта истина покажется суровой тому, кто живет в стране с неупорядоченной системой уголовного законодательства. А потому в этой стране потребность в прощении и милосердии прямо зависит от нелепости законов и суровости приговоров. Прощение и милосердие являются самой любимой прерогативой престола и желанным атрибутом верховной власти. Но в то же время они являются немым укором со стороны благодетельных устроителей счастья общества кодексу, который вдобавок ко всем своим несовершенствам влачит за собой шлейф вековых предрассудков, объемистое и внушительное приданое из бесчисленных комментариев, тяжелый груз вечных формальностей и тесную привязанность беззастенчивых и пронырливых недоучек-прилипал. Однако если учесть, что милосердие — добродетель законодателя, а не исполнителей законов, что эта добродетель должна проявляться во всем блеске в кодексе, а не в специальных судебных решениях, то показывать людям, что преступления могут прощаться и что наказание не обязательное их следствие, — значит порождать в них иллюзию безнаказанности и заставлять их верить, что если можно добиться прощения, то приведение в исполнение приговора непрощенному — скорее акт насилия власти, чем результат правосудия. Что можно сказать о помиловании государем, то есть об уступке со стороны гаранта общественной безопасности частному лицу, преступившему закон? Только то, что этому личному акту непросвещенной благотворительности придается сила акта государственной власти, декретирующего безнаказанность. Вот почему неумолимы должны быть законы и их исполнители в каждом конкретном случае. Но и законодатель должен быть мягок, снисходителен и гуманен. Подобно искусному зодчему, он должен возводить свое здание на фундаменте любви каждого к самому себе таким образом, чтобы в общем интересе воплотились интересы каждого. И тогда ему не придется каждый раз специальными законами и скороспелыми поправками разграничивать общественное и частное благо и создавать на почве страха и недоверия иллюзию общественного благополучия. И, как тонко чувствующий философ, он предоставит людям — своим братьям — возможность мирно наслаждаться крупицами счастья, которым бесконечная система мироздания, созданная Первопричиной всего сущего, одарила этот уголок Вселенной. § XLVII Заключение Я заканчиваю выводом о том, что суровость наказаний должна соответствовать уровню развития нации. На грубые души народа, едва вышедшего из первобытной) состояния, необходимо воздействовать более сильными и максимально будоражащими чувства впечатлениями. Требуется удар молнии, чтобы поразить льва. Выстрел из ружья лишь разъярит его. Но по мере перехода людей в состояние общественное смягчается и усиливается восприимчивость их чувств. А с развитием восприимчивости соответственно должна уменьшаться суровость наказаний, если хотят сохранить неизменным соотношение между предметом и его адекватным восприятием. Из вышеизложенного можно вывести весьма полезную общую теорему, мало, правда, согласную с действующим обычаем, этим признанным законодателем народов: чтобы ни одно наказание не было проявлением насилия одного или многих над отдельным гражданином, оно должно быть по своей сути гласным, незамедлительным, неотвратимым, минимальным из всех возможных при данных обстоятельствах, соразмерным преступлению и предусмотренным в законах. ПРИЛОЖЕНИЯ В приложении издательство сочло целесообразным поместить ряд материалов, свидетельствующих о значении книги Беккариа для нашей страны. В этой связи был выбран отрывок из знаменитой "Литературной переписки" М. Гримма, посвященный Беккариа и его книге. Сам Гримм, "летописец" эпохи Просвещения, был тесно связан с Россией. Он формально числился на русской государственной службе, был избран членом Российской академии наук, состоял в интенсивной переписке с Екатериной II в качестве ее политического советника. Приводимый отрывок представляет интерес для современного читателя не только потому, что в нем дается исчерпывающая характеристика Беккариа как мыслителя европейского масштаба, которому удалось благодаря своей афористично написанной книге во многом способствовать практической реализации гуманистических идей просветителей и стать фактически одним из первых реформаторов уголовного права в Европе. Наряду с этим он набрасывает довольно выразительную картину состояния законодательства и нравов Европы того времени и высказывает ряд соображений о роли права в вопросах гуманизации современного ему общества и ответственности правителей за судьбы народов и каждого гражданина в отдельности. Эти соображения остаются и по сей день актуальными для нашей страны, которая переживает период безвременья и мучительно ищет методом проб и ошибок свое место в современном мире. В приложение включены также два письма А. Нарышкина к Ч. Беккариа с целью показать читателю, какое сильное влияние не только книга, но и сама личность итальянского мыслителя оказывала на представителей высшего света России того времени. Приводятся и два небольших отрывка из переписки Екатерины II, свидетельствующих об исключительном интересе российской императрицы к идеям Беккариа и о стремлении привлечь его для работы в России. В качестве непосредственного влияния книги "О преступлениях и наказаниях" на русское уголовное законодательство, одним из источников которого она признавалась, публикуется текст главы Х "06 обряде криминального суда" "Наказа" Екатерины II 1767 года. По поводу этой главы "Наказа" имеется собственноручная запись императрицы о том, что она есть не что иное, как перевод из книги Ч. Беккариа, сделанный по ее указанию одним из лучших переводчиков того времени Г. Козицким. Сама Екатерина II писала о "Наказе" госпоже М.-Т. Жоффрен, хозяйке одного из самых блестящих литературных салонов Парижа эпохи Просвещения: "...Вы увидите, как я на пользу моей империи обобрала президента Монтескье. Надеюсь, что если бы он с того света увидел меня работающей, то простил бы эту литературную кражу во благо 20 миллионов людей, которое из того последует. Он слишком любил человечество, чтобы обидеться тем. Его книга служит для меня молитвенником". Эти же слова можно с полным основанием отнести и к Ч. Беккариа. Из общего числа 526 статей "Наказа" 227, то есть половина, посвящены уголовному праву, а из них 114 принадлежат Ч. Беккариа. И хотя положения "Наказа" не были реализованы на практике, именно его глава X, фактически полностью заимствованная у Ч. Беккариа, отчасти получила силу закона, так как при составлении Свода законов Российской империи в период царствования Александра II была включена в число источников главы III "Законов о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках". Причем, публикуя главу Х "Наказа", издательство сочло возможным сохранить ее стиль для того, чтобы подчеркнуть "вечный разрыв", существующий в нашей стране между провозглашаемыми гуманными и прогрессивными принципами, которые были сформулированы более двухсот лет назад под влиянием идей западноевропейских просветителей и которыми надлежало руководствоваться законодателю и судьям в области уголовного права, и нашей реальностью, как отдаленного, так и совсем недавнего прошлого. Это становится особенно очевидным в условиях чудовищно выросшей в последние годы преступности, что настоятельно ставит вопрос о реформе российского уголовного законодательства. Приводится также мнение русского юриста второй половины XIX века А. Городисского, исследовавшего творчество Ч. Беккариа, о влиянии его идей на российское уголовное законодательство, а также оценка французским юристом Фаустеном-Эли непреходящего значения гуманистических идей Ч. Беккариа для грядущих поколений. Перевод с французского языка публикуемых в "Приложении" отрывка из "Литературной переписки" М. Гримма, а также писем Екатерины II и А. Нарышкина сделан с текстов, помещенных в: С. Beccaria. Dei Delitti e delle Penl. Giulio Einandi editore S.p.A., Torino, 1965. Тексты главы X "Наказа" Екатерины II от 30 июля 1767 года и высказываний А. Городисского и Фаусте-на-Эли о Ч. Беккариа перепечатываются из книги известного русского государственного деятеля и юриста времен Александра II: С.И. Зарудный. Беккариа. "О преступлениях и наказаниях" и русское законодательство. С.-Петербург. 1879. Мельхиор Гримм "Литературная переписка" (запись от 1.08.1765 г.) Небольшая книжечка "О преступлениях и наказаниях", которую аббат Морелли намеревается перевести на французский язык, наделала много шума в Италии. Ее автор — г-н Беккариа, миланский дворянин, которого одни называют священником, другие — ученым юристом и который по моему глубокому убеждению является в настоящее время одним из самых выдающихся умов современной Европы. Философское брожение умов происходит уже и по другую сторону Альп и приближается к самому очагу религиозных суеверий. Всемогущество абсурда представляет собой повсеместную угрозу. Но если бы даже разуму и удалось наконец занять его место, то миру пришлось бы, видимо, сожалеть о преждевременности подобной метаморфозы. Просвещенные наблюдатели уверяли меня, что прогресс, проделанный Италией за последние 30 лет, — поразителен. Революционный процесс начался с перевода "Персидских писем". Он нашел живой отклик в Тоскане даже среди простого народа. Сочинения современных французских философов проникли в этот край и способствовали просвещению его обитателей. Они были в числе первых, предпринявших новое издание "Исповеди савойского викария" под названием "Катехизис флорентийских дам". Интересно наблюдать, как в последнее время философия пересекает Ла-Манш и Рейн и одновременно получает все большее распространение во Франции — несмотря на все потуги суеверий помешать этому — и оттуда уже шествует по всей Европе. Не менее примечателен и тот факт, что самый безгласный и робкий язык, который из всех живых европейских языков вне всякого сомнения обладает наименьшей самобытностью, превратился вдруг в язык универсальный. На нем говорит уже весь мир, и он семимильными шагами устремляется к единовластию. Мало того, что он становится повсеместно распространенным, что представители высшего света и писатели щеголяют им по всякому поводу, что его всюду изучают, на нем говорят, им владеют, его коверкают. Он также оказывает воздействие и на другие языки, и мы уже читаем только во французском стиле написанное по-английски, по-немецки или по-итальянски. Другими словами, каждый язык нынче потерял свою самобытность и приспособился к строю и оборотам французского языка. Г-н Юм показал пример этого своим соплеменникам, правда, они не признают за ним талантов хорошего писателя. В Германии эта мода также начинает завоевывать повсеместно поклонников. По той же причине все наши французы заверят вас, что сочинение г-на Беккариа написано превосходно, и я не удивлюсь, если мне скажут, что итальянцы откажут ему в умении писать на собственном языке. Его стиль уже не имеет ничего общего со стилем писателей XVI—XVII вв. Г-н Беккариа пишет пофранцузски итальянскими словами, подчиняя отточенность фразы ясности изложения. Длинные фразы, унаследованные итальянским языком от латинского, округлость и красота которых были предметом пристального изучения известных писателей двух предыдущих веков, начинают постепенно исчезать из сочинений современных авторов, чтобы уступить место монотонности и коротким фразам французского языка. Так, вводя в собственный язык обороты другого языка, пытаются, естественно, придать им и значение этого другого языка, хотя они в собственном языке могут пониматься иначе. И потому, когда г-н Беккариа в ряде мест своей книги пытается употреблять слово "дух" в том смысле, как оно понимается у Монтескье, не следует забывать, что итальянское слово "дух" в родном языке не адекватно по значению своему французскому аналогу. Такая манера письма, по крайней мере, удобна для французских читателей. Они смогут, ознакомившись лишь поверхностно с иностранным языком, читать на нем, или, вернее, они будут читать нечто французское на языке, полном изящества и благозвучия. Но отдавая г-на Беккариа на суд его сограждан в том, что касается стиля его сочинения, нельзя не принять его идей, направленных на просвещение и счастье человеческого рода. Его книга заслуживает быть переведенной на все. языки мира. Его принципы должны стать предметом размышлений как правителей, так и философов. Совсем не обязательно быть семи пядей во лбу, чтобы убедиться, что одним из наиболее очевидных доказательств нашего варварского происхождения является состояние нашего уголовного права. За исключением Англии почти повсеместно в Европе царит жестокость. Во всем наука проповедует хладнокровную и бессмысленную бесчеловечность, что противоречит самому назначению законодательства. Признавая, что Англия в этом отношении опередила континентальную Европу, я не собираюсь утверждать, что ей нечего позаимствовать из книги "О преступлениях и наказаниях". В Англии не применяются пытки к уголовным преступникам. Каждый гражданин имеет право быть осужденным в судебном порядке. Помимо предоставления права обвиняемому на судебную защиту его судит суд присяжных. Им зачитывается закон, а затем факты, касающиеся обвиняемого, с доказательствами его виновности или невиновности. После этого каждый присяжный заседатель объявляет под присягой и с полным беспристрастием, считает ли он обвиняемого виновным или невиновным. Другими словами, он решает, подпадает ли данный случай под действие закона или нет, и, соответственно, обвиняемый немедленно заключается под стражу или признается невиновным. Так как дело рассматривается в течение одного судебного заседания, необходимо, чтобы присяжные или судьи собрались вместе для принятия решения. В этот период им не разрешается уединяться, есть и пить до тех пор, пока они не вынесут окончательного вердикта. Это один из самых прекрасных законов из ныне действующих, который обеспечивает каждому гражданину право на рассмотрение его дела в суде. Если и существует механизм, позволяющий предотвращать несправедливость и пристрастность судебных решений, если и есть средство, делающее людей внимательными, справедливыми, милосердными, так это — равенство в положении и условиях между судьями и осужденными, что заставляет судей постоянно взвешивать каждое свое слово и не забывать о превратностях человеческих судеб, о правах гражданина в процессе, которыми он наделяется по закону. Я удивлен, почему г-н Беккариа не упомянул об этой прекрасной стороне британского правосудия в своей книге. Обвиняемый вынужден в одиночку защищаться против всех остальных граждан. Это — существо, лишенное силы в момент борьбы. И потому обвиняемый нуждается в самой широкой защите. И было бы верхом варварства отказать ему в ней; как было бы столь же бесчеловечно не предложить ему защиту. Причем судья должен быть самым рьяным защитником обвиняемого вплоть до того момента, пока не вынесен приговор. Цель любого уголовного судопроизводства заключается в том, чтобы выявлять невиновных, так как иначе всегда были бы лишь виновные, которые не могли бы избежать строгости закона. Я убежден, что нет ни одного вновь назначенного королевского судьи по уголовным делам, который был бы настолько черств, чтобы первые вынесенные им смертные приговоры не вызвали у него сильного эмоционального потрясения. Но в то же время я опасаюсь, что он может и не подходить для своей профессии и по истечении 6ти месяцев подпишет смертный приговор, испытывая меньше эмоций, чем банкир, подписывающий вексель. Наука управления состоит не только в том, чтобы воспитывать хорошие нравы, искоренять или ослаблять дурные, но и прежде всего в том, чтобы эффективно и искусно предотвращать апатию населения, которая является следствием этих нравов, хороших или плохих. Г-н Беккариа ограничивает свое понимание уголовного судопроизводства небольшим числом принципов, наиболее простых и очевидных, которые являются источником всех его идей. Быстрота наказания, невозможность его избежать, закон, общий для всех, — вот что гарантирует всегда и везде безопасность любого общества от злодеяний и уголовных преступлений. Суровость наказания по крайней мере бесполезна, если не вредна. Постоянные наблюдения свидетельствуют о том, что чем суровее наказания, тем более жестокими становятся преступления. Г-н Беккариа постулирует принцип, который я уже долгое время вынашивал в своей душе: если общество считает себя вправе лишать жизни одного из своих членов, оно по крайней мере не вправе заставить его страдать от пыток, независимо от совершенного преступления, или, вернее, общество вправе лишать жизни человека в одном-единственном случае, когда жизнь этого человека представляет опасность для самого существования общества. Во всех остальных случаях смертная казнь в соответствии с буквой закона есть не что иное, как завуалированное правовыми формальностями убийство. Но существует ли другое право среди людей, кроме права сильнейшего? Следовало бы по крайней мере уяснить себе, что все подобные убийства вредны для общества, так как смерть одного человека всегда наносит обществу ущерб. К тому же подобные убийства неэффективны, поскольку не препятствуют совершению преступлений, и число злодеяний остается почти все время одним и тем же. Все это заставляет констатировать в очередной раз, что нищенская и рабская жизнь, которую труд мог бы обратить на пользу общества, вызывает у людей не больше страха, чем идея смерти. Следовало бы также выяснить, не является ли присущая человеческой природе тайная страсть к совершению безрассудных поступков с риском для жизни причиной того, что казни представляются менее устрашающим средством, чем осознание безысходной перспективы влачить жалкую жизнь, полную тягот и забот. Необходимо также понять, что наказание должно быть адекватным преступлению. Ведь отсутствие дифференцированности наказаний по степени строгости стимулирует несчастных, решившихся на преступления, наносить обществу максимальный вред, несмотря на то что для достижения своих злонамеренных целей они могли бы вполне ограничиться нанесением гораздо меньшего ущерба. Я отдаю себе отчет в том, что более просвещенное уголовное судопроизводство не в состоянии избавить человеческое общество от преступлений. Мне совершенно ясно и то, что несчастный, повешенный или колесованный за свершенные злодеяния, сможет, вероятно, без особого труда доказать нам, что, принимая во внимание все объективные обстоятельства, природу и взаимосвязь событий с момента его рождения до казни, ему не оставалось ничего лучшего, чем закончить свои дни на виселице или быть колесованным. Но такая печальная защитительная речь лишь подтверждает ту истину, к сожалению, бесспорную, что человеческой мудрости не дано предупредить неизбежности свершения зла. Эта речь показала бы также, что искусство избегать преступлений и уменьшать число преступников зависит от великой науки направлять деятельность людей на благие дела, а также от тех принципов, которыми руководствуется просвещенное и эффективное управляющее правительство. Но как бы то ни было, остается только пожелать, чтобы все законодатели Европы использовали идеи г-на Беккариа для искоренения варварства, царящего в наших судах. Хотелось бы также верить, что если бы судьи парижского парламента и посвятили бы несколько своих заседаний реформе уголовной юстиции королевства в соответствии с принципами нашего миланского философа, то заслужили бы самую большую похвалу всей нации, а королю показали бы больше рвения и преданности, чем заботясь о спасении души урсулинской монахини из Сен-Клу и упрекая всех и вся в том, о чем сами судьи никогда не имели ясного представления. Г-н Л'Аверди, ныне государственный министр и генеральный контролер, в бытность советником парламента, сочинил труд по уголовному праву, который небезынтересно сравнить с книгой г-на Беккариа, чтобы выявить различия между ними. Например, в книге французского юриста вы найдете длинную главу о преступлении, о котором миланский философ просто-напросто забыл: речь идет о магии. И это не потому, что он ничем не обязан Франции. Наоборот, без "Духа законов" книга г-на Беккариа никогда бы не появилась. И читая ее, вы сможете убедиться, что семена великого творения упали на благодатную почву. Вы не найдете у миланского философа масштабности и проявлений гениальности г-на Монтескье. Но вы найдете у него ум просвещенный, глубокий, точный и проникновенный. Вы убедитесь в исключительной утонченности его души, столь нежной и столь чувствительной, столь сильно стремящейся сделать людей счастливыми, что вас невольно охватят те же сильные чувства, которые вдохновили автора на написание этой книги. К тому же она относится к числу тех немногочисленных ценных творений, которые заставляют думать. В ней нет ни одного вопроса, представляющего интерес, который не вызвал бы у вас желания поразмышлять. И конечно, все то, о чем в ней говорится, кажется столь верным, столь соответствующим здравому смыслу и разуму, что вы верите, будто читаете собственные мысли и собранные воедино общепризнанные истины. И прочитав книгу, уже начинаете размышлять, а не удивляться тому, насколько судебная практика далека от принципов правосудия. К несчастью, взгляды миланского философа все еще в новинку для большинства людей. И начиная с палача, сформулировавшего уголовные законы непобедимого Карла V, и вплоть до секретаря турнелльской судебной палаты, подписывающего приговоры, ни один служитель правосудия не обладал душой Беккариа. И даже новые, довольно примечательные обвинения в неуважительном отношении к законодательству не смогут помешать этой небольшой непочтительной книжице иметь успех и по праву приобрести в скором времени очень большую известность. Книга уже была переиздана несколько раз. Перелистывая одно из этих изданий, я увидел, что автор добавил несколько новых и превосходных глав. Он подверг свое сочинение тщательной переработке и сделал несколько удачных изменений. В одном из добавлений к главе о несостоятельных должниках он упрекает себя в слишком суровом отношении к ним в предыдущих изданиях. Он пишет: "Я всегда уважал религию, а меня называли безбожником, я всегда защищал право, а меня обвиняли в неуважении к закону, я имел несчастье в этом месте оскорбить человечество, но никто не упрекнул меня за это". Пусть вам служит утешением, г-н Беккариа, что везде все одинаково, и у вас и у нас. Примите, как должное, что люди похожи друг на друга. И где вы видели, чтобы кого-то интересовала судьба человечества? Письмо Екатерины II И.П. Елагину (1766 г.)1 Речь идет об авторе одной итальянской книги: "Трактат о преступлениях и наказаниях". Она переведена почти на все языки. Он — священник, а может быть и не священник, по имени Беккариа. Проживает во Флоренции. Говорят, он работает на графа Фирмиана2. Его книга вышла в 1765 г. и 6 месяцев спустя в Италии появилось уже три ее издания. Во Франции его книга запрещена за неуважение к законодательству. Это новый вид 1 Елагин Иван Перфильевич (1725—1794) — сенатор, гофмейстер, управляющий театрами. Состоял в "кабинете при собственных Ее Величества делах у принятия челобитен". Фирмиан Карл Иосиф (1716—1782) — граф, австрийский посланник в Неаполе, с 1756 г. — министр в Ломбардии. Поборник просвещения и покровитель искусств. Оставил библиотеку в 40 тыс. томов. 2 преступления. Но было бы желательно познакомиться с принципами г-на Беккариа, который не решился поставить свое имя на титуле своего произведения. Письмо Екатерины II И.П. Елагину (1766 г.) ...Что касается маркиза Беккариа, я хотела бы, чтобы ему выделили необходимую сумму для путешествия, и если тысячи дукатов окажется недостаточно, то сверх того на расходы по его содержанию. После того, как он прибудет сюда, можно с ним встретиться, и, разумеется, он не должен испытывать никаких затруднений. Он будет заниматься тем, что уже сам выбрал, опубликовав свой труд, и будет полагаться только на меня и то лицо, к которому я буду обращаться с поручениями для него. Письмо Алексея Нарышкина1 к Ч. Беккариа Флоренция, 12.03.1771 Месье, Я надеюсь, что не оскорблю Вашего достоинства, если сообщу Вам, что я польщен знакомством с Вами. Благодаря чистоте Ваших высоких помыслов, Вам без сомнения принадлежат сердца тех, кто по достоинству оценил Ваши принципы. И самое важное из того, что я вынес во время своего путешествия по Италии, стало знакомство с Вами. И мне приятно сообщить Вам об этом лично по возвращении во Флоренцию. А пока я, как житель северной страны, про которую говорят, что там с человека необходимо содрать кожу, чтобы исторгнуть из него проявление чувств, прошу Вас разрешить мне иметь Ваш портрет. Правда, на такую просьбу можно было бы возразить: а если у художника нет портрета, чтобы сделать копию для просителя? Неужели в этом случае проситель хочет, чтобы тот, кто работает на благо своей страны, на благо всего человечества, тратил свое драгоценное время на позирование, чтобы доставить удовольствие тому, кто едва лишь знаком с ним? И даже то уважение, которое просящий испытывает к Вам, не сможет отвести упрек, который ему в этой связи мог бы быть брошен, ибо если все, кто относится к Вам с благоговением, и те, кто должны относиться к Вам с благоговением, попросят о том же самом, у Вас не будет другого занятия, кроме как позировать для портретов. Но я надеюсь, что друг человечества захочет проявить к своим почитателям снисхождение, пропорциональное расстоянию, которое его отделяет от стран их проживания. И еще чуть больше снисхождения для жителя страны, где возводят в принцип законы, которые Вам продиктовала любовь к человеческому роду. Нарышкин Алексей Васильевич (1742—1800) — сенатор, член Российской академии наук. Участвовал в переводах из "Энциклопедии" Дидро и Д'Аламбера. 1 С глубочайшим уважением, Ваш покорнейший слуга, Алексей Нарышкин Письмо Алексея Нарышкина к Ч. Беккариа Э ля Шапель, 2.05.1773 Глубокоуважаемый маркиз, Если Вы еще не забыли, что однажды некий Нарышкин имел счастье познакомиться с Вами, то Вы без сомнения помните, что это знакомство произвело на него неизгладимое впечатление. Ваши сочинения и гуманизм вызвали во мне глубочайшие чувства, которые навсегда запечатлелись в моем сердце. Я бесконечно счастлив лицезреть и знать человека своей мечты. И единственная уважительная причина, почему я столь долго не беспокоил Вас своими каракулями, заключается в уважении к Вашему времени и занятиям и в убежденности, что не следует досаждать тому, кого уважаешь. Кроме того, бесконечно путешествуя из страны в страну, я понимал, что не смогу Вам быть чем-то полезным, и не имел, что интересного Вам сообщить. Повсюду, где бы я ни был, я видел больше проявлений чувств и воображения, нежели ума и здравого смысла, глупости больше, чем мудрости, лжи больше, чем правды. И тем не менее зла меньше, чем добра, и если я ошибаюсь в этой оценке человеческой расы, мне все равно нравится эта идея, как и та, что люди могут стать лучше благодаря хорошим законам, и однажды они станут такими, и я Вам признаюсь в этих идеях. Но свет Ваших идей гораздо ярче и проникает гораздо глубже, чем мои. Я вновь повторяю, дорогой маркиз, что во время моих бесконечных скитаний мне нечего Вам сказать без опасения Вам наскучить. Я не имею права и еще меньше причин досаждать Вам по пустякам. Но когда я вернусь домой и буду вести более оседлый образ жизни, чем за границей, моей родине могут потребоваться мои услуги. И в этом случае я осмелюсь, может быть, время от времени беспокоить Вас, так как мне кажется, я буду иметь на это какое-то право. Это право Вы мне отчасти предоставили благодаря своей дружбе, которую Вы пожелали мне засвидетельствовать. С другой стороны, этим правом меня наделяет собственное сердце, которое отдано Вам навечно. И переписка с Вами доставит мне пользу и удовольствие. А пока я буду Вам бесконечно признателен, если Вы захотите мне сообщить то, что вышло из-под Вашего пера с момента нашего расставания. Написали ли Вы вторую часть своего труда о стиле? Для передачи мне Ваших творений можно использовать короткий и простой путь. Если Вы пожелаете, Вы можете их отправить в Ливорно, г-ну Рутерфорду, агенту русского двора, или г-ну Дику, английскому консулу. И тот, и другой доставят мне все, что Вы направите в мой адрес. Я останусь здесь еще 6 недель и 20-го июня покину эту страну, чтобы вернуться домой. Будьте всегда счастливы и вспоминайте иногда, г-н маркиз, Вашего искреннего и покорнейшего слугу. Алексей Нарышкин Глава X «Наказа» Екатерины II 30 июля 1767 г., данного Комиссии о сочинении проекта нового уложения (Поли. собр. зак. Рос. Илот. № 12949) 143. Мы здесь не намерены вступать в пространное исследование преступлений, и в подробное разделение каждого из них на разные роды, и какое наказание со всяким из сих сопряжено. Мы их выше сего разделили на четыре рода: в противном случае множество и различие сих предметов, также разные обстоятельства времени и места ввели бы нас в подробности бесконечные. Довольно будет здесь показать: 1) начальные правила самые общие и 2) погрешности самые вреднейшие. 144. Вопрос I. Откуда имеют свое начало наказания и на каком основании утверждается право наказывать людей. 145. Законы можно назвать способами, коими люди соединяются и сохраняются в обществе и без которых бы общество разрушилось. 146. Но не довольно было установить сии способы, кои сделались залогом; надлежало и предохранить оный: наказания установлены на нарушителей. 147. Всякое наказание несправедливо, как скоро оно не надобное для сохранения в целости сего залога. 148. Первое следствие из сих начальных правил есть сие, что не принадлежит никому кроме одних законов определять наказание преступлениям; и что право давать законы о наказаниях имеет только один законодатель, как представляющий во своей особе все общество соединенное, и содержащий всю власть во своих руках. Отсюда еще следует, что судьи и правительства, будучи сами частию только общества, не могут по справедливости, ниже под видом общего блага, на другого какого-нибудь члена общества наложить наказания законами точно не определенного. 149. Другое следствие есть, что Самодержец, представляющий и имеющий во своих руках всю власть, обороняющую все общество, может один издать общий о наказании закон, которому все члены общества подвержены; однако он должен воздержаться, как выше сего в 99-ом отделении сказано, чтобы самому не судить: по чему и надлежит ему иметь других особ, которые бы судили по законам. 150. Третье следствие: когда бы жестокость наказаний не была уже. опровергнута добродетелями, человечество милующими, то бы к отриновению оной довольно было и сего, что она бесполезна и сие служит к показанию, что она несправедлива. 151. Четвертое следствие: судьи, судящие о преступлениях потому только, что они не законодавцы, не могут иметь права толковать законы о наказаниях, так кто же будет законный оных толкователь? Ответствую на сие: Самодержец, а не судья; ибо должность судьи в том едином состоит, чтобы исследовать: такойто человек сделал ли или не сделал действия противного закону? 152. Судья, судящий о каком бы то ни было преступлении, должен один только силлогизм или сорассуждение сделать, в котором первое предложение, или посылка первая, есть общий закон: второе предложение, или посылка вторая, изъявляет действие, о котором дело идет, сходное оное с законами или противное им? заключение содержит оправдание или наказание обвиняемого. Ежели судья сам собою, или убежденный темностью законов, делает больше одного силлогизма в деле криминальном, тогда уже все будет неизвестно и темно. 153. Нет ничего опаснее, как общее сие изречение: надлежит в рассуждении брати смысл или разум закона, а не слова. Сие не что иное значит, как сломить преграду, противящуюся стремительному людских мнений течению. Сие есть самая непреоборимая истина, хотя оно и кажется странно уму людей сильно поражаемых малым таким настоящим непорядком, нежели следствиями, далече еще отстоящими, но чрезмерно больше пагубными, которые влечет за собою одно ложное правило, каким народом принятое. Всякий человек имеет свой собственный ото всех отличный способ смотреть на вещи, его мыслям представляющиеся. Мы бы увидели судьбу гражданина, применяемую переносом дела его из одного Правительства в другое, и жизнь его и вольность на удачу зависящую от ложного какого рассуждения или от дурного расположения его судьи. Мы бы увидели те же преступления, наказуемые различно в разные времена тем же Правительством, если захотят слушаться не гласа непременяемого законов неподвижных, но обманчивого непостоянства самопроизвольных толкований. 154. Не можно сравнить с сими непорядками тех погрешностей, которые могут произойти от строгого и точных слов придержащегося изъяснения законов о наказаниях. Сии скоро преходящие погрешности обязуют законодавца сделать иногда в словах закона, двоякому смыслу подверженных, легкие и нужные поправки, но по крайней мере тогда еще есть узда, воспрещающая своевольство толковать и мудрствовать, могущее учиниться пагубным всякому гражданину. 155. Если законы не точно и твердо определены и не от слова в слово разумеются; если не та единственная должность судии, чтобы разобрать и положить, которое действие противно предписанным законам или сходно с оными, если правило справедливости и несправедливости, долженствующее управлять равно действия невежи, как и учением просвещенного человека, не будет для судии простой вопрос о учиненном поступке: то состояние гражданина странным приключениям будет подвержено. 156. Имея законы о наказаниях, всегда от слова в слово разумеемые, всяк может верно выложить и знать точно непристойности худого действия, что весьма полезно для отвращения людей от оного; и люди наслаждаются безопасностью, как до их особы, так и до имения их принадлежащею; чему так и быть надобно, для того, что сие есть намерение и предмет, без которого общество рушилось бы. 157. Ежели право толковать законы есть зло, то также есть зло и неясность оных, налагающая нужду толкования. Сие неустройство тем больше еще, когда они написаны языком народу неизвестным, или выражениями незнаемыми. 158. Законы должны быть писаны простым языком, и уложение, все законы содержащие, должно быть книгою весьма употребительною, и которую за малую цену достать можно было на подобие букваря. В противном случае, когда гражданин не может сам собой узнать следствий, сопряженных с собственными своими делами и касающихся до его особы и вольности, то будет он зависеть от некоторого числа людей, взявших к себе в хранение законы и толкующих оные. Преступления не столь часты будут, чем больше число людей уложение читать и разумети станут. И для того предписать надлежит, чтобы во всех школах учили детей грамоте попеременно из церковных книг и из тех книг, кои законодательство содержат. 159. Вопрос II. Какие лучшие средства употреблять, когда должно взяти под стражу гражданина, также открыть и изобличить преступление? 160. Тот погрешит против безопасности личной каждого гражданина, кто правительству, долженствующему исполнять по законам, и имеющему власть сажать в тюрьму гражданина, дозволить отнимать у одного свободу, под видом каким маловажным, а другого оставлять свободным, несмотря на знаки преступления самые ясные. 161. Брать под стражу есть наказание, которое от всех других наказаний тем разнится, что оно по необходимости предшествует судебному объявлению преступления. 162. Однако же наказание сие не может быть наложено, кроме в таком случае, когда вероятно, что гражданин в преступление впал. 163. Чего ради закон должен точно определить те знаки преступления, по которым можно взять под стражу обвиняемого и которые подвергали бы его сему наказанию, и словесным допросам, кои также суть некоторый род наказания. Например: 164. Глас народа, который его винит, побег его; признание, учиненное им вне суда; свидетельство сообщника, бывшего с ним в том преступлении; угрозы и известная вражда между обвиняемым и обиженным; самое действие преступления и другие подобные знаки довольную могут подать причину, чтобы взять гражданина под стражу. 165. Но сии доказательства должны быть определены законом, а не судьями, которых приговоры всегда противоборствуют гражданской вольности, если они не выделены на какой бы то ни было случай из общего правила, в уложении находящегося. 166. Когда тюрьма не столько будет страшна, сиречь, когда жалость и человеколюбие войдут в самые темницы, и проникнут в сердца судебных служителей; тогда законы могут довольствоваться знаками, чтоб определить взять кого под стражу. 168. Взять человека под стражу не что иное есть, как хранить опасно особу гражданина обвиняемого, доколь учинится, известно виноват ли он или невиновен. И так, содержание под стражею должно длиться сколь возможно меньше, и быть столь снисходительно, сколь можно. Время оному надлежит определить по времени, которое требуется ко приготовлению дела к слушанию судьями. Строгость содержания под стражею не может быть иная никакая, как та, которая нужна для пресечения обвиняемому побега или для открытия доказательств во преступлении. Решить дело надлежит так скоро, как возможно. 169. Человек, бывший под стражею и потом отправдавшийся не должен чрез то подлежать никакому бесчестию. У римлян сколько видим мы граждан, на которых доносили пред судом преступления самые тяжкие, после признания их невиновности, почтенных потом и возведенных на чиноначальства очень важные. 170. Тюремное заключение есть следствием решительного судей определения и служит вместо наказания. 171. Не должно сажать в одно место: 1) вероятно обвиняемого в преступлении, 2) обвиненного в оном и 3) осужденного. Обвиняемый держится только под стражею, а другие два в тюрьме, но тюрьма сия одному из них будет только часть наказания, а другому самое наказание. 172. Быть под стражею не должно признавать за наказание, но за средство хранить опасно особу обвиняемого, которое хранение обнадеживает его вместе и о свободе, когда он невиновен. 173. Быть под стражею военной никому из военных не причиняет бесчестия, таким же образом и между гражданами почитаться должно быть под стражею гражданскою. 174. Хранение под стражею переменяется в тюремное заключение, когда обвиняемый сыщется виноватым. И так надлежит быть разным местам для всех трех. 175. Вот предложение общее для выкладки, по которой об истине содеянного беззакония увериться можно примерно: когда доказательства о каком действии зависят одни от других, то есть когда знаков преступления ни доказать ни утвердить истины их инако не можно как одних чрез другие, когда истина многих доказательств зависит от истины одного только доказательства; в то время, число доказательств ни умножает, ни умаляет вероятности действия по тому, что тогда сила всех доказательств заключается в силе того только доказательства, от которого другие все зависят; и если сие одно доказательство будет опровержено, то и все прочие вдруг с оным опровергаются. А ежели доказательства не зависят одно от другого, и всякого доказательства истина особенно утверждается, то вероятность действия умножается по числу знаков, для того, что несправедливость одного доказательства не влечет за собой несправедливости другого. Может быть кому, слушая сие покажется странно, что Я слово вероятность употребляю, говоря о преступлениях, которые должны быть несомненно известны, чтоб за оные кого наказать можно было. Однако же при сем надлежит примечати, что моральная известность есть вероятность, которая называется известностью для того, что всякий благоразумный человек принужден оную за таковую признать. 176. Можно доказательство преступлений разделить на два рода, на совершенные и несовершенные. Я называю совершенными те, которые исключают уже все возможности к показанию невинности обвиняемого; а несовершенными те, которые сей возможности не исключают. Одно совершенное доказательство довольно утвердить, что осуждение, чинимое преступнику, есть правильное. 177. Что же касается до несовершенных доказательств, то надлежит быть их числу весьма великому для составления совершенного доказательства. Сиречь надобно, чтоб соединение всех таких доказательств исключало возможность к показанию невинности обвиняемого, хотя каждое порознь доказательство оные и не исключает. 177. Прибавим к сему и то, что несовершенные доказательства, на которые обвиняемый не ответствует ничего, что бы довольно было к его оправданию, хотя невинность его и должна бы ему подать средства к ответу, становятся в таком случае уже совершенными. 178. Где законы ясны и точны, там долг судьи не состоит ни в чем ином, как вывесть наружу действие. 179. В изысканиях доказательств преступления надлежит иметь проворство и способность; чтоб вывесть из сих изысканий окончательное положение, надобно иметь точность и ясность мыслей; но чтобы судить по окончательному сему положению, не требуется больше ничего, как простое здравое рассуждение, которое вернейшим будет предводителем, нежели все знание судьи, приобыкшего находить везде виноватых. 180. Ради того сей закон весьма полезен для общества, где он установлен, который предписывает всякого человека судить через равных ему; ибо когда дело идет о жребии гражданина, то должно наложить молчание всем умствованиям, вперяемым в нас от различия чинов и богатства или счастия; им не надобно иметь места между судьями и обвиняемым. 181. Но когда преступление касается до оскорбления третьего, тогда половину судей должно взять из равных обвиняемому, а другую половину из равных обиженному. 182. Тако ж и то еще справедливо, чтобы обвиняемый мог отрешить некоторое число из своих судей, на которых он имеет подозрение. Где обвиняемый пользуется сим правом, там виноватый казаться будет, что он сам себя осуждает. 183. Приговоры судей должны быть народу ведомы, так как и доказательство преступлений, чтобы всяк из граждан мог сказать, что он живет под защитою законов; мысль, которая подает гражданам ободрение, и которая больше всех угодна и выгодна самодержавному Правителю, на истинную свою пользу прямо взирающему. 184. Вещь очень важная во всех законах есть точно определить начальные правила, от которых зависит имоверность свидетелей и сила доказательства всякого преступления. 185. Всякий здравого рассудка человек, то есть которого мысли имеют некоторую связь одна с другими, и которого чувствования сходствуют с чувствованиями ему подобных, может быть свидетелем. Но вере, которую к нему иметь должно, мерою будет причина, для коей он захочет правду сказать или не сказать. Во всяком случае свидетелям верить должно, когда они причины не имеют лжесвидетельствовать. 186. Есть люди, которые почитают между злоупотреблениями слов, вкравшимися и сильно уже вкоренившимися в житейских делах, достойными примечания то мнение, которое привело законодавцев уничтожить свидетельство человека виноватого, приговором уже осужденного. Такой человек почитается граждански мертвым, говорят законоучители; а мертвый никакого уже действия произвести не может. Если только свидетельство виноватого осужденного не препятствует судебному течению дела, то для чего не дозволить и после осуждения, в пользу истины и ужасной судьбины несчастного, еще мало времени, чтоб он мог или сам себя оправдать, или и других обвиненных, ежели только может представить новые доказательства, могущие переменить существо действия. 187. Обряды нужны в отправлении правосудия; но они не должны быть никогда так законом определены, чтобы когда-нибудь могли служить к пагубе невинности; в противном случае они принесут с собою великие бесполезности. 188. Чего для можно принять во свидетели всякую особу, никакой причины не имеющую к ложному послушествованию. По сему вера, которую к свидетелю иметь должно, будет больше или меньше в сравнении ненависти или дружбы свидетелевой к обвиняемому, также и других союзов или разрывов, находящихся между ими. 189. Одного свидетеля не довольно для того, что когда обвиняемый отрицается от того, что утверждает один свидетель, то нет тут ничего известного, и право, всякому принадлежащее, верить ему, что он прав, в таком случае перевешивает на сторону обвиняемого. 190. Имоверность свидетелей тем меньше есть силы, чем преступление тяжчае и обстоятельства менее вероятны. Правило сие также употребить можно при обвинениях в волшебстве, или в действиях безо всякой причины суровых. 191. Кто упрямится, и не хочет ответствовать на вопросы, ему от суда предложенные, заслуживает наказание, которое законом определить должно, и которому надлежит быть из тяжких между установляемыми, чтоб виноватые не могли тем избежать, дабы их народу не представили в пример, который они собою дать должны. Сие особенное наказание не надобно, когда нет в том сомнения, что обвиняемый учинил точно преступление, которое ему в вину ставят; ибо тогда уже признание не нужно, когда другие неоспоримые доказательства показывают, что он виноват. Сей последний случай есть больше обыкновенный, понеже опыты свидетельствуют, что по большей части в делах криминальных виноватые не признаются в винах своих. 192. Вопрос III. Пытка не нарушает ли справедливости, и приводит ли она к концу, намереваемому законами? 193. Суровость, утвержденная употреблением весьма многих народов, есть пытка, производимая над обвиняемым, во время устраивания судебным порядком дела его, или чтоб вымучить у него собственное его в преступлении признание, или для объяснений противоречий, которыми он в допросе спутался, или для принуждения его объявить своих сообщников, или ради открытия других преступлений, в которых его не обвиняют, в которых однако ж он может быть виновен. 194. 1) Человека неможно почитать виноватым прежде приговора судейского, и законы не могут его лишить защиты своей, прежде, нежели доказано будет, что он нарушил оные. Чего ради какое право может кому дать власть налагать наказание на гражданина в то время, когда еще сомнительно, прав ли он или виноват. Не очень трудно заключениями дойти к сему сорассуждению: преступление или есть известное или нет; ежели оно известно, то не должно преступника наказывать инако, как положенным в законе наказанием; и так пытка не нужна, если преступление не известно, так не должно мучить обвиняемого, по той причине, что не надлежит невинного мучить, и что по законам тот не виновен, чье преступление не доказано. Весьма нужно, без сомнения, чтоб никакое преступление, ставшее известным, не осталось без наказания. Обвиняемый, терпящий пытку, не властен над собою в том, чтоб он мог говорить правду. Можно ли больше верить человеку, когда он бредит в горячке, нежели когда он при здравом рассудке и добром здоровье? Чувствование боли может возрасти до такой степени, что совсем овладев всею душою, не оставит ей больше никакой свободы производить какое либо ей приличное действие, кроме как в то же самое мгновение ока предприять самый кратчайший путь, коим бы от той боли избавиться. Тогда и невинный может закричать, что он виноват, лишь бы только мучить его перестали. И то же средство, употребленное для различения невинных от виноватых, истребит всю между ними разность; и судьям будет также не известно, виноватого ли они имеют пред собою или невинного, как и были прежде начатия сего пристрастного расспроса. Посему пытка есть надежное средство осудить невинного, имеющего слабое сложение, и оправдать беззаконного, на силу и крепость свою уповающего. 195. 2) Пытку еще употребляют над обвиняемым для объяснения, как говорят, противоречий, которыми он спутался в допросе, ему учиненном; будто бы страх казни, неизвестность и забота в рассуждении, также и самое невежество, невинным и виноватым общее, не могли привести их к противоречиям и боязливого невинного преступника, ищущего скрыть свое беззаконие; будто бы противоречия столь обыкновенные человеку, в спокойном духе пребывающему, не должны умножаться при востревожении души, всей в тех мыслях погруженной, как бы себя спасти от наступающей беды. 196. 3) Производить пытку для открытия, не учинил ли виноватый других преступлений кроме того, которое ему уже доказали, есть надежное средство к тому, чтобы все преступления остались без должного им наказания, ибо судья всегда новые захочет открыти. Впрочем, сей поступок будет основан на следующем рассуждении: ты виноват в одном преступлении, так может быть ты еще сто других беззаконий сделал. Следуя законам станут тебя пытать и мучить не только за то, что ты виноват, но и за то, что ты можешь быть еще гораздо больше виновен. 197. 4) Кроме сего пытают обвиняемого, чтобы объявил своих сообщников. Но когда мы уже доказали, что пытка не может быть средством к познанию истины, то как она может способствовать к тому, чтоб узнать сообщников злодеяния? Без сомнения показующему на самого себя весьма легко показать на других. Впрочем справедливо ли мучити человека за преступление других. Как будто не можно открыть сообщников испытанием свидетелей на преступника сысканных, изследованием приведенных против него доказательств, и самого действия случившегося в исполнении преступления, и наконец всеми способами, послужившими к изобличению преступления обвиняемым содеянного. 198. Вопрос IV. Наказание должно ли уравнять с преступлениями и как бы можно твердое сделати положение о сем уравнении? 199. Надлежит законом определити время к собранию доказательств и всего нужного к делу в великих преступлениях, чтоб виноватые умышленными в своем деле переменами не отводили вдаль должного им наказания, или бы не запутывали своего дела. Когда доказательства все будут собраны, и о подлинности преступления станет известно, надобно виноватому дати время и способы оправдать себя, если он может. Но времени сему надлежит быть весьма короткому, чтоб не сделати предосуждения, потребной для наказания скорости, которая почитается между весьма сильными средствами, к удержанию людей от преступлений. 200. Чтобы наказание не казалось насильством одного или многих противу гражданина восставших, надлежит чтобы оно было народное, по надлежащему скорое, потребное для общества, умеренное, сколь можно, при данных обстоятельствах, уравненное с преступлением и точно показанное в законах. 201. Хотя законы и не могут наказывать намерения, однако ж нельзя сказать, чтоб действие, которым начинается преступление и которое изъявляет волю, стремящуюся произвести самим делом то преступление, не заслуживало наказания, хотя меньшего, нежели какое установлено на преступление самою вещию уже исполненное. Наказание потребно для того, что весьма нужно предупреждать и самые первые покушения ко преступлению: но как между сими покушениями и исполнением беззакония может быть промежутка времени, то не худо оставить большее наказание для исполненного уже преступления, чтобы тем начавшему злодеяние дать некоторое побуждение, могущее его отвратить от исполнения начавшего злодеяния. 202. Так же надобно положить наказания не столь великие сообщникам в беззаконии, которые не суть беспосредственными оного исполнителями, как самим настоящим исполнителям. Когда многие люди согласятся подвергнуть себя опасности, всем им общей, то чем более опасность, тем больше они стараются сделать оную равною для всех. Законы, наказующие с большею жестокостью исполнителей преступления, нежели простых только сообщников, воспрепятствуют, чтоб опасность могла быть равно на всех разделена и причинять, что будет труднее сыскать человека, который бы захотел взять на себя совершить умышленное злодеяние; понеже опасность, которой он себя подвергнет будет больше в рассуждении наказания, за то ему положенного, неравного с прочими сообщниками. Один только есть случай, в котором можно сделать изъятие из общего сего правила, то есть, когда исполнитель беззакония получает от сообщников особенное награждение: тогда для того, что разнога опасности награждается разностию выгод, надлежит быть наказанию всем им равному. Сии рассуждения покажутся очень тонки; но надлежит думать, что весьма нужно, дабы законы сколь возможно меньше оставляли средств сообщникам злодеяния согласиться между собою. 203. Некоторые правительства освобождают от наказания сообщника великого преступления, донесшего на своих товарищей. Такой способ иметь свои выгоды и так же и свои неудобства, когда оный употребляется в случаях особенных. 203. Общий всегдашний закон, обещающий прощение всякому сообщнику открывающему преступление, должно предпочесть временному особому объявлению в случае каком особенном; ибо такой закон может предупредить соединение злодеев, вперяя в каждого из них страх, чтоб не подвергнуть себя одного опасности; но должно потом и наблюдать свято сие обещание и дать, так говоря, защитительную стражу всякому, кто на сей закон ссылаться станет. 204. Вопрос V. Какая мера великости преступлений. 205. Намерение установленных наказаний не то чтоб мучить тварь, чувствами одаренную; они на тот конец предписаны, чтоб воспрепятствовать виноватому, дабы он впредь не мог вредить обществу, и чтоб отвратить сограждан от содеяния подобных преступлений. Для сего между наказаниями надлежит употреблять такие, которые, будучи уравнены с преступлениями, впечатлели бы в сердцах людских начертание самое живое и долго пребывающее, и в то же самое время были бы меньше люты над преступ-никовым телом. 206. Кто не объемлется ужасом, видя в истории, сколько варварских и бесполезных мучений, выисканных и в действо произведенных без малейшего совести зазора людьми, давшими себе имя премудрых? Кто не чувствует внутри содрогания чувствительного сердца при зрелище тех тысяч бессчастных людей, которые оные претерпели и претерпевают, многожды обвиненные в преступлениях сбыться трудных или немогущих, часто соплетенных от незнания, а иногда от суеверия? Кто может, говорю Я, смотреть на растерзание сих людей с великими приуготовлениями отправляемое людьми же, их собратиею? Страны и времена, в которых казни были самые лютейшие в употреблении, суть те, в которых содейвались беззакония самые бесчеловечные. 207. Чтоб наказание произвело желаемое действие, довольно будет и того, когда зло, оным причиняемое, превосходит добро, ожиданное от преступления, прилагая в выкладке, показывающей превосходство зла над добром, так же и известность наказания несомненную и потеряние выгод, преступлением приобретаемых. Всякая строгость, преходящая сии пределы, бесполезна, и следовательно мучительская. 208. Если где законы были суровы, то они или переменены, или не наказание злодейств родилось от самой суровости законов. Великость наказаний должна относима быть к настоящему состоянию и к обстоятельствам, в которых какой народ находится; по мере как умы живущих в обществе просвещаются, так умножается и чувствительность каждого особо гражданина; а когда в гражданах возрастает чувствительность, то надобно, чтобы строгость наказаний умалялася. 209. Вопрос VI. Смертная казнь полезна ль и нужна ли в обществе для сохранения безопасности и доброго порядка? 210. Опыты свидетельствуют, что частое употребление казней никогда людей не сделало лучшими: чего если Я докажу, что в обыкновенном состоянии общества смерть гражданина ни полезна, ни нужна, то Я преодолею восстающих против человечества. Я здесь говорю: в обыкновенном общества состоянии: ибо смерть гражданина может в одном только случае быть потребна, сиречь: когда он лишен будучи вольности, имеет еще способ и силу, могущую возмутить народное спокойство. Случай сей не может нигде иметь места, кроме когда народ теряет, или возвращает свою вольность. Или во время безначалия, когда самые беспорядки заступают место законов. А при спокойном царствовании законов и под образом правления соединенным всего народа желаниями утвержденным в государстве противу внешних неприятелей защищенном и внутри поддерживаемом крепкими подпорами, то есть силою своею и вкоренившимся мнением во гражданах, где вся власть в руках Самодержца; в таком государстве не может в том быть никакой нужды, чтоб отнимати жизнь у гражданина. 210. Двадцать лет государствования Императрицы Елисаветы Петровны преподают отцам народов пример к подражанию изящнейший, нежели самые блистательные завоевания. 211. Не чрезмерная жестокость и разрушение бытия человеческого производят великое действие в сердцах' граждан, но непрерывное продолжение наказания. 212. Смерть злодея слабее может воздержать беззакония, нежели долговременный и непрерывно пребывающий пример человека, лишенного своей свободы для того, чтобы наградить работою своею чрез всю его жизнь продолжающеюся, вред им сделанный обществу. Ужас, причиняемый воображением смерти, может быть гораздо силен, но забвение в человеке природному оный противостоять не может. Правило общее: впечатления в человеческой душе стремительные и насильственные тревожат сердца и поражают, но действия их долго в памяти не остаются. Чтобы наказание было сходно со правосудием, то не должно оному иметь большего степени напряжения как только, чтоб оно было довольно к отвращению людей от преступления. И так Я смело утверждаю, что нет человека, который бы, хотя мало подумавши, мог положить в равновесии, с одной стороны преступление, какие бы оно выгоды ни обещало: а с другой всецелое и с жизнию кончающееся лишение вольности. 213. Вопрос VII. Какие наказания должно налагать за различные преступления? 214. Кто мутит народное спокойствие; кто не повинуется законам; кто нарушает сии способы, которыми люди соединены в общества, и взаимно друг друга защищают; тот должен из общества быть исключен, то есть, стать извергом (т.е. изгоем. — Ред.). 215. Надлежит важнейшие иметь причины к изгнанию гражданина, нежели чужестранца. 216. Наказание, объявляющее человека бесчестным есть знак всенародного о нем худого мнения, которое лишает гражданина почтения и доверенности обществом ему прежде оказанной, и которое его извергает из братства, хранимого между членами того же государства. Бесчестие, законами налагаемое, должно быть то же самое, которое происходит из всесветного нравоучения: Ибо когда действия, называемые нравоучителями средние, объявляются в законах бесчестными, то воспоследует сие неустройство, что действия, долженствующие для пользы общества почитаться бесчестными, перестанут вскоре признаваемы быть за такие. 217. Надлежит весьма беречься, чтоб не наказывать телесными и боль причиняющими наказаниями зараженных пороком притворного некоего вдохновения и ложной святости. Сие преступление, основанное на гордости или кичении из самой боли получить себе славу и пищу. Чему примеры были в бывшей тайной канцелярии, что таковые по особливым дням прихаживали единственно для того, чтобы претерпеть наказания. 218. Бесчестие и посмеяние суть единственные наказания, кои употреблять должно противу притворно вдохновенных и лжесвятош, ибо сии гордость их притупиши могут. Таким образом противоположив силы силам того же рода, просвещенными законами рассыплют аки прах удивление, могущее вогнездиться во слабых умах о ложном учении. 219. Бесчестие на многих вдруг налагать не должно. 220. Наказанию подлежит быть готовому, сходственному с преступлениями и народу известному. 221. Чем ближе будет отстоять наказание от преступления и в надлежащей учинится скорости, тем оно будет полезнее и справедливее! Справедливее потому, что оно преступника избавит от жестокого и излишнего мучения сердечного о неизвестности своего жребия. Производство дела в суде должно быть окончено в самое меньшее сколь можно время. Сказано Мною, что в надлежащей скорости чинимое наказание полезно: для того, что чем меньше времени пройдет между наказанием и преступлением, тем больше будут почитать преступление причиною наказания, а наказание действием преступления: наказание должно быть непреложно и неизбежно. 222. Самое надежнейшее обуздание от преступлений есть не строгость наказания, но когда люди подлинно знают, что преступающий законы непременно будет наказан. 223. Известность и о малом, но неизбежном наказании сильнее впечатляется в сердце, нежели страх жестокой казни, совокупленный с надеждою избыть от одной. Поелику наказания станут короче и умереннее, милосердие и прощение тем меньше будет нужно; ибо сами законы тогда духом милосердия наполнены. 224. Во всем, сколь ни пространно, государстве не надлежит быть никакому месту, которое бы от законов не зависело. 225. Вообще стараться должно о истреблении преступлений, а наипаче тех, кои более людям вреда наносят, и так средства законами употребляемые для отвращения от того людей, должны быть самые сильнейшие в рассуждении всякого рода преступлений, по мере чем больше они противны народному благу, и по мере сил могущих злые или слабые души привлечь к исполнению оных. Ради чего надлежит быть уравнению между преступлениями и наказаниями. 226. Если два преступления, вредящие не равно обществу, получают равное наказание, то неравное распределение наказаний произведет сие странное противоречие, мало кем примеченное, хотя очень часто случающееся, что законы будут наказывать преступления ими же самими произращенные. 227. Когда положится то же наказание тому, кто убьет животину, и тому, кто человека убьет, или кто важное какое письмо подделает, то вскоре люди не станут делать никакого различия между сими преступлениями. 228. Предполагая нужду и выгоды соединения людей в общества, можно преступления, начав от великого до малого, поставить рядом, в котором самое тяжкое преступление то будет, которое клонится к конечной расстройке и к непосредственному потом разрушению общества: самое легкое, малейшее раздражение, которое может учиниться какому человеку частному. Между сими двумя краями содержаться будут все действия, противные общему благу и называемые беззаконными, поступая нечувствительным почти образом от первого в сем ряду места до самого последнего. Довольно будет, когда в сих рядах означатся постепенно и порядочно в каждом из четырех родов, о коих Мы в седьмой главе говорили, действия, достойные хулы, ко всякому из них принадлежащие. 229. Мы особое сделали отделение о преступлениях, касающихся прямо и непосредственно до разрушения общества и клонящихся ко вреду того, кто во оном главою, и которые суть самые важнейшие по тому, что они больше всех прочих суть пагубны обществу: они названы преступлениями в оскорблении Величества. 230. По сем первом роде преступлений следуют те, кои стремятся против безопасности людей частных. 231. Не можно без того никак обойтися, чтоб нарушающего сие право не наказать каким важным наказанием. Беззаконные предприятия противу жизни и вольности гражданина суть из числа самых великих преступлений: и под сим именем заключаются не только смертоубийства, учиненные людьми из народа; но и того же рода насилия, содеянные особами, какого бы происшествия и достоинства они ни были. 232. Воровства совокупленные с насильством и без насильства. 233. Обиды личные противные чести, то есть клонящиеся отнять у гражданина ту справедливую часть почтения, которую он имеет право требовать от других. 234. О поединках не бесполезно здесь повторить то, что утверждают многие, и что другие написали: что самое лучшее средство предупредить сии преступления есть наказывать наступателя, сиречь того, кто подает случай к поединку, а невиноватым объявить принужденного защищать честь свою, не давши к тому никакой причины. 235. Тайный провоз товаров есть сущее воровство у государства. Сие преступление начало свое взяло из самого закона: ибо чем больше пошлины, и чем больше получается прибытка от тайно провозимых товаров, следовательно, тем сильнее бывает искушение, которое еще вяще умножается удобностью оное исполнить, когда окружность, заставами стрегомая, есть великого пространства, и когда товар, запрещенный или обложенный пошлинами, есть мал количеством. Утрата запрещенных товаров и тех, которые с ними вместе везут, есть весьма правосудна. Такое преступление заслуживает важные наказания как то суть тюрьма и лицеимство, сходственное с естеством преступлений. Тюрьма для тайно провозящего товары не должна быть та же, которая и для смертоубийцы или разбойника по большим дорогам разбивающего. И самое приличное наказание кажется быть работа виновного выложенная и постановленная в ту цену, которую он таможню обмануть хотел. 236. О проторговавшихся, или выступающих с долгами из торгов должно упомянуть. Надобность доброй совести в договорах и безопасность торговли обязует законоположника подать заимодавцам способы ко взысканию уплаты с должников их. Но должно различить выступающего с долгами из торгов хитреца от честного человека без умыслов проторговавшегося. С проторговавшегося же без умысла, который может ясно доказать, что неустойка в слове собственных его должников, или приключившаяся им трата, или неизбежное разумом человеческим неблагополучие лишили его стяжаний, ему принадлежащих; с таким не должно по той же строгости поступать. Для каких бы причин вкинуть его в тюрьму? Ради чего лишить его вольности, одного лишь оставшегося ему имущества? Ради чего подвергнуть его наказаниям, преступнику только приличным, и убедить его, чтобы он о своей честности раскаивался? Пускай почтут, если хотят долг его за неоплатный даже до совершенного удовлетворения заимодавцев; пускай не дадут ему воли удалиться куда-нибудь без согласия на то соучастников; пускай принудят его употребить труды свои и дарования к тому, чтоб прийти в состояние удовлетворить тем, кому он должен: однако ж никогда никаким твердым доводом не можно оправдать того закона, который бы лишил его своей вольности безо всякой пользы для заимодавцев его. 237. Можно, кажется, во всех случаях различить обман с ненавистными обстоятельствами от тяжкой погрешности, и тяжкую погрешность от легкой, и сию от беспримесной невинности; и учредить по сему законом и наказания. 238. Осторожный и благоразумный закон может воспрепятствовать большей части хитрых отступов от торговли и приуготовить способы для избежания случаев, могущих сделаться с человеком честной совести и радетельным. Роспись публичная, сделанная порядочно всем купецким договорам, и беспрепятственное дозволение всякому гражданину смотреть и справляться с оной, банк, учрежденный складкою разумно на торгующих распределенною, из которого бы можно было брать приличные суммы для вспомоществования несчастных, хотя и рачительных торговцев, были бы установления, приносящие с собою многие выгоды и никаких в самой вещи неудобств не причиняющие. 239. Вопрос VIII. Какие средства самые действительные ко предупреждению преступлений? 240. Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели наказывать. 241. Предупреждать преступления есть намерение и конец хорошего законоположничества, которое не что иное есть как искусство приводить людей к самому совершенному благу, или оставлять между ними, если всего искоренить нельзя, самое малейшее зло. 242. Когда запретим многие действия, слывущие у нравоучителей средними, то тем не удержим преступлений, могущих от того воспоследовать, но произведем чрез то еще новые. 243. Хотите ли предупредить преступления? Сделайте, чтоб законы меньше благодетельствовали разным между гражданами чинам, нежели всякому особо гражданину. 244. Сделайте, чтоб люди боялись законов, и никого бы кроме их не боялися. 245. Хотите ли предупредить преступления? Сделайте, чтобы просвещение распространилося между людьми. 246. Книга добрых законов не что иное есть, как недопущение до вредного своевольства причинять зло себе подобным. 247. Еще можно предупредить преступление награждением добродетели. 248. Наконец самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей лучшими есть приведение в совершенство воспитания. Сравнительная таблица статей Главы X «Об обряде уголовного суда» 30 июля 1767 г. и глав книги «О преступлениях и наказаниях» Статьи "Наказа" Главы книги "О преступлениях и наказаниях" 145—146 147 148—150 151—156 157—158 159-166, 169-174 168 175—183 184—186, 188—190 187, 191 192—197 199 200 201—203 I "Происхождение наказаний" II "Право наказания" III "Выводы" IV "Толкование законов" V "Темнота законов" XXIX "О взятии под стражу" XIX "Незамедлительность наказаний" XIV "Улики и формы суда" XIII "О свидетелях" XXXVIII "Наводящие вопросы, показания" XVI "О пытке" XXX "Процесс и давность" XLVII "Заключение" XXXVII "Покушения, сообщники, безнаказанность" XII "Цель наказаний" XXVII "Мягкость наказаний" XLVII "Заключение" XI "Об общественном спокойствии" XXVIII "О смертной казни" XXIV "Тунеядцы" XXIII "Бесчестье" XIX "Незамедлительность наказаний" XXVII "Мягкость наказаний" XLVI "О помиловании" XXXV "Убежища" VI "Соразмерность между преступлениями и наказаниями" XXXIII "Контрабанда" VIII "Подразделение преступлений" 204-205 206-208 (1 абз.) 208 (2 абз.) 209 210-212 214-215 216—219 220—221 222 232 224 225, 226, 228 227 229—231 232 233 234 235 236-238 239—244 245-246 247 248 XXII "Кражи" XXIII "Бесчестье" Х "О поединках" XXXIII "Контрабанда" XXXIV "О должниках" XLI "Как предупредить преступления" XLII "О науках" XLIV "Награды" XLV "Воспитание" Общие выводы А. Городисского о влиянии Беккарии и Монтекье на Российское уголовное судопроизводство Современные мыслители должны с особенным вниманием изучать "Наказ" от 30 июля 1767 г. и притом в связи с сочинениями Беккарии и Монтескье, так как много в "Наказе" высказано отрывочно и неполно, иногда даже неясно и получает свое значение при сличении с подлинником. Сочинения Беккарии и Монтескье можно считать источником нашего уголовного права. Почти сто лет перед этим смелый ум Императрицы усвоил их для России и показал пример, достойный самого ревностного подражания для поколения, ныне живущего. Несмотря на некоторую механистичность и поверхностность заимствований Екатерины II из Беккарии и Монтескье, можно положительно сказать, что первое время законодательница была искренне проникнута духом этих творений и надеялась передать его России, для чего она созвала депутатов от всех сословий всей империи. Намерение не осуществилось. Новое уложение не было составлено, и большая часть высоких драгоценных мыслей, высказанных в "Наказе", осталась мертвой буквой. Впоследствии, в учреждении о губерниях Императрица объявила, что война турецкая главным образом помешала привести к окончанию план составления уложения. Эта причина неуспеха есть только видимая. Действительная же заключается в умственном, нравственном и общественном состоянии русского народа и общества. Это было состояние позолоченной грубости и неразвития, то состояние, которое было более благоприятно чрезмерному развитию крепостного права, чем осуществлению мыслей Беккарии и Монтескье, — решительно несовместимых с таким состоянием народа. И не в одной России подобная же участь постигла учение Беккарии. После издания его трактата "О преступлениях и наказаниях" Фридрих II при содействии канцлера Кокцея составил для Пруссии новый уголовный кодекс со значительным смягчением наказаний. Иосиф II отменил пытки, вычеркнул из ряда наказаний мнимые религиозные и нравственные преступления, уменьшил число смертных казней. В Тоскане герцог Леопольд отменил вовсе смертную казнь и столько же, если не больше, смягчил наказания за вышеупомянутые преступления. Во Франции во время революции сделаны были перемены в том же духе. И что же? Не прошло и 10-ти лет, как прежний порядок с незначительными исключениями возвратился во всех этих странах. ...даже в наше время в Европе, вообще говоря, наказания далеки от той мягкости и умеренности, которой желал Беккариа, а юстиция еще страдает многими из тех недостатков, против которых он восставал. Прибавлю: но времена изменились. Указ от 17 апреля 1863 г. "Об отмене телесных наказаний" и "Уложение о наказаниях" 1866 г. — вот два памятника, доказывающие, что учение Беккарии и "Наказ" 1767 г. не прошли бесследно в русской жизни. Заключительные слова предисловия Фаустен-Эли о значении книги Беккариа Мне хотелось бы бросить несколько лучей света на оказанные этим автором науке уголовного права заслуги, которыми у нас в последнее время напрасно начинают пренебрегать. Беккариа был истинным преобразователем наших уголовных законов. Если он не придал своей книге вида научного исследования, если он не развил в ней своей учености, не подтвердил своих выводов рассуждениями и доказательствами, то все же книга его... в высшей степени полезна. При большей учености Беккариа не повлек бы за собой общественное мнение, обратившее его задачи в законы. А может быть, он не имел бы и той смелости в своих выводах, которую мы в нем замечаем. Светлый его разум и горячая любовь к правде — вот силы, поддержавшие его среди малоизвестного ему пути. И этих сил было достаточно, чтобы побороть древние законодательства, уже склонявшиеся под тяжестью своих злоупотреблений, и показать ученым исследователям уголовного права все их ничтожество. Но дерзкое произведение не остановилось на этом. Если он покрыл почву развалинами, то в то же время, не создавая еще, дал возможность выстроить великолепное здание современного законодательства. Он указал на местность, где следовало строить это здание, он выкопал котлован для фундамента, приготовил строительные материалы, нарисовал общий план и фасад здания. Защищая преобразования, он указывал и на их существенную задачу. Вскрывая злоупотребления, он открывал великие начала нравственности, которые останутся краеугольным камнем уголовной правды. Вот заслуга, которую я желал бы связать с его памятью. Увлекающийся мыслитель, употребляющий все свои досуги только на грезы о благосостоянии человечества, он проводит жизнь в тиши и спокойно развивает свое учение как законодатель, не доказывающий пользы законов, — таково было его убеждение в основательности своих выводов. Со свойственной ему скромностью он разыскивал истину и если и сделал несколько ошибок, то даже враги его никогда не укоряли его в недобросовестности. Впрочем, он всегда простым здравым смыслом доходил до настоящих истин, но вместо того, чтобы изложить их ясно и вывести одну из другой по законам логики, он высказывает их только вполовину: ему как будто нравится показать на одно мгновенье и тотчас же скрыть обнаруженную им истину. Книгу его не следует только читать. В нее нужно вдумываться. Это богатая почва, ежеминутно оплодотворяемая трудом. И этот труд, который я на себя взял, не лишен своей заманчивости: срываемые наукой покрывала нередко показывают нам блестящие лучи солнца. Наконец, учение Беккариа далеко опередило свой век. Даже и теперь, когда большая часть его мыслей получила силу законов, стремление к совершенству заставляет нас принимать даже те из них, которые еще не вошли в законодательство. Мало найдется людей, о которых можно было бы сказать то же самое по истечении целого столетия после выхода в свет какой-нибудь их работы (а сейчас уже и более двухсот лет. — Ред.). Публицистика Чезаре Беккариа О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ Редактор Ю.М. Юмашев Оформление художника А. С. Скорохода Художественный редактор И.А. Горбунова Технический редактор Г. В. Лазарева Корректор И.В. Кришталь Компьютерная верстка Е.А. Надиной Лицензия серии ЛР № 010170 от 7 октября 1997 г. выдана Госкомпечатью РФ Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры Подписано в печать 12.04.2000. Формат 70х100 1/32 Бумага офсетная. Гарнитура "Лазурского". Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,75. Уч.-изд. л. 8,21. Изд. № 3-и/2000. Цена договорная. Тир. 600. Заказ № 4423. Издательство "Международные отношения" 107078, Москва, Садовая-Спасская, 20 Тел. отдела реализации: 975-30-09 Отпечатано с оригинал-макета издательства "Международные отношения" в Производственно-издательском комбинате ВИНИТИ, 140010, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, 403 Тел.: 554-25-97