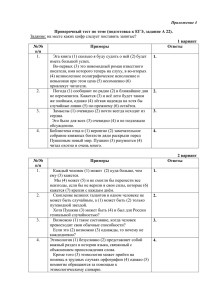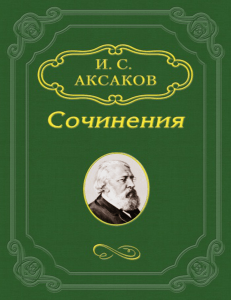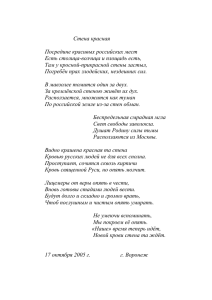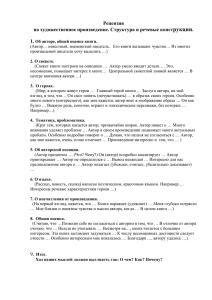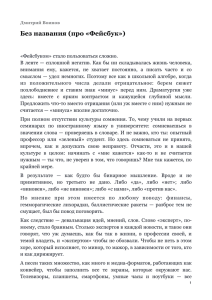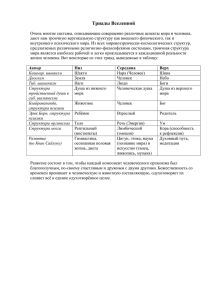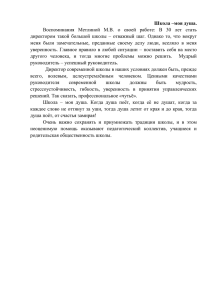Рихард Рудзитис Записи пилигрима (1929) Введение Поэта и
реклама

Рихард Рудзитис Записи пилигрима (1929) Введение Поэта и философа Рихарда Яковлевича Рудзитиса (1898-1960) всю жизнь интересовали основные законы жизни. Девятилетним мальчиком он пишет Льву Толстому, позже Р.Тагору, Р.Роллану. Студентом он приобретает Библию на пяти языках, чтобы сравнивать основные тезисы. Его учителя в гимназии Лудис Берзиньш, в университете – Карлис Кундзиньш. Непреодолимым становится интерес к литературе и мыслям Востока. Труд «Записи пилигрима» впервые вышел в 1929 г. на латышском языке в издательстве Яниса Рапы. Тогда эту книгу раскупили за две недели. Но в советское время она была запрещена из-за заглавия. Книга написана как дневник, когда автор путешествовал вместе с супругой и в одиночку по родным краям Латвии в 20-ые годы прошлого века. Это поэтическая, философская книга, где автор описывает более существенное в душе, во взглядах человека. Книга на самом деле является паломничеством по родным краям Латвии. Неудержимое стремление автора к красоте и чистоте в природе и человеке насыщает весь этот труд. В последней части книги паломничество продолжается по главным городам Европы, вершины и бездны которых автор показывает с необычным мерилом сердечной чистоты. Автор вводит нас в мир искусства и даёт посмотреть на суть всех явлений – смотреть глазами сердца. Перевод на русский язык осуществила Г.Рудзите. (От редакции, 2013 г.) ________________________ Простор, простор! в груди болит Небывалым, вечным. Бог спускается по радуге на землю Чтоб побыть у красоты земной, к земным ошибкам. По Латвии У каждой религии раньше было и ещё существует какое-то священное место, которое она выбрала колыбелью своих вечных устремлений. Туда и отправлялись в паломничество неисчислимые толпы людей приобрести в священном месте спасение. Сколько пилигримов не целовали стены Иерусалима, или плакали от радости, издали увидев вместе с Тангейзером величественные купола Римских храмов. В то время как большинство троп паломничества христиан уже зарастают травами, арабы всё ещё отправляются через холмы пустыни в Мекку к месту своего пророка, и индусы миллионами собираются в Варанаси, покрывая широкие берега реки Ганги. Людям современной культуры уже нет объединяющей религии, одного храма. Образ религиозного поклонения столь разнообразный, что можно сказать, – в известной мере у каждого человека есть своя религия. Всё-таки в одном люди понимают друг друга – в жажде красоты, гонимые этим устремлением, они бродят по храмам красоты своей родины и чужих стран, возвращаясь в себя, и опять отправляясь в новые хождения, эти путешествия часто полны таких чувств радости и озарения, что они превращаются в настоящее паломничество. И мне хотелось бы, чтобы путешествия к самым красивым местам природы всегда были бы таким путём истинного пилигрима, кто в вечном устремлении жаждет увидеть стены Иерусалима, а не лёгкой увеселительной поездкой. Только тогда стоит путешествовать, только тогда путешествие является радостью, высшим блаженством. Теперь путешествия становятся модными и у нас. Немало экскурсантов, которые отправляются в заграницей. Видим и группы школьников странствующих по просторам Латвии. Всё ещё редко, но ходят и отдельные путешественники. Но любви к путешествию мы ещё много должны учиться. Радостно видеть, когда, например, в один Альпийский городок приходит группа школьников с непокрытыми головами, в руках дорожные палки, рюкзаки на плечах, играют и поют – почти как маленькие покорители гор. Но где так можно познать родину и свой народ, как именно всей своей душою и телом прикасаясь к ней – путешествуя! У нас к таким местным экскурсиям ещё не обращают много внимания. Всех волнуют мысли о зарубежных странах. Да, в Альпах, в Италии, там рай. Многие едут туда, не зная и пяти пядей своей родины. И всё-таки те, кто побывали в Германии, в Польше, в северных странах или даже во Франции, каждый признаётся, что наша природа, в известной мере, намного милее. Хотя здесь нет монументальности Альп, нет зелёной ясности горных озёр, всё-таки здесь больше выражается совокупность нежных и лучистых красок. У нас летом каждый уголок земли является чудом. Беспредельность цветов, вариации красок, светящаяся рябь воздуха. Если на юге более яркие краски, более могучие линии, то там нет такой вечно меняющейся поэзии настроений, как у нас. Там деревья даже не сбрасывают листья, но в какой мелодичности красок наряжаются наши леса весною и осенью! И ещё наши закаты солнца, которые горят даже кистью художника в неотразимом переливе красоты! Закаты, каких не бывает в быстро меркнущих небесах юга. И странные многоцветные тональности теней летом. И ночи, дышащие в невыразимом трепете контур, ароматов, переходов! Да, именно, кто объездил зарубежье, всегда будет признавать, что в Латвии не меньше своеобразной красоты и, что – даже больше чем в некоторых других странах. Наша Сигулда, Кокнесе, Абава, окружность Гайзиня, Апукалнса, Эмбуте, озеро Разнас и т.д., и т.д., всегда будут местами паломничества латышей и других народов. Жаль, что латышский народ сам ещё так мало осознаёт красоту своей страны. Не только потому, что не хватает любви к путешествиям, но – латыши не везде умеют беречь свою красоту. Кто не знает, как часто у нас или в финансовых намерениях, или просто из-за пренебрежения, уничтожают один храм природы за другим. Вырубку лесов ещё можно хоть немного понять, хотя часто некрасиво голыми становятся холмы, овраги, обочины. Но хотя бы поберегли берёзовые рощи, колыбель соловьёв и солнца, которые уже обоготворили во времена наших праотцев, и которые и теперь имеют такую эстетическую благородность, что хотелось бы в каждой из них воздвигнуть алтарь для красоты, Бога. Но и их практичный хозяин уничтожает и рубит в дрова. Мы должны научиться и наше хозяйство и нашу жизнь направлять тоже по просекам красоты. Поставляя в красоте своё существование и свою окрестность, и наш дух становится богаче и красивее, в этом зарубежье нас опередило. Хотя, может быть, там местами культура природы уже столь утончена, что иногда напоминает музей, где каждое растение поставлено искусственно и симметрически. Всё-таки там красота природы ухожена и охранена с величайшей бережностью. Много для красоты Латвии дала и рука человека. Это относится к нашим древним имениям и дворцам. Роскошны, например, дворцы Баварии, построенные на чудесных Альпийских склонах. Какие там бассейны и фонтаны, какие беседки и аллеи! И всё-таки парки Латвии мне кажутся красивее именно потому, что они не столь музейные, столь декоративно однообразны. Например, в парке имения Шкеде около Кабиле, который находится в глубоком овраге, всё столь первобытно естественно красивое, – старинные дубы, стволы упавших деревьев в высокой траве, речка каменистая, мельница. И за долиной золотистые нивы и льняные поля. Или верстами лиственными деревьями объятая Гауиена, которая своими старинными заросшими прудами, руинами дворца, бурливой, лучистой Гауей связывает к себе путника дольше чем на мгновение. И величественный, в серовато-красном граните высеченный замок Цесвайне, весь в цветущих кронах деревьев. Не менее роскошны дворцы Рембате и Ремте, Межотне и Дурбе. Латвия, погружённая в этих бесчисленных парках, рощах, оврагах, холмах и реках, путнику всё кажется садом дивной красоты. Приближаясь к природе, соприкасаясь с её красотою, мы все должны взять за пример отца Индранов, дух которого был сросшимся с его родной землёй и её красой. Также в своих взглядах на жизнь мы должны приближаться к индусам, – смотреть на природу, как они, для кого и деревья и животные – братья и близкие, – убить человека или срубить святое дерево им кажется равносильным преступлением против вечной жизни. Священное для них то, что их душа признала красивым, необходимым, обожествляемым. * Кто хочет видеть альпийскую Латвию, Латвию с её широкими и гористыми горизонтами, должен отправиться в края Видземские. Из одной высшей вершины Латвии – Гайзиня, далеко видны несколько возвышенностей и холмов, и каждый путешественник долго не сможет оторвать взгляд от этого края озёр, холмов и рощей. Лаздона, Берзауне, Девиена с тремя горными вершинами – Гайзинем, горами Пелну и Бакужу, и Вецпиебалга с Клетс и Брегжу, и многими другими вершинами. И далее за Лиезере, в сторону Цесвайне, угрюмая гора Несаулес, тонущая в глухих болотах. Потом эта вереница озёр, которые один другого меньше и красивее. Инесис с семеро островками, Алаукст, – много имён, один другого более зеркальные, чудесные. Дороги здесь вьются извилисто, волнисто – ввысь и вниз, через яркие нивы, рощи и травянистые низины. Для округа характерные потускневшие, седые домики, клети, сараи сена, все как одного кроя похожие, ветхие от старости и разбросанные по лугам. Вершины сами по себе не слишком высокие, гораздо круче нам кажется, например, городище в Сигулде, но вместе с окружающей возвышенностью они намного превышают почти все другие холмы Латвии. Всё же крестьянину эта холмистая земля создаёт много хлопот. Не просто подняться лошади по скату или тащить плуг по откосу вниз. Но тяжёлая, утомительная работа сделала здесь крестьянина настоящим человеком природы, и я нигде не встречал столь любезных и сердечных людей, как здесь. Чем ближе к большому городу, тем люди становятся более нервными, подозрительными и менее гостеприимными. Но здесь ещё культура природы, здесь человек живёт вместе с природой в сопровождении солнца, потому вдвойне радость путешествовать по этому округу. Странствуя по Латвии, очень милы мне всегда были белые деревенские церквушки, которые кажутся полным противопоставлением деревенской жизни. Насколько она однообразна, полная забот, серая, столько эти Божьи храмы чисто белые, лёгкие, столь прозрачные, что это странно для глаз горожанина, кто привык к угрюмым и тёмным, таинственным сводам церквей. Как охотно, проходя мимо этих деревенских церквей, я всегда поднимался на камень у окна и на мгновение всматривался в их белые хоромы, вдыхая их покой и священную ясность. И в каждой из них есть и что-то своеобразное и своё. В церкви Лезере амвон находится над алтарём; это кажется странно непривыкшему. И красивые двухэтажные окна, внизу вытянутый квадрат, наверху – круглый. Дзербенская церковь с куполом в византийском стиле, с четырьмя колоннами на фасаде. Что-то своеобразное, характерное, что остаётся в памяти, имеется также в каждой другой, которую мне удалось посмотреть. Да, что за деревня эта была бы раньше, без этой белой церквушки Порука! И также ещё теперь для крестьянина церквушки часто единственные храмы искусства и вечности. Проезжая мимо их, возрождаются более вечные, более глубокие, более ясные мысли. Церквушки напоминают труженику, погружённому в ежедневную работу, что имеется ещё и воскресенье, – есть ещё какой-то другой мир вне материальной жизни. Взглядом встречая шпиль колокольни, его глаза неосознанно обращаются вверх, к звёздам. И уходя в звёздное величие, он видит свою жизнь такую несовершенную, что начинает тосковать по совершенству и красоте и на Земле. Эти белые, белые церквушки! В рабочие дни они тихие как пчелиные улья, оставленные пчелиным роем. Но эта тишина, что здесь копилась днями, по воскресным утрам охватывает человека странным, невыразимым благоговением и смирением. Деревенские старушки раз в неделю наряжаются в белые платочки. Раз в неделю деревенский человек глубже вслушивается в своё сердце. В церкви он имеет время подумать и о себе, что скажет Богу. Он же пришёл сюда, чтобы положить лучшую долю своей души к ногам Христа. Возьми всё, что имею, и мои ошибки возьми, чтобы я облегчённым мог опять вернуться в серость медлительной жизни! Потому такая сердечность и чистота на всех лицах по воскресным утрам. Недавно мне удалось попасть в одну деревенскую церквушку во время конфирмации. Кружили голову ароматы увядающих цветов и листьев. Белый сумрак был пронизан пламенем свечей. Алтарь и стены украшены цветами, гирляндами, берёзками. Я приближался к алтарю и не мог оторвать глаза от светлого сияния. Девушки в белых лебединых одеяниях опускаются на колени перед сакральным местом. И их лица как полураспустившиеся бутоны, полные таинственного, мечтательного трепета. У некоторых ещё крылья за плечами, могли бы и полететь, если только это признали и верили. Но потом слышу слова пастора освящающих, и мне становится тяжело, и с тихой грустью выхожу. О Боже, почему всё ещё Христа пригвождают к кресту! Церковь столетиями неверно понимала учение Христа, проповедуя его как мрачную религию страданий. Крестоносцы, завоёвывая «язычников» мечом и крестом, принесли им телесное и духовное рабство. Они не пробудили сердца в религиозной свободе, но угнетали в тёмном рабстве грехов. Христос был вестником радости. То, что Он оставил человечеству, было жизнь, любовь, солнце. В этом Он был близок древним латышам, религия которых была религия солнца. Древние латыши поклонялись солнцу, как символу вселенской радости и света. Таким проявлением религиозной радости нам должен был бы быть и праздник молодёжи – конфирмация, таким солнцеобразным путём вверх должна была быть и вся наша жизнь, каждый наш шаг, вздох. Современный человек как-то уже не умеет радоваться. Даже в деревне, где культура более свободная, естественная, где ещё можно по-настоящему, так от сердца забыться в радости и где каждое мгновение можно почувствовать совершенство жизни. Наша деревня забывает и игры предков, которые сохранены ещё лишь в школах. Древний латыш имел бессчётное количество игр, и потому-то его праздник сиял в радости и в красоте. Видом таких игр были и наши старинные танцы, и загадки, и народные песни. Ритмичной игрой была и работа, что звучала в одних песнях. Пел жёрнов, пела девушка, когда молола. Пели коса, топор, пел пахарь, вспахивая подсеку. Песня превращала жизнь в игру, работу в музыку. Игры древнего латыша были гелиоцентрические, протекали вокруг солнца, как вокруг своего фокуса. В какие только символы не украшали солнце! Солнце было всюду, где была радость и чистосердечие. Символом солнца был веночек молодости девушки, шапка из куницы у парня. От солнца древний латыш запоем черпал радость. Тогда человек был частью солнца и природы. Но постепенно всё изменилось. Что в природе было исключением, то человек со временем сделал законом. Таким исключением в природе было и большинство городской культуры. Город сделался противосилой, которая воевала с природой, порабощала. Город больше не учился у природы, но велел ей присвоить его обычаи. В этой паракультуре города образовалось и что-то красивое, но ещё больше безобразного. Каждая улица крупного города является как бы третьей главою из книги пророка Исайи. Это Вавилон, Содом, много у неё названий. Дыханием его – пар, его кровь – страсти, вожделения. Наряду с ним преобразуется и деревня. Но в деревне ещё столь много сильных и свежих импульсов жизни, что не так скоро их вычерпать или потушить. Там ещё под поверхностью явлений хранится вся непорочность и красота мира. Туда ещё и горожанин отправится в школу. Вновь и вновь он вернётся в храм природы, чтобы молиться Вечно Прекрасному. Он будет искать там источник жизни, который его освятил бы, который возродил бы в нём нового человека. Особенно теперь, на перепутье нового мира, туда непрестанно отправятся толпы пилигримов, чтобы в прекрасном видении природы найти для себя новый Иерусалим или Мекку. * Нет человека, кто чувствовал бы себя столь ничтожным, как художник, когда он всматривается в сущность красоты. Все средства выражения: краски, звуки, слова для него звучат настолько невыразимо убогими, чтобы отражать ту исполинскую красоту, которой он поклоняется в природе, и которую он жаждет воплотить в образ искусства. Краски и слова могут изобразить только форму и черты этой красоты, но как мало они могут дать человеку из самого дыхания красоты, душу. Единственно в звуках, в музыке мы более непосредственно и более глубже чувствуем сущность прекрасного, нюансы речи, о чём говорит дух вечно прекрасного. Всё-таки музыка, как искусство неуловимых чувств, не может говорить в очертаниях, поэтому художник, чтобы достичь совершенство искусства, должен объединить язык звуков с искусствами, которые изображают очертания души и ощутимого – с живописью и поэзией. И может быть в будущем появится такой мастер, который будет синтезировать принципы звука, красок и поэзии и создаст творчество, где не дышала бы тенистая иллюзия, но – сама сущность красоты. Тоска по такому искусству всегда меня беспокоит, когда я хожу пилигримом по просторам цветущей красоты Латвии. Если я, например, пробовал бы описать и выразить июльский закат солнца, – не хватало бы красок и слов. Насколько мелодично сверкающи сами цвета, их переходы и смены! Как в дуге радуги меняется игра красок на закатном небе! Пурпур, фиолетовый, тающий в чистом золоте, золотисто зелёный, ярко зелёный, зелёно-синий, пока весь горизонт неба становится прозрачно голубым, синим, где как капли росы рассыпаны звёзды. Особенно многообразны лучисты летние краски, когда на каждой ветке гнездится солнце. В тысяча нюансах эти солнцем разлитые цвета, полутона, полутени. Язык одной тени столь богат. Меняясь солнцу, меняются и цвета теней деревьев. И у каждого дерева они разные, более нежные. Луга в июне: разве они все не являются тканные покровы нитями музыки? Одно поле зеленоватобелое – в ромашках или в маргаритках. Второе – в синих колокольчиках; третье – в коричневый щавель или в красный клевер, или в золотистые лютики. И бывают поля, где все краски мира; кажется: там засыпано звёздами. Днём они покидают Плеяды, чтобы украсить землю во всём Соломоновом величии. И потом эти невыражаемые гаммы осенних красок в природе! Самые красивые осенью клёны – вишнёво красные, золотисто жёлтые или желтовато зелёные. Рябина со своими гроздями ягод издали кажется совсем зардела. Берёзы уже рано становятся светло жёлтыми, пока ясень и орешник сохраняют постоянный бледно зеленоватый цвет. Дубы – самые странные деревья, их одежда часто пёстрая как у дятла, некоторые листья коричневые, другие зелёные, пока всё не превращается в буроватость. Единственно чёрная ольха дольше всех остаётся зелёной, и она и тёмные ели красивыми пятнами выделяются на жёлтом фоне. Такое чудесное осеннее зрелище я наблюдал на холмах Эмбуты и в низине Гауи на горе Сигулды, где менялись смеющиеся золотые берёзы с бархатом елей, но внизу стелилась ярко зелёной пряжей мурава. Природа осенью как огонь воспламеняется во всей своей красе, чтобы потом опять истлеть в углях. Всматриваясь в сверкающие перемены красок природы, мне часто казалось, что я слышу какую-то музыку, что-то неуловимо мелодичное, как бы бледные отзвуки какого-то космического и вечного оркестра. Тогда я сам наполняюсь дивным, сладким шелестом; мне кажется, что всё вокруг меня вьётся в чудных настроях, и я сам являюсь гирляндой золотистых полутонов, которая всем трепетом души, всей своей сущностью стремится включиться в ритм вечной гармонии природы. * Каждый, кто духовно устал и заболел меланхолией в стенах города, пусть берёт свой рюкзак на плечи и отправляется пилигримом по полям и холмам Латвии, с ясным и приподнятым духом вдыхая и поклоняясь её красоте, и он вернётся с новой силой и новой жизнерадостью наполненный. В ЭМБУТЕ Бывают мгновения, когда человек сам себе становится обузой, когда ему хочется сбросить всего себя, всё показное в себе, всё, что привили ему отложения столетий, и стать свободным. Такие мгновения бывают, когда он после более долгого городского плена опять возвращается в природу. Какая головокружительная радость тогда всей сущностью прижаться к божественной зелёной земле, или горячими щеками касаться мокрого мха старого дерева. Странное чудо это, которое самых чопорных дам на природе делает детьми, цивилизованному человеку даёт стать «дикарём», возрождает каждого хоть на мгновение. Природа – храм, где человек скорее всего приобретает свой этический катарсис. – Почему мы не растём около вечных источников? Почему все наши школы не находятся на природе: в больших садах, цветущих полях, холмах? Ребёнок должен расти в природе, но не рядом с нею, как теперь принято. Он должен расцвести на солнце, а не в угрюмых стенах. Пусть он знает лишь один – свой материнский язык, но он должен научиться также языки цветов, солнца и ветра; чтобы потом солнце и красота сопутствовали ему в жизни. Осенью все дороги «слезами плачут», и одинокий пеший путешественник чувствует себя более счастливым, оставив свой рюкзак до следующей весны, чем брести по осенним трудно проходимым местам. Также моё паломничество в Эмбуте происходило в день, когда все божественные стихии ходили по земле. И всё-таки, когда, несколько часов провёл в комнате ожиданий на станции, наконец я ещё при свете выбрался на дорогу, хотя моросил мелкий дождь, чувствовал себя больше чем хорошо. Несколько вёрст за станцией по дороге, так сказать, совсем нечаянно, нашли церквушку Батес, которую знал по рассказам довольно давно, но не думал, что она именно здесь может быть. Это одна из более типичных деревенских церквушек, какую я видал. Она же построена лишь около 1630 г., но столь малюсенькая и архаически седая, как со времён языческих. И вокруг такое же малюсенькое кладбище, наверно для священников, где под листвою старых дубов мы ждали, пока начнётся богослужение. У церквушки очень большие окна, напротив дверь, кованная громадными гвоздями, столь маленькая, что входя мы должны низко наклониться, – может быть потому, чтобы посетителям уже внешне привить чувства смирения. Изнутри примечательна орнаментами алтаря, резьбой по дереву, и образами святых, ряд которых украшают балкон. И теперь мы заметили, что попали на праздник жатвы, уборки урожая. На алтаре поставлены снопы колосьев, один такой побольше ещё на земле; но когда мы вошли, одна старушка внесла две головки капусты, и, старательно постелив тонкую бумагу, положила на алтаре, и после ещё другая – яблоко побольше. Может быть это сохранилось из обычаев наших предков, потому что они также для своего Боженьки и душ умерших клали всякие дары на жертвенник. И всё-таки это шло от сердца, и мне хотелось поцеловать руку этой седой матушки, которая положила то большое яблоко на алтарь – может быть как вдова в притче Христовой, которая из своего малого имущества дала больше чем богатые. После церкви мы посетили санаторий служащих в Бате. Само здание, когда-то имение Батес, современное красивое здание, окутано чудесным красным виноградом. Сказочно красивая вся окрестность с садом, глубоким оврагом, рощами, источником и «Сердцем Баты». И жёлтые осенние листья, кружась около нас в вихре, своим безумием красоты ещё долго будут мутить мои глаза. И опять перед нами вились «близкие и дальние тропинки». Упрямо нас всё время сопровождал дождик, и когда мы вблизи Эмбуте наконец зашли в дом собрания баптистов спросить насчёт дороги, мы уже были насквозь промокшие. Богослужение уже только что кончилось, и старенькие бабушки где-то в углу горячо еще дебатировали, и одна, более бойкая, сведущая, поучающим голосом им что-то объясняла. Но из соседних помещений звучали хоралы репетиции хора. Так мы нашли истинную дорогу, и когда мы наконец поднялись в гору хутора Павару, нам открылась вся Эмбуте во всей красоте в тумане. Мы искали приют в той самой усадьбе, и наш воскресный вечер прошёл высыхая у потрескивающего огня очага и слушая его головокружительные сказки. Здесь было так хорошо, хорошо, несмотря на то, что с наружи дома над горою ходила буря, и небо смешалось с землёю. Этот священный деревенский покой, – кто же подобно Поруку не почувствовал себя в нём облагороженным, не чувствовал тоску по чистоте сердца и красоте! Вся душа в этом спокойствии кажется окрылённой, звучащей, и каждое дыхание жизни как капли мёда падают на струны, говорит золотыми аккордами в неосознанных глубинах души. И этот деревенский старик, рассказывающий о своих хлопотах, которых так много, и такие трудные они. И деревенская старушка, чьи руки и ноги всегда в движении, как прядильные катушки. И эта деревенская девушка, которая так любит цветы, у самой невинная душа цветка. У неё в саду удивительно много осенних георгин и астр. Она ухаживает за ними и выращивает их, и живёт и расцветает вместе с ними. И не осознавая цветёт красотою, и сама как цветок, ждёт кто восхищался бы ею. Когда с утра встал и вышел в покрытый росою сад, мой взгляд невольно пал вниз, где в чистом утреннем тумане дремала родина Индулиса [Герой Райниса – Г.Р.]. Берём рюкзаки на плечи и направляемся по круче вниз, к дубравам и ясеневым рощам в низине. Осень ходит по верхушкам деревьев, осыпает ветви, и всё окутывает в золото и пурпур. Прекрасна жёлтая лиственная кровля над головой, но ещё более красивая земля под ногами. Земля как чудесный ковёр в мусульманском храме. Надо только чуть прикрывать глаза, говорит мой товарищ, и земля покажется ещё более сказочной. Садимся на камень, покрытый зеленым мхом, и вдруг с небес вырывается целый поток света и половодьем покрывает нас и деревья, и многоцветную землю, всё, всё. Как в свете солнца всё изменяется, становится более прекрасным, более крылатым, прозрачным. «Если бы я могла эту теплоту солнца сохранить на всю зиму», слышу рядом вздох, но осень расточает над мною свою золотую улыбку, и это так хорошо. Идём дальше, изготавливаем длинные палки орешника, и ноги вязнут земле, и мокрые листья шуршат под ногами. Наконец мы достигли холм Индулиса. У холма по обеим сторонам два вала, но одну сторону полностью окружает бурная речка Эмбуте. В народе рассказывают, что 700 лет назад здесь стоял деревянный замок вождя Индулиса, и он велел выкопать валы, которые сделали замок непокоримым. Сама гора поросла удивительно крупными орешниками и ясеню, светло зелёножёлтые листья которых переливаются как изумруд на солнце. Рядом с горою Индулиса, внизу над речкою, простирается длинная, узкая Чёртовая дамба, которая на самом деле кажется искусственно созданной, и там же танцевальная площадка, куда заезжают и гости из Лиепаи. И немного дальше возвышается Волкова гора, рядом с которой как огромная щелина Волковый овраг, узкий, заваленный стволами деревьев, поросший седым мхом, папоротником, с ручейком в середине. Могучие замшелые ели заслоняют небо. Выходя из оврага, мы уже вскоре находимся у церквушки Эмбуты, которая стоит спиною к воротам. И ниже гора Рыцарей с развалинами немецкого дворца, который сгорел лишь два года назад. Эта земля вся полна тайн, сотни поколений топтали её, и здесь из каждого мельчайшего камешка говорит история своим языком. Мой самый крылатый привет краю мечтаний и любви Индулиса и Арии. Осеннее золото оставило свою часть и в моей душе, и мне кажется, что его хватит до следующего лета. В ЯУНПИЛСЕ И В ДОБЕЛЕ Июньская ночь! Какую сладкую, чудесную власть имеют твои объятия. Цветут деревья, трава, цветёт душа, цветёт кровь. От каждой пылинки поднимается тоска по цветению. Брожу по Яунпилскому парку вдоль обрыва речки и мне кажется, что меня нежно несут крылатые руки. Под могучей сенью деревьев так вечно, так блаженно робко. Ночная тишина пламенем расцветает во мне. Каждую клеточку накаливает, очищает и перерождает. Душа улетает из телесной скованности как птица из гнезда, ныряет в сладкую тьму жизни, тоскует, горит, моляще зовёт... Как жизнь превращает человека. Хотя близко к природе, он всё же забывает смотреть на всё глазами природы. Он всё может воспринимать лишь с точки зрения своей узкой жизни. Как мало людей, с которыми можно стать как ребёнок, прост, свободен и бесконечно правдив. Это молодёжь, с которой можно поговорить о всём, что на сердце. Это деревенские девушки, полные невыраженных мечтаний, тоски, красоты. Некоторые – как росистый цветок, как листок, на котором скопилась чистая дождевая вода. Она любит ходить одна в цветущие ночи по краю ручья, по рощам, по лугам, рвать цветы, плести их в веночек, босые ноги омыть в утренней росе; и нести свои мечты, хранимые глубоко в сердце, как святыню, которую ни день, ни ночь не имеют права знать. И эти мечты столь белые, чистосердечные, сказочные. Нежданно-негаданно, однажды придёт Он, Сильный, Красивый, возьмёт её в свои чудные руки, поднимет в своей любви между беспредельностью и землёй. Она не знает, кому она верит, но она верит всем своим существом, её мечтаниям нет границ, они цветут как сад, где гуляет солнце и рои пчёл. Она чувствует себя столь одинокой, и ночь для неё единственный, самый близкий друг, и это только ночь слышит, о ком она так тоскует, имя которого у неё на губах. Окрестность Яунпилса сама по себе не очень красива, лишь статный замок с красивым парком и церковью и усадьбой пастора привлекая влечёт. Яркий и холм Каратаву, древнее латышское городище – несколько вёрст за замком, и холм Эллес, весь утопающий в берёзовых рощах. Недалеко от холма Каратаву, у хутора Лиелапсаую, с берегами, заросшими лесами, лежит озеро Апсаую. Солнце над рощами играла в волнах, когда мы плыли по озеру на лодке, с песнями, смеясь и радуясь. В светлом переливе воды, казалось, танцевал с нами весь голубой простор неба. Уже ночь, когда мы у церкви усадьбы Анна. Сладкая медовая тишь под деревьями, окружающими церковь. Воля человека теряет власть над собою в такую ночь. Вход в церковь закрывают огромные вязы и липы, у ног которых полуразрушенный седой вал камней. Внизу рослые заросли ольхи, где головокружительно соревнуется хор соловьёв. Как хорошо брести по длинной, влажной от дождя траве и чувствовать тёплую влагу вокруг себя, и впитывать телом и духом аромат сирени. Церковный сад настоящий храм сирени и акаций. Природа украшена богаче чем самые роскошные храмы. Воздух как бы насыщен благовониями: маслами, ладаном, фимиамом. В церковном саду старые могилы, и другое кладбище напротив, через дорогу, также погруженное в сирени, заросшее акациями, цветущими деревьями, кустами цветов. Я ещё в своей жизни не испытывал то чудо ароматов, то волшебство красочности цветов, что в этих нескольких мгновениях около церкви усадьбы Анна. Хотя бы строители церквей прежде всего позаботились бы, чтобы вокруг церкви всегда цвели цветы и деревья, тогда человек сам когда-то поймёт неосознанно, что истинный храм божий должен быть построен не из камня и дерева, но он уже имеется в каждом месте, где человек переживает, испытывает божественную красоту. Отправляемся дальше. Уже издали впереди слышно, как рычит водяная мельница. Около шлюз под мостом вода в каменистой реке Берзе разлетается в белую брильянтовую пену. И над нею огромные цветущие каштаны. Вдали кукушка закуковала. Одиноко звучит голос коростели. Белый туман поднимается где более низменные пологие места, по утрам уже нежный рассвет. Рано утром входим в Добеле. Для нас неожиданность – руины замка, которые оставляют мощное впечатление. Сравнивая с этими, все другие, которые я видел, кажутся незначительными. В овраге Берзе звучат трели обезумевших соловьёв. Уже середина дня, столь усталый духом, ноги едва ходят. Но такой небывалый сладкий дурман в каждой клеточке, в каждой капле крови. Так нежно, так хорошо. Входим в город, седые деревянные домики тонут в сирени, радостно смотреть. Со всех сторон, где только мы не ходим, нам улыбается сиреневое чудо. Голова столь тяжёлая, опьянённая, но глаза не перестают погружаться в эту сказку непостижимых красок. ОТ СИНЕЙ ГОРЫ В БУРТНИЕКИ И ДИКЛИ Пролил дождь. Воздух столь свежий, ласкающий. Кажется, каждая пылинка смыта из души: и цивилизация, и цели, и беспокойство, всё, всё лишнее. Мне кажется, я остался теперь один с собою, с неутолимой жаждой жизни. Мне не надо больше ничего, лишь только зелёную землю, и отправляясь пилигримом к ней, я хочу учиться то, что в городе позабыл – жить. Наклонившись на обочине дороги, я попрошу у цветка учить меня своей красоте, у муравья – быть мудрым как он, у пчелы – учить крылатой радости. И опять я почувствую, что я не один, зелёная земля расцветает во мне, и миллиарды существ идут одной дорогой со мною. С восходом солнца попадаем на Синюю гору. Сквозь глубокие тени ветвей росистых деревьев падает серебро, смарагд, золото нам в глаза, в душу, и мы наполняемся странными, сияющими чувствами. И чем выше поднимаемся через светлую тишину, тем более торжественно нам становится. Синяя гора – гора богов. Здесь когда-то находилась обитель богов, и когда боги покинули это время и пространство, уходя в вечность, люди здесь построили святилища, упоминая и благословляя тех, кто всё ещё в каждом шаге жизни и вздохе не переставали посылать свою помощь и благо. На высшем месте вершины Синей горы, которую всё ещё зовут горой жертвоприношений, когда-то была священная роща, место жертвования кривов-жрецов. Здесь был жертвенник, здесь священный огонь, который светился вдаль милями на всю окрестность. Существуют рассказы, что ещё в прошлом столетии здесь бывали жертвоприношения. Гора жертвенная теперь поросла могучими пышными липами, орешниками, осинами. От нее видны окрестные ельники и болота, и вдали зеркалистое озеро Буртниеку. Рядом с жертвенной горой находится тихая гора источника. Имеется такая как впадина, над которой растёт орешник. Наши деды ещё видели, что там лился хрустальный источник. И теперь рождается какая-то уверенность, что источник в земле только засорился, что надо лишь немного покопать и опять взметнётся ввысь струя живой воды, которая имеет силу, как прежде, целить больных, слепым дать свет солнца. Священная тишина здесь, лишь кукушка где-то глубоко внизу таинственно кукует. Приближается вечер, и мы спешим дальше, потому что наша дорога ещё не имеет конца. И вдруг снова позади нас вырастает Синяя гора, синяя, чудесно туманно синяя. И опять с нами сверкающие на солнце поляны. Есть места, где столь чудесно хорошо, что не хочется дальше идти. Стоит жить, когда видишь, как зелёная травка стелиться из пыльной пустоты. И сто раз стоит, когда видишь рощи, поля, небо настолько сказочно красивыми. Самые близкие в природе для меня белые берёзовые рощи. Они настоящие святилища, которые и для нас, как и для латыша в старине, должны были быть священными. Когда издали видишь стройные белые стволы берёзовых рощ и радостно зелёную корону листвы над ними, и входишь в их священную торжественную тишину, тебе кажется, что здесь ты должен разуть ноги и всё нечистое оставить у дверей храма. Хоть бы люди наших дней учились познать и уважать то, что для их отцов, предков было святое и вечное! Из сада около дома выходит старичок, рассказывает нам о могучих липах, которые вокруг его дома. В его время такими деревьями были полны все леса. И ещё дубы и черёмуха. Но теперь никто не ищет, это ли липа, или клён, – всё вырубают. Да, другое поколение, грустно вздыхает старичок, – я знаю каждое деревце уже по его коре, ветвям. И потом он рассказывает свою боль о своих пчёлах, которые как живые существа ему близки, как люди. Этой зимою половина скончалась – более сильные напали на более слабых, отняли пищу, и так последние погибли. Я хотел бы поцеловать руку этого деревенского старичка, руку, которая ласкала деревья, солнце, землю. Она хорошая, чистая. Она не делала боли природе. Какая радость путешествовать опьяневшими от солнца и весны! По обочинам цветет земляника, пахнут фиалки, первоцвет, калужница. И черёмуха раскрывает свои нежные бутоны и льёт свой белый аромат над нами. Переночеваем наверху на конюшне, и как приятная поэзия кажется, – слышать внизу спокойное жевание лошадей и в воздухе неугомонные трели соловья. И всеми порами, всем телом вдыхать сладкую беспредельность майской ночи. Что только мы не можем учиться в сельской местности. Как мила эта латышская чистота. Все тропинки очищены, посыпаны песком, огородики прополоты, цветы посажены. Много астр, левкой, роз, для которых время цветения ещё не подошло. Так и можно знать, в котором доме живут порядочные, усердные люди. Где цветник, там и девушка, которая влагает своё сердце в заботе о нём. Деревенские девицы многие, многие ещё сохранили свою давнюю добродетель – полоть розы, и если они не носят веночек из роз, часто такой венок им цветёт в сердце. Радость пройти в деревенский дом и переступить через старый седой порог, и по растоптанному глиняному полу войти в сияюще чистую, покрытую коврами комнату. Меня всегда притягивает эти полосатые одеяла и ковры, где гамма цветов столь чиста и художественно прочувствована. Путь нас ведёт через городище на холме, заросшем елями. Рассказывают, что здесь погрузилась в землю церковь со всем колоколом, и проходя над нею, слышно, что внутри горы звонит колокол. Красивая дорога из Синей горы в замок Буртниеку. Здесь природа дала столько чистой радости! И грех не радоваться. Наконец издали сквозь пышную аллею дубов и лип засияла синева. Озеро Буртниеку. Мы идём мимо сада имения и бежим как дети по крутому берегу вниз. В удивительной синеве мечутся волны озера Буртниеку. С такою голубою чистотою смотрит ребёнок в небеса, когда его глаза отражают небесную синеву. Берега здесь крутые, усыпаны камнями, галькой. Имеются и куски скалы. Кажется, что находишься на Видземском взморье. Противоположные берега еле заметны как в мглистой дымке, далеко. Идём в сад замка, который оправился от разрушений после войны. К нам тянется цветущая черёмуха, поёт птичий хор, со всех сторон сверкает гордость природы. Около террасы замка на площади сада стоит пьедестал фонтана, красивая группа скульптурного искусства, изображающая четыре времена года. Долго мы бродим по аллеям парка, – имеются здесь свои аллеи любви, вздохов. Ветви лип искусственно изогнуты, издали хотя красиво, но вблизи видно искривление природы. Отправляемся по берегу вокруг церкви Буртниеку. На берегу озера древнее кладбище. Круча берега осыпалась, глиняная полоса породы видна далеко за верстами. Озеро роется всё глубже в берег, сваливает деревья, рушит кручу. Один огромный дуб вытянул ветви над озером. Ствол охватил как в агонии камень. Эти милые деревенские церквушки! Почему же они не остались навсегда символом человеческой чистоты, красоты, всего святого? Вечернее солнце погружается в волнах, когда подходим к церкви Буртниеку. Рядом с нею на дворе старый сарай. Нигде я такое не видел. Девочка пастора сейчас отпирает дверь церкви, и мы тоже туда попадаём. Уже поздно, когда мы думаем ехать обратно. Озеро неспокойное, по волнам ходит сильный ветер, странно сесть в такое время в лодку. Нашли одного сапожника, который нас перевезёт. Сам хромой, подпрыгивает на костылях, но руки железные. По дороге он рассказывает о себе, и мы становимся столь смелыми, что готовы были бы с ним по Стиксе отправляться. Говорил, что он хороший пловец и ныряльщик. Нет места в озере, которое он не знал бы. Юный лодочник странно, суггестивным, таинственным голосом рассказывает, и кажется, что лодка скользит по пучинам бесконечности, и никогда не будет полету волн конца. На воде и в воздухе дремлет странный багрянец, вечерняя молитва солнца. Ave Maria! Час чудесных мечтаний! Хоть можно было бы так скользить вечно, и вечно чувствовать около себя неописуемо нежный шум волн… Когда я хожу по полям, лугам, ища красоту природы, мне кажется, что я ещё больше искал душу человека. Слишком часто я чувствовал недостаток интеллигенции наших образованных. И как часто намного больше эту интеллигенцию сердца я наблюдал у простых людей, близких природе. Как я рад всматриваться в лицо старенькой матушки, наблюдать каждую черту, каждую морщинку. В лице настоящего латыша каждая черта излучает скрытую тёплую любезность, ясность, оптимизм. Дороги мне эти черты, в которых столько солнца и чистой природы. Душу человека можно узнать по одному пожатию руки, взгляду, тембру голоса. Простой человек, который не умеет ни читать, ни писать, часто намного мудрее иного «мудреца», который знает двенадцать языков. Ибо он понимает жизнь, неосознанно предчувствует, что в основах жизни лежит вечно священное, и чтобы это понять и почувствовать всеми клетками своей души, необходимо простое чистое сердце. Из Буртниеки отправляемся по краю озера в имение Бауню. Идём как во сне. Всё сияет в золоте цветов, голубое небо, и под ним синяя душа озера. И смеющиеся деревья, и белое облако черёмухи из каждого сада. Уже вишни в цвету, у сирени почки. И седые мшистые трущобы в цветах как седые пни в луговых травах. Завтракаем в Щютес. Их сын когда-то был арестован как революционер, позже учился в университете, пал на войне. Старенькая матушка показывает нам его книги. И поэтом был, местами зазвучала тёплая поэтическая струна. Можно судить уже по матери, что в семье образованные дети. Эта мать, которая своим натруженным рукам днём и ночью не даёт отдыха, в заботе о своих детях. Наконец попали в имение Бауню. В парке удивительны прямые, зеркалистые каналы. Когда смотришь с террасы имения, навстречу сверкает целое обилие воды. От имения идут дороги – аллеи, обсаженные столетними лиственницами, к кладбищу баронов. Торжественное, угрюмое, глубокое спокойствие. На красивой горе Екаба остались только остатки от бывшего величия. Белая каменная дача с колоннами, мостки нас ведут в парк, только жаль, что на каждом шагу мы встречаем лишь пни и опять пни. Тропинки заросли, речка засорилась. Имеется беседка, из каменной глыбы высечено сидение. И над всем романтично наклоняется сирень, выше благоухает черёмуха, ели, дубы. Отсюда выходим на холм Мейтас на краю красивого пруда. Рядом поле, где хозяева строят дом. Там развалины, но здесь новая жизнь. Жена пашет, муж подтёсывает брёвна, двое малых детей плачут. Так завоёвывают жизнь. Это и мистерия труда, священная тайна труда. Но многие из нового поколения уже так не умеют работать. Не умеют почувствовать и благо простого труда. Но что же может возобновить человека, если не труд, – труд идёт рука об руку с любовью. К вечеру приходим в Матиши. Из далека навстречу гудит вечерний колокол, и такое неиспытанное детское восхищение переливается по всему телу и зажигает сердце. Хочется на мгновение остановиться и погрузиться в молитву, и забыть всё, всё. Когда погас звон колокола, запел соловей в ближайшем яблоневом саду, и небо сеет золотую тишину над землёю. На скамейке церкви села старушка, которая только что подметала пол, все двери открыты. Какой-то богач умер, для него все дороги украшены ёлочками. И кладбище убирают. Поздний вечер, когда мы довольно далеко за Матыши слышим звуки скрипки из одного дома. Где музыка, где цветы в саду и на столе в вазах, там обитают всегда добрые люди. Мы входим и нам любезно предлагают ночлег. Дорога дальше нас ведёт в имение Озолу у красивого озера, и в Буденброк, через дубравы, пока наконец не достигаем Дикли. В замке устроен детский приют. Славно детям жить в таком райском уголке. Также и приходская школа в столь живописном месте. Мимо течёт речка, на круче старое кладбище. Нас поразило множество цветов и других растений в классной комнате школы. Дети зимой могут быть в сплошном саду. В Дикли долгое время пастором пробыл Нейкенс, под руководством которого здесь проходили первые праздники песни. – Церковь в Дикли столь простая, белая, чистая. Всё, что я в деревенской церкви больше всего полюбил, – это её белая, простая сердечность. За парком церкви мы наталкиваемся на одну лачугу, загороженную хворостом. Проходя мимо, к нам выходит пожилая женщина. Сразу можно почувствовать, что ум не совсем работает. Она ведёт нас к двум котятам, ласкает, смеётся и так странно ухмыляется. Её велели их утопить, но, если бы она это сделала, Бог то самое делал бы с нею. В юности она служила у одного учителя, безумно полюбила его, и учитель также хвалил её как большую ткачиху. Но он скоро ушёл отсюда и – умер. Она от этого начала плакать; братья её успокаивали, и врача послали, но она не перестала. «Разве любовь излечима?» – она так странно жутко вздыхает и в её голосе звучит смех слабоумной. И когда нам становится не по себе, и мы уходим из лачуги, она бросает на нас сверкающий взгляд и шепотом говорит: «Моего любимого нет ни в небесах, ни в аду – он вошёл … во мне …». И она опять так странно ухмыляется и исчезает в лачугу. Кто может познать человека в глубинах его сердца, подойти ближе всего, понять его и почувствовать всё вместе с ним. Душу человека в наше время так мало ценят, ею пренебрегают, топчут ногами, хотя в ней неисчерпаемые богатства, хотя она одна настоящая ценность. И на самом деле, путешествуя пилигримом по Латвии, мне кажется, что я путешествую по самым скрытым уголкам человеческой души, учусь видеть все глазами дня, понимать и ее тьму. РОПАЖИ, ХОЛМЫ КАНГАРУ Как хорошо побывать в гостях у деревенской старушки, предаться её заботе, которая столь широка как сама земля. Сидеть в чистой комнате у бело покрытого стола, вдыхать запах цветов в вазах и ветвей берёз, которыми украшены все углы комнаты. Слышать сквозь тишину комнаты несмолкающую живую песнь сверчка – сторожа дома. Или опять брести босыми ногами по росистому саду, лежать беспечно на траве и погрузиться в безбрежность синего неба. Вечером идём на опушку леса за ночными фиалками. Наша одежда и руки и так полны всяких цветов, мой друг всё ещё не успокаивается, тянет меня через заросли и кусты, пока не попадаем на поляну, где больше всего ночных фиалок. Я никакой красоты в них не нахожу, это говорю и своему другу, но она лишь ухмыляется, – «подожди до ночи», – и скрывается как птица в зелёной тени. Вскоре она опять возвращается и у неё в руке пучок бледно зелёных цветов. И когда вечером я ложусь спать, она ставит на столик, что рядом со мной, стеклянную вазу с ними, и я жду чудо. – Мне кажется, что эта мелкая бахрома цветков превратится в небывалые цветы. Закрываю глаза, засыпаю, но вскоре открываю глаза, – проснулся и чувствую, что в необычном дивносладком благоухании колышется вся комната. Всё вокруг меня кажется насыщено ароматами, – одежда, одеяло, рука, которой касаюсь лба. Что-то экзотично смущающее обняло все струны воздуха и окропило их тяжестью медовой. Я понимаю, что эти робкие цветы, которые днём молчат, ночью открывают все створки своей души и выливаются на всё как чудесный дух красоты. Аромат – их красота. Аромат – их душа. Дни Ивана Купалы уже у дверей, все луга заросли его целебными травами, цветами, ромашками, лютиками, Бог знает, как их всех зовут. Цветов такое обилие, и каждый день приходит новое чудо в сад Божий. Поле клевера пахнет яркими цветами. Пастушка напевая плетёт веночек. Настоящая работа ей будет в канун Ивана Купалы, когда для каждой коровы надо сплести по дару. Имение Ропажу как укрытый остров в сосновых борах. Югла под сенью деревьев, с песнею течёт через гальку и камней. За парком уложена высокая плотина, над которой река льётся пенящемся водопадом. По берегу канала, по красивой узкой аллее черёмухи попадаем в парк имения, где много старых деревьев, озеро с островком в середине. Чудесно здесь в мае, когда аллея черёмухи вся как ряд белых чаш цветов, из которых пьют и пчёлы, и соловьи, и мечтатель. Около имения на правом берегу Юглы находится имение пастора и рядом на холме руины древнего замка архиепископа, из которого ещё сохранился вал. Из имения Ропажи по полям, лугам и лесным тропинкам отправляемся на холмы Кангару. По пути много домов новых крестьян; кто-то ещё только венок ставит зданию, другой ещё обитает в какнибудь сколоченной будке, скот согнал в загородку под деревьями. Трудна борьба нового крестьянина за хлеб насущный. Он должен отвоевать у леса каждую пядь земли, вырубить деревья, выкорчевать и вспахать подсеку, и для некоторых только теперь подошло время посева. Кроме того, он должен делать параллельно другие работы, чтобы что-то заработать для построения дома. Но особенно вкусным всё-таки ему кажется кусок хлеба, который он заимел своими силами. Это ему как священное причастие, и это никогда не понять тем, кто живут потом других. Какой странной кажется гряда холмов Кангару среди окрестных равнин. Она около 14 вёрст длинна и местами только в несколько аршинов шириной. Поверху холма пролегает красивый большак в Лубану через Сунтажи. Этот горный овраг образовался в ледниковый период и ещё в незапамятные времена он был путевой просекой. Сказание повествует о том, что чёрт шёл с мешком песка на спине, чтобы засыпать реку Даугаву, но в мешке была дыра, из которой песок высыпался, и так родились холмы Кангару. Вершины холмов поросли лесом стройных лиственных деревьев и елей, путешествующим боязно ехать, потому что раньше в топком еловом лесу скрывались разбойники. Теперь вершины холмов немного опустошены, но всё-таки с них открывается ещё много первозданной красоты. Вокруг необозримые еловые леса. Просеки в них необъятно протяжённые. Местами глубокие овраги со смешанными лесами, огромными осинами, липами и елями. На поверхности холмов много папоротников, малины, земляники. Дальше проходя, ельники начинают сменяться сосновыми борами, деревья становятся мельче, местами топкие болотные озерца, заросшие мхом. Всё больше и больше видны тёмные трясины, пока мы выбираемся из леса в горной части, которая прорублена во время войны. Вокруг тянутся неизмеримые топи до горизонта. Местами крохотные, мизерные сосенки и лиственные деревья. Наконец горная гряда переходит в нечто подобное выдолбленному углублению, которое называют Кроватью большого мужика. На самом деле, высшая вершина похожа на изголовье кровати, на противоположном конце возвышение. Но вся гора поросшая густыми кустами орешника и ольхи, разные цветы и травы дурманят ароматами знойный воздух. Чрезвычайно жарко, в воздухе дымка, трудно идти. Но хорошо цвести вместе с природой, всеми своими жизненными нервами воспринимать теплоту солнца и как мёд принимать своими клетками сердца. Коротко отдыхаем на береговых травах Малой Юглы и направляемся обратно в Ропажи. ПИЛИГРИМОМ ПО ЗЕМЛЕ МАРЫ В КРАСЛАВЕ В детстве я её представлял как землю, покрытую холмами, где редкая сосна и наверху холма крест, и между ними бедные, убогие посёлки. И теперь мне она казалась совсем иная. Но я не знал, что столько красоты на земле, где ходила Святая Мара [Мара или точнее «Муора» в Латгалии является олицетворением Марии], – красоты, и столько трудного и бедности. Этот край надо ещё будить, ввести в свет солнца. С каждым шагом кажется, что народные массы ещё живут такой же неосознанной жизнью, как жили праотцы, что эта сторона ничего не слышала о голосах цивилизации, которые всю Европу облекают в радиоволнах. И всё-таки её дух уже проснулся – её интеллигенция. Уже проезжая через Даугавпилс, впечатление, что находишься в русском городе. Но здесь немыслимая грязь и бедность, и у людей, и вокруг. И дальше поезд мчится через поля, рассечённые на полоски, через дряхлые селения. Бедный и грязный городок также и Краслава. Ничто не привлекало бы пришельца, если там не было бы остатков древней исторической культуры. Во времена русских князей Рославль имела большую роль. От княжеского величия ещё сейчас сохранились руины в городище. В позднейшее время построен известный замок Краславы, который до сих пор чарует своим прекрасным садом объятым высокой стеной. Теперь в замке устроена средняя школа. Школьникам здесь красивая жизнь. Сад замка полон ботанических редкостей, с которыми нас знакомит учительница. Раньше всё было ещё более богаче. В оранжереях до сих пор выращивают виноград, инжир, абрикосы. В саду белые акации ещё только что отцветают, там самые разные сорта елей и сосен, как лиственница, кипарис, ещё сохранилось небольшое масличное дерево с необычно сладким ароматом, индийские клёны розово жёлтыми листьями, много таких деревьев, которые лишь садовник классифицировал в своей памяти. С террасы замка открывается глубоко внизу над Даугавой голубые горизонты. Под кручей горы перед замком раньше стояла церквушка Мары, куда люди замка ходили на богослужение. Говорят, что отсюда вёл подземный ход к Даугаве и из замка какой-то другой к женскому монастырю. На другой стороне замка находится каменный идол, столп песчаника, принесённого наверх польскими солдатами из Даугавы. Он на самом деле напоминает человеческую фигуру, только в верхней части все контуры стёрты. Даугава вымыла волной ещё несколько таких кусков песчаника. Поляки хотели упомянутого идола увезти с собой в музей Варшавы. Всё может быть, что на самом деле все эти камни из Даугавы когда-то были образами богов наших предков. Вспомним сказание, что и святой Владимир в Киеве, после крещения русских, велел бросить образ Грома в реку. От замка отправляемся осмотреть красивое здание бывшего мужского монастыря. В яблоневом саду мы встречаем нового пастора, который нас любезно водит по помещениям монастыря. В массивных, узких кельях когда-то обитали францисканские монахи, которые, напротив писанию доминиканцев, распространяли живое слово евангелия народу. Окна кельи довольно большие, стены побелены, всё-таки везде тяжелый, угрюмый, угнетающий воздух. В какой-то кельи осматриваем библиотеку монастыря, где много ценных древнейших фолиантов на польском и латинском языках. Раньше культура духовенства была польской, ещё теперь названия церковные на польском языке. Немного порывшись на запыленных полках, нахожу и Institutionum poeticarum libri – книгу о законах поэзии, в нескольких экземплярах. Конечно монахи, которые жили в этом красивом, тихом месте, одни бродили в саду, по лугам, волей-неволей наполнились поэтическим настроением, и то восхищение, которое не могли петь земной женщине, выражали в честь Мары под звуки гусли. Входим в церковь, построенную в стиле ренессанса. Она такая светлая, белая, большая, какую я редко где видел. На стенах красивые картины, от некоторых невозможно глаз отвести. Эти храмы в деревне на самом деле настоящие хранилища искусства. Главная картина на алтаре работа польского художника Матейки. Перед алтарём в горшках растут пышные, длинные папоротники. Также на других алтарях и в вазах, и просто так, много цветов, особенно много их перед иконой Марии. Святая Мария любит цветы, около неё своего рода культ цветов. Из главной церкви входим в соседнее помещение, где устроена часовня святому Донату. Доната считают одним из первохристианских мучеников, останки которого перевезены из Рима. Раньше же было обычай, что папа римский дарил известной церкви останки какого-то святого. Реликвии Св. Доната хранятся в металлической коробке, которая помещена в стеклянный более большой гроб. Св. Донату приписывают силу чудотворца, народ верит, что он способен исцелить обращающегося от всех недугов. И что он это может, доказывают подарки благодарности, которые развешаны у стены в часовне Доната, – в серебре и золоте кованные изображения частей человеческого тела, которые у него исцелены, – руки, ноги, сердце, и т.д. Если какой-то богомолец ищет у Доната исцеление, он должен обойти на коленях три раза вокруг гроба его. То же самое делают люди, у которых грех лёг на душу. И грешники побольше ходят на коленях вокруг всей церкви. Один кузнец мне твердо уверял, что он болел грудью, но несколько раз побывал здесь, хотя жил в Краславе, что 30 вёрст отсюда, и преклонив колени перед Св. Донатом, наконец вылечился. При том он упоминал как малозначительный факт, что пользовался и самим изобретёнными лекарствами. Такая фантастическая вера власти чудотворца Доната укрепилась не только в народе, но и в большей части интеллигенции. Трудно нам подойти к душе латгальца, который столетиями впитывал религию, проповеданную ксендзами. Эта душа часто столь одержимо религиозна, она не слушает ни других, ни себя, но исполняет религиозные требования как врождённый вековой императив. Хотя ксендзы, конечно, непоколебимые догматики во всём, что относится к религиозной жизни, но вообще они самый интеллигентный класс в округе и до сих пор, за исключением учителей, единственные носители света народу, но, конечно, и поработители этого света, если это не включается в определённые рамки догмы. Ксендзы, противоположно лютеранским священникам, больше срослись со своим народом, большую часть дня проводят среди народа, потому и знают и понимают народ лучше чем другие. Они и активные общественные деятели. Таким образом сама общественная жизнь приобретает религиозные черты. Мне случилось познакомиться с ксендзами более молодого поколения, с латгальцами, не поляками; о старшем поколении напротив, особенно последнем, я слышал и не мало отрицательного. Молодые ксендзы поразили меня широкими, весьма либеральными взглядами в общественных вопросах, всё-таки я всё ещё не могу их понять, когда они касаются религиозных догм. Всё, что в религиозной сфере и что определено ксендзами и папой римским, это святое и неизменимое, хотя и самая мелочь церковного ритуала. В святилище Доната мы узнали, что через неделю, в воскресенье, т.е. 4-го июля, в Краславе будет праздник Доната, один из самых больших в Латгалии, когда съезжаются около 40 ксендзов и стекаются столь же тысяч богомольцев. Сюда в мирное время направлялись пилигримы не только из округов Латгалии, но даже из Петрограда и Вильнюса. Чудесный край Латгалия! Это земля, где по народным сказаниям когда-то ходили Христос и святая Мария. Здесь не мало таких, кто верит, что Христос был не евреем, но латгальцем. В народной душе часто сливаются пространство и время, близкое и далёкое; то, что когда-то случилось в Иерусалиме, может быть произошло и на их земле. При том надо отметить, что среди латгальцев ещё очень много тёмных, наивных, совсем неразвитых людей. Так одному учителю недавно старушка спрашивала, правда ли это, что немцы хотят украсть луну. И такие вопросы слышны не однажды. Религиозный культ в народных массах очень часто воедино с самым тёмным суеверием. Интересно отметить случай, который недавно произошёл в Краславе. Тому можем учиться, какой всё ещё у одного другого способ найти утопшего. Так недавно в Даугаве утонул мальчик. Жители Краславы сбежались его искать. Искали, не нашли. Думали, что делать. Наконец кто-то более сообразительный пришёл с предложением – положить в воду буханку хлеба с зажженной свечою. Где буханка остановится, там и утопленника можно найти. Собрали деньги, принесли буханку, но она длинноватая, тонула. Сбросили деньги вторично, на этот раз принесли круглый каравай, более лёгкий, зажгли посередине свечу и пустили по течению. Каравай плыл, плыл, остановился, приплыл снова обратно. Так и все старания были тщетны. Утопшего потом нашли скоро, вёрст 18 за Краславой. Рядом с Краславой ещё много красивых мест, как круча Адамовас – крутой берег Даугавы, в стене которого неисчислимые пещерки с гнёздами сделали ласточки. На другой стороне коричневая «шоколадная» горка с озером Зиргу, Чёртова гора, Вавилонская гора, утопающая в кронах лиственных деревьев. Местная интеллигенция считает Краславу Латгальской Швейцарией; я всётаки должен примкнуть к убеждению владельца Букмуйжи, что настоящая Швейцария – в Букмуйже, – более 10 вёрст на север от Краславы. И рядом с нею – незабываемая гора Солнца, край мечтательных озёр. НА ГОРЕ СОЛНЦА Следующая цель нашего пути была через имение Скайсту в Дагду, но нам посоветовали прежде всего отправиться на гору Солнца. Недавно там был председатель Саейма и говорил, что на горе Солнца красивее, чем на Ривьере. Нас это очень заинтересовало, только рассказчик не знал сказать, где находится такая гора Солнца, – не знал даже направление. Начали расспрашивать других людей: но если кто и слышал об этой самой красивой горе в Латгалии, а может быть и в Латвии, всё-таки никто не знал, где она. Наконец мы у одного ксендза узнали, что должны пройти все четырнадцать вёрст через имение Кумбулю к заливам озёр Дридзас и Зивера. После полдня исканий гора Солнца стала в нашем сознании каким-то мистическим, сказочным местом, и мы были рады, что могли опять отправиться в путь и подышать деревенским воздухом, ширью и красотою. Остановились около имения Кумбулю; перед воротами белый образ Мары, благородно светлый, с солнечной улыбкой. Напротив церквушка. Проходя мимо, видим ксендза в своём саду, занимается пчелиными ульями. Рассказываем, что наш путь ведёт к горе Солнца, и о наших затруднениях в поисках её. Не ведая, мы затронули также интересы пастора. Он ведёт нас в своеобразную, хорошо обставленную комнату, где нас на время привлекают иконы Мары на стенах, и рассказывает, что когда-то он жил в Италии, в Швейцарии, на Украине и в других местах, много что повидал, но гора Солнца и окружные озёра ему нравятся больше всего. Он недавно хотел приобрести киноаппарат и моторную лодку, чтобы путешествуя по озёрам, снимать самые чудесные виды, и фильмы послать не только в Ригу, но и заграницу, даже в Рим, как ни странно это не звучало; всё-таки не хватало денег. Речь ксендза зажгла наше любопытство ещё больше. Посмотрев местную прекрасную деревянную церквушку, которую сейчас ремонтируют, и восхитившись красивой бело покрашенной резьбой по дереву, – Notre Dame de Victoire, мы отправились дальше. Наши души болели в тоске как у пилигрима, путь которого во мгле беспредельных далей, и который свято, тихо верит, что в любое мгновение могут появиться из-за голубых дымчатых горизонтов светло сверкающие башни Иерусалима. Идём через дубраву, собираем по обочинам пути землянику, рвём цветы. Душная жара в воздухе, хочется залезть под орешник, лицом в мягкий мох и улететь в мечтах. Опять поляна, по левой стороне появляются селения. Наконец впереди видим горную гряду, пересечённую, как обычно, длинными полосками полей. Эти пашни так портят окрестную красоту. Они такие пёстрые, разные, непривычные. На одной посеян хлеб, на другой картофель. Поднимаемся по узкой просеке в гору, на правой стороне от нас остаются два озерца, поднимаемся по новой круче через купы кустов и деревьев, пока не входим в волнистое поле ржи. Перед нами на самом высоком месте поднимаются мачты бывшего маяка. Куда не посмотришь, всюду волнуется ржаная нива, как зелёно-серое море, нежными дуновениями бросая шёлковые волны. Кручи горы поросшие ольшаником, на краю которого столько синих колокольчиков. Наконец взбираемся по узкой просеке через ржаную ниву на самую вершину. Гора Солнца, самая чудесная из гор! Эта гора ещё не знала взгляда пилигрима над собою. Редкий чужестранец, проезжая мимо, на мгновение останавливался, задумчиво вглядываясь на просторы волнистых нив и гладь озёр. И глазами, полными свежести озёр, он опять отправлялся дальше, не смея подняться через ржаную ниву на самую вершину. Гора Солнца! Я смотрел с Гайзиня, с горы Несаулес, Синей, Маконю и с многих других гор, с которых обозримы необъятные горизонты и горные гряды, и всё-таки всё это кажется не то, что открывается с высот простой горы Солнца. Внизу на самом деле как на греческом архипелаге. Озёра, острова, озёра без конца. Неизвестно, там одно озеро, или целая сеть озёр, но везде мерцает вода, извиваясь меняется с рощами, холмами. На юго-востоке озеро Дридзас, окружённое красивыми рощами лиственных деревьев, и другие озёра, поменьше. На северозападе – широкий, стоглазый Зиверс. Острова и полуострова озера меняются один с другим, трудно понять, где начинается один, где кончается другой. Настоящая земля тысяча островов. И посреди ржаные нивы и яровые поля, и рощи, и кустарники. И в синей дымке далей леса, леса. И у самого горизонта, в дали за несколько десятков вёрст, сверкает белая церковь Дагды. Этот край однажды станет настоящим местом паломничества молодёжи. Где одинокий пахарь бороздит, там когда-нибудь будут звучать как в древности песни и ликования. Задерживаемся на мгновение и тогда медленно расстаёмся с горою Солнца, оставляя там с собою взятые цветы. Когда спускаемся с горы, сеть озёр исчезает, ещё впереди, скрывшись в деревьях, дремлют озёра поменьше. Идём вперёд, по левой стороне издали блеснул Зиверс, который на вёрст восемь станет нам неразлучным другом. Дорога идёт извиваясь мимо Зиверса и Дридзу, нет ни мостов, ни лодок, потому мы должны обойти кругом. Красиво здесь. Этот край как сказка. Цветёт каждая самая малая травинка. На каждом стебельке цветок. И сколько цветов на всех лугах! Белые маргаритки, красный клевер, васильки. Цветут наезженные телегой борозды, цветут канавы, земля и небо цветут. Всё-таки, какая нищета везде! Есть область, где земля богаче, где лучше жить. Но большей частью у людей жизнь очень трудна. Латгальские селения местами довольно красивые издали, утопающие в деревьях, многие напротив бедные без деревьев. Домики обветшалые и небольшие как сарайчики для сена на лугах. Красота природы и бедность людей рука об руку нас сопровождали всю дорогу по Латгалии. И как жить семье, имеющей всего от трёх до пяти десятин земли? У кого больше десяти, того уже считают богачом. Богат тот, кто сыт. Но голодающих много. Нам по пути случилось, что по всему селу ни одной курицы не увидели. И из того, что есть, путешественнику не всегда можно продавать, хотя латгальцы добрые. Хорошо, если самим хватает, потому что детей здесь благодать Божья. На самом деле удивительно, как можно всегда покормить эти ротики при такой бедности. И эту землю трудно обрабатывать. Большинство посёлков ещё разделены на полоски – в системе трёх полей, по русскому обычаю. И как такие полоски, которые у одного хозяина рассеяны среди других, и по которым еле возможно проехать бороной, можно обрабатывать? Все должны начать полевые работы одновременно, иначе соседи будут проезжать по уже засеянным полям. Луга очень плохие, коровы дают лишь пару литров молока в день. В последнее время земли посёлков начали делить на отдельные хуторные земли, только землемерные работы продвигаются медленно. Латгальцы довольно прилежные, трудолюбивые, но им не хватает примера. У тех, которые во время войны побывали в иных краях, у них и избы, и поля лучше. Случилось, что мы застали латгальских женщин и у ткацкого станка, ткали и холст, и сукно. И другие рукоделия делают, всё-таки мало. Есть и мужчины – бондари, корзинщики, и гончары. Там, где земли мало, мужчины уходят в бурлаки. Часто по всему селению остались только старички. Землю обрабатывают больше женщины. Латгальцы отправляются кто на торфяные работы в Видземе, кто в Курземе на полевые работы. Но окупается ли это, вопрос, потому что многие там заработанные деньги спивают по возвращению домой. Одно, что больше всего не хватает у латгальцев – это чистота. По-настоящему чистые комнаты редко где встретишь. И в белорусских, и в латгальских селениях, везде грязь. Комнаты никогда не проветриваются, там же в одной комнате и стряпают, и спят, и кушают. Не однажды я видел, как дети в комнате играются с поросятей, или поросёнка, который бродит по комнате, ткачиха спокойно отпихивает ногой. Печи в комнатах большей частью без плиты; в выемке печи, как в очаге камина, пекут и варят, и нередко гонимый ветром дым распространяется по всей комнате. Стены покрыты или старыми газетами или пустые. В щелях передних комнат завывает ветер. Зимою, конечно, в комнатах часто приходится сидеть в шубках, как же натопить, – лесов мало. Единственная мебель – стол, кровати, пара скамеек и большой железом окованный сундук. На стене на простой бумаге пыльные иконы Мары, увитые сухими веночками. Удивительная религиозность во всей этой бедноте. Человек часто не знает, кому он верит, кому молится, но он верит, словно иначе не могло бы быть, не мог бы не верить. Хотя часто кажется, что эта вера стала однообразной, механической, и всё-таки слишком часто она даёт всю меру человеческих чувствований, всю душу человека. Есть некоторые латгальки, которые почти каждое утро отправляются в церковь за несколько вёрст от дома слушать мессы, сидят там час, и возвращаются обратно, – хотя дома работы полные руки. В Букмуйже мы встретили седую старенькую бабушку, в возрасте 103 года, которая только что прошла 3 версты, чтобы помолиться в церкви за свою больную, тоже уже седую дочь. Почти в каждом селении, где нет костёла – церкви, есть крест с изображением Спасителя. Часто он огорожен заборчиком, где посажены цветы, часто он под навесом и даже под стеклом. Вокруг креста обвиты сухие веночки, цветы. И на кладбищах около крестов образ Спасителя или картинка Марии. Марии посвящён месяц май. Май – месяц святой Мары. В мае каждый вечер жители собираются около Богоматери или образа Иисуса Христа пригвождённого на кресте, в поблизости своего селения, поют песни, читают молитвы, несут цветы. Или же в комнате перед иконою Мары собирается вся семья на богослужение. В сумерках зажигают в фонариках свечи, которые бросают нежный свет на торжественные лица. Прохожий не может почувствовать всё то богатство духовности, которое просыпается в простом человеке в таких мгновениях. Спим ночью в селе Казинчу, в конце озера Зиверс. Солнце сейчас утопает в пурпурных водах, когда входим в посёлок. Так и хочется остановиться, не двигаться и застыть в вечерней чудесной красоте. Необъятная глубокая синева неба, по которому летают лёгкие вечерние облака. И вода бросает красные стрелы в воздух, синева и красное сливаются в море огня. И на горизонте, как тёмно зелёный алтарь, поднимается берёзовая роща. В ДАГДЕ По пути сказочно на наших губах звучало имя Дагды. В мыслях о Дагде, у нас почему-то всегда на ум приходили прекрасные стихи Райниса «Addio bella» – «из тетради этюдов Дагды». Не знаю, заимствовал ли Райнис это имя от названия селения, но нам хотелось верить, что и место, к которому мы приближались, должно быть красивым как душа Дагды. Уже издали на нас зовуще смотрит белый костёл Дагды. Взгляд, привыкший к серым избам, смотрит на него как на чудо. Окрестность холмистая, поблизости мелькает озеро Дагды. Войдя в селение, вся иллюзия всё-таки вдруг исчезает. Везде грязь, какую только можно представить в Латгалии, при том в посёлках евреев. Идём сперва в костёл, который построен на обрыве озера. Холмик искусственно собран, чтобы Божий дом выглядел бы выше, более почтительно, торжественно. Когда приходим к церкви, дверь открыта, двор полон детьми, которые пришли на конфирмацию. Девочки в белых мелькающих платочках, мальчики – в серых кафтанах. Личики свежие как бруснички. На траве сели как старички, торжественно ждут урок. В саду священника встречаем молодого ксендза, который нас любезно проводит по церкви. Она в светлом стиле рококо, также картины. Образ Марии обвит гирляндами дуба. Картина на алтаре напоминает одну из мадонн Мурильо. В латгальских церквях я часто видел копии картин Мурильо. Может быть это свойство души Латгалии, что она любит Мурильо, в одухотворённом тонком лице, в робких глазах мадонн которого сверкает нечто «не от мира сего». Это мечтательное видение, которое помелькает на белом облаке на земле, и потом опять растворяется в синем эфире неба. Она как Беатриче Данты, какую изображают английские прерафаэлиты, сотканная из мечты, цветов и солнца. Я знаю, что Латгалии столь не понравились бы ни Рафаэль, ни страстный, слишком приземленный Микеланджело. В Латгалии их образы казались бы слишком человеческими, хотя и красота вокруг их голов свила ореол мадонны. В Латгалии нет незаполнимых расщелин между жизнью и мечтами, между божественным и человеческим. Ксендз нам рассказывает о святом Донате и вспоминает, что и у латгальцев имеется свой святой. В Лудзе лет 80 назад жил латгалец Карниекис, правдивый, святой человек, который творил также чудеса. После смерти его останки не тлели. В Краславе нам рассказали о Смерти Дагды. Когда ругали большевиков за вандализм, за то, что они сотворили в Латгалии, упомянули и некий пример, когда они сделали доброе дело. Перед церквушкой кладбища Дагды раньше находился какой-то образ – смерть. Жители, когда кто-то умирал, думали, что виновата Смерть Дагды, и носили пищу и другое на кладбище, чтобы успокаивать смерть; это было и ещё в самое последнее время. Потому ещё сейчас дети один другого пугают: – возьмёт тебя Смерть Дагды. Но большевики пришли и разрушили скульптуру. Жители стали теперь почти рады, что никогда уже не умрут. Когда расстаёмся, мы ещё наблюдаем, как ксендз среди учеников преподаёт учение конфирмации. У католиков конфирмация происходит ещё у совсем молодых, с 7-и до 12-ти лет. Они должны и исповедать грехи. Может быть всё-таки у народа эта исповедь грехов имеет известное значение в воспитании. Пока интеллигентный человек умеет более сознательно и морально наблюдать за собой, контролировать себя, более тёмное сознание должно часто искать присмотр у других. Рассказывая свои недостатки другому, человек глубже анализирует их, нежели сохраняя в себе, и более серьёзнее будет пытаться и исправляться. Он знает, что ксендзу можно полностью доверять. Когда человек исповедует грехи, ксендз не должен о них рассказывать другим, – даже если человек совершил преступление, даже убийство. Если преступник кается, – значит совесть его мучает, значит он не может уже быть злой для общества. Потому ксендз его не передаёт суду, если только его не поймают самого. Прекрасно было смотреть на ксендза среди детей, которые в саду на коленях сели как маленькие воробышки, алчно слушая каждое его слово. И другая сцена в церкви, когда девочка с опущенной головой робким тихим голосом рассказывает пастору в окошко, где исповедают грехи, свои тайны, и все остальные смиренно сложенными ручками ждут своей очереди. Дагда – это настоящий еврейский городок, каких в Латгалии немало. Мы входим в один магазин и просим обед, и ещё не вышли оттуда, когда нас окружает целая толпа евреев, и скоро уже почти весь город знает, что ищем обед. И теперь каждый рвёт в свою сторону, и обещает, что только может. Но мы не останавливаемся ни у кого, потому что везде ужасная нечистота. Вокруг пищи летает целый легион мух, остатки пищи сметают со стола прямо на пол. Наконец в каком-то более менее приличном месте мы поели клубнику и вскоре отправляемся дальше, чтобы отдохнуть под сенью цветущей нивы. Путь в Букмуйжу ведёт по двум дорогам: путнику лучше идти по меньшей, более извилистой, всё же и более красивой. Прекрасные леса, озёра, холмы. В тихом уголке у имения Новомысли сооружён крест с образом Спасителя, окаймлённый деревянным забором, вокруг вся площадка устланная чудесным красным клевером, настоящая часовня. И дальше липы и первозданный сосновый лес. Хочется молча преклонить колени, где столько прохожих молились перед Божественным Озарителем. У нас с собою веночек из клевера, вешаем его на ограду и идём дальше. Солнце уже качается в тихих волнах озера Эжу, когда достигаем Букмуйжу. В БУКМУЙЖЕ, НА ГОРЕ МАКОНЮ Букмуйжа как полуостров обрамлён озером Эжу. Громадные липы бросают торжественную тень над синими водами. Иди по которой тропе хочешь, все выходят к воде. И озеро само столь чудесное. Рассказывают, что в нём более 40 островов. И сами острова красивые, чистые. Одни из них поросли лесом лип, другие дубами, третьи покрыты шёлковыми лугами, где весною цветут множество ландышей. И рыбы здесь изобилие, как во всех латгальских озёрах. За Букмуйжей начинается самая красивая местность Латгалии – латгальские Альпы. Это земля, которая сама ещё не познала свою красоту. Когда местные нас спрашивают, с какой целью мы здесь путешествуем, мы отвечаем – посмотреть землю и людей. И всегда удивляются – что там из этой земли смотреть: земля как все другие. У латгальца нет желания стать «над горными вершинами», – над собою, над обыденностью. Единственная тоска, которая окрыляет его душу, религиозная. Но это ему легко достичь, на каждом перепутье у него часовня, образ Спасителя. И на мгновение облагорожен мыслью вечности, он опять продолжает свой серый труд. Идём из Букмуйжи берегом озера, пока не попадаем в пышную дубовую рощу, что за селением Пелёры. И там же на крутом берегу озера есть холм, – путь идёт через него, откуда видны дальние просторы озера. На синевато мерцающей воде острова почивают как стоги сена. Так и кажется, что мы чувствуем издали запах сена. В летние вечера молодёжь часто едет на острова, берёт с собою еду и остаётся там всю ночь. Но особенно туда бегут те, которые в весеннем опьянении любви ищут одиночество. В селе иногда живут и дачники. Да, я теперь жалею, что в спешке прошёл мимо этого Божественного края. Я потом ещё много бродил, но я не понимаю, почему это было нужно – опять и опять по утрам класть на плечи дорожную сумку и мчаться навстречу неизвестной цели, чтобы вечером уставший упасть где-то на солому с опьяневшей от дороги головой, и не почувствовать всегда сызнова сладость и тишину, и белое, ясное спокойствие летней ночи. И не слышать, что кровь загорается и пылает, и угасает вместе с последними ночными звёздами. И не слиться в дурманящем нежном дыхании любви с цветами, травами, ароматами, лёгкими вздохами земли и воздуха. И теперь, когда ночи такие тяжёлые и намокшие от росы, с тихой несказуемой тоской я гляжу назад на священный уголок земли, над которым ходило солнце, цвели цветы, ликовали в сладостном восторге птицы. Будет ли мне когда-нибудь суждено вернуться к этим синим водам? – Из Пелёри через селения Липишкю вьётся чудесная дорога. С холма в холм, от вершины к вершине, мимо необъятных горизонтов в голубом тумане. Пройди одну гору, взойди на вторую, и перед тобою открываются ещё другие, ещё бесчисленные гряды холмов, посреди них озёра, покрытые лиственными деревьями, застелены нивами. И эти нивы, сотканные из синих васильков сопровождают тебя всю дорогу, вскружив голову сладким ароматом нектара. Всё же у крестьянина нелёгкая здесь жизнь. Горные склоны усеяны камнями, трудно боронить, ещё труднее пахать. Узкие полоски земли тянутся между камнями, но крестьянин не может одолеть свою нищету. Всё-таки есть люди, которые и несмотря на свою нищету – отдают церкви. В одном селении мы встретили старичка, который отнёс ксендзу все свои деньги – 200 рублей, чтобы он помолился за его умершую жену, и она попала бы на небесах, в рай. И отдав всё своё мизерное имущество, он спокоен, и когда вскоре тоже уйдёт после жены, встретит её в небесной радости. Да, есть люди, у кого и порядочной рубахи на теле нет, – рассказывает один более сообразительный латгалец, – но даёт священнику. Гнетут также частые церковные ремонты, – расходы немалые, их делят поровну на крестьян. Ещё другие сборы, и для церкви, и для государства. Едешь на большие праздники, надо взять с собою подарок для церкви. Будет ли дома, после этого, что кушать, – Бог даст. И латгалец живёт, как может, – и, кажется, доволен. За Рудощи дорога уже более однообразная, равнины, леса. Цель нашего пути гора Маконю около озера Разнас, о котором в народе много разных, часто невероятных сказаний. В народе его зовут просто «городок», как небольшой город, какой когда-то находился у подножия городища. Солнце уже спускается к вечеру, когда вдали наконец видим тёмный силуэт холма. Спешим, потому что хотим до заката солнца попасть на вершину. Но мы должны обойти одно озеро, петлять, и чем больше спешим, тем гора кажется более недостижимая. Спешим по узкой просеке через лес, через холм, усыпанный валунами, увязли в болоте. Наконец поднимаемся в гору, гора такая отвесная, поросшая непреодолимым кустарником. Но солнце уже низко, низко. Перед нами вдруг вырастают дебри крапивы и орешника, крапива выше головы, но другой дороги нет, и со всей энергией бросаемся в жгучую купу. Руки, ноги как иголками обжигало, всё-таки вскоре мы уже на вершине. Ave sol! Как выразить то, что в одно мгновение унесло нашу душу и тело в молитве красоты! Солнце ещё сверкает такое королевское в огненных облаках, околдовывая неисчислимыми пламенными лучами, мечтательно зажигая озеро Разнас. И вокруг на необозримых равнинах дрожат и качаются белые вечерние сумерки. Просидели долго, долго на вершине горы, в тени развалин, и смотрели как закатилось солнце и Разна закрыла свои божественные очи. И наши головы затерялись в низких белых сияющих облаках, и наши души наполнились чем-то вечным. Гора Маконю, нигде душа не чувствует себя такой великой как здесь, наедине с беспредельностью, с далями. Душа приходит сюда как буря, уходит тишиною. И уходя ещё долго несёт в своих глазах мечтательное сияние белой Разны. На Троицу и в дни Ивана Купалы на горе Маконю устраиваются большие народные праздники, с песнями, танцами, люди веселятся. Приезжие прибывают даже из далека. Староверы только празднуют две недели позже, как везде, так и здесь по своему обычаю. Странный народ эти староверы – раскольники, которые наполняют многие селения. Здесь царит ещё патриархат, здесь ещё уважают добродетель предков, – не пьют, не курят. Строго соблюдают посты и церковные ритуалы. Другие верования для них порочные, безнравственные, они так же как евреи не должны кушать с другими за одним столом. Если чужой попросит напиться, тогда ему выносят воду в «кружке язычников». Дома чище, чем у других, они моются каждую субботу. Священников выбирают из среды крестьян, того, кто чуть больше образованный. Хотя староверы религиозны, среди них всё-таки много тёмных, даже с дикими инстинктами, потому у них нередко происходили убийства. Об этом много рассказов. Ночь переспали на берегу озера Разнас и утром, искупавшись в священных водах, мы прощаемся с сердцем Латгалии – Разной. На правой стороне ещё мерцает вдали над водами белая церковь Каунаты, но наш путь лежит в другую сторону – в Аглону. Начинается однообразная равнина, леса, поля. Проведя ночь в имении Мушу, идём мимо озера Рушану вверх. Утро воскресное, множество людей идут в церковь. Кто не мечтал об Аглонской богоматери? В Латгалии уже с детства человек идёт пилигримом на это самое священное место своей земли. Латгалец знает, если и нигде он не получит спасения, нигде не будет избавлен от мук совести, то непорочным и обновлённым он станет у ног богоматери в Аглоне. Ибо эта есть песня о Марии в Аглоне: «Если кто хочет оставить заблуждения, Быть спасённым, … Он посмотрит в Твои глаза сострадающие, Сбросит тоску и станет самым счастливым.» В ЦЕРКВЬ МАРЫ В АГЛОНЕ Аглона! Трепещет сердце пилигрима, в священной радости он останавливается как в визии, когда издали видит на утреннем горизонте выделяющиеся чисто белые башни церкви Мары в Аглоне. Аглона, это Иерусалим латгальца, его Рим, Бенарес, Мекка. Заботами дня заточён в тленный земной прах, теперь он своею душою летит туда, где ему сердечно небесно улыбается дева Мара, туда, где одним её взором достаточно, чтобы Бог сошёл по лестнице священной в его душу, был бы во всей его жизни, во всех его делах. Утренние поля полны солнца и озарения. Мы настигаем группы путешественников, и чем больше приближаемся к Аглоне, тем больше со всех перекрестков появляются новые потоки людей. Своеобразный свет льётся от лиц людей, от чистой праздничной одежды, от медленной торжественной ходьбы. Присоединяемся к одному латгальцу, который идёт поблагодарить Мару за то, что она его исцелила. Он был на войне, видел неверие и хулу, но он всё-таки сохранил свою душу. И когда он рассказывает, детская улыбка появляется на его лице. Церковь Аглоны находится между озёрами Эглес и Циришу, на красивом месте. Вокруг волнами дышат нивы, дальше сосновый бор. Название Аглоны наверно произошло от слова «egle» (ель), потому что в латышском наречии ее зовут Эглайне или Эглуне. Легенда рассказывает, что там, где теперь церковь, в седые времена росла ель. Однажды ночью мимо этой ели шли путники и на её ветвях увидели удивительную икону Мары. Они её унесли, но утром она была опять на прежнем месте. С той поры и эту ель считали святой. Сюда люди приходили молиться Богу. Позже на месте ели была построена церковь и монастырь. Монахи, которые в Аглонском монастыре жили ещё до 1875 года, посадили вокруг его великолепный сад, окаймлённый высоким каменным валом. До войны Аглона была известна также как курорт. В саду монастыря были два серных источника, которые привлекали людей со всех концов. Из-за чудодейственной силы народ источники считал чудотворными, священными. Середина дня, когда мы входим по тяжёлым каменным ступеням в церковь. Голова вдруг так странно закружилась, на мгновение кажусь как опьянённым в окружающем сиянии. Церковь полна богомольцами, некоторые сидят, некоторые на коленях, со взглядом обращённым глубоко в себя, ничего не видя и не слыша. Некая добрая старушка, согбенная почти до земли, время от времени прикасается губами прохладного каменного пола, не выпуская из дрожащих пальцев чётки. Басами сверху зазвучал орган, поёт хор, что-то извечное в его песне. Воздух тяжело душный, насыщен ладаном. Идут девочки в светленьких, беленьких платьях, веночек из клевера на голове, рассыпают цветы на каменный пол. Подходят к алтарю, кланяются, исчезают в дымке. На алтаре, в свете свечей, вижу икону Мары чудотворной. В данный момент великая месса, и эта чудесная икона, из-за которой тысячи путешественников преодолевали путь издалека, появляется лишь короткое время перед глазами молящихся. Она изображена на дубовой доске, лицо и руки изображены красками, одеяние в золоте и серебре. Мара, счастье для тысячей, благожеланная! Я размышляю, и мне на мгновение кажется, что я с другими ушёл куда-то неведомо далеко, где обычной жизни уже нет, где мир чистых возможностей во всей нетленной красе и совершенстве. И я наблюдаю красоту, и я уже воедино с нею, и мой дух как беспредельная чаша преисполняется благодати. Когда я взглянул снова, икона исчезла. На месте её находится другая, напоминающая деву Богоматерь из картины Мурильо. Чудесна сама церковь, в розовых и бело-голубых красках. Самая красивая из всех католических церквей, какие я видел. Хорош и хор церковный, чистые, звонкие голоса, и солисты, и орган хороши. Народ здесь приобретает не только глубокое религиозное настроение, но приходя сюда, его душа соприкасается с красотою, которое потом следует ему по жизни. Простому человеку это особое наслаждение после обыденности труда улететь и отдыхать в пламени свечей, в торжественной чистоте звуков органа и песен. Кто может знать душу народа? Чудная, своеобразная, и насколько чудесно и своеобразно всё то, чему она верит. Каждый, кто входит в церковь, целует, молча поклонившись, ноги образа Спасителя, потом макает пальцы в святую воду и перекрещивается. Один ученик перед тем стирает носовым платком образ и тогда целует, здесь уже неосознанные сомнения, ибо что значит требование гигиены религиозному фанатизму? Над алтарём, рядом с иконой Мары, также как в часовне Доната в Краславе, находятся серебряные фигуры, подарки от богомольцев, которых исцелила сила Чудотворящей. В последнее время меньше слышно о чудесах, творимых Марою. Также священные источники монастыря потеряли свои способности исцеления. Но народ не верит, что серный источник что-то мог бы без заботы Мары. Дева Мара может исцелять и без источников и лекарств. Достаточно бросить взгляд на её образ, во сне прикоснуться её ног, чтобы стать здоровым. Эта вера народная, и эта вера больше чем все родники исцеляет, творит чудеса. Латгалия на самом деле земля Мары. Местный ксендз нам рассказал, что культ Мары в Латгалии намного более распространён чем в других католических странах. Так в других местностях отмечают только два посвящённых Марии праздника, в то время как в Латгалии их пять. И следует отметить, что кроме главных у Марии имеются ещё много праздников местного характера. Чудесен храм, который латгалец создал деве Маре в своей душе. Мара народу кажется второй после Бога. В народных массах раньше Мара смешалась с понятием нашей Лаймы, которой также нередко в народных песнях придают почти большую власть как Богу. Мария является посредником между Богом и человеком. Если Бог сердится, тогда люди молятся Марии, чтобы она вступилась за них перед Богом. Иногда обращаются непосредственно к Маре и молят её как саму Мать Божью, чтобы она уберегла человека от болезней, прогнала зло. Красивы песни, которых поют богомольцы, почитая Марию: «Мария, Мария, яснее солнца, Красивее луны, более всего уважаемая, Мария, Мария, Не более великого Тебя, Матерь Божья, Ты первая после Бога, Мария, Мария.» Самое большое торжество в церкви Аглоны происходит на Троицу и 15-го августа. На Троицу богослужения длятся три дня. Тогда и окрестные священники совершают крестные процессии в Аглону, несут образы Спасителя и Мары, реликвии. Священники одеты в праздничной одежде. Так в прошедшие праздники пришли из Вышки, что в 16-ти верстах от Аглоны, и ещё другое шествие – что в расстоянии 30-ти вёрст. Приходы, которым по праздникам трудно добраться до крупнейших центров, нередко организуют шествия до ближайшего образа Спасителя на перепутье, или в деревне, где богослужение проходит среди красоты нивы, полей. Не менее торжественны праздники бывают 15-го августа. Тогда, так же как в праздник Доната, собираются иногда до полсотни тысяч богомольцев и несколько десятков священников. Так как помещение церкви мало, тогда часть богослужения проходит и перед церковью, под открытым небом. Здесь и видим настоящий латгальский народ, и крестьянина, и интеллигента. Здесь на миг исчезают все классовые разногласия, вражда и идолы. Горожанин в воротнике стоит на коленях рядом с нищим в лохмотьях. И также те, которых уже перенял современный дух, приходят лишь потому, что их деды сюда ходили, невольно смущаются и пьянеют вместе с теми душами, у которых живо чувство красоты. Вечером выезжаем с местным учителем по озеру Циришу к острову, где жертвенная гора. Солнце погружается в озеро, в чудесной неге колышется воздух. Не хочется выходить из лодки. Это час, когда исчезают все умозаключения, цели, жажда. И всё-таки человек чувствует себя столь богатым, столь могущественным. Ему достаточно самого себя, с сиюминутной, но глубинной сущностью, ибо он чувствует, что он подобно ребёнку владеет всем миром. Возвращаясь на берег, местный молодой священник приглашает нас в свою комнату, и после знакомства, прежде всего, ставит перед нами тарелку с душистой клубникой. Многое нам рассказывает. В его помещении мы и ночуем. Над кроватью образ Распятого. В комнатке белая, чистая тишина. Через окно льётся ночной воздух, полный дивных ароматов и звуков. Эта ночь, когда святая Мара ходит по земле, слушает вздохи людей, озаряет, благословляет их. На следующее утро рано идём на мессу, после которой гостеприимный священник нас приглашает завтракать в монастырь. Нас проводят по белым ходам, кельям и сводам, которые всё же столь тяжёлы. Нам показывают также помещения церкви, в золоте и серебре тканные ритуальные одеяния. Наконец нас проводят наверх на церковную башню, откуда нам ещё в последний раз отображается земля Мары во всей своей грустной религиозной красоте. Уже вечер, когда расстаёмся с белым, ясным спокойствием святилища Аглоны, и тихим ходом направляемся в сторону станции Рушану. ИЗ АПЕ В АПУКАЛНС Апе – серое местечко около эстонской границы. Даже особо деревьев нету. Но пройдя несколько шагов далее, всё меняется. Чудеса приносит река Вайдава, которая окружает окрестность. Временами бывает она пугающая и одинокая, как у источника Рагану [Ведьм]. Здесь она стонет столь мрачно, больно. Особенно в апрельском половодье она поднимает с рёвом чёрные, страшные волны. Тогда и нередко бывают случаи, когда люди тонут: не зря в ней души умерших стонут. Направляемся вверх через золотистую ниву ржи, узкою, узкою тропинкою. Тяжёлые колосья ещё полны утреннего сна, поют что-то мечтательное. Когда идём, они полегают золотом, ударяются в лицо, ласкают волосы, пахнут. Так Христос шёл через хлеба. Всегда, когда иду вдоль созревающей золотой нивы, мне кажется, я вижу вдумчивый взгляд Христа. Домики столь старенькие как мохом покрытые. Сколько здесь работы проделано! Сколько шагов исхожено: из кухни в клеть и к колодцу, и дальше в хлев. Сколько души излилось – боли и хлопот, – земля и воздух полны ею. Каждая травинка как тайный очевидец души. Через холмы Вайдава втекает в овраг Лиеланчу. Мы попадаем в незабываемый уголок. Прибрежные луга пестрят в цветах, что глазам больно. И над всем огромная круча, покрытая чащей, обиталище белочек и тетерев. Долго бродив, заблудились в сосновом бору. Наконец среди леса набрели на хижину, с кровлей зелёного моха. И ещё более седая старушка еле выходит из неё. Сотни морщин. Спрашиваем про овраг Пеллю. «Где, Боженька, здесь такой взять!» – матушка отвечает нам на местном диалекте. Совсем не той дорогой шли. Мы уже далеко вошли в эстонские края. Пришлось ещё долго блуждать по чаще, пока сами нечаянно попадаем в искомый овраг. Чем дальше идём, тем ущелье становится глубже, мрачнее. Ручеёк провожает нас, серебристо прозвенев в тишине. Но кручи над нами как необозримые стены. Валежник переплёлся в путы непреодолимые. В середине папоротники, вьётся хмель, орешники, трухлявые стволы и ветви, и коряги. Такое спокойствие здесь, но над головой вверху ели страшновато зовут. В древние времена тут обитали разбойники. Не мало путников ограблены и брошены в тёмные гнёзда оврага Пеллю. Немного страшновато становится в этой дикой красоте. Чем-то первобытно холодным ударяет в лицо, как дыханием стихий, что-то влажное свежее, свободное. И странное опьянение впитывается в кости, и, кажется, вся душа тянет ветви и наполняется соками, и цветёт, и колышется, и шумит, и мысли и чувства падают тяжёлыми смолянистыми каплями на землю. Когда наконец, сквозь ветви и кусты пробиваясь, добираемся по круче наверх, взор вдруг ослеплён, сомневается, не верит. Земные горизонты, несравнимые! – На противоположном берегу оврага, у эстонцев, – «земля язычников», голая неплодородная. Холмы прижались один к другому. Редкие, убогие лачуги среди них столь сиротские, где обитают люди с плохой славой. Такая угрюмость простирается над всем. Дальше – леса, леса. И сколь грустны они, сколь одиноки. Но на другой стороне – озёра, озёра: Пеллю, Сунеклис, Илгайс, Визла. Четыре зеркала, один другого более живой серебристый, как ртуть. Там небо, в них любуясь, не перестаёт улыбаться своей красоте. По середине яркие белоствольные берёзовые рощи. Острова блаженных. И глубины озёр сверкают как зачарованные при заходящем солнце. Как сверкают все дали вокруг! Можно чуть ли не летать. Птице хорошо. Она не знает в такой мере силу земного притяжения, тяжесть материи, как человек. Ей принадлежит всё пространство. Внизу всё вокруг купается в бархатных сумерках. В закате солнца над нивами мгла. Издали доносится зовы пастуха. Наклонись над красным клевером, пей аромат, и тебе кажется, что пьёшь вечность. Душа столь полной, столь беспредельной становится. Каждое малейшее дуновение, тень и звук касаются её струн как музыка. В роще внизу, кажется, зажжён святой огонь. Чудесные лучи светятся в зелёных сумерках. В священных рощах летними ночами когда-то ходили божьи дочери, в белой одежде, с распущенными волосами, ясные как лучи луны. Они вплетали в волосы цветочные веночки, играли, пели. Манили к себе запоздалого странника, околдовывали своею красотою. Заставляли его устремляться к ним – искать их, преодолевая тридевять стран, побуждали его на подвиги. Человек тогда находился на природе, у природы он приобретал героический дух, величие души. Теперь вырубают священные рощи, уничтожают природу, закапывают древние сказки под стенами города. И всё-таки природа бессмертна, и настанет однажды время, когда природа вернёт стократно свою потерянную красоту, и в человеке родится новый и небывалый героический дух. Встаём, уже поздний вечер. Блуждаем ещё немного, пока наконец сарайчик сена нас принимает в свой белый тихий покой. Из комнаты доносится звук гитары. Там девушки сбрасывают с себя тяжесть обыденности, опоясываются светлыми крыльями. Так можно улететь, куда хочется, никакое расстояние не далеко, когда вокруг музыка и когда молод ты сам. Ночь такая белая, чистая. Из-за приоткрытых дверей заглядывает беспредельность. И опять ранним утром набрасываем на плечи рюкзак. Такова судьба странника: лишь успел вглядеться в другого, приходит час, и опять надо расставаться. Приходится носить с собою грусть от одной двери до другой. И всё-таки – взяв с собою от каждого какой-то дар, что-то дорогое, красивое. Отправляемся дальше по берегу озера Пилскалнс через заросли ольхи и орешника. Под ними много большой красной земляники. Человек их забыл, зверь не любит. Колокольчики синевою ослепляют глаза. Бродим по озеру и собираем ракушки. Сколь много их! Когда-то здесь находили и жемчужины. Озеро узкое как река, но длинное. Идём час, ещё нет конца. Нас сопровождает невыразимая синева. Кто же окрашивает летом все воды столь синими, голубыми, сияющими? Небо с солнцем тогда ходят по земле, наполняют глубины синевою, деревьям дают яркую зелень, раскрашивают цветы радугой. Наконец, долго побродив по чаще, находим тропинку к городищу. Три стороны застланы деревянными стенами. Только в одной через раздвинутые ветви появляется опять озёрная сказка. Там Дзерве, Клотыньш, Корнет, Райпулис. И за ними ещё полосы вод, здесь невидимые. Когда-то, кажется, здесь тянулась широкая река, которая позже разделилась: та самая огромная расщелина, которая тянется уже от Апе. Одиноко и красиво здесь, где столько седых берёз. Тоска дымится в воздухе. Каждый год сюда из округа собираются крестьяне петь на летние праздники. Зажигают костры, развесив венки на ветвях. И мощная песня уносится в воздух. Но века слушают и молчат. И дальше опять холмы, холмы. Одна красота ярче другой. Потому ли дана красота людям, чтобы они там увидели себя, свою совесть? Но тогда люди должны быть божественными. Почему красота не мчится огненной бурей через человеческую душу, или как священная тишина? И если это зажигает глаза, то лишь на мгновение. Всё-таки есть люди, над которыми власть красоты остаётся долго, на всю жизнь. Это пахарь, отец Индрану – художник, – который всё бытие чувствует как себя: ему болит каждая ветка, которую он случайно сломал. Но сколько таких, кто всё ещё видит мир как божественный образ, но не как ломоть хлеба? Между Томуле или Шкаунаце и озером Райпулю на пригорке крестьянин строит дом. Двое сходятся, создают себе новую родину. Пусть горько, трудно. И всё же! С утра, сбросив сон с глаз, открываешь двери: синева озёр в твоих глазах. И там берёзовые рощи, там сияющие горизонты. Эх, стоит бороться, пропахивать борозды одну за другой, палить спину на солнце. Идём по узкой просеке через холмы и луг. Извилисто течет узкая, узкая речка, ополоскав улитки. Не знаю, почему, но она долго нас притягивает к себе. Позже узнали, что её зовут Жемчужная речка. Достигаем озеро Балтыня, весь в окружении тёмных больших деревьев, как брошенный лесной колодец, потом по тропинке через лес в глубоком овраге находим мельницу Лакнес. Озеро здесь среди круч как сосуд с вином, полный до краёв. Неподвижное, странное, извечное. Вода бьёт через мельничное колесо, звуки однообразно зависают в тихом воздухе. Столь чудно, хорошо здесь. Когда отправляемся дальше, душа трепещет как струны. Могли бы здесь остаться, или где-то в другом месте, хотя бы на неделю, год. И Бог лишь знает, что там, куда мы идём, и почему мы туда идём. Грустно. Опять мы уже у озера Райпуля: там же Мишас, село на краю озера. Странно: где дома более бедные, там люди более приветливые. Как бы больше души у них. Трудно было уснуть эту ночь. Во всех жилах трепетала красота, душа ныла, полная чего-то невыразимого. Наконец мы уже на шоссе. И здесь из холма в холм. Гора Ромаша, гора Солнца, кто может всех назвать. И вдруг, столь внезапно, неожиданно вырастает перед нами белая башня церкви Апукалнса. Большак ведет на холм, на самую вершину. И чем выше поднимаемся, тем шире ландшафт. В гору подниматься можно чуть ли не всю жизнь: если тело устаёт, дух становится всё легче. С какими чувствами сюда столетиями приходили люди молиться Богу, – здесь, где облака так близко. В этом месте, где небесные высоты касаются земли, где облака почивают на верхушках деревьев, над необъятными борами, полями и лугами поднимается чистая белая церквушка, – как бы некая весть миру, слово радости. Издали как ангел с белыми сложенными крыльями. Как хорошо на горе: всё можно видеть. Путнику, кто спросит тебя указать дорогу, не говори: идите направо или налево. Но заведи его на самое высокое место и скажи: видите, там идёт дорога, и там пастушья тропа за этой рощей, и там за этой горою будет другая дорога, которая приведёт вас в правильное место. Рядом с церковью кладбище, настоящее деревенское место почивания. Кладбище: сад воспоминаний. Вот старушка согбенная склонилась у могилы сына. Здесь старик, положив шапку на крест, с глазами полных слёз, молится. Здесь идёт молодая мать, белый платок спущен глубоко над глазами, одна, совершенно одна. Здесь деревенская девица, неуклюжими шагами, несёт в носовом платке завёрнутый веночек из васильков своему возлюбленному. Вечером украшают церковь берёзками. Завтра воскресенье, будет конфирмация детей. Звонарь как раз ставит свечи в подсвечники, когда входим. Потом он вешает гирлянды листьев дуба. Там же сложены берёзки. И когда всё сделано, он поднимается на башню и колокольным звоном предвещает канун праздника. Как звуки колокола улетают в поднебесье! Как это увлекает за собой человека, поднимает, зажигает его всего, а потом опять бросает в беспредельную тишину. Рано утром отправляемся к горе Делиньш, к одному из самых высоких холмов Латвии. Один край продолговатый – покрыт нивой хлебов. Второй – весь в деревьях. Вся окрестность утопает как в круговых полосах: нивы цветов, рощи. Среди холмов белые луга. Но издали сквозь голубую дымку таинственно спокойное сверкает озеро Алукснес. Местный пастор большой любитель музыки. Он сам создал духовой оркестр, который и воскресным утром с башни поздравлял молодёжь, пришедшую на конфирмацию. Когда я пригляделся к сияюще белой, на солнце сверкающей одежде, в торжественные лица, я на мгновение почувствовал, как глубоки ещё устремления, какой таинственный трепет ещё у молодёжи. Как она жаждет чистоты, доброты, жаждет божественной мудрости. Но когда в жизни это хорошее сразу не достичь, нередко она одурманивает себя и фальшью. Кто освободит, поднимет молодёжь! – Придут молодые люди домой из церкви, повесят свои белые крылья у стены, чтобы больше никогда их не надевать, откроют тяжёлую дверь в жизнь, в незнании остановятся: куда идти, как жить? Никто этому не учил, и те, кто вокруг, спутники, сами ходят на ощупь в неясных предчувствиях. Кто покажет единственный правильный путь, чтобы никогда не сомневаться? Кто даст душе в жизни лёгкость пчелы, ясность солнца? Чаша всё наполняется, всегда и всегда: в школах, в конфирмации, из книг, но дух ещё больше преисполнен жаждой. Это потому, что нет никого, кто дал бы настоящее утоление жажды. Это потому, что вместо живого хлеба и живой воды душе молодёжи дают высохшие цветы – догмы: не убий, не лги, не преступи супружество! Как просто так задавать по катехизису: возьми, выучи то и то. Но дитя человеческое ведь очень хочет учиться сперва у самого учителя, у живого человека, увлечься его духом, наблюдать в нём суть того, что он жаждет. Хоть бы вы знали, хоть бы вы это поняли, вы, от которых дитя ждёт больше чем от матери, из рук которого он жаждет получить нечто большее чем любовь! Но дитя человеческое, поев за одним столом с вами, ломая один ломоть хлеба с вами, уходит всё-таки голодным как прежде. И часто уходит, чтобы свою душу охлаждать в болотной воде и в угаре. * Какой вечер меня ожидал на башне водонапорной в Рудачи! Над садами и холмами бесконечное сияние заката. Как горит мир! Кажется, что кровоточит сердце мира. Является ли основой нашего существования красное – трагическое, или голубое – радостное? Почему одни, пророки, с просветлёнными глазами говорят: Всё, всё является радостью! Божественное опьянило радостью пространство! И другие в грустных мыслях шепчут: Нет, мир это борьба, борьба на жизнь и смерть; есть в нём и радость, но еще большая грусть его поглощает. Если рождаются могущественные ликования, то и страданиям нет конца. Расступитесь, алые небеса! Исчезнет величественное сияние, и все краски сольются в могущественном единстве воедино, ночью. И у ночи нет ни хорошего, ни плохого, ни тьмы, ни света, она заполняет междузвёздные сферы, она видна и светла для духа. Я сидел на башне и мне казалось, что я – язык могучего всемирного колокола, в куполе мира. И мне казалось, что этот язык звеня, порывисто мчится к крыше беспредельности и рассыпается на звуки и сливается с тьмою небытия, чтобы вновь тогда вернуться в себя, в своё сознание. Так я мчусь из бытия в небытие, и стихии кружатся вокруг меня как накалённый пар, но я всё же остаюсь вечно незатронутым сам в себе. И там промелькают рощи, и воды сверкают в низинах, и тёмные силуэты зданий, и ещё более неразличимые образы среди них. Дитя человеческое, куда лежит твой путь? Между зубами вечности: между двумя смертями ты дышишь, крохотный и слабенький, не спрашивай, почему, и не ищи дороги вверх. В ЛЕДУРГЕ Были зелёные сумерки, когда спустились с холма дворца Сигулды в овраг. Нас окутала тёплая, удивительно нежная волна воздуха. Чем ниже спускались, тем свежее воздух дышал в лицо. Тропинка вилась в темноту. Ветви деревьев обняли нас как руки вечности. Внизу говорила, блистала река Гауя. Было так тихо. Где-то негромко запел соловей. В душе влился мёд. Он капал из темноты, с деревьев, от земли, из потока ароматов и дыхание напилось горячим паром. Хотелось прижаться к дереву, слиться с немым стволом. И вдруг наверху, на холме кто-то запел: лирично, пронзительно, ярко. К голосу присоединились ещё другие. Серебро изливалось в воздухе. Я посмотрел. Где-то наверху под орешником мелькали белые силуэты. Кружились в танце, пели. Целый ряд песен одна за другой наполняли ночь. Падали как золотые капли в темноту. Я сидел и смотрел ночи в глаза. И вдруг внизу загудел другой голос: сильный, мужественный. Кто-то правил лодкой и его жизненность всколыхнуло воздух и воды. Я мчался вперёд через кусты, через стены трав. Ветки цапались в мои волосы, одежду, ноги увязали в мокрой земле, но я чувствовал какой-то огонь в себе, который нёс меня через бесконечность. Я сам стал природой, цвёл с её ветвями, мои руки тянулись как хмель вокруг всего, вплелись во всё как сильные корни. Но душа звучала и бурлила как фонтан, только что вырвавшийся из земной груди. Как хорошо быть! * Утром, только что проснувшись, мы отправились дальше. За Сигулдой вся красота природы постепенно терялась. Дорога вела через серенький, солнцем выжженный лесок. По пути зашли в Инциемс в замок Виктора Эглиша. Всё послеобеденное время провели с поэтом около дикой Браслы, с её крутыми, красными каменистыми берегами, с буйствующими течениями. И в утреннюю рань опять дальше. На этот раз дорогу опоясывают волнующиеся нивы хлеба, льняные поля. Луга сияют на солнце. Каждая тропинка усеяна цветами. Наконец издали с холма сверкает навстречу шпиль церкви. Входим в Ледургу как в воскресенье. На обочине красное, в зелени затаённое здание волостного управления. Потом по правой стороне выплывает зеркало озера. И там же и кабак, и церковь. И перед церковью небольшая красивая изба, куда мы отправляемся в гости. Окружает новый, только что сплетённый палисадник. Цветочные клумбы тщательно ухоженные. Над головой зашумел клён, как бы благословляя приходящего. Стоим, смотрим. Какое спокойствие повсюду: на зелёной земле и наверху, в синем небесном куполе. Наконец зашуршали шаги. Молодая девушка выбегает из комнаты. Светлые льняные золотистые волосы развевает ветер. На лице столько света! Как солнышко светит – всё солнце неба перешло в черты лица девушки. Входим в комнату. Всё в цветах! На полу, в вазах на столе. Охапки маргариток. Незабудки, ночные фиалки. Плетёные кресла, белые занавески. Когда она сюда пришла жить, всё было разорено. Сама всё привела в порядок. Отдохнув идём знакомиться с Ледургой. Хотим попасть на церковный двор. Врата закрыты. В одном месте окружающий вал чуть разрушен, переступаем, и нас обнимают тихие, благие тени берёз. Дверь закрыта, язык колокола немой, но почему такое воскресное чувство везде? – О, здесь же сердце природы, – весело начинает девушка. Здесь цивилизация столь далеко. Здесь имеются люди, душа которых как воскресенье, приветливо мудрая и светлая. – Но бывают тут и плохие люди, она делает примечание, становясь серьёзной. – Всё-таки, неужели человек вообще бывает злым? – она продолжает. – Если он что-то сотворит, то из-за мгновенного бессилия или душевной болезни. Если он был бы здоров, тогда он это не сделал бы. Помню, на уроках конфирмации пастор велел нам выразить мысли: существует ли грех? Я тогда написала, что нет грешных, имеются только больные. Не наказывать надо, но лечить. Она замолкает, голову скрывая в одеяле для трав. Потом, посмотрев вверх, развивает дальше свою мысль: – Как мы тогда тосковали по тому дню, часу, когда нас примут в конфирмацию. Накануне мы, девушки, до поздней ночи собирали белые маргаритки. Много нам их нужно было. Большой крест алтаря мы украсили белым, в одних цветах. И ещё другими цветами покрыли место алтаря. Но сам стол причастия обвивали белыми розами. Красиво это было. Когда входили в церковь, одна озорница приколола к груди священника розу. Он ничего не сказал. Только улыбнулся. Никогда не чувствовала такую божественность, как тогда. Еле совладела слезы. На балконе церкви расположился оркестр, и когда мы входили, начал играть, а приход подпевал: «Возьми меня за руку и веди меня!...» Дыхание остановилось в груди. Казалось, небеса склонились над землёю, взяли меня в свои ангельские объятия и унесли высоко, высоко. Когда я после отправилась домой, весь мир мне казался в цветущих розах. Мы слушаем и нам кажется, что мы утопаем в цветах. И всё вокруг нас, деревья и воздух облачаются в голубую юность. Перелезаем опять через забор и мы на поляне. Ледурга примечательна своими кладбищами. Их, если не ошибаюсь, целых семь. Одно другого древнее, более забытое. Идём дальше по лугу к кладбищу, которое самое старинное, но самое величественное. Цветы на полях ласкают наши ноги. В нежной траве утопают шаги. Речка извиваясь протекает рядом. Мальчики в воде по грудь тянут сети. «Что-то ловится?» «О, полное ведро линя», один косо пробурчал. «Что ты болтаешь», другой, что поменьше, упрекает. «Хоть налим попался бы». И мы уже у кладбища. Часовня истлела, дряхленькая, старенькая. На дверях старинная резьба по дереву. Сквозь крышу ветер гуляет. Рядом деревья, огромные, даже двумя обхватами не охватить. Ясень, клёны, ели, берёзы. Некоторым добрая сотня лет за спиной. Другие, ветрами сломанные, лежат здесь же в траве, разлагаясь. Кустарником, сорняком заросшие могилы. Еле их можно ещё заметить. Древнейшие кресты с навесом, тоже слабо держатся. И опять, сколько цветов! Местами всё в одних цветах. Хочется остановиться, духом и кровью погрузиться в это чудо красок. Тропинка уходит в гору. Вдруг более открытое место. Всё видно как с крыши. Вокруг деревья стеной, но здесь тихо и светло. Много солнца. Можно хоть купаться в солнце всею сущностью, стать молодым и ведающим в седом дыхании спокойствия. – Я сюда часто прихожу, – рассказывает наша собеседница. Читаю, сижу, мечтаю. Часто так незаметно окутывает меня глубокая ночь. Но я не боюсь. Здесь природа так мила. Столь близким, близким здесь всё кажется. По близости скамейка, где садимся. Тишина над всем. В воздух взлетает пчёлка и жужжит. Её песня ещё долго не перестаёт звучать в моём сердце. – Здесь хорошо, – наша собеседница тихо шепчет, опустив голову. Когда я умру, также меня здесь похоронят, – на холмике. Может быть она в этот момент что-то и предчувствовала. Потому что сейчас наш друг на самом деле почивает на этом месте. И тени солнца целуют те следы, где она ходила. И цветы и голубое небо цветут над глазами, которые когда-то тосковали, невыразимо желали солнца и жизни... Мы встаём, небольшая грусть у нас. Но её разгоняют золотистый воздух и красота. Дошли до рощи, величественной, белой, которая местами вырублена. Там лежит громадный валун, на котором могут поместиться несколько человек. Сюда она приходит по вечерам и поёт. Был такой случай. Она однажды там задержалась до позднего вечера. Луна серебрила белые стволы рощи. Она была весела и пела. Вдруг возле камня встал какой-то мужчина и странным, немного грустным голосом заговорил с нею. Она вздрогнула. Вокруг было пустынно, и людское жильё далеко. И чужак казался не в своём уме, хотя его глаза умно так блестели. Она набралась духу и спросила, откуда он? Он стоял у камня и начал ей говорить поэтическими словами. Богатство эпитетов было у него. И чем больше он говорил, тем более красноречив стал. Это её заинтересовало. Можно было заметить, что у него была беспокойная и интеллигентная душа. Он утверждал, что является бродягой по миру. Останавливается он на мгновение, чтобы прислушиваться к звукам более чистым, поклониться красоте, и опять нечто заставляет его спешить дальше. – И тогда он просил меня, – она продолжала, – чтобы я спела. – Я преодолела робость и начала петь. И мне стало грустно. Я закрыла глаза. И когда позже оглянулась вокруг, странный человек исчез. Или его гнала новая тоска? Или его грусть была слишком непреодолима, чтобы её смог вынести, слушая песню? – Было близко к полночи, когда нам пришла безумная мысль попробовать попасть в церковь. Иногда боковая дверь бывает открыта, – наша собеседница рассказала. И так и было. Держась рука за руку, мы пробрались в темноту церкви как в колодец. В помещении алтаря было светлее. Через окна, стёкла которых расписаны красками, падали нити лучей луны. Было странно и страшно. Мы поднялись на балкон. Моя спутница села у органа. Помещение налилось торжественной меланхолией, стены зашатались в потоках звучаний. Может быть пробудится село. Может быть жители Ледурги идут смотреть, что это за диво в церкви: среди ночи играет орган. Но всё было тихо вне нас. И орган пел хвалебные песни неизвестному Богу, которым мы были переполнены. И тогда запела наша спутница один хорал. Душа разлилась. Было тепло и хорошо. Глубокой ночью закрыли за собой тяжёлую дверь. И ещё долго бродили по уснувшим тропам и говорили. В лунном свете вокруг нас цвела земля. У земли была свадебная ночь. И опять утро. Наша спутница сопровождала нас отрезок пути. За тенью деревьев исчез её стан. Исчезли золотые льняные локоны, глаза, в которых цвели первые синие анемоны. Спустя год мне было суждено опять вернуться назад по этой же дороге. Но на этот раз, чтобы бросить желтеющие листья в свежо выкопанную могилу. Тогда осень звучала в деревьев. Пуст и меланхоличен был воздух. Как вылитая чаша был мир. Может быть когда-нибудь я ещё вернусь пилигримом в этот край. Здесь вылилась чистейшая душа. Она теперь дышит травами, деревьями, солнечными лучами. Само солнце в солнце… Отправились с другом ближайшей дорогой в Нейбаде. Так как пароход сегодня не ходит, то мы должны проделывать однообразный путь по пескам побережья моря. Бродим по морскому песку, гальке, но трудно идти. Высокие дикие дюны, своеобразные сосны. Уже Пабажи, ещё другие посёлки рыбаков. Песчаные равнины. Ближайшую дорогу постепенно заносит песком. У некоторых сосен еле верхушки видны. Полный солнечный зной выносим на плечах. Как жжёт всё тело. Воздух смолистый и тяжёлый. Наконец вечером приходим в один кабак. Все кости требуют отдыха. Почти пятьдесят вёрст пройдено. Так наконец-то отдыхаем. Но пока мой друг спит, иду к озеру, который рядом с сараем. Ложусь в лодку, вытягиваюсь во весь рост, головою прильнув близко, близко к немой глуби. Воздух столь тёплый, душный. Вода слегка качается. Рядом со мной одурманивающе пахнет аир. Туман сверкая ложится на воду. Какое блаженство я почувствовал после всей усталости. Не хотелось даже двигаться, после долгого похода. Только мечтать, не закрывая глаза, и глядеть, погрузиться беспредельно в душу природы. У меня в это мгновение было так, словно я был влюблён. Но это не было человеческое существо, создание из плоти и крови. Это был неизвестный нирванический дух, который парил в природе, который раскачивал каждую метлицу, говорил с каждым звуком, качался с каждым дуновением аромата. Ибо я так люблю тебя, природа. Моё путешествие пилигрима к тебе ещё не окончено. Ибо в тебе всё самое красивое от человеческого и от далей небесных. Ты всё объединяешь в себе, Ты, нескончаемая беспредельная красота. ПИСЬМА ИЗ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ПЕСНЯ СКАЛ Море как синее серебро. Смотришь, глаза ослепляет. Беспредельность взяла на колени горизонты, лелеет, качает. Вечно так: из бездны на вершину, из небытия в бытие, из жизни в жизнь. Бушевала буря. Корабль метался в игре волн. Многие путешественники болели, мучились в душных каютах, тосковали по земле. Но меня объяло непонятное спокойствие. Я стоял опершись о перила и улыбался морю. Чувствовал себя столь свободным. Там буйствовали стихии, там страсти перемешивались с экстазом. Я был вне всего этого. И если я должен был бы сейчас погибнуть, я взметнулся как ласточка из рук небытия в голубые высоты. Утихли высокие волны. В волнах рассыпались золото и пурпур. Нигде человек так не чувствует свою душу, как на море. * Чайки стаями бросаются в взбитую кораблём пену, зеленую глубь, чтобы опять на росистых крыльях прорваться навстречу к солнцу. Вдали выплывают синим туманом окутанные берега. Уже Швеция. Корабль медленно рассекает сверкающие воды. С тайной радостью въезжаем в сеть шхер. По весенним извилинам, между скалистых круч, местами цветущих садов и дач наш корабль скользит мечтая. Листья на деревьях только что появляются, вишня и черёмуха уже в цвету, красные домики в зелени, белые парусники, и над всем ясное небо. И везде солнце: даже на мрачных, холодных скалах. Чужестранцу всё-таки далека эта гранитная страна, где мелкие сосенки, кустики пробиваются из расщелин, которые покрыты скромным слоем мха. Кто может приблизиться к этим громадам, перекрывающим бездны? Миллионы лет они здесь стояли невозмутимо, и столько же долго их не коснётся ни дождь, ни высокие волны, ни рука цивилизации. Пустыни превращаются в оазисы, степи в нивы, но какая власть способна зажечь живой огонь в этом вечном камне? Но есть люди, кому эти громады близки, которые понимают их и знают, что у скал есть душа. Скала ее скрывает, – только тем, кто около неё переживают столетия, она открывается. По вечерам, когда садится солнце, когда воздух у моря такой тихий и прозрачный, у скал медленно открываются мхом покрытые ресницы, задрожат иссохшие губы, и грустный, но сладкий звук еле слышно вибрирует в воздухе. Швед останавливается в работе, тихо снимает шляпу и слушает. Он знает, что скалы поют. Скала открыла свою душу и дарит тому, кто её любит, кто её понимает. КОРОЛЕВСКИЙ СТОКГОЛЬМ Наконец видим у горизонта ряд тёмных зданий. Ещё мгновение, и мы входим в гущу пароходов и парусников. Как странно кажется человеку, впервые ступая на землю, о которой он так много думал. Ты можешь вдыхать её воздух, смотреть ей в глаза и больше не мечтать. Но судьба такова, что часто, приобретая на самом деле нечто, мы теряем идеал о нём. Королевский Стокгольм! Где только мы не ходили, везде нам навстречу всплывало «королевское величие». Королевскими были полицейские, которые в блестящих шлемах на голове нас встретили у гавани. Королевскими называются театры, оперы, парки, гостиницы, книжные магазины. Даже заметив бабочку на ветке черёмухи, мы не могли представить, что у неё не была бы королевская корона на голове и она не принадлежала бы к высокому двору монарха. Все витрины, все журналы полны портретами принцев и принцесс. Вокруг них и вертятся все газетные сенсации. Самое удивительное, что в Швеции правительство часто социалдемократическое, и всё же во главе государства король. Трудно европейцу расстаться со своими идолами. Вместо того, чтобы их поместить в музеях, он только их подвинет чуть больше в тень. Королевский дворец величествен, но и мрачен как тюрьма. Редко уже открывают чугунные ворота. Когда путник проходит мимо, ему седой охранник в блестящем шлеме бросает равнодушный взгляд. Ещё много педантичного духа традиций у шведов. Это и сделало шведа холодным, сдержанным. Так трудно приблизиться к его душе. Может быть в нём много тёплого пламени, но он это не показывает другим. Его сердце вросло в неприступную скалу. Но кто хочет приблизиться к его сердцу, тот должен его полюбить, и чтобы его завоевать, тот должен отдать всего себя. Но где же мы могли бы приблизится к другому, если не в искусстве. В красоте самые чуждые тона сливаются воедино. * Сейчас в Швеции неделя Красного Креста. В честь этого большой праздник. В субботу вечером в одном заливе у здания ратуши был великолепный фейерверк. Вокруг залива стены гор и зданий. Люди стеклись тысячами. Пиротехника показывала чудеса. Ракеты в воздухе вились фантастическими рисунками. Вспышками усыпали землю и небо. Всё озеро было полно лодочек, катеров, которые сверкали в воде. Позже посередине озера сожгли один старый корабль. В глазах кружилось от всех огней. И в городе ночью поражали огромные гирлянды лампочек, которые местами вились с дерева на дерево, от вершины к вершине, над домами, над гаванью. В честь Красного Креста на просторном дворе ратуши был устроен концерт, в котором участвовал и латышский хор. Шведки в национальных костюмах разносят программы. Светлые золотые волосы как венки. Мелодично чисто и свежо прозвучали латышские народные песни под сенью седых стен. Но что было для этой толпы, которая там внизу, латышская душа, которая разлилась в серебристо чистом ночном воздухе? Может быть кто-то на мгновение бросил взгляд на заморских гостей, как на чтото вне обыденности, чтобы их опять забыть в многообразии и в спешке жизни. И всё-таки, хотя швед кажется спокойным, ни чем невозмутимый, но когда задеты его сокровеннейшие струны, тогда зазвучат все аккорды. Если есть люди, которые очерствеют, которые встают против живого слова, улыбки, слезам, то песне им трудно сопротивляться. Песня приходит как небесное пламя, бросает корыстного человека в внезапные альтруистические стихии, увлекает в беспокойствии, заставляет его жаждать самое чистое, лучшее. Истинного человека завоёвывают не мечом, но красотою. Может быть это будет искусство, которое сломает когда-нибудь различия между расами, народами, между людьми. Оно будет солнцем, которое сожжёт маски на наших лицах. Потому хорошо, что мы отправляемся в Западную Европу – по пути искусства. КУЛЬТУРА Ночь. Внизу гудит город как безумный рой пчёл. С улицы манит, зовёт какая-то заманчивая сила, травит кровь. И воздух вливается через окно нежный как мёд. На дворе лето. Королевские парки все в цвету. Я сегодня завидовал одной черёмухе, ветви которой касались земли белыми небесными крыльями. Майская ночь покрыла над городом свою звёздную душу. На высотах такое спокойствие. Но внизу ничтожные существа горят, борются, страдают. Безумие заблуждений гонит их по земной коре. И жизнь и смерть танцуют по их следам. * Вчера мы посетили представление в королевской опере. Красная арка полупустая, на сидениях в ложе немного аристократии, дамы в одежде со времён Густава Адольфа. Фойе сверкает всё в зеркалах, в золоте. Кажется, каждое украшение стены, каждый шов роскошного бархата напоминает давно угасшее величие. В шведских театрах много эстетической золотой резьбы, только темперамента маловато как у славян. В искусстве должно взбушеваться всё величие души. Гармоничная стихия – это искусство. Германцы и французы играют больше нервами, славяне кровью, самой жизнью. Славянин часто одним оттенком тембра может создать рай, или всё сокрушить, превратить в ад. Среди музеев чудесна Национальная галерея Стокгольма. Наряду с классиками здесь больше всего привлекают сами шведы. Редко ещё какой художник так может играть тональностями красок, как Бруно Лильефор. Его картины настоящие мелодии колорита. Трава между скалами, в сотни нюансах переливаясь, живая синева озёр и непередаваемая лучистость воздуха. Кто же не знает виды Лильефора из жизни птиц и животных? И к орлу на высотах, и к резвым лисятам, которые играются на мягкой мураве, и к дереву, и к камню он подошёл как бы с панпсихическим чувством. И рядом с ним – ещё многие другие имена, которые доставили мне несколько красивых цветущих часов. Один буддист мне однажды утверждал, что древние индийские мудрецы – махатмы достигли сверхчеловеческую силу духа, потому для них любое явление материи потеряло значение: для них всё было дух. Желая сохранить свои познания для будущих поколений, они писали свои мысли на пергаменте лишь силою духа, так сказать, без чернил. Ещё теперь на одном из островов Бирмы сохранилась библиотека, написанная «рукою духа». Я и не стараюсь отрицать убеждение упомянутого буддиста, ибо если физический мир имеет силу радиоактивную и силу других невидимых энергий, почему же не может быть у духовного мира реальная сила, действующая и на физический мир? И когда я читаю и восхищаюсь трудами искусства, ко мне часто приходят эти мысли. В работе гения из каждого мазка красок, из каждого нюанса пробивается могущественная, божественностью переполненная душа. И временами кажется, что эту чудодейственную симфонию красок написал дух, всею своею силою. Гений сгорел, прежде чем себя отдал человечеству. На холст и на бумагу падали огненные пламена, кровь и пепел. Утопающая в роскоши Западная Европа, жизненный потенциал которой иссякает, ищет себе идолы в других культурах. Недавно была в моде Индия. Несколько десятков лет назад первыми духами европейского искусства были Ибсен, Бьернсон, Стриндберг, Гамсун: викинги, языком которых является – могущественный полёт орлов, суровая тишина полей на островах. Какая свежесть и свобода дышали с севера, какая сила духа. Скандинавы создали новый род героев, давно небывалых энтузиастов. Бранд, который увлёк массы людей в горы, Христос наших дней – пастор Занг, детская вера которого покоряла горные глетчеры. Лильенкрон, который своею скрипкою околдовал мир, искатели Бога, социалисты, женщина – герой. Северный житель борется с моральным законом в себе, страдает, но не поникает головой. Потому и у него было многое, что другим дать. Когда я ходил по улицам высеченным в скалах Стокгольма, всматривался в спокойные, равнодушные ясные лица, я увидел в одной витрине портрет Стриндберга. Меня смущал этот глубокий, сверлящий взгляд. Из какой культуры родилось это дерзание души, эта тоска утверждающего и отрицателя, богоискателя и ненавистника, что в этих одиноких глазах? Суровость дышит из них, но и такая живая нежность понимающего. Я стоял, долго думал, кто этот человек, кем является шведский народ, дух которого как чужая песня звучит неосознанно в каждой моей клетке. * Шведский народ живёт зажиточно и свободно. В каждом уголке социальная культура. Школы – одна радость. Везде чистота. Шторы, цветы на окнах. И в учёбе много солнца. Для рабочих построены красивые бело красные домики в цветах и зелени. Я исходил все окраины, но они мне показались не менее красивыми и чистыми чем центр города. И всё-таки в Стокгольме уже сильно чувствуется нервный, душный ритм большого города. Современная культура всеми своими щупальцами обхватывает человека, возбуждает в нём страсти, рассеивает его мысли. Непрерывное мелькание автомашин по гладкому асфальту, сирены, улетающие образы, ослепляющие рекламы в воздухе. Но здесь нет той моральной усталости, что в Берлине или в Париже. Лицо человека веет неприкосновенностью, в себе замкнутой природою. В СКАНСЕНЕ Бродил я по могущественным дубовым паркам, прыгал по скалам, блуждал в синих заливах, улыбающихся полосах воды, по которым плыли множество парусников и катеров. Под вечер случайно нашёл зоологический сад в каменистом месте, на берегу чудесного залива. Зверей всё же в нём мало, но сам парк роскошный, и особенно – этнографический музей в нём. Старинные деревенские клети, баньки с древним оборудованием, даже кабак с резными расписными стульями, столиками и стенами. И всё же самое незабываемое в Скансене – это её башня. Не знаю, как долго я пробыл один на башне. На одной стороне – весь Стокгольм с гранитными домами высеченными в скалах, с садами утопающими в голубой дымке, сверкающими, смеющимися водами между ними. Но на другой – бесконечно пересекающиеся заливы, горы с выступами скал, бесконечные грустные горизонты соснового бора. Внизу в павильоне оркестр играет меланхолический вальс. Чужие люди там слушают, полны уютного настроения. Бывают моменты, – если душа часть своего изобилия не может пожертвовать другому, то вся красота тщетно сгорает. Часто самая пустая жизнь становится сказкой, когда случайно в одиночестве услышишь дыхание человека вблизи себя, когда чувствуешь возле себя близкое, тебя понимающее существо. Вспоминаю слова одного человека: «Если мне одному отдали бы всю эдемскую красоту, – я бы ее отверг, если у меня не было бы рядом человека, с кем я мог делиться в своей радости. И красота может убить, особенно, если та в одиночестве. Я лучше борюсь в страданиях и несу корону темноты и бренности у себя на голове, лишь бы я чувствовал рядом с собою душу, которая понимает и чувствует мою душу, и на струнах которой трепещет тот самый зов жизни и трогательность, которые во мне». – Издали во мне звучит ещё этот голос как грустная песнь. Спускаюсь вниз, спешу по тропе в скалах к озеру, где такая белая тишина. Природа, которая не имеет своё эго, она живёт для бытия других. Она отдаёт себя другим, любит других, тоскует и понимает других. Одиночество всё же благословляет человека, когда он ищет пристанища в природе – в чистом сердце природы. Но её красота слишком грустна, чтобы он мог бы долго там быть, и чтобы снова не вернуться и не искать в человеке друга. ГЛАЗА ОЗЁР Отправляясь из Стокгольма на юг, взгляд всё время наталкивается на стены скал, на мелкие сосенки, на болота и озёра. Вся шведская земля как высечена в скалах. Суровый, серый угрюмый гранит всё время чередуется с радостной зелёной муравой, серебристыми заливами, небом, – то голубым, то покрытым облаками. Чужестранец не мог бы долго дышать в этих каменных грядах. Он спешил бы отсюда, если эта страна с тысячью глазами не зачаровала бы его: не покорила бы своими кроткими голубыми глазами озёр. Куда и не поехал бы, везде сверкают они. Синие полосы воды манят как в дивный лабиринт сердце чужестранца. Благословен народ, кого днём и ночью как совесть охраняют эти чистые бодрствующие глаза. Силен народ, душа которого родилась из суровой силы гранита, тоска которого – тоска орла, вьющего своё гнездо под небом. Только около 80-ти км от Мальмё впервые появляется более широкий горизонт полей. Уже встречаются липовые, вязовые рощи, луга, более богатые фермы. Юг является и клетью хлеба шведов. Ночью приезжаем в Мальмё. Огромный корабль – паром, на котором помещается целый ряд вагонов, переправляет нас через узкий Зунд в Копенгаген. За нами остаются сверкающие огни порта. И маяки бросают сине-красно-золотое пламя глубоко в тёмное небо. Нигде нельзя почувствовать такой непостигаемый рок, как на корабле ночью. Кажется гигант несёт тебя беспомощного и ничтожного над чужой вечностью, над чужими, страшными пучинами. И в мгновение может вырваться этот суровый титан, взметать все бездны, и спуститься с тобою в чёрное небытие... КОПЕНГАГЕН В ЦВЕТУ Сейчас цветёт сирень, белая, фиолетово-розовая. Все сады утопают в облаке цветов. И много здесь садов. Великолепный Орстед, Розенборг, Ботанический сад, Лангелинй, и многие другие. Цветёт пышные жёлтые акации, цветут яблони, каштаны разных видов, целый лес ветвей-цветов. Гаммы красок как облака летают в воздухе, смешиваются в голубом небе. – Имеются и небольшие луга цветов, тропинки окаймлены цветами. И вокруг глубокие, величественные тени деревьев парка. Много цветущих деревьев на кладбищах, также дачные районы около гавани в одних цветах. Сама душа цветов сверкает в воздухе. Рядом море, вечно синее. Парусники качаются как чайки. Стокгольм суровый, строго монументальный, замкнут в скалах. Копенгаген свободно смеющийся, светлый, очень широкий, необъятный. Смотришь с башни ратуши, нельзя край увидеть. Едешь на нескольких трамваях, невозможно постичь конца. Здесь природа более нежная. Души человеческие написаны более мягкими линиями. Черты лица нежнее, тоньше, вечная улыбка влита в каждую морщинку. Датчанки и красивее, они свободны и свежи, и в душе у них ещё много утренней росы. Здесь столь много любезных, чистых лиц. Редко можно увидеть накрашенную, неэстетично одетую даму. В последние дни я уже не чувствовал себя чужим в этом городе. Странную дружбу временами испытывал, когда бродил в толпе смеющихся людей, всматриваясь в лица встречных. Датчанин приветливый и услужливый на каждом шагу. Кондуктор в трамвае не будет бранить несоблюдающего предписания, но галантно улыбнётся. Любезен он всегда к дамам, помогая им входить, или к детям, взяв их под свою опеку. В государственном строе настоящий демократизм, хотя это тоже королевство. Всё-таки традиции здесь меньше чувствуются чем в Стокгольме. Король здесь так же как античная статуя в современной культуре, у которой может быть нет ценности искусства, но которую сохраняют из-за древности. Копенгаген удивителен своим велосипедным сообщением. Велосипедистов часто больше чем пешеходов, особенно по утрам. Улицы асфальтированы, широкие. Едут все, даже дети. Девушки в цветущей светлой одежде летят как бабочки по улицам. Мелькает золотистая улыбка, исчезает в уличной толчее. Велосипеды без счёта оставлены на всех углах улиц. Человек идя на работу, заходит в магазин, оставляет велосипед прислонённым к уличному столбу. Вечера датчане проводят в великолепных парках. Хорош ботанический сад в центре города. В середине большая пальмовая аллея с настоящим тропическим чувством. Не хватает только попугаев и обезьян на ветвях. Рядом здание с водяными лилиями. Поля роз. Озёра. Скалы с альпийскими фиалками. Ещё только весенние цветы, но через месяц здесь зацветёт чудо. В сумерках цветов стоят влюблённые, смотрят на цветы и друг другу в глаза. Воздух как заколдован, льётся в душу как нектар, пьянеет каждая жилка. Дух чувствует себя окрылённым, прояснённым. Одинаково люблю и белую улыбчивую сирень, и светлую весну на лицах людей, и голубые благословляющие небеса, и беспредельное небо в глазах девушки. Это часы, когда человек не может не любить, когда сама душа природы цветёт, краснеет в любви. БЕССМЕРТНАЯ КРАСОТА Во всём городе много памятников и зданий искусства. В каждом парке разные скульптуры, украшения. Датчане понимают и любят искусство. Потому они собрали в своих музеях ценности, которые весь город делают более светлее и величественнее. Национальной гордостью здесь является музей скульптора Торвалдсена. Удивительна плодотворность этого художника. Он один заполняет огромные арки. Торвалдсен хотел быть античным в своём искусстве. По образу древних эллинов он ваял без счёта богов, венер, аморет. Но они мало греют. Не хватает не только одухотворённости Родена, но и скромной живости, какая, например, у Праксителя. Зачем искусство, если оно не озаряет, не поднимает? И помещения музея мрачные, без стиля. Чудесная напротив Глиптотека Карлсберга. Самое светлое, что я почувствовал в искусстве. Уже само здание построено с благородным, гармоничным наитием. Входя нас поднимает одухотворение часовни. В середине под высоким стеклянным куполом большой павильон с пальмами. Здесь среди пальм, цветов, хорошо расположены несколько скульптур из белого мрамора. В середине бассейн с золотыми рыбками, вокруг которого чаще посетителей больше, чем возле художественных ценностей. Вокруг в галереях на двух этажах размещены античные и современные скульптуры. Оригиналы Родена и копии, сделанные им, собраны в двух комнатах. Белый мрамор как песня, только что застывшая на губах. Как противоположность – Менье, рельефы рабочих которого суровы и полны борьбы как повседневность. И красивый романтик датчанин Зиндингс, и французы Бариас, Шапу, Корпо, даже классик Канова, и другие благородные имена. И живописцы: начиная с Милле и кончая с Пикассо и Ван Гогом. В выборе во всём удивительно удачный вкус. В Глиптотеку стоит идти в любой час дня, как католик ходит на утреннюю мессу в костёл. Незабываемые мгновения! Буйство майских цветов влетело и в эту красивую тишину и смешало спокойствие в сладкую жизнь. Потому вдвойне чувствовал искусство. Потому таким жизненным всё казалось. Там Жанна Д’Арк Шапу’а: на коленях девушка, белая как свет. Мгновение вечности, изъято из цепи текущего времени, заколдовано в мраморе. Пилигрим не может даже пошевелиться, чтобы не помешать спящей красоте. Может быть, когда проснётся, то исчезнет, станет иллюзией. Могильный памятник Тегнера. В чёрных массивных мраморных плитах, где надпись: uxori optimae, самой великой женщине, – заключён белый образ, – рельеф. Плачущая женщина, вписанная глубоко в щель скалы. Тело, голова, швы одежды всё как бы сливается со скалою в одну печалью проникшую, грустную массу. Есть некая сказка о королевиче, кому удаётся пробраться через чащу, за которой заколдованный замок. Он входит туда как в чудо: люди во дворце на своих местах как живые, и всё-таки окаменевшие, – пыль толстым слоем покрывает их. Он видит и принцессу, удивительной красоты, и охваченный беспредельной любовью, целует её, и всё вдруг оживает, колдовские чары исчезают. Так и здесь кажется, что надо только вдохнуть живое дыхание, поцеловать в лоб, и все эти чудесные образы вздрогнут, зажгутся, проснутся от тысячелетнего сна, начнут ходить, улыбаться, говорить, и помещение наполнится вибрациями и сверканием. В душе художника звучали первоначальные симфонии мира, когда он держал в руке резец или кисть. Потому краски и линии столь красивы и звучны, которые он создаёт в пространстве, потому его мечты так ясновидяще постигают истину. В эти немногие часы я почувствовал, как искусство может человека благословить, делать свободным. Когда я покинул помещения Глиптотеки, я в них оставил многое из тяжести своей жизни, и я чувствовал, что меня несли светлые крылья. ПОКЛОННИКИ КРАСОТЫ Есть ещё место в Копенгагене, где я на миг заблудился, – Художественный музей. Уже само здание столь величественно. Вокруг поля роз, сирень и акации в цвету. Дальше парки с зелёными облаками ветвей. Открывая дверь музея, влетает синее небо вместе со свежими ароматами. Датчане знают, что произведению искусства необходимо и своё одухотворённое помещение, что весь воздух вокруг должен излучать красоту. Из этого музея глубже всего мне запечатлелась картина, название которой я тщетно искал в каталоге. Всё-таки я был счастлив в тот момент, что к ней не пригвоздили номер, как всем другим. Святая Цецилия, или может быть другое мифическое существо, сидит у органа. На плечах её пурпурная туника. Красивые потоки волос нежно обвиты золотой лентой. Глаза заблудились гдето в экстазе. Может быть она летит вместе с вздохами органа. За нею странно тёмное пространство бросает полумрак на её детское лицо, которое в полутонах теней кажется как живое. Это невыразимое в каждой черте лица, в глазах! Каждый раз, вглядываясь в картину, я нахожу в ней что-то новое. К обеду, когда лучи солнца начинают падать через окно и касаются также картины, лицо как бы преобразуется. Своеобразно изготовленные масляные краски приобретают странное, как бы фосфорное мерцание. Лицо мадонны в детской радости выплывает из глубокого фона, сливается с солнечным пространством. И с каждым мгновением она становится более красивой, и каждый миг кажется: ещё мгновение, и ты увидишь неведанно прекрасное… Кто те, которые переступают этот порог, за которым начинается другая жизнь? Толпа любопытных, туристы, торговцы, которые и в искусстве ищут лишь развлечение. Но имеется некто, хотя их мало, кто приходит потому, что он любит, что у него сердце светится. Он приближается к искусству как к Аве Мария. Каждый взгляд для него молитва Красоте. Он в искусстве ищет то, кем он сам не может быть: совершенство красоты, утверждение идеала. Он жаждет хоть прах порога Прекрасного целовать для своего устремления. Он знает, что часто так мало надо: более божественная линия, более живой набросок красок могут его внезапно спасти, если все его более тихие струны созвучат с Вечно Прекрасным. Почему же так мало замечают простого человека, поклонника красоты, который часто более великий носитель красоты чем многие те, которых целовали музы? Только крохотные искры художник может от себя передать в пространство. Существенно красивое всегда остаётся под слоями души, несказуемое, невыразимое. И это существенное может быть одинаково могущественным и в том, кто не является художником. Где больше красоты, чем в устремленных глазах? Самая настоящая поэзия – экстаз. Какое значение имеет то, что губы не могут выразить, чем полна душа. Душа как переполненная чаша. Первая цель: создать в душе красоту, и только тогда излучаться в пространстве. Сначала изваять чудесные святилища духа. Превратить каждую мысль в устремление к идеалу. Зажечь в своей груди всё больше жажды света. Чтобы тогда – с каждым дыханием излучать прекрасное. Красота имеется везде, если она в душе растёт, если она как чудесный аромат апрельскими ветрами устремляется сквозь цветущие ветви. Искать, не переставать, не успокоится. Быть как пилигрим по вселенной красоты, который на мгновение остановился и слушает, как Ангелус звучит в душе. Чем больше в душе будет красоты, тем больше она будет вокруг нас. КАК ВЕСЕЛЯТСЯ ДАТЧАНЕ Был несколько дней во власти красоты Копенгагена. Но потом случайно соприкоснулся с жизнью, и вся приобретённая красота во мне стала такой грустной. Датчане любят искусство. И всё-таки настоящих поклонников искусства, как везде, и здесь так мало. Большая толпа ищет для себя развлечения в других местах. Датчане являются людьми свободной и живой природы. Они охотно любят веселиться. В этом отношении Копенгаген довольно европейский. Где же европейцу искать развлечения, если истинному искусству он не может отдать всю свою душу? Леса он вырубил, природу превратил в музей, сам заперся в каменные ящики. И в этих каменных ящиках проходит его жизнь, его мечты, его радости, часто фальшивые и пустые как стены этих жилищ, часто отвратительные, но нередко и полны изощрённой, парфюмерной красоты. Прогуляйся поздно вечером по главным улицам Копенгагена и тебя поразит количество всяких театров, кабачков и кабаре. И всё же сравнимо меньше чем в Париже, их не посещает трудовой человек, всё-таки их суггестия неотразима. Везде неисчислимые огненные рекламы, зовут, манят бульварную толпу, укутывают её своими удушливыми путами. И здесь такие же «Пикадилли», «Скалы», «Алхамбры», как в Риге, только в более блистательном, более открытом виде, куда серенький человек идёт восхищаться своею же скудностью духа. Большинство народа всё-таки ходят в Тиволь. Тиволь – это центр развлечений в фантастическом, современном стиле. Это огромный парк, где каждый попадает, заплатив несколько десятков сантимов, и может участвовать в сотни разных развлечениях. Это настоящий дойник денег копенгагенцев. Похож на Пратер в Вене, здесь собраны развлечения, какие только знает Западная Европа. Этих самых кабаков и кабаре здесь без счёта. Показ фильмов, цирк под открытым небом. Кружатся карусели, воздушные колёса, с горы в гору безумно мчится электропоезд. Молодёжь кричит, ликует. Разные лотереи, выставки. В каком-то месте за деньги можно хорошо потанцевать. В другом месте опять развивать свои страсти другого вида. Там можно деревянными фишками бросать по фарфоровым или глиняным тарелкам и мискам. Посуда поставлена около стены. Пришедший в увлечении не жалеет денег, с пеной на губах ударяет фишки об стену так, что осколки посуды звеня разбиваются и летят во все стороны. И там же обслуживающие непрерывно ставят новую целую посуду на полки. Не верю, что дикарь мог бы такое придумать. Приходят отцы семейств со всеми домочадцами, детьми. Приходят парочки, улыбающаяся молодёжь. Ночью парк фантастически освещён. Трудно представить, если кто не видел, то сияние красок и лучей, какое льётся от каждой ветки, с воздуха, от воды под деревьями. По вечерам нередко здесь собираются до сорок тысяч людей. Много и рабочих. После тяжёлого труда хочется забыться в каких-то иллюзиях, пусть и позолоченных. Всё-таки здесь происходят также серьёзные выступления музыки и искусства. Имеются несколько залов для симфонических концертов, где играют не только популярные оркестры, но выступают и знаменитые солисты. В самом большом зале прошёл концерт Латвийского хора. [Р.Рудзитис сопровождал хор в качестве журналиста. – Г.Р.] Спеша на концерт, в вечернем сумраке я невольно остановился перед акробатами, которые находились недалеко от входа в концертный зал. Около них собралось множество людей. На эстраде одна дама стояла на голове другой. Кувыркалась. И к счастью упала там же обратно. Толпа энергично рукоплескала. Потом пришёл какой-то «Глупышкин», который по всякому пытался ехать на велосипеде, но всегда падал. Это вызвало большой смех. Но только несколько шагов дальше люди могли идти и поклоняться красоте. По обеим сторонам концертного зала находятся буфеты, которых отделяют от зала лишь стеклянные стены. Во время представления нередко в зале слышно, как звенят стаканы, летят пробки. Когда хор пел «Вей, ветерок», место пианиссимо, самое тихое, рядом в помещении разбился какой-то стакан. Толстый мужчина с бокалом вина в руке, через шторы смотрит, что происходит в зале. Но там, среди толпы, есть люди, души которых летят, тоскуют вместе с непонятными, всё же близкими звуками, глаза которых сияют. Такова Западная Европа. И всё-таки я ушёл от датского народа одарённым. Красота тихих часов шла рядом со мною. Та красота, которая не обитает на уличной возне, не сияет на поверхности души, но которую датский народ скрыл в глубинах своего сердца. И из этих глубин он дал то, что сияет из Глиптотеки и Художественного музея, о чём мечтала лира Клаусена и Понтопидана, чем дышат датские здания, нивы, светлые рощи. КРАЙ ЦВЕТУЩИХ КОЛОСЬЕВ Едем через Данию в гавань. Улыбается зеленью эта земля. Богатая плодородными равнинами, нивами, садами, – похожа на наш родимый край. Каждый уголок обработан с величайшей тщательностью. Леса преобразованы в парки. И эти роскошные липовые, дубовые, вязовые рощи. Когда солнце играет в листьях дуба, весь лес сияет как золото. Цветут уже колосья ржи. И в поезде так и кажется, что чувствую в груди их ранний аромат. Все дали залиты солнечной жарой. Скоро будет дымиться и клеверное поле, и пчёлы будут жужжать в алых цветах. Какая тоска быть уже обратно на родине, погрузиться в праздник природы, стать крохотным цветком клевера в могучем поле цветов. Ибо нет ничего более чудесного в деревне чем запах клевера и назревающей ржи. Богата эта земля. Дома в цветущих яблонях. Здания ослепительно белые с черепичной или соломенной крышей. На окнах светлые занавесы, горшки цветов. Как приятно вдали светит белизна зданий на фоне зелёной земли и голубого неба. Вдоль железной дороги ограды цветущей сирени или елей. На зелёных лугах пестреют стада коров. Едем поездом через полосу моря на корабле-пароме. Море как живое серебро. Последние краски захода солнца в воде. Наконец мы в Эсбьерге. Поднимаемся на «Бернсдорф», большой белый теплоход, который вскоре величественно уплывает на спящих волнах. СЕВЕРНОЕ МОРЕ Вечер был тихий и прояснённый. Высоко на небе дремали разбросанные облака. Мы радуемся, что гневное море, которое умолкает лишь несколько дней в году, столь спокойное. Но когда настало утро, начал дуть ветер. Мы уже находились в середине моря. Ветер становился всё сильнее, волны выросли, всплескивались, бросали белую пену через край корабля. И тогда начало качать, качать. Было бурно и в то же время красиво. Поверхность моря погружалась и поднималась на горы волн. Буря бушевала, выла в безумном ликовании. Корабль как щепка бросался в объятьях бездны. Прижавшись к мачте, всплесками золотой пены объят, я смотрел в глаза буйствующего моря. Бушуй, могущественная стихия, я размышлял. И я есмь сила, и во мне мощь, которая тебя не боится. Твои глубины слишком мелки, чтобы в них навеки пропасть, твои волны не могут разбить дух, у которого нет ни конца, ни начала. Ликуй могучая стихия! Ничтожен человек, бренная пылинка он, и всё же более великий чем ты, которая его уничтожаешь, более вечный чем звёзды, более беспредельный чем время и пространство, более бесконечный чем вселенная. Ибо когда мир погибнет, и тогда над тёмными водами хаоса будет летать Дух Человека, своими лучами освещая бездны. И из этих бездн поднимутся опять новые искры света, звёзды и планеты вылетят как чародейки во тьме, спиральными путями умчатся родившиеся космосы. Но дух наполнит время и пространство, будет делиться на атомы, гореть, страдать, бороться, чтобы тогда, когда материя разлетится, опять возвратиться в Себя. Бушуй, танцуй неукротимая стихия, захватывай меня своею бренностью и своим могуществом, я – семя, которое плывёт в тебе к новой стране, к новой жизни. Моя душа опьянела в роковой музыке, голова кружилась, нервы взбудоражено пели вместе с песней пены. Пассажиры все убежали в каюты. – Я спустился вниз, там было спокойнее. Лёг, слушал песню за стеной, слушал больше душою, нервами, чем сознанием. Это была симфония бури, которую некая неукротимая сила играла в глубинах моря. Могущественное дикое безумие трясло море, и оно танцевало во всех своих стихиях. Стены качались как резиновые. Корабль трещал, временами казалось, что железные винты не выдержат и корабль немо разрушится в руках безумия. Мы смогли почувствовать то, что чувствовали Байрон и Гейне, когда воспевали в стихах Северное море во всём его величии. Поздно вечером море успокоится. Но здесь уже нам навстречу выплывают чародейские огни маяка. Тысячью глазами нас приветливо встречает Гарвича. Наконец на суше. На лицах многих мелькают улыбки. Садимся в поезд и в темноте ночи мчимся в Лондон. Как странно, полное тоски звучало это слово в моих ушах. Что только не представишь в мечтах? – ГОРОД В ЧАДУ Лондон погружён в вечном чаду. Неисчислимые автомашины наполняют воздух удушающими парами бензина. В жаркое время трудно дышать, трудно жить в этом отравленном пространстве. Также фабричный дым рассеивается в окружающем воздухе. Но на окраинах Лондона целая сеть фабрик. На небе вечно сгущаются тучи. Часто идёт дождь, почти каждый второй день. Все здания как бы закоптелые, грязно серые. И одежда людей чёрная, невзрачная, также и на лицах кажется легла печать синей мглистой дымки. «Это пахнет Европой», – говорит мой товарищ – поэт. – «Мне нравится этот угар». Я знаю, почему он так говорит. Его душа, полюбив светлый образ Европы, полюбила и безобразное. Но мне невыносим этот угар. Он не только физически, но и духовно изгрызает человека. Это часть из всей атмосферы европейской культуры, которая как в постоянном опьянении топит дух человека, не позволяет ему опомниться, приобрести хоть на миг настоящую свободу. Европеец уже не может стоять вне доброго и злого, ему трудно оценивать и переоценивать ценности. Он живёт импульсами окружающей жизни, следуя ей, не заботясь о том являются ли радости ее хороши или плохие. Это такое perpetuum mobile, где если одно колесо вертится, то и другие без оглядки с ним. Когда человек несёт чужие ритмы в себе, он забывает, что он сам должен стать отдельным миром, в себе свободным, и таким образом опускается на уровень нивелирования как другие, становится – массой. Англичанин завоевал полмира, но нелегка судьба – быть победителем. Человек сам чувствует своё величие, вечно боится за него, несёт его как проклятие, которое может в любой момент рухнуть на него самого и задавить. Англичанин не может стать мизерной рассадой природы, созвучной частью мира, который признаёт другие части равноценными. Он лишь англичанин, который осознаёт только свою миссию, но не других народов. Он горд собою, своим высокородным всемогуществом, и его голова никогда не касалась пыли земной. В Лондоне имеются и огромные парки, всё же эти парки не по-настоящему живые. В них не улыбается естественное, неискусственное, свежесть. Деревья подобно зданиям серые, нередко с небольшой кровлей листьев. Непреодолеваемый смог и здесь всасывается в кровь, угрюмость капает с ветвей деревьев. Какие жалкие они на улицах, в мгле испарений бензина, в автомобильной толчее, среди стен. Где же горожанину искать отдых для тела и духа? И лесов нет в окрестности. Редкие рощи, сады являются частной собственностью. Но где возобновить силы человеку, как выбраться из загрязнения, если даже природа ему недоступна? Богачи весною едут на свои дачи. Они отправляются и в Остенд, Довиль, или дальше за Альпами. Но где рабочему летом свою голову прислонить? Единственное богатство красок в Лондоне доставляет огромное количество красных автобусов, двухэтажных сооружений, которые как целые леса пересекают все улицы, все дороги. Сутолока сообщения здесь неописуема. Более живые улицы трудно переходить. За день попадают под колеса в среднем почти сто человек. Но по сравнению с Нью-Йорком вроде это ещё мало. Вечный город! Мчишься часами автобусом, всё ещё не добираешься до конца. Всегда снова выныривают ещё новые улицы, перекрёстки. Думаешь, сейчас, сейчас кончится, но всё начинается опять снова. И здесь как там, толчея людей перед витринами, гудят авто сирены, льётся угар. Англичане спасают своё здоровье гигиеной и спортом. В Париже нет той чистоты, что в Лондоне. Даже французские газеты призывают учиться гигиене у англичан. Напротив, у англичан спорт перешёл в манию. Ни о чём другом так много не говорят и не пишут, как о спорте. На страницах газет среди ежедневных сенсаций больше всего места отведено культу тела. Всё-таки самой болезненной манией стал – бокс. Бокс так хорошо согласуется со всеми устремлениями англичанина завоевателя. Но трудно понять, почему же рабочие гордятся этим. Если пересыщенным в жизни так хорошо подходит бокс и коррида, рядом с дорогими шелками, косметикой и распущенностью, то по крайней мере рабочий человек должен беречь в себе ту крупицу души, которая ещё осталась в твари культуры. Громадность большого города, механическая цивилизация велят англичанину концентрироваться в себе, в своей работе, до последнего использовать время. Англичанин вечно занят. Для него всё более священное – business – обязанность труда. И этот бизнес как клетка, куда он заточил свою жизнь. Он сгорает для цели, которая не одухотворяет, не делает душу красивее, но вводит его в заколдованный круг через материальное существование, что его ещё больше делает квинтэссенцией пыли. Большой город неспособен сотворить гения красоты. Всё великое рождается из тишины, из чистоты природы. Когда гений попадает в город, в его крови цветут нивы и синее небо, и полевые ароматы. И тот, мечты которого родились в гранитных зданиях, идёт и вечно возобновляется в потенциале природы, до тех пор, пока его душа выкристаллизуется к новому свету творчества. Кем был бы Шелли, если его детство не было наполнено песней жаворонков? Или Байрон, если его тело и дух не закаляли бы морские волны? Или Шекспир без гармонии июльских лесов и нив? Создатель сперва должен заострить свой слух у Камертона, от которого растения и деревья черпают ритм своих соков, от которого жизнь получает свой выдох и вздох, у которого вселенная благонастраивает ритм и красоту своей симфонической души. Но человек, который ищет освобождение лишь в механизме большого города, с каждым днём больше врастает в сталь и в камни, и чем тяжелее становятся небеса высоких стен над ним, тем более мизерным он становится. ВЫСТАВКА ВЕМБЛЕИ Вемблейская выставка – выставка могущества и ничтожества английской империи. Англичане всё ещё горды тому, что они правят миром, что у неисчислимых народов, в неисчислимых странах поднят герб их власти: они горды тому, что они распространили на всех континентах культуру, превратили дикарей в «цивилизованных», в пустынях засеяли пшеницу и хлопок, дали звучать в жилах земли песне стального бурава. На Вемблейской выставке собраны трофеи «победного шествия» англичан, часто в самом фантастическом, суггестивном образе, лишь бы дать возможность посетителям выставки взглянуть на достижения империи. И всё-таки это выставка промышленности, сельского хозяйства и, частично, искусства. Но мы ничего не видим в духовных приобретениях, в чисто интеллектуальном значении, что англичане достигли бы в своих колониях. Это потому, что дух местных жителей им был и остался чужим, но сами они духовно ничего нового и особенного не смогли создать на земле, которую они порабощали. На Вемблейской выставке надо было открыть и другое лицо державы Британии – империалистическое. Надо было показать путь, на котором англичане достигли эту «высокую культуру» – угнетая сотни народов и племён, искореняя индейцев и австралийцев, сковывая под гнётом индийцев и бур, сами злоупотребляя и своими рабочими. Когда-то индейцы были сильным народом, теперь их хранят разве что только музеи. Цивилизованные принесли цветным расам алкоголь, проституцию и другие ужаснейшие пороки, которые их больше подтачивали чем голод и войны, и карательные экспедиции со стороны правителей. Может быть дали и что-то хорошее, но разве высшее благо не являет сама живая и чистая душа? Разве возмещает ее все автомашины, радио и даже «образование», что дает цивилизация. И странно это. Англичан считают самыми большими филантропами. У них и много обществ защиты животных. Нигде так не защищают животных как в Англии. Если обижают человека на улице, может быть часто не заметят, но если тронешь собаку, сразу попадёшь за решётку. Среди англичан имеются и множество религиозных сект, идейных движений. Из страны британцев произошли самые чудесные поэты и гуманисты. И всё-таки они спокойно смотрят, как их братья ходят по жертвам других народов, и не было никого, кто бы восстал против этой бесчеловечности. Так Вемблейскую выставку можно считать в полной мере выставкой материальных достижений порабощённых народов. Насколько чужой, например, англичанам индийский дух, показывает то, что в павильоне Индии, который снаружи напоминает какой-то сказочный белый мраморный храм, собраны лишь продукты промышленности. Но с ними не исчерпана даже ничтожнейшая часть Индии. Сама Индия, и сама душа, для англичан только какой-то цветок тамаринда, который джентльмен – сахиб срывает, чтобы потом его бросить в пыль. Ту культуру, которая под сенью седых Гималаев, где обитают вечность и боги, ему никогда не понять. Она страдает и тихо улыбается, когда видит европейца отдающего себя всего для самых ничтожных вещей мира, материи, выжигая себя в тщетных страстях и истоме. Бедный Цейлон! В чем-то ты являешься сказкой на земле. Твою природу не превосходит даже первозданная красота садов Гесперидов. Но ещё более та красота, которую в тебе оставил Мастер Гаутама. Со странными чувствами приближаюсь к павильону Цейлона. Конечно, что же больше я там мог увидеть? – Мебель, обувь, драгоценные камни, украшения, табак. Таким же и есть для англичанина Цейлон. И всё же, много и удивительного на этой выставке. Каждую часть империи здесь представляет свой павильон. Самые роскошные строения у Австралии, Малайи, Индии и Канады. Что только не создала здесь современная техника! Есть и первозданная природа с живыми поющими птицами и водопадами, в белой пене Ниагара во всей своей красе, и порты и города в пластическом изображении, и миниатюрные сады во время уборки плодов, плантации хлопка и пшеницы, прядильни и ткацкие мастерские в работе, – всё не описать. В наглядном рельефе длиною в несколько десятков метров проходит мимо нас природа и культура Канады со всем благоустройством, фермами и машинами. Созданы целые скульптуры из масла. Одна такая изображает картину из жизни индейцев в натуральную величину: красива композиция разных шалашей, взрослых и детей, и скота, которая предназначена как подарок для пиршества принца Уэльса. Там же можно познакомиться и с современной промышленностью во всех мелочах. Фабрики, золотые прииски и рудники, предприятия виноделия даже с настоящими фонтанами вина. Туземцы колоний сидят в своих национальных нарядах за прилавком, продают экзотические шёлковые ткани, жемчуг и украшения, духи, сувениры из слоновой кости. За тяжёлыми серебристыми шторами мелькает золотисто оранжевая улыбка индианки, японка в зелёном роскошном кимоно приглашает к себе как воплощение богини любезности, чёрная с блестящей кожей малайка спряталась в своём будуаре из пальм, только моментами из сумерек сверкают её хрустально белые зубы. С балконов, скрытых в цветах и в зелени, звучит тропическая, восточная музыка, льётся дивный аромат сандалового дерева или мирры, или алоэ. Много и развлекательных мест, ресторанов, клубов и кафе. Некоторые принимают у себя тысячи. Негр, папуас или индеец в национальной одежде с перьями, звеня колокольчиками, играет или с песней приглашает публику во внутрь, откуда звучит одурманивающий джазбенд. Некоторые кабаки превращены в хижины с соломенными крышами как в джунглях и глиною покрытым двориком с первозданной оградой. В садах много бассейнов с южными растениями, чучела крокодилов, экваториальных лесных животных и птиц около воды. Для детей в одном месте сделан особый остров – «детский рай». Малышам здесь много чему радоваться – лодки, железная дорога, самолёты, скалы и пещеры, животные, которые катают. Как светлая картина прошли мимо меня с золотистыми локонами головки, беспечный смех, светлая одежда. Гордостью всей выставки англичане всё же считают «королевский павильон». Нечто похожий на исторический музей, где показан ход завоеваний английской империи во всех мелочах. Так в одной комнате – история орденов, во второй – оружия, в третьей – история флота. На самые видные места выставлены памятники прославленным завоевателям. И в самом центре павильона – огромный бассейн, в котором видно всё могущественное английское королевство, на всех континентах, во всех океанах, как на ладони. Когда подходим, в данный момент идут бои флота, корабли движутся, звучит такой как грохот пушек (конечно, в миниатюре), играет военная музыка. Rule, Britannia! Я слышу от каждой стены, от каждого образа, от каждого предмета этот королевский голос. Властвуй, Британия! Но этот голос дёргается, дрожит, ибо он в тайне чувствует, что всё это лишь маска, только громкие слова, блестящие, всё же неживые трофеи. Вечно властвовать, существовать веками может только дух, который в себе столь свободен, что он способен в любое мгновение унижаться, стать слугою для других. Но разве это в силах самому гордому народу мира? Дрожи, Британия! Придёт время, и твои члены оставят тебя, в одиночестве и бессилии, пантера джунглей – Индия сбросит с тела путы цивилизации, станет опять первоначально могучей, негры поднимут своё национальное знамя в хижинах и в сёлах, народы посмеют опять сами мыслить и хотеть. Душа народов проснётся, сбросив ржавчину с белизны крыльев. В Европе кричат о жёлтой и чёрной опасности с востока и с экватора. Это только значит, что время «белой опасности» кончается, что ни одна власть мира уже не сможет угнетать тот могущественный вихрь свободы, ту невыразимую тоску по миру и братству, что охватило все народы, которые как невидимое половодье взволновало все глубины человечества в ожидании апреля. БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ Англичане свои способности коллекционера показали в Британском музее. Эта сокровищница прекрасного, о которой уже Рескин сказал: «самое большое собрание мысли человека в мире». В нём можно блуждать днями, и не будет охвачена даже малая часть. Самое удивительное здесь – искусство греков. Где только не собрано всё это! Несколько комнат лишь с античными вазами. Есть даже известная ваза Портланды, мастерская работа которой немало прославлена. Душа музея всё-таки фризы и метопы Парфенона, лишь из-за них многие едут сюда. Кто же из изучавших историю искусства не узнает богинь судьбы восточного фронтона Парфенона, которые включены в форму как пространство в музыке. Здесь даже Деметра Книды, быть может единственная греческая скульптура, черты которой одухотворённо живые. Кто же был этот гениальный скульптор, кто хотел душу прекрасного как мёд из сотов перелить в глубоко человеческое? Над ним века молчат, только его глаза сияют, которые с грустью смотрят из белого мрамора. Англичане приобрели и оригинал старинной священной книги «Гранта» религии сикху, на древнем языке панджаб, монументальную и роскошную, которая считается одной из более великих редкостей мира. Сикхи – небольшая индийская религия, представители которой старались распространить дух взаимопонимания и снисходительности между всеми религиями. Они знали, что Бог обитает и в пагоде буддистов, и в храме Шивы, и в католическом костеле, он и в человеке, и в животном. Какой жертвенный аромат, первозданный и экстатичный, веет из псалмов «Гранта». Их строки похожи на Соломоновы песни: «Если для меня построили бы обитель из жемчужин, украшенную драгоценными камнями, Наполненную фимиамом, ароматами сладкого алоэ и сандалом насыщенную, Чтобы в неё входя, в ликовании унеслось сердце моё – То всё равно не случилось бы, что всё это увидев, я Тебя забыл бы и Твоё имя не упомянул бы. Моя душа горит и тоскует без Бога. Мой Учитель мне утверждал, что нет другого пристанища, как только в Тебе, о Боже! Если земля была бы покрыта алмазами и рубинами, и место отдыха для меня в шёлке, золоте украшенное, Чудесные девушки, лица которых бы сверкали как брильянты, изливали бы сияние на меня, сеяли бы радость, То всё же это не случится, чтобы их увидев, я Тебя забыл бы и не упоминал бы имя Твоё.» Вспоминая эти стихи, грустно мне стало, что самые священные мечты человека должны храниться в каменной клетке, рядом с саркофагами и с скульптурами сфинксов. Восточное искусство насыщено ослепительными, свежими красками. Что-то мистически странное, суггестивное в нём. Там йоги, застывшие в медитации, подобны выжженной земле, под нескончаемым солнцем. Там Магомет едет верхом на небо, с приветствиями серафимов, озарён созвездиями. Там опять японка в цветущем саду, мир которой в еле различимых полутонах, в трепете предчувствий. У японца природа слишком тонка и изменчива, чтобы из неё создавать нечто большее чем настроение или вздох. Потому японское искусство всё как игра, порхание птиц, распускающиеся цветы. У каждой расы, у каждого народа свой своеобразный уклон во вселенной; душа рубит и строит помещение по-своему, наполняет своими ритмами. Почему так отличаются, например, строения разных эпох, разных рас? Храмы всех народов создала набожность, но как же она в каждом из них выразилась! Стройные арки колонн эллинов создавал культ красоты жизни. К небу обращённые, сумрачные готические церкви – тоска по потустороннему миру. В тёмно тяжёлых пагодах индийцев – земля, тяжесть веков. Душа во всём одна, всё-таки язык у каждого существа или вещи свой. У цветка он будет записан по-иному как у дерева, как у камня, у далёкой звезды. Наука читает по слогам как ребёнок этот язык, в веществе и в жизни, в земных глубинах и в сферах планет. Букву за буквой она открывает в этой чудесной азбуке, но чем больше ей открывается содержание, тем ещё так мало она способна сути почувствовать. Со странным чувством я смотрел в Британском музее памятники Гватемалы, культуры Майя, привезённые из средней полосы Америки. От этих угловатых, массивных образов и барельефов дышит нечто древне-историческое чужое, даже страшноватое. Какие люди или полубоги обитали в этом мире, который сейчас покрывают джунгли. Гватемала может быть когда-то многие тысячелетия назад была соединена с островами Тихого и Атлантического океана в один огромный континент, в одну могущественную культуру, которая погибла в одной из самых больших катастроф нашего земного шара, затонув в морской глуби. И может быть когда-нибудь из бездны океана, из земных слоёв откроется чудо страна, новая Атлантида, Лемурия, и мы будем спрашивать себя, – продвинулись мы хоть на пядь вперед за тысячелетия, потому что у древних культур были ценности, о которых многое мы и сейчас не можем даже предчувствовать. Разве не всё развитие является лишь чудным кругом в спирали вселенной, в дуге которого мы в каждой новой эпохе возвращаемся к первоисточникам, чтобы оттуда, из их глубин снова броситься в новый безграничный полёт? И опять брести в пыли и в тенях, вслед за Золотой Птицей, и всё же вечно чувствовать себя как в неизвестных стенах. И не замечать, что эти стены всего лишь границы, которые мы с каждой жизнью перерастаем, что Суть всё больше нас обнимает своими крыльями Солнца. Кто знает, не обитают ли в какой-то междузвёздной стране люди боги, победившие материю, сами став солнцами со всеми их системами, и нам смертным не перестают посылать свою вечную мудрость и жажду, и божественные чувства. И каждый момент, когда эпохи приходят в упадок, когда народы погибают, неведомые руки сквозь вселенную поднимают их из сора, пробуждают их, льют в священный огонь жизни новые божественные масла. Мы должны превозмочь ничтожность, жить для вечности, звучать везде в полногласии мелодии, изливаясь на мир всею красотою и любовью духа. И с воздуха, ото всех вещей польются на нас невидимые лучи, неведомые богатства. Если мы живём для вечности, мы не можем бросать в пространство злую мысль, плохое слово. Мы не можем быть к людям иными чем дух к духу, пьющие из одной и той же чаши, кушающие один и тот же божественный хлеб. Но безумный человек преклоняется перед прахом, жертвует для мгновений. И прахом засоряется ясность источника, пробуждаются инстинкты, ненависть, стремления к разврату. Лишь немногие протягивают, как дети, руки к благородному лону вечности. * Благородные ценности накопил и другой музей в Лондоне – Национальная художественная галерея. Открыв дверь, встречаем снова неизменного Рубенса. Есть и такие редкие гости, как Тициан, Веласкес, Микеланджело и наконец Мурильо, неисчислимые образы мадонн которого можно встретить в голубом сумраке сверкания свечей алтаря почти в каждом католическом костеле. Мурильо быть может глубже всех понял устремления молящегося Богу, ту душу, которая хочет хоть на миг освободиться от всего вещественного, чтобы родиться в духе. Мистическое озарение Мурильо присутствует в большей мере у английских прерафаэлитов, которые себе как образец всё же взяли Рафаэля. Лучшие их работ хранит галерея Тейта, что недалеко от Лондона. Удивительно это направление в английском искусстве, которое возобновило древнейший культ визионеров. Прерафаэлиты стараются вещество дематериализовать, пронизывать светом. Их женщины как феи или видения, с лицом в экстазе, с оцепеневшим взглядом. Можно сказать, что-то болезненное в них, вне мира сего. И всё же за всем спокойствием такой трепет живой души в них, что кажется, еще мгновение, и краски задрожат, вещество превратится в дух, из золотого обрамления вылетит херувим или серафим в пространство. Даже итальянцы и фламандцы мало создали таких икон, как, например, Россети в своём «Ecce ancilla domini!», где ангел с цветком лилии извещает Марию о рождении Христа. С какой чистотою Россети подходит и к проблеме любви! В «Паоле и Франческе» влюблённые свою близость чувствуют как боль, потому что она не может освободить человека от материального, не может любящим душам вне вещества найти путь одной к другой. «Любовь сильна как смерть. Но это и есть сама смерть – умереть в себе, жить в другом.» В картинах прерафаэлитов многое от Шелли, Китса и Вильяма Блейка, и «Vita nuova» Данте, здесь все трубадуры и миннезингеры, здесь девы-девушки, цветы в бутонах и в расцвете: все более светлые, эфирные тона гаммы души. Братом прерафаэлитов был «апостол красоты» Рескин, жаждущий осуществить жизнь как чистую природу. В духе родственен им был и пейзажист Тернер со своими морями в золотистой дымке – уснувшими мелодиями, Вотс со своими космическими аллегориями, поэт цветов Вистлер и ещё многие другие, которые свою кисть художника «обмакивали в небесной голубизне и в ароматах цветов…» Лишь несколько мгновений мне была возможность погостить в этом месте, где я более существенно прикоснулся к английскому народу. Я видел то истинное в нём, что не заглушает крохотная поверхность, то, что вырывается как излучения сквозь путы заблуждений и лжи. На мгновение я чувствовал себя как с новой душою, которую заливала красота, пока опять всё исчезло в уличной пыли и в шуме торговцев. Судьба человечества, что всегда покидая божий храм, сейчас же тебя обступает толпа менял и продавцов голубей. Но такова цивилизация. Строить самое священное место на базарной площади, жертвовать неприкасаемую душу вечно Прекрасному, когда там же рядом построены другие храмы золотому тельцу, там же рядом смешивается кровь убиваемых животных с фимиамом зажигающим страсти. ЛИЦА Когда я спешил мимо кафедрального собора Вестминстера, самого величественного базилика Лондона, я коротко зашёл восхититься известными готическими арками и скульптурами. Как раз шло богослужение. Воздух полон приподнятости звучания органа. И всё-таки нечто чуждое было среди множества людей! Эти лица. Я не понимал, как черты, которые коротко перед этим были нервными в движении, теперь такие потухшие, неподвижно стальные. Но через приоткрытую дверь выли сирены, хлынуло безумие города. Хоть раз упала бы эта холодная маска, божественный огонь взметнулся бы от черт лица, поглощая всё существо! Человек стал бы костром, где пеплом рассыпались бы последние остатки гордыни и лжи. И религия больше не была бы начертана на каменных стенах, но в живом духе и теле. Что человек ищет здесь: чтобы на мгновение приоткрыть бы дверь своей совести? Но он должен поддаться, чтобы половодье прервало все границы в нём, чтобы он – между вечным огнём и водою, был очищен от грехов и пережжён. Звучи басами, орган! Подними меня по летящей лестнице вверх – к окну, за которым начинается беспредельность. Отнеси меня до радуги, которая переброшена от души к вечности. Чтобы чуждое на мгновение стало бы близостью, чтобы сердце разлилось в братские мелодии. Звучи басами улетающими, орган!... И опять мелькают мимо меня улицы. Пропадаю в них. Погружаюсь в людях, как в море песков. И опять новые лица, невиданные черты. В одном весна. Глаза бросают молнии. Губы цветут. В другом ночь со звёздами и темнотою. В третьем – сплав меди. Но много, много таких, у которых ничего нет, где, кажется, день остановился в своём ходу. Коротко мелькает душа, каждая морщинка сияет на солнце, и опять всё немое, всё потухло. Бейся головой как о врата, присматривайся, зови. Тщетно. Вечной кажется эта непреодолимая, нескончаемая тишина. Эта стена между человеком и человеком! Даже самые глубокие, священные чувства не могут снести её до основ. Как возможно существенно, абсолютно понять другого человека? Как избежать вечную отчуждённость среди детей земли? Или это лишь сон? Или уже при рождении тени одиночества целовали наши глаза? Любовь, она сжигает препятствия и границы. И всё же, как только ты уже на пороге, как только рука нащупала дверь, опять какая-то гора перед тобою. Двое любящих так хотят слиться один с другим: принадлежать один другому, и в духе, и кровью, бесконечно. Меняться всеми атомами, делиться во всём с другим. Но волна заливает глубину, приходит новая тишина, новая отчуждённость. И опять муки это превозмочь, опять неутолимая жажда. Или же человек для человека лишь лестница, по которой мы часто спускаемся, и сущность всё равно становится ещё более недоступной? – Мы можем предчувствовать родственное существо, и только предчувствовать. Мы блуждаем на ощупь в человеке как в темноте. Какая бесконечная изменчивость! Какой танец полутеней и оттенков! И когда нам кажется, что мы наконец можем встать и строить себе мир, это оказывается лишь поверхность сущности, слой, который разлетается под строением. Как познать человека? Самое ужасное, что не только других, но ещё меньше мы знаем сами себя. Каждый день всматриваясь в зеркало души, мы в себе видим какую-то новую черту. Неизвестный Бог обитает в нас самих, содержание всех красок мира, которое проходя по своей радуге, нередко зажигает чужие нюансы, перед которыми мы содрогаемся в изумлении: откуда это в нас, как мы это можем? – И эти лица, которыми полны листы истории, которых хранят искусство, земля, воздух. Там помелькают поэты, образы героев, пророки и борцы. Мы восхищаемся ими, но их душа нам недоступна; она уже не обитает во времени и пространстве. И как нам, прикованным к существованию, коснуться того, что уже за пределом? Кажется весь ход мира имел одно желание: открыть лицо человека, найти его без маски, ясного, хоть на мгновение быть в унисоне с ним. И всё-таки! Мы желаем всё познать через науку. Как аналитики подходим к сердцу природы. Расщепляем вещество на атомы, и атом – на энергию. Невидимыми лучами сверлим камень. Пересекаем пространство радиоволнами. Так постепенно открываем чудеса, которые от нас таят небеса и земля. Но человек стоит всё ещё там, где был, – и где он уже тысячи лет до нас стоял: столь же неизвестен, неразгадан, неоткрыт, непереступаем. И это много – если мы хоть на мгновение почувствовали себя на месте другого. И именно современная культура всё больше подбеливает, ассимилирует эти лица. Чад машин, прах улиц, тупой дневной ритм закрывает существенное в них. Душа скрывается в оболочку, где как немые тени исчезают более глубокие сияния. Черты человека природы живые. Может быть они ещё немного грубые, но напитанные солнцем и свежестью как плоды. Он дышит и растёт вместе с землёю, которую пашет, в нём вибрирует жизнь, что вокруг него. И всё существующее вливает свою душу в него, как солнце и ночь, часто без меры, щедро. Но что получает горожанин? Лишь редкий из них уходит как нищий-пилигрим в неисчерпаемое сердце природы. * Так много чувств отчуждённости, когда один бродишь по переполненным людьми улицам Лондона, я чувствовал себя как на другой более отдалённой планете, где существа руководимые мне неизвестными стихиями, где другая плотность пространства. ЧЕРЕЗ ЛА-МАНШ Передвигаясь с огромной скоростью, поезд уносит нас опять над зелёными пашнями Англии. Яркие шёлковые луга на склонах гор, белые дома в цветущих садах, деревни и опять города. Как грустно, безжизненно вновь открываются перед нами грязные фабричные трубы, просверливая небеса, тёмные здания, зачахшие деревья на улицах. Но скоро опять поля хмеля, стада овец на цветущих лугах. Мы едем по южной части, где богаче сельскохозяйственная культура. Англия всё же страна промышленности. Её сети фабрик, угольные шахты, плавильные и литейные металла остались на севере. Они и выливают и образуют хозяйственную жизнь английского народа. Проезжаем через меловые скалы, тоннели: и уже Довер. Ла-Манш зелёный, пенистый без горизонта впереди. Корабль набивается битком, человек к человеку. Настоящая Вавилонская путаница. Разные народности, разные языки. Большинство богачи, которые едут в Париж или на курорты вдоволь повеселиться. Лица, на которых написаны курсы долларов и меню. Может быть и жажда к разврату в державе кабаре Монмартре. Поездка через морской пролив Ла-Манш не длилась больше часа, но как всегда было ветрено. Уже в первое мгновение гора пенящейся волны смыла пассажиров с палубы корабля по каютам. Многие изо всех сил боролись с морской болезнью. Больше всё-таки дамы, – джентльмен спокойно смотрит в бушующую бездну и дымит своей длинной трубкой. Так и кажется, что для него всё – безразлично, он остался бы равнодушным и тогда, если море схватило бы его своими зубами волн. Совсем другой народ французы. Когда мы выходим в Булоне, мы чувствуем себя втянутыми в живое тёплое движение. Нет уже уравновешенного спокойствия. Нас обступает толпа экспресс носильщиков и парней. Звучат крики и ругательства. Охотно с нами разговаривают. Французам время не стоит денег. Они его от сердца дарят даром. Наконец, долго ожидая в Булоне опоздавшего поезда, мы садимся в вагоны и мчимся в ночном сумраке по неизвестным дорогам. Париж! Много о нём мечтали, много ненавидели, много любили. Каждый из него создал какой-то идол иллюзий, который он хочет ещё оберегать, пока не достиг своего образа мечты. Потому мы с таким странным, полным ожидания чувством въезжаем в Париж. ГОРОД ИСКУССТВА Непостижимый город! Город всех противоположностей! Нигде идеал Содомы и Мадонны не срослись так тесно, гармонично, как в этом городе городов. Самые большие бездны здесь находятся рядом друг с другом, и над всем проложен один совместный мост. Извне Париж грациозен, извилисто лёгкий как уж. Это особенно бросается в глаза, покидая тяжёлые, неуклюжие стены Лондона. Лёгкость дышит в зданиях, в парках, на широких, аллеями деревьев усаженных улицах, на лицах людей, в сердцах людей. Парижанин вечно ищет мгновенное. Он везде ищет то, что усиливает опьянение его жизни, что делает лёгкими его шаги, более грациозными, утончёнными гирлянды его мыслей. Так временами кажется, что и к искусству парижанин приближается прежде всего как к наслаждению, который ищет красоту как рафинированный десерт на столе жизни, но не как поклонник, для кого красота является единственной истиной и жизнью и смертью. Для парижанина красота в первую очередь «золотое сечение», красивая симметрия, элегантность и грация. Исчерпав чисто эстетическое в красоте, только потом он начинает искать кровь души в ней, огонь бытия и небытия. Потому и эта красота больше разделяет чем объединяет людей. Потому, чтобы стать единством, перед этим душа человека должна родится в красоте, и только потом тело. Для славян и индусов красота более религиозной природы. У них даже эстетически некрасивое, нередко зазвучит как аккорд в красоте души. Для души всё красиво, когда это рождается как любовь, как нечто священное, и всё делает богаче и красивее. Такая красота Достоевского, Толстого, Скрябина, Тагора… Париж город, где царит искусство. Нигде не встретишь столь много произведений искусства, даже на улицах, как здесь. Все площади, все парки, все бульвары усеяны скульптурами и памятниками. Например, – площадь Елисейская с садом Тильери или Люксембургский сад сами по себе работы искусства. Яркие и иногда королевские парки Версаля и Сан-Клу. И чудесные постройки! Величественный дворец Трокадеро, Лувр, роскошные соборы Notre-Dame, Madeleine, St.Etienne du Mont, St.Chapelle, Sacre Coeur и еще многие другие, украшенные образами мадонн и святых. Красивые средневековые здания как бы вросли в современную культуру, их невысокие башни, серые каменные стены, роспись рельефов и образов лишь дополняют ту лёгкую полусерьёзную, полуулыбчивую атмосферу, которая льётся от рыжевато серых зданий Парижа, от асфальта бульваров, от пыльных деревьев. Только когда закрывается массивная чугунная дверь, в мистическом сумраке церкви, под балконами, иконами и пламенями свечей чувствуешь себя как в глубоком прошлом, где лицо Савонаролы или лицо аскета Св.Франциска приветливо и всё же пророчески грустно светилось из тьмы церковного алтаря. Самые большие сокровища искусства французы собрали в своих музеях. Нет похожего храма искусства в мире чем Лувр. Можно ходить здесь целый день, и то невозможно пройти сотни комнат. Здесь греческие боги и римские императоры, здесь современная скульптура, здесь лабиринты картин. Хотя здесь нет удивительных метопов и фриз Парфенона Британского музея, но вместо этого Афродита Милосская, женщины, и Раб Микеланджело – эстетический идеал красоты мужчины. Здесь таинственная Джоконда Леонардо да Винчи, дивно красивая улыбка которой смотрит как загадка столетий. Здесь и другие древние мастера без конца, даже только называя их, прошло бы много времени. Здесь опять – поэт культа тела Рубенс, который в Лувре наполнил огромные комнаты. Не знаю ни одного побольше музея, где его не было бы. Хотя у Рубенса была в своём роде «фабрика», где на многих картинах главные работы выполняли ученики, и Рубенс давал лишь эскизы и настрой, и всё же и таким образом его продуктивность удивительна, гениальна. И гений тоже умеет работать, все свои годы жизни, даже и жизнь отдавая работе. Возьмём, например, Родена. Он сам уже свои готовые работы ещё без конца переделывал, улучшал, копировал. У заурядного часто не хватает любви труда. Много ли таких, как Толстой, переделывали или исправляли свою работу десятки раз? За эти несколько дней, которые принадлежали мне в Париже, я даже не пытался исчерпать Лувр. Это было бы тщетным трудом. Остановился в одном уголке перед более близкой картиной или скульптурой, пытался запечатлеть в своей душе, уложить так на веки веков. Надеялся, что я опять когда-нибудь встречусь, что белый тёплый мрамор и улыбка живых красок снова когда-нибудь отблестит в моих глазах. Продолжение следует ... info@latvijasrerihabiedriba.lv