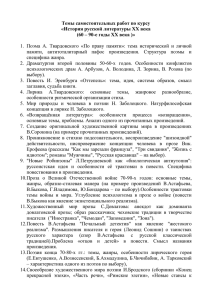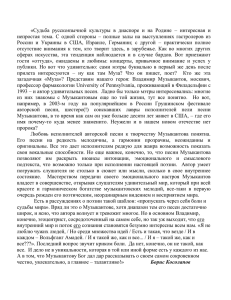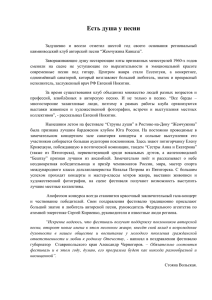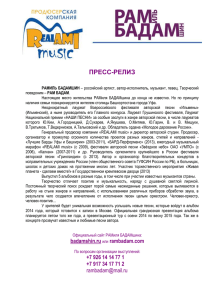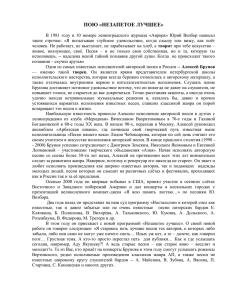Коллоквиум(1-8+33
реклама
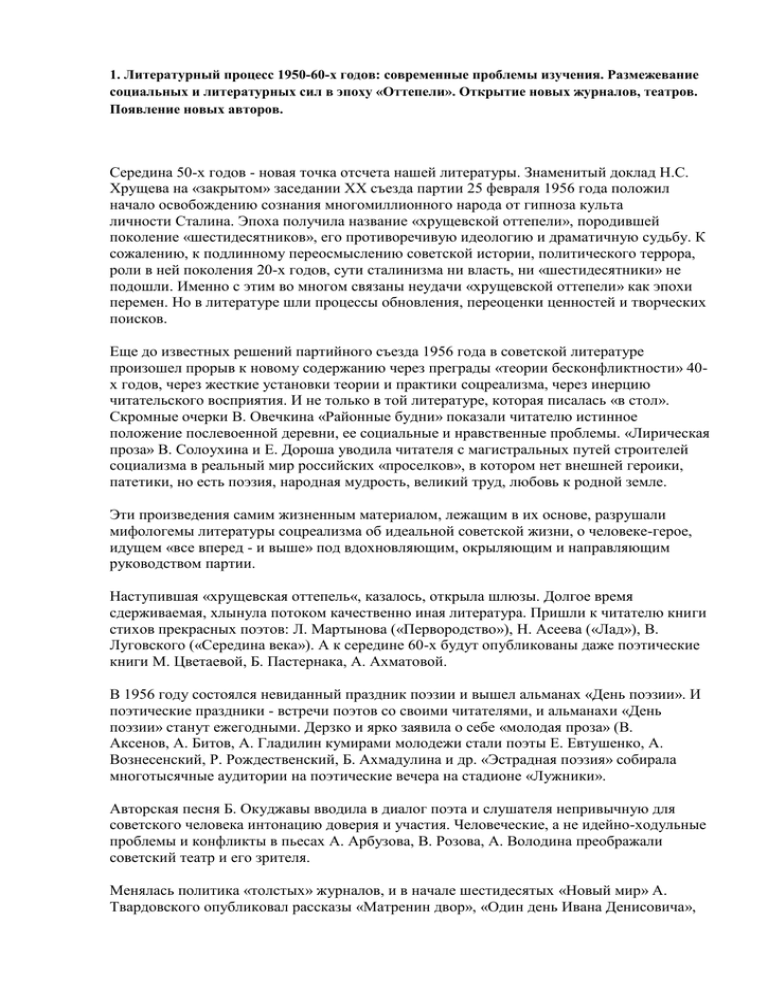
1. Литературный процесс 1950-60-х годов: современные проблемы изучения. Размежевание социальных и литературных сил в эпоху «Оттепели». Открытие новых журналов, театров. Появление новых авторов. Середина 50-х годов - новая точка отсчета нашей литературы. Знаменитый доклад Н.С. Хрущева на «закрытом» заседании XX съезда партии 25 февраля 1956 года положил начало освобождению сознания многомиллионного народа от гипноза культа личности Сталина. Эпоха получила название «хрущевской оттепели», породившей поколение «шестидесятников», его противоречивую идеологию и драматичную судьбу. К сожалению, к подлинному переосмыслению советской истории, политического террора, роли в ней поколения 20-х годов, сути сталинизма ни власть, ни «шестидесятники» не подошли. Именно с этим во многом связаны неудачи «хрущевской оттепели» как эпохи перемен. Но в литературе шли процессы обновления, переоценки ценностей и творческих поисков. Еще до известных решений партийного съезда 1956 года в советской литературе произошел прорыв к новому содержанию через преграды «теории бесконфликтности» 40х годов, через жесткие установки теории и практики соцреализма, через инерцию читательского восприятия. И не только в той литературе, которая писалась «в стол». Скромные очерки В. Овечкина «Районные будни» показали читателю истинное положение послевоенной деревни, ее социальные и нравственные проблемы. «Лирическая проза» В. Солоухина и Е. Дороша уводила читателя с магистральных путей строителей социализма в реальный мир российских «проселков», в котором нет внешней героики, патетики, но есть поэзия, народная мудрость, великий труд, любовь к родной земле. Эти произведения самим жизненным материалом, лежащим в их основе, разрушали мифологемы литературы соцреализма об идеальной советской жизни, о человеке-герое, идущем «все вперед - и выше» под вдохновляющим, окрыляющим и направляющим руководством партии. Наступившая «хрущевская оттепель«, казалось, открыла шлюзы. Долгое время сдерживаемая, хлынула потоком качественно иная литература. Пришли к читателю книги стихов прекрасных поэтов: Л. Мартынова («Первородство»), Н. Асеева («Лад»), В. Луговского («Середина века»). А к середине 60-х будут опубликованы даже поэтические книги М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. Ахматовой. В 1956 году состоялся невиданный праздник поэзии и вышел альманах «День поэзии». И поэтические праздники - встречи поэтов со своими читателями, и альманахи «День поэзии» станут ежегодными. Дерзко и ярко заявила о себе «молодая проза» (В. Аксенов, А. Битов, А. Гладилин кумирами молодежи стали поэты Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина и др. «Эстрадная поэзия» собирала многотысячные аудитории на поэтические вечера на стадионе «Лужники». Авторская песня Б. Окуджавы вводила в диалог поэта и слушателя непривычную для советского человека интонацию доверия и участия. Человеческие, а не идейно-ходульные проблемы и конфликты в пьесах А. Арбузова, В. Розова, А. Володина преображали советский театр и его зрителя. Менялась политика «толстых» журналов, и в начале шестидесятых «Новый мир» А. Твардовского опубликовал рассказы «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кречетовка» вернувшегося из лагерей и ссылки еще никому не известного А.И. Солженицына. Несомненно, эти явления изменяли характер литературного процесса, существенно разрывали с традицией соцреализма, по сути единственного официально признаваемого с начала 30-х годов метода советской литературы. Читательские вкусы, интересы, пристрастия трансформировались и под влиянием достаточно активной в 60-е годы публикации произведений мировой литературы XX века, прежде всего французских писателей - экзистенциалистов Сартра, Камю, новаторской драматургии Беккета, Ионеско, Фриша, Дюрренматта, трагической прозы Кафки и др. Железный занавес постепенно раздвигался. Но изменения в советской культуре, как и в жизни, были не столь однозначно ободряющими. Реальная литературная жизнь почти тех же самых лет отмечена и жестокой травлей Б.Л. Пастернака за публикацию в 1958 году на Западе его романа «Доктор Живаго». Беспощадной была борьба журналов «Октябрь» и «Новый мир» (Вс. Кочетова и А. Твардовского). «Секретарская литература» не сдавала позиций, но здоровые литературные силы тем не менее делали свое созидательное дело. В так называемую официальную литературу стали проникать подлинно художественные, а не конъюнктурно сконструированные тексты. В конце пятидесятых молодые прозаики-фронтовики обратились к недавнему прошлому: исследовали драматические и трагические ситуации войны через точку зрения простого солдата, молодого офицера. Нередко эти ситуации были жестокими, ставили человека перед выбором между подвигом и предательством, жизнью и смертью. Критика того времени встретила первые произведения В. Быкова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Астафьева настороженно, неодобрительно, обвиняя «литературу лейтенантов» в «дегероизации» советского солдата, в «окопной правде» и неумении или нежелании показать панораму событий. В этой прозе ценностный центр смещался с события на человека, нравственно-философская проблематика сменила героико-романтическую, появился новый герой, вынесший на своих плечах суровые будни войны. «Сила и свежесть новых книг была в том, что, не отвергая лучшие традиции военной прозы, они во всей увеличительной подробности показали солдата «лица выраженье» и стоящие насмерть «пятачки», плацдармы, безымянные высотки, заключающие в себе обобщение всей окопной тяжести войны. Нередко эти книги несли заряд жестокого драматизма, нередко их можно было определить как «оптимистические трагедии», главными героями их являлись солдаты и офицеры одного взвода, роты, батареи, полка». Эти новые реалии литературы также были знаками, типологическими чертами изменяющегося характера литературного процесса, начинающегося преодоления соцреалистической одномерности литературы. Внимание к человеку, его сути, а не социальной роли, стало определяющим свойством литературы 60-х годов. Подлинным явлением нашей культуры стала так называемая «деревенская проза». Она подняла такой круг вопросов, который и по сей день вызывает живой интерес и полемику. Как видно, оказались затронуты действительно жизненно важные проблемы. Термин «деревенская проза» придуман критиками. А.И. Солженицын в «Слове при вручении премии Солженицына Валентину Распутину» уточнил: «А правильней было бы назвать их нравственниками - ибо суть их литературного переворота была возрождение традиционной нравственности, а сокрушенная вымирающая деревня была лишь естественной наглядной предметностью». Термин условен, ибо в основе объединения писателей-«деревенщиков» лежит вовсе не тематический принцип. Далеко не всякое произведение о деревне относили к «деревенской прозе». Писатели-деревенщики изменили угол зрения: они показали внутренний драматизм существования современной деревни, открыли в обыкновенном деревенском жителе личность, способную к нравственному созиданию. Разделяя основную направленность «деревенской прозы», в комментарии к роману «И дольше века длится день» Ч. Айтматов так сформулировал задачу литературы своего времени: «Долг литературы - мыслить глобально, не выпуская из поля зрения центрального своего интереса, который понимаю как исследование отдельной человеческой индивидуальности. Этим вниманием к личности „деревенская проза“ обнаруживала типологическое родство с русской классической литературой. Писатели возвращаются к традициям классического русского реализма, почти отказываясь от опыта ближайших предшественников писателей-соцреалистов - и не принимая эстетики модернизма. „Деревенщики“ обращаются к самым трудным и насущным проблемам существования человека и общества и полагают, что суровый жизненный материал их прозы априори исключает игровое начало в его интерпретации. Учительский нравственный пафос русской классики органически близок „деревенской прозе“. Проблематика прозы Белова и Шукшина, Залыгина и Астафьева, Распутина, Абрамова, Можаева и Е. Носова никогда не была абстрактно значима, а всего конкретно человечна. Жизнь, боль и мука обыкновенного человека, чаще всего крестьянина (соль земли русской), попадающего под каток истории государства или роковых обстоятельств, стала материалом „деревенской прозы“. Его достоинство, мужество, способность в этих условиях сохранить верность самому себе, устоям крестьянского мира оказались основным открытием и нравственным уроком „деревенской прозы“». А. Адамович писал в этой связи: «Сбереженная, пронесенная через века и испытания живая душа народа - не этим ли дышит, не об этом ли прежде всего рассказывает нам проза, которую сегодня называют деревенской? И если пишут и говорят, что проза и военная и деревенская - вершинные достижения современной нашей литературы, так не потому ли, что здесь писатели прикоснулись к самому нерву народной жизни» (подчеркнуто мной. - И. С.). Повести и романы этих писателей драматичны - одним из центральных образов в них является образ родной земли - архангельская деревня у Ф. Абрамова, вологодская - у В. Белова, сибирская - у В. Распутина и В. Астафьева, алтайская - у В. Шукшина. Не любить ее и человека на ней нельзя - в ней корни, основа всего. Читатель чувствует писательскую любовь к народу, но его идеализации в этих произведениях нет. Ф. Абрамов писал: «Я стою за народное начало в литературе, но я решительный противник молитвенного отношения ко всему, что бы ни произнес мой современник... Любить народ - значит видеть с полной ясностью и достоинства его и недостатки, и великое его и малое, и взлеты, и падения. Писать для народа - значит помочь ему понять свои силы и слабости». Новизна социального, нравственного содержания не исчерпывает достоинств «деревенской прозы». Онтологическая проблематика, глубокий психологизм, прекрасный язык этой прозы обозначили качественно новый этап литературного процесса советской литературы - ее современный период, со всем сложным комплексом поисков на содержательном и художественном уровнях. Новые грани литературному процессу 60-х придавали и лирическая проза Ю. Казакова, и первые повести А. Битова, «тихая лирика» В. Соколова, Н. Рубцова. Однако компромиссность «оттепели», полуправда этой эпохи привели к тому, что в конце 60-х годов ужесточилась цензура. Партийное руководство литературой с новой силой стало регламентировать и определять содержание и парадигму художественности. Все, не совпадающее с генеральной линией, выдавливалось из процесса. На мовистскую прозу В. Катаева обрушились удары официальной критики. У Твардовского отняли «Новый мир». Начиналась травля А. Солженицына, преследование И. Бродского. Менялась социокультурная ситуация - «наступал застой». 2. Творчество В.В.Набокова Набоков оставил после себя, без преувеличения, огромное литературное наследие. Его главными, написанными по-русски книгами являются: «Машенька» (1926), «Король, дама, валет» (1928), «Возвращение Чорба», «Защита Лужина» (1930), «Подвиг» (1932), «Круг» (1936), «Дар» (19371938), «Приглашение на казнь», «Соглядатай» (1938) и другие. В те же годы опубликовал немало стихов, стихотворные драмы: «Дедушка», «Смерть», «Скитальцы», «Плюс», пьесы в прозе, немало переводов, в том числе для детей: «Аня в стране чудес» Л. Кэтола. В США писал по-английски: «Действительная жизнь Себастьяна Найта», «Под знаком незаконнорожденных», «Лолита», «Призрачные вещи», «Ада», «Взгляни на арлекинов!». Переводил на английский русскую поэзию XIX века. Перевел и построчно откомментировал «Евгения Онегина», издал прочитанные в Уэльслейском колледже и Корнуэльском университете лекции по русской литературе. В. В. Набоков оставил значительное драматическое наследие: его перу принадлежат девять пьес и сценарий для фильма по роману «Лолита». Первая из пьес, «Событие», была написана в Ментоне в 1938 году и появилась в том же году в четвертом номере журнала «Русские записки». Следующая пьеса «Изобретение Вальса» написана в сентябре 1938 года в Кап д Антиб и напечатана в одиннадцатом номере «Русских записок». Пансион набоковской прозы плотно населен малосимпатичными персонажами. Угрюмые, докучливые. То фальшивые, то трусливые, то откровенно подлые. Они и выглядят соответственно. В авторском голосе слышится злость и разочарование: ущербна, пакостно-тягуча, мелочна человеческая натура. То этот внимательный соглядатай заметит на чьем-то лице мясистую бородавку у носа, «словно лишний раз завернулась ноздря» («Круг»), то почует «теплый, вялый запашок не совсем здорового, пожилого мужчины» («Машенька»), и читателю едва не делается дурно, но это еще цветочки; то расскажет, точно уголовный хроникер, как мать, потеряв терпение, утопила двухлетнюю дочку в ванной и потом сама выкупалась – не пропадать же горячей воде («Василий Шишков»). Из каждого человека можно добыть «слабый раствор зла». Безрадостное впечатление. Кретинизм, мерзость… Набокова обвиняли в бездумности и бездуховности, в аморализме, в подмене добродетельного пафоса приемом. Но так ли это? Взглянем на некоторые его произведения поближе. Читая роман «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», невольно погружаешься в лабиринт зеркал, причудливый мир отражений, который тем более интересен, что за каждым отражением мы находим ускользающие черты самого Набокова. Исследуя подлинную жизнь Найта, мы вместе с героем романа (да что там, вместе с самим Набоковым) постоянно встречаем подробности жизни и черты характера, столь хорошо знакомые истинным любителям Набокова. Порою кажется, что автор намеренно изобразил себя, умершего в Старом Свете, в образе Себастьяна Найта, и себя, родившегося в Америке, в образе рассказчика. Но для любителя шахматных задач это было бы слишком просто. Автор намеренно играет с Читателем, предоставляя ему возможность увидеть почти готовый портрет Владимира Набокова. Но тут же он затуманивается; еще немного, и вот уже виден только бледный контур; а затем, и вовсе – только улыбка. Впрочем, и она растворяется, но лишь для того, чтобы мы вновь встретились с живым писателем на другой странице. При этом сам автор – это и есть его книги; книги, которые рождаются с обложки и умирают с последней страницей. Во всяком случае, все книги Набокова закрываешь с чувством утраты чего-то неуловимо прекрасного. Вообще, тема отражений в произведениях Набокова играет очень важную роль. Без осознания значимости этой роли невозможно добиться понимания всего творчества писателя. Со страниц книг на нас смотрит не сам автор, а отражение отражения Набокова, одетого в маскарадный костюм и играющего роль, придуманную им самим. Или первый роман Набокова-Сирина «Машенька», - наиболее «русский» из романов Набокова. В романе вся атмосфера, воздух некой странности, призрачности бытия окутывает читателя. Здесь воплощена подлинные судьбы, превращенные талантом Набокова в вымышленные. Позже, в 1954г., в «Других берегах» он изложит истинные происшествия, породившие роман, и назовет истинное место действия – берега все той же реки Одереж под Петроградом. Здесь появится как бы «подкладка» этой, говоря словами автора, «полубиографической повести», - сад его дяди В. И. Рукавшиникова; татарский разрез глаз героини, которой он вновь дает псевдоним – Тамара; и пара подруг, которых заботливая судьба вскоре приберет прочь с пути; велосипедные прогулки с фонарем, заряженным магическими кусками карбида. Та же неблагосклонная для любви петроградская зима, кончившаяся тусклым расставанием, в отличие от Машеньки шагнет не в сумерки, «пушисто пахнущие черемухой», а в «жасмином насыщенную тьму». Но уже в «Машеньке» впервые заявит о себе основная сквозная тема В. В. Набокова: тема двух домов. Дом, где временно проживает Ганин, главный герой повествования, прозрачен не только для грохочущих поездов, но и для читателя – как сущий символ не одного лишь проходного двора изгнания, но и прошлого как такового. В конце герой его покидает и «не вернется больше никогда». Причем Ганин наконец понимает, что любезный его сердцу образ Машеньки тоже остался навеки «там, в доме теней, который уже сам стал воспоминанием». А следом всплывает дом другой, только еще строящийся. Пожалуй, самая характерная черта, свойственная всем проходным героям Набокова, – их максимальный эгоизм, нежелание считаться с «другими». Ганин жалеет не Машеньку и их любовь, он жалеет себя, только себя, которого не вернешь, как не вернешь молодости и России. И реальная Машенька, как не без оснований страшится он, жена тусклого и апатичного соседа по пансионату Алферова, своим «вульгарным» появлением убьет хрупкое прошлое… 3. Литературная ситуация 1986 – 1991 годов: формирование новой литературы. Фактическое освобождение культуры от государственного идеологического контроля и давления во второй половине 80-х годов было законодательно оформлено 1 августа 1990 года отменой цензуры. Естественно завершилась история «самиздата» и «тамиздата». С распадом Советского Союза произошли серьезные изменения в Союзе советских писателей. Он раскололся на несколько писательских организаций, борьба между которыми порой принимает нешуточный характер. Но различные писательские организации и их «идейно-эстетические платформы», пожалуй, впервые в советской и постсоветской истории практически не оказывают влияния на живой литературный процесс. Он развивается под воздействием не директивных, а иных, более органичных литературе как виду искусства факторов. В частности, открытие, можно сказать, заново культуры серебряного века и ее новое осмысление в литературоведении было одним из существенных факторов, определяющих литературный процесс с начала 90-х годов. Вновь открытым в полном объеме оказалось творчество Н. Гумилева, О. Мандельштама, М. Волошин, Вяч. Иванова, Вл. Ходасевича и многих других крупнейших представителей культуры русского модернизма. Свой вклад в этот плодотворный процесс внесли издатели большой серии «Новой библиотеки поэта», выпустившие прекрасно подготовленные собрания поэтического творчества писателей серебряного века». Издательство Эллис Лак» не только выпускает многотомные собрания сочинений классиков серебряного века (Цветаевой, Ахматовой), но и издает писателей второго ряда, например превосходный том Чулков Г.И. «Годы странствий»Г. Чулкова «Годы странствий», представляющий разные творческие грани писателя, а некоторые его произведения вообще публикуются впервые. То же можно сказать о деятельности издательства «Аграф», которое выпустило сборник произведений 3иновьевой-Аннибал. Сегодня можно говорить о почти целиком изданном силами разных издательств М. Кузмине. Издательство «Республика» осуществило замечательный литературный проект - многотомное издание Белый А.А. Белого. Эти примеры можно продолжать. Фундаментальные монографические исследования Н. Богомолова, Л. Колобаевой и других ученых помогают представить мозаичность и сложность литературы серебряного века. В силу идеологических запретов мы не могли осваивать эту культуру «в течение времени», что было бы, несомненно, плодотворным. Она буквально «свалилась» на широкого читателя как снег на голову, вызывая нередко апологетическую восторженную реакцию. Между тем, это сложнейшее явление заслуживает пристального и внимательного постепенного чтения и изучения. Но случилось так, как случилось. Современные культура и читатель оказались под мощнейшим прессингом культуры, в советский период отвергнутой как не только идеологически, но и эстетически чуждой. Теперь опыт модернизма начала века и авангардизма 20-х годов приходится впитывать и переосмыслять в кратчайшие сроки. Мы можем констатировать не только факт существования произведений начала XX века как полноправных участников современного литературного процесса, но и утверждать факт наложений, влияний разных течений и школ, их одновременного присутствия как качественную характеристику литературного процесса новейшего времени. Если же учесть и колоссальный бум мемуарной литературы, то мы сталкиваемся с еще одной особенностью этого процесса. Влияние мемуаристики на собственно художественную литературу очевидно для многих исследователей. Так, один из участников дискуссии «Мемуары на сломе эпох» И. Шайтанов справедливо подчеркивает высокое художественное качество мемуарной литературы: «При сближении со сферой художественной литературы мемуарный жанр начинает терять свою документальность, давая урок ответственности литературе в отношении слова...» Несмотря на точное наблюдение исследователя о некотором отходе от документальности во многих из опубликованных мемуарах, мемуаристика для читателей является средством воссоздания социальной и духовной истории общества, средством преодоления «белых пятен» культуры и просто хорошей литературой. Перестройка дала импульс активизации издательской деятельности. В начале 90-х появились новые издательства, новые литературные журналы самой различной направленности - от прогрессивного литературоведческого журнала «Новое литературное обозрение» до феминистского журнала «Преображение». Книжные магазины-салоны «Летний сад», «Эйдос», «19 октября» и другие - рождены новым состоянием культуры и в свою очередь оказывают на литературный процесс определенное влияние, отражая и популяризируя в своей деятельности ту или иную тенденцию современной литературы. В 90-е годы переизданы впервые после революции труды многих русских религиозных философов рубежа ХIX-XX веков, славянофилов и западников: от В. Соловьева до П. Флоренского, А. Хомякова и П. Чаадаева. Издательство «Республика» завершает издание многотомного собрания сочинений Василия Розанова. Эти реалии книгоиздательской деятельности, несомненно, существенно влияют на современное литературное развитие, обогащая литературный процесс. К середине 90-х годов ранее невостребованное советской страной литературное наследие почти полностью возвратилось в национальное культурное пространство. А собственно современная литература заметно усилила свои позиции. Толстые журналы снова предоставили свои страницы писателям-современникам. Современный литературный процесс в России, как и должно быть, снова определяется исключительно современной литературой. По стилевым, жанровым, языковым параметрам она не сводима к определенной причинно-следственной закономерности, что, однако, совсем не исключает наличия закономерностей и связей внутри литературного процесса более сложного порядка. Трудно согласиться с исследователями, которые вообще не видят признаков процесса в современной литературе. Тем более, что нередко эта позиция оказывается необычайно противоречивой. Так, например, Г.Л. Нефагина утверждает: «Состояние литературы 90-х годов можно сравнить с броуновским движением» - а далее продолжает: - «образуется единая общекультурная система». Как видим, исследовательница не отрицает наличия системы. Раз есть система, есть и закономерности. Какое уж тут «броуновское движение»! Эта точка зрения - дань модной тенденции, представлению о современной литературе после крушения идеологической иерархии ценностей как о постмодернистском хаосе. Жизнь литературы, тем более литературы с такими традициями, как русская, несмотря на пережитые, времена, думается, не только плодотворно продолжается, но и поддается аналитической систематизации. Критика уже немало сделала, анализируя основные тенденции современной литературы. Журналы «Вопросы литературы», «Знамя», «Новый мир» проводят «круглые столы», дискуссии ведущих критиков о состоянии современной литературы. В последние годы издано несколько солидных монографий о постмодернизме в русской литературе. Проблематика современного литературного развития, как нам представляется, лежит в русле освоения и преломления различных традиций мировой культуры в условиях кризисного состояния мира (экологические и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, страшные эпидемии, разгул терроризма, расцвет массовой культуры, кризис нравственности, наступление вертуальной реальности и др.), которое вместе с нами переживает все человечество. Психологически оно усугубляется общей ситуацией рубежа веков и даже тысячелетий. А в ситуации нашей страны осознанием и изживанием всех противоречий и коллизий советского периода отечественной истории и культуры соцреализма. Атеистическое воспитание поколений советских людей, ситуация духовной подмены, когда для миллионов людей религия, вера были заменены мифологемами социализма, имеют тяжелые последствия для современного человека. В какой мере литература откликается на эти труднейшие жизненные и духовные реалии? Должна ли она, как это было в классической русской литературе, давать ответы на трудные вопросы бытия или хотя бы ставить их перед читателем, способствовать «смягчению нравов», сердечности в отношениях людей? Или писатель - беспристрастный и холодный наблюдатель людских пороков и слабостей? А может быть, удел литературы - уход в далекий от реальности мир фантазий и приключений?.. И поле литературы - эстетическая или интеллектуальная игра, а литература вообще не имеет никакого отношения к реальной жизни, к человеку вообще? Нужно ли искусство человеку? Слово, отчужденное от Бога, отделенное от божественной истины? Эти вопросы вполне реальны и требуют ответов. В нашей критике есть разные точки зрения на современный литературный процесс и самое предназначение литературы. Так, А. Немзер уверен, что литература выдержала испытания свободой и последнее десятилетие было «замечательным». Критик выделил тридцать имен русских прозаиков, с которыми он связывает плодотворное будущее нашей литературы. Татьяна Касаткина в статье «Литература после конца времен» утверждает, что единой литературы сейчас нет, а есть «клочки и фрагменты». «Тексты» нынешней литературы она предлагает разделить на три группы: «Произведения, чтение которых есть событие реальной жизни человека, не уводящее его из этой жизни, но соучаствующее в ней... произведения, из которых не хочется возвращаться в реальную жизнь, причем это их принципиальное, конституционное (и вовсе не положительное) свойство... произведения, в которые не хочется возвращаться, даже если осознаешь их ценность, в которые тяжело входить по второму разу, которые обладают всеми свойствами зоны с эффектом накапливающегося излучения». Не разделяя общего пафоса исследовательницы в оценке современного состояния отечественной литературы, можно воспользоваться ее классификацией. Ведь такое деление опирается на испытанные временем принципы - характер отражения реальности в литературе и авторскую позицию. Именно эти принципы парадигмы художественности лежат в основе предлагаемого в пособии анализа явлений современной литературы, характера литературного процесса. В соответствии с этим во второй главе будет рассмотрено преломление традиций реализма в современном литературном процессе, а третья глава пособия посвящена анализу постмодернистских тенденций в современной прозе. В четвертой - те же процессы будут рассмотрены на материале современной поэзии. 4. Драматургия периода «оттепели». Наиболее яркие представители (В. Розов, А. Арбузов, А. Вампилов). В период «оттепели» бурно развивалось театральное искусство, что обусловило расширение и обновление репертуара театров, появление многих ярких драматических произведений талантливых авторов.На смену «бесконфликтным» пьесам, в которых действовал классовоидеологический принцип оценки персонажа, пришли серьёзные драмы, посвящённые нравственной проблематике.В зависимости от ведущего принципа создания образов «оттепельные» и «послеоттепельные» пьесы можно подразделить на три типа: художественно-публицистическая драма; социально-психологическая драма; комедия. Начиная с 1950-х годов и до конца советского периода с отечественных театральных подмостков не сходили пьесы талантливых драматургов А. Арбузова, В. Розова, А. Володина, Л. Зорина, А. Вампилова и др. Многие из них пытались создать образ современника, обращались к проблеме нравственного неблагополучия как человека, так и общества в целом.Несмотря на то, что Арбузов дебютировал пьесой «Таня» (1939) задолго до «оттепели», его творчество в течение многих лет оставалось актуальным для зрителей. Среди наиболее заметных его работ — «Иркутская история », «Мой бедный Марат», «Город на заре», «Сказки старого Арбата », «Старомодная комедия », «Жестокие игры» и др. В центре внимания драматурга — молодёжь со свойственной ей романтикой. Отличительной особенностью пьес Арбузова была «протяжённость действия », что позволяло автору показать развитие личности, становление характера героя, формирование его духовного облика. Стилю А. Арбузова свойствен тонкий лиризм.Творчеству Розова свойственны реалистичность и психологическая достоверность изображаемых коллизий и характеров, философская глубина обобщений, протест против конформизма. Характерной особенностью пьес этого драматурга является нравственная проблематика, «сжатый» диалог, «многослойность» содержания (за «семейным» планом повествования открывается общечеловеческий план), отказ автора от прямых характеристик (оценки должен вынести читатель и зритель). Критику М. Строевой удалось так сформулировать основную тенденцию драматургии В. Розова: «Кем бы человек ни стал — профессором или шофёром, писателем или счетоводом, — всё равно он всю жизнь держит экзамен на честность и стойкость. Каждый стоит перед выбором. Мелким или крупным, неважно. Важно — каким…»[Строева М.Н. Спрашивайте с себя... / М.Н. Строева // Олег Ефремов и его время. — М., 2007. — С. 149]. Одним из наиболее ярких произведений В. Розова стала драма «Вечно живые», события которой разворачиваются в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы (в 1957 г. по этой пьесе был снят фильм «Летят журавли »).Конец 1950 — начало 1970-х гг. отмечены яркой индивидуальностью А. Вампилова. За свою недолгую жизнь он написал всего несколько пьес: «Прощание в июне», «Старший сын », «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Двадцать минут с ангелом» и «Случай с метранпажем», «Прошлым летом в Чулимске» и неоконченный водевиль «Несравненный Наконечников». Вернувшись к эстетике Чехова, Вампилов определил направление развития российской драматургии двух последующих десятилетий.Вампилов с тревогой отмечал быстро распространяющиеся нравственные болезни: двойную мораль, хамство как норму поведения, жестокость, исчезновение доброты, доверия, благородства. Талантливый драматург чутко уловил тенденцию своего времени: многие люди не выдерживают испытания бытом: «...Любовь любовью, а... с машиной-то муж, к примеру, лучше, чем без машины» («Двадцать минут с ангелом»); «...если у человека есть деньги, значит он уже не смешной, значит серьезный. Нищие сегодня из моды вышли» («Прошлым летом в Чулимске»), «деньги, когда их нет, — великая сила» («Прощание в июне»). Вампиловский герой — это человек средних лет, страдающий нравственно, недовольный своей жизнью, стоящий на распутье. Таковы инженер Зилов («Утиная охота»), сельский учитель Третьяков («Дом, окнами в поле»), студенты Колесов и Бусыгин («Прощание в июне» и «Старший сын»), следователь Шаманов («Прошлым летом в Чулимске»). В пьесах Вампилова очень сильно лирическое начало. «Автор исследует, по существу, судьбу людей своего поколения, молодых людей 50—60-х гг. на переходе от эйфории «оттепели», надежд изменить весь мир, непременно состояться как личность — к краху социальных и собственных иллюзий». [Лекции — Русская литература 2-й половины ХХ в.].Драматургия 80-х гг., по словам театроведа Б. Любимова, нарисовала некий групповой портрет «промежуточного поколения» «людей не очень добрых, но и не так чтоб очень — злых, все знающих про принципы, но далеко не все принципы соблюдающих, не безнадежных дураков, но и не подлинно умных, читающих, но не начитанных; о родителях заботящихся, но не любящих; детей обеспечивающих, но не любящих; работу выполняющих, но не любящих; ни во что не верящих, но суеверных; мечтающих, чтобы общего стало не меньше. А своего побольше... ».Современные драматурги пишут как о нравственных болезнях и их причинах, так и о последствиях, о способах выжить «на краю», сохранить человеческое в человеке. Доброта, юмор, ирония по отношению к своим героям, простым людям, пытающимся разобраться в нелепостях своей жизни, отличает пьесы В. Гуркина («Любовь и голуби», «Прибайкальская кадриль», «Плач в пригоршню»), С. Лобозерова(«Семейный портрет с посторонним», «Его алмазы и изумруды», «Семейный портрет с дензнаками»), новые произведения М. Рощина, А. Казанцева, последние пьесы М. Варфоломеева.С.С. Васильева в своей статье «Пути развития русской драматургии конца XX в.» (Васильева С.С. Пути развития русской драматургии конца XX в.) отмечает: «Перед авторами конца ХХ века раскрылось противоречие между человеческими устремлениями и жизнью в ее обыденном измерении; бытовое стало знаковым, главным в человеческом существовании; драматурги «новой волны» «рассматривают, в отличие от Вампилова, положение человека в мире, в котором личность не ставится перед необходимостью борьбы со злом, а вынуждена все свои силы и возможности направлять на борьбу за выживание» Мотив бездомности становится основным. В ремарках описывается среда обитания или сами герои рассказывают о своем быте, но их квартиры, жилище оказываются антидомами». 5. Авторская песня: Ю. Визбор, А. Галич, В. Высоцкий, Б Окуджава Теперь уже трудно представить себе русское искусство без ставших по существу народными авторских песен "Домбайский вальс" Ю. Визбора, "Перекаты" А. Городницкого, "Фантастикаромантика" Ю. Кима, "За туманом" Ю. Кукина и многих других. Трудно представить "Гренаду" М. Светлова без музыки В. Берковского, а стихотворение Ю. Левитанского "Что происходит на свете..." без музыки С. Никитина. Трудно, наконец, представить нашу жизнь без голоса В. Высоцкого, песен Б. Окуджавы, А. Галича и многих других бардов. Связанная со многими явлениями жизни и искусства, авторская песня обрела собственное, безошибочно узнаваемое лицо и сохранила его до наших дней. Авторская песня... Более полувека существует в нашей стране это явление, до сих пор не вполне объясненное. Родившаяся и развившаяся в крупных городах, она в последние годы получила широкое распространение и в провинции. Авторская песня в комплексном смысле - это многогранное социокультурное явление, в известной мере - общественное движение 50 - 90-х годов ХХ века. Свое слово о нем еще предстоит сказать специалистам самых разных областей: музыковедам, культурологам, социологам, историкам. Когда-то драматург Александр Володин назвал бардовские песни "фольклором городской интеллигенции". Слово "фольклор" здесь было употреблено слишком вольно: авторская песня по большей части - творчество индивидуальное, а не коллективное. Тем не менее огромная роль авторской песни в истории русской интеллигенции, русского языка, да и русской культуры в целом бесспорна. Социологи и культурологи давно увидели в авторской песне не разновидность песенного самодеятельного творчества, а целостное, самостоятельное искусство, с полным правом поставив его в ряд с классической музыкой, кино, балетом, театром. Это удивительно тонкий, художественно полноценный инструмент общения. Авторская песня всегда была своего рода нишей, сберегающей духовное и интеллектуальное начало в человеке. Сосуществуя долгие годы с песней "профессиональной", она сумела сохранить и развить в себе то особое, что дает возможность безошибочно выделить ее из песенного потока. При всем отличии авторской песни от других вокальных жанров, она нерасторжимо с ними связана. Поэтому рассматривать ее следует в совокупности всех явлений - поэтических, музыкальных, театральных, фольклорных, социальных. Широкое распространение авторская песня получила с появлением в нашей стране магнитофонов. Как писал Александр Галич: "Есть магнитофон системы "Яуза". Вот и все! А этого достаточно". Телевидение и радио поддержали бардов лишь на первом этапе, а многие профессионалы музыканты и литераторы относились к этому движению либо снисходительно, либо просто не замечали его. Такое отношение, в той или иной степени скорректированное нынешним открытым общественным мнением и впечатлением от раннего ухода из жизни сначала Галича и Высоцкого, а затем Визбора и Окуджавы, сохранилось до сих пор. И это при ощущаемом самими профессионалами влиянии творчества бардов на их собственное. Достаточно определенно об этом высказалась поэтесса Юнна Мориц: "Наше время уже немыслимо без поющих геологов, инженеров, актеров, поэтов. Их творчество любимо, оно имеет публичный успех у самой широкой аудитории. Секрет этого успеха прежде всего - в самобытности, в тематической свободе, в глубине и правдивости чувств и выразительных средств, ломающих шаблоны. И спор о том, профессионально ли такое творчество - бессодержателен и бессмыслен. Потому что если талант - профессия, то все талантливое - профессионально!". Явление современных бардов и авторской песни при всей узнаваемости отдельных черт в далекой и близкой истории несло в себе эффект неожиданности. В конце 50-х годов искусство от глобальных проблем переходит к проблемам личностным, к духовному миру человека, что было связано с процессами, происходившими тогда во всех сферах общества. Авторская песня, возникшая в это время, в лучших своих примерах несла в себе новые эмоции, новые темы, высокую поэзию, отражающую парадоксальность жизни. Создав неповторимую эстетическую основу, она никогда не стремилась к ломке старой эстетики, не изобретала новых форм, а синтезировала те, что уже имелись. Сами обстоятельства подвигнули авторов к созданию синтетического жанра. Это было естественным шагом - и потому, что авторская песня возникла в эпоху бурного развития средств массовой коммуникации, когда письменное слово невольно стало отступать на второй план, и потому, что авторы работали в традициях русской культуры. Они подтвердили слова А. Блока, сказанные им в 1921 году, но остающиеся актуальными по сей день: "Россия - молодая страна, и культура ее - синтетическая культура. Русскому художнику и не надо быть "специалистом"". Используя достижения композиторов-дилетантов начала XIX века в области романса, интонации отечественной и зарубежной эстрады, барды создают синтетический жанр, отличительной чертой которого становится соединение разных стилей даже в пределах одной песни. Это не эклектика, а эстетическая система музыкального языка, стремящегося наиболее полно раскрыть поэтическую основу песни. При этом едва ли не ведущую роль играет высокий уровень поэтической интонации. Наступило время, когда бардовская стихия вышла за рамки определенной, конкретной художественной сферы, какой-то одной эстетической области, и во второй половине пятидесятых - начале шестидесятых годов у русской поэзии появилось новое, параллельное русло. Его создали "поющие поэты" - авторы стихов и музыки, являвшиеся одновременно исполнителями (как правило, под аккомпанемент гитары) своих песен. Песни эти поначалу исполнялись в дружеских компаниях, в туристских походах и геологических экспедициях, зачастую предназначались узкому кругу, и прямой контакт исполнителя и слушателей создавал неповторимую, неформальную и доверительную атмосферу. Следует напомнить некоторые принципы эстетики авторской песни в сравнении с эстетикой песни эстрадной: первичность слова, поэзии; уход от дешевой развлекательности; трактовка стиха натуральными средствами - не поставленный голос, индивидуальность интонации; скупость инструментального сопровождения; минимум технических средств; творчество относительно независимо от внешнего успеха. К концу 60-х гг. состояние авторской песни уже требовало серьезного искусствоведческого анализа, систематического освещения и изучения. Но с окончанием периода "оттепели" число опубликованных песен бардов, а также работ об их творчестве резко сократилось. Идеологический прессинг времен "застоя" по отношению к авторское песне был особенно жестким. Дело здесь в изначальных особенностях этого вида искусства, главная из которых - его синтетичность, или, по выражению М. Анчарова, синкретичность, т.е. органическое единство трех составляющих поэзии, музыки и исполнения. Для авторской песни характерен "эффект целого", в соответствии с которым явлением искусства становится произведение в момент его исполнения, тогда как каждый компонент в отдельности может не достигать уровня совершенства, удовлетворяющего критериям профессионального - поэтического, музыкального, исполнительского - искусства. В силу этой особенности среди бардов, как правило, нет ни профессиональных поэтов-песенников, ни профессиональных композиторов, ни профессиональных исполнителей. Это обстоятельство придает авторской песне чрезвычайную демократичность, изустность, в то же время делая ее весьма неудобной для какого-либо идеологического контроля и управления. Именно поэтому в течение многих лет власти были вынуждены делать вид, что такого искусства - бардовской песни не существует, фактически запретив его. Бардовское движение, получившее мощный импульс в 60-е гг., - практически единственное явление, рожденное в "оттепель", которое оказалось творчески независимым, идеологически чистым, неподвластным какой-либо структуризации сверху. Это движение - часть культуры, без которой невозможно понять и постигнуть не только эпоху "оттепели", но и советскую культуру всего послесталинского времени в целом. Барды подкупали своей честностью, искренностью ощущений, открытостью взглядов, острым чувством гражданской ответственности, человечностью и терпимостью. Барды явили собой как бы собирательный образ Поэта властителя умов, умонастроений, мироощущений. Они не были признаны официально, многие относились к ним настороженно, терпели их скрепя сердце. *** Безусловно, наивно было бы рассматривать современную авторскую песню как прямую наследницу песенных традиций прошлого. Тем не менее такая связь существует, пусть и в сильно трансформированном и опосредованном виде. Обычно термин-название появляется позже, чем сам предмет, им обозначаемый. Когда же родилась авторская песня. Соблазнительна возможность точно указать "первую ласточку" жанра: кто-то предлагает в этом качестве "Бригантину" Павла Когана и Георгия Лепского или "Глобус" Михаила Львовского и Михаила Светлова, кто-то напоминает об Александре Вертинском, а кто-то видит первого барда в Денисе Давыдове... Если увлечься подобными ретроспективными поисками, в конце концов можно добраться и до древнегреческой поэзии, исполнявшейся, как известно, под аккомпанемент кифары - предшественницы гитары. Но ведь песня, как таковая, стояла у истоков всех поэтических жанров. А тот тип песни, о котором идет речь, сформировался именно в годы так называемой "оттепели" и отчетливо противопоставлял себя песням другого типа. Рассматривая советский период от 1917 года до 50-х годов, отметим локальные взлеты песни, которую сегодня можно определить как авторскую. Заметное влияние на старшее поколение авторов - Окуджаву и Галича - оказал А. Вертинский, который дал живой пример достаточно необычного на эстраде распева стиха. Несомненно влияние на бардов таких советских и зарубежных актеров-певцов, как Л. Утесов, К. Шульженко, М. Бернес, Ив Монтан. Развитие современной авторской песни с самого начала шло разными путями. Уже в начале 50-х годов началось возрождение студенческой песни: создается агитколлектив на биофаке МГУ (авторы - Д. Сухарев, Т. Шангин-Березовский, В. Борисов, В. Волков), позднее - вокальный октет МГПИ им. Ленина (авторы - Б. Вахнюк, Ю. Визбор, Ю. Ким, А. Якушева). В 60-е годы на физфаке МГУ возникает вокальный квинтет, в котором участвуют Татьяна и Сергей Никитины. В дальнейшем студенческая песня, уже не без влияния Ю. Визбора, Н. Матвеевой, Б. Окуджавы, значительно трансформировалась, в исполнение и сочинение песен включились студенты многих вузов Москвы, Ленинграда, Киева, Новосибирска, Куйбышева, Челябинска и других городов. Одновременно, еще с военных лет, шло развитие туристской и альпинистской песни. Со временем некоторые авторы песен начали выступать с публичными концертами (чаще всего неофициальными или полуофициальными), еще больше расширили их аудиторию магнитофонные записи, сделанные как во время публичных, так и во время домашних концертов. Внедрившиеся в быт магнитофоны подорвали монополию власти на распространение звучащей информации, которая до тех пор проходила только через радио, телевидение и грампластинки под строжайшим цензурно-идеологическим контролем. Как одна из разновидностей неподцензурного "самиздата" сформировался так называемый "магнитоиздат". Поющих поэтов стали слушать (и петь) тысячи незнакомых им людей по всей стране. Вскоре возникли КСП (клубы самодеятельной песни), стали проводиться многочисленные слеты и фестивали. В основе своей это было естественно возникшее молодежное движение со свободно-демократическими принципами и законами, однако власти пытались регламентировать работу клубов, навязать слетам и фестивалям комсомольские вывески и лозунги. Характерна история Туристского фестиваля патриотической песни им. В. Грушина. Основатель знаменитого в те годы трио авторской песни "Поющие бобры" студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин погиб в 1967 году, спасая детей. В память о нем и родился фестиваль. С 1968 по 1979 г. прошло двенадцать фестивалей, последний из которых собрал свыше 100 тыс. участников из 75 городов. А в 1980 г. его запретили. Тринадцатый фестиваль состоялся лишь в 1986 г., то есть только после начала перестройки. Теперь этот самый популярный фестиваль авторской песни ежегодно собирает до 200 тыс. участников, как из России, так и из-за рубежа. При всем обилии имен, тем и жанров, песни бардов создавали и создают особый мир - осязаемо реальный, в котором можно себя испытать. Мир без ложной патетики, без аффектации романтизма, но пропитанный им - мир сокровенного романтизма. Если на первых этапах становления авторская песня, отражая мысли и чувства авторов, претворялась как бы в массовый интеллект и эмоцию, становилась надличностной (многие до сих пор не знают авторов своих любимых песен), то позже положение изменилось. В 70 - 80-е годы происходит своего рода передоверие чувств и мыслей многих людей одному человеку - исполнителю, который часто оказывается и автором. Отсюда - интерес к барду, отсюда - всевозрастающий профессионализм и личностный багаж последнего. Авторов знают или стремятся узнать. *** Группа бардов-"основателей" объединяет людей, заложивших фундамент авторской песни. Ныне они служат эталоном музыкально- поэтической эстетики бардовского движения. Принято считать, что их восемь: Михаил Анчаров, Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, Александр Галич, Александр Городницкий, Юлий Ким, Новелла Матвеева и Булат. Окуджава. Все они принадлежат к первому поколению бардов - бардов-шестидесятников - и каждый из них по-своему первый. Когда после одного из концертов Высоцкого спросили: "А не боитесь, что вам запретят выступать? - он ответил: "У меня это право никто отобрать не может, потому что его никто не давал". У бардов-шестидесятников всегда за кадром оставался мотив, побуждающий людей к единению. Мотив тоски, одиночества преодолевался в пределах одной песни. Они словно знали рецепт выживания в бездуховной атмосфере. Даже уходя из жизни (Анчаров, Визбор, Высоцкий, Галич, Окуджава), они оставляли память о себе, как о стойких оптимистах, которые могут вынести все передряги без ущерба для собственного утвердительного мироощущения. Отсутствие реальной возможности увидеть своими глазами мир, находящийся за пределами географических границ советского пространства, порождало желание осуществить свое Большое Путешествие иным путем. Этот путь шел не за пределы территории, обнесенной красными флажками, а в глубь ее. Походы с песнями у костра, кроме создания определенного смыслового пространства без казенщины и официоза, компенсировали потребность людей в расширении границ познания мира. Горы, покорение вершин из метафоры превращаются в подлинные реалии, где люди проходят тест на прочность. За фигурами полярников и геологов тянется романтический шлейф истории, в котором ключевым словом становится подлинность. Горы, ледники и океан оказываются тем пространством, где, по мнению шестидесятников, не имеют никакого значения "красивые слова", так ненавистные им, да и вообще слова как таковые, а все решают исключительно поступки. Человек просвечивается как на рентгене и, пройдя пробу стихией, он может считаться оплотом надежности. К группе "основателей" примыкает первый эшелон бардов - это барды, усвоившие и сохраняющие основные, генетические черты авторской песни. Каждый из них создал свой неповторимый песенный мир. При всей несхожести творческих стилей их объединяет трепетное отношение к слову, поэтической интонации. Обогащенные энергией слова, музыка и исполнение приобретают особое качество духовности, чутко улавливаемой слушателями. Интеллектуальная нагруженность стиха приводит к доминированию речитативного стиля, позволяющего выявить авторскую интонацию. К первому эшелону бардов можно причислить Евгения Бачурина, Владимира Бережкова, Виктора Берковского, Георгия Васильева, Валентина Вихорева, Веронику Долину, Александра Дольского, Александра Дулова, Вадима Егорова, Алексея Иващенко, Владимира Качана, Евгения Клячкина, Арика Круппа, Юрия Кукина, Владимира Ланцберга, Виктора Луферова, Веру Матвееву, Александра Мирзаяна, Олега Митяева, Сергея Никитина, Михаила Ножкина, Леонида Семакова, Александра Суханова, Владимира Туриянского, Михаила Щербакова, Аду Якушеву и др. Вплотную к ним примыкает большая группа авторов, каждый из которых известен сочинением нескольких песен, ставших классикой этого вида искусства. Назовем лишь некоторых из них: Евгений Агранович, Юз Алешковский, Александр Васин, Борис Вахнюк, Анатолий Загот, Владимир Каденко, Ирина Левинзон, Алексей Охрименко, Юрий Панюшкин, Фред Солянов, Сергей Стеркин, Ген Шангин-Березовский, Николай Шипилов. Еще более велик список "авторов одной песни" золотого бардовского фонда. Наконец будет справедливым упомянуть и тех, кто по-своему способствовал развитию авторской песни: поэтов Михаила Львовского, Дмитрия Сухарева и Леонида Филатова, артистку Елену Камбурову, журналиста и барда-пародиста Игоря Михалева, мастера работы с детской аудиторией Григория Гладкова, исполнителен авторское песни Галину Хомчик, Лидию Чебоксарову, Дмитрия Богданова и др. *** По выражению Булата Окуджавы, "авторская песня это искусство думающих людей для думающих людей". Явившись в пору потепления общественной атмосферы, на гребне гражданской активности лучшей части интеллигенции, авторская песня сумела накопить достаточно мощный потенциал, сохранить и усилить свое влияние в застойную пору. Она была одной из немногих отдушин, как в социальном, так и в эстетическом плане. Вырвавшись на свободу в годы перестройки, авторская песня поначалу несколько померкла, что дало повод некоторым засомневаться в ее жизнеспособности. Однако в 90-х гг. все встало на свои места - она как бы обрела новое дыхание. Не отбрасывая традиции и основные принципы эстетики, новые поколения бардов ищут иные художественные поэтически-музыкальные средства для сочинения и исполнения песен. При этом каждый крупный автор привносит в авторскую песню что-то свое, обогащая ее новыми красками. Успех недавнего проекта Песни нашего века", когда авторские песни в исполнении группы известных бардов вдруг оказались услышанными и необходимыми широчайшему кругу слушателей, показал, что это искусство вполне способно конкурировать с засильем дешевой бездуховной поп-музыки. Так что же это за явление - авторская песня? О ней уже написаны книги, защищено несколько диссертаций, а вопросов как будто меньше не становится. Теперь дискуссии на эту тему развертываются в Интернете. А жизнь авторской песни тем временем продолжается. Теперь уже в XXI веке. 6. Лейтенантская проза» как литературное явление 1960-70-х годов: история возникновения, представители направления, основные произведения, особенности поэтики. Уже в годы Великой Отечественной войны и вскоре после ее окончания появились произведения, посвященные этой народной трагедии. Их авторы, преодолевая очерковость и публицистичность, стремились подняться до художественного осмысления событий, очевидцами или современниками которых они оказались. Литература о войне развивалась в трех направлениях, взаимодействие которых образовало в русской литературе второй половины XX века мощное течение так называемой «военной прозы». Первое из этих направлений — произведения художественно-документальные, в основе которых — изображение исторических событий и подвигов реальных людей. Второе — героико-эпическая проза, воспевавшая подвиг народа и осмыслявшая масштабы разразившихся событий. Третье связано с развитием толстовских традиций сурового изображения «негероических» сторон окопной жизни и гуманистическим осмыслением значения отдельной человеческой личности на войне. Во второй половине 50-х годов начинается подлинный расцвет литературы о войне, что было обусловлено некоторым расширением границ дозволенного в ней, а также приходом в литературу целого ряда писателей-фронтовиков, живых свидетелей тех лет. Точкой отсчета здесь по праву считается появившийся на рубеже 1956 и 1957 годов рассказ М. Шолохова «Судьба человека». Одним из первых художественно-документальных произведений, посвященных неизвестным или даже замалчиваемым страницам Великой Отечественной войны, стала книга Сергея Сергеевича Смирнова «Брестская крепость»(первоначальное название — «Крепость на Буге», 1956). Писатель разыскал участников героической обороны Брестской крепости, многие из которых после плена считались «неполноценными» гражданами, добился их реабилитации, заставил всю страну восхититься их подвигом. В другой своей книге «Герои блока смерти» (1963) С. С. Смирнов открыл неизвестные факты героического побега заключенных-смертников из фашистского концлагеря Маутхаузен. Ярким событием в литературе стала публикация «Блокадной книги» (1977) А. Адамовича и Д. Гранина, в основу которой были положены беседы авторов с ленинградцами, пережившими блокаду. В 50—70-е годы появляется несколько крупных произведений, цель которых — эпический охват событий военных лет, осмысление судеб отдельных людей и их семей в контексте судьбы всенародной. В 1959 году выходит первый роман «Живые и мертвые» одноименной трилогии К. Симонова, второй роман «Солдатами не рождаются» и третий «Последнее лето» вышли в свет соответственно в 1964 и 1970—1971 годах. В 1960 году вчерне был закончен роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба», вторая часть дилогии «За правое дело» (1952), однако через год рукопись была арестована КГБ, так что широкий читатель на родине смог познакомиться с романом лишь в 1988 году. Уже названия произведений «Живые и мертвые», «Жизнь и судьба» показывают, что их авторы ориентировались на традиции Л. Н. Толстого и его эпопеи «Война и мир», по-своему развивая линию героико-эпической прозы о войне. Действительно, упомянутые романы отличают широчайший временной, пространственный и событийный охват действительности, философское осмысление грандиозных исторических процессов, эпическое сопряжение жизни отдельного человека с жизнью всего народа. Однако при сопоставлении этих произведений с толстовской эпопеей, ставшей своеобразным эталоном этого жанра, проявляются не только их различия, но и сильные и слабые стороны. В первой книге трилогии К. Симонова «Живые и мертвые» действие разворачивается в начале войны в Белоруссии и под Москвой в разгар военных событий. Военный корреспондент Синцов, выходя с группой товарищей из окружения, принимает решение, оставив журналистику, присоединиться к полку генерала Серпилина. Человеческая история этих двух героев и оказывается в фокусе авторского внимания, не пропадая за масштабными событиями войны. Писатель затронул многие темы и проблемы, прежде невозможные в советской литературе: рассказал о неготовности страны к войне, о репрессиях, ослабивших армию, о мании подозрительности, антигуманном отношении к человеку. Удачей писателя стала фигура генерала Львова, воплотившего в себе образ болыневика-фанатика. Личная храбрость и вера в счастливое будущее сочетаются в нем с желанием беспощадно искоренять все, что, на его взгляд, мешает этому будущему. Львов любит абстрактный народ, но готов жертвовать людьми, бросая их в бессмысленные атаки, видя в человеке только средство для достижения высоких целей. Его подозрительность распространяется так далеко, что он готов спорить с самим Сталиным, освободившим из лагерей нескольких талантливых военных. Если генерал Львов — идеолог тоталитаризма, то его практик, полковник Баранов, — карьерист и трус. Произносивший громкие слова о долге, чести, храбрости, писавший доносы на своих коллег, он, оказавшись в окружении, облачается в солдатскую гимнастерку и «забывает» все документы. Рассказывая суровую правду о начале войны, К. Симонов одновременно показывает народное сопротивление врагу, изображая подвиг советских людей, вставших на защиту родины. Это и эпизодические персонажи (артиллеристы, не бросившие свою пушку, тащившие ее на руках от Бреста до Москвы; старик колхозник, ругавший отступающую армию, но с риском для жизни спасший у себя в доме раненую; капитан Иванов, собиравший испуганных солдат из разбитых частей и ведущий их в бой), и главные герои — Серпилин и Синцов. Генерал Серпилин, задуманный автором как эпизодическое лицо, не случайно постепенно стал одним из главных героев трилогии: его судьба воплотила в себе наиболее сложные и в то же время наиболее типичные черты русского человека в XX веке. Участник Первой мировой войны, он стал талантливым командиром в Гражданскую, преподавал в академии и был арестован по доносу Баранова за то, что говорил своим слушателям о силе немецкой армии, в то время как вся пропаганда твердила о том, что в случае войны мы «победим малой кровью», а воевать будем «на чужой территории». Освобожденный из концлагеря в начале войны, Серпилин, по его собственному признанию, «ничего не забыл и ничего не простил», но понял, что не время предаваться обидам — надо спасать Родину. Внешне суровый и немногословный, требовательный к себе и подчиненным, он старается беречь солдат, пресекает всякие попытки добиваться победы «любой ценой». В третьей книге романа К. Симонов показал способность этого человека к большой любви. Другой центральный персонаж романа — Синцов первоначально задумывался автором исключительно в качестве военного корреспондента одной из центральных газет. Это позволяло «бросать» героя на самые важные участки фронта, создавая масштабный роман-хронику. Вместе с тем возникала опасность лишить героя индивидуальности, сделать его только рупором авторских идей. Писатель достаточно быстро понял эту опасность и уже во второй книге трилогии изменил жанр своего произведения: роман-хроника стал романом судеб, в совокупности воссоздающих масштаб народной битвы с врагом. А Синцов стал одним из действующих персонажей, на долю которого выпали ранения, окружение, участие в ноябрьском параде 1941 года (откуда войска уходили прямо на фронт). Судьбу военного корреспондента сменила солдатская доля: герой прошел путь от рядового до высшего офицера. Война, Сталинградская битва — лишь одна из составляющих грандиозной эпопеи В. Гроссмана «Жизнь и судьба», хотя основное действие произведения разворачивается именно в 1943 году и судьбы большинства героев так или иначе оказываются связаны с событиями, происходящими вокруг города на Волге. Изображение немецкого концлагеря в романе сменяется сценами в застенках Лубянки, а руин Сталинграда — лабораториями эвакуированного в Казань института, где физик Штрум бьется над загадками атомного ядра. Однако не «мысль народная» или «мысль семейная» определяет лицо произведения — в этом эпопея В. Гроссмана уступает шедеврам Л. Толстого и М. Шолохова. Писатель сосредоточен на другом: предметом его размышлений становится понятие «свободы», о чем свидетельствует уже заглавие романа. «Судьбе» как власти рока или объективных обстоятельств, довлеющих над человеком, В. Гроссман противополагает «жизнь» как свободную реализацию личности даже в условиях ее абсолютной несвободы. Писатель убежден, что можно своевольно распоряжаться жизнями тысяч людей, по сути оставаясь рабом вроде генерала Неудобнова или комиссара Гетманова. А можно непокоренным погибнуть в газовой камере концлагеря: так гибнет военврач Софья Осиповна Левинтон, до последней минуты заботясь лишь о том, чтобы облегчить мучения мальчика Давида. Должно быть, один из самых ярких эпизодов романа — оборона дома шесть дробь один группой солдат под командованием капитана Грекова. Перед лицом неминуемой смерти герои обрели высшую степень духовной свободы: между ними и их командиром установились столь доверительные отношения, что они безбоязненно ведут споры по самым больным вопросам тех лет, от большевистского террора и до насаждения колхозов. И последний свободный поступок капитана — из обреченного дома он отсылает с поручением небезразличную ему самому радистку Катю и Сережу Шапошникова, спасая тем самым любовь совсем юных защитников Сталинграда. Николай Крымов — герой, занимающий центральное место в системе персонажей романа, — получил приказ «разобраться на месте» с царящей в «доме Грекова» вольницей. Однако ему, в прошлом — работнику Коминтерна, нечего противопоставить услышанной здесь правде, кроме подлого доноса, который по возвращении Крымов пишет на уже погибших защитников дома. Впрочем, образ Крымова не столь однозначен: в конце концов он сам оказывается жертвой той системы, служа которой не раз должен был добровольно, а то и скрепя сердце идти против совести. Подспудная мысль В. Гроссмана, что источник свободы или несвободы личности находится в самой личности, объясняет, почему обреченные на смерть защитники дома Грекова оказываются гораздо свободнее пришедшего их судить Крымова. Сознание Крымова порабощено идеологией, он в некотором смысле «человек в футляре», пусть и не столь зашоренный, как некоторые другие герои романа. Еще И. С. Тургенев в образе Базарова, а затем Ф. М. Достоевский убедительно показали, как борьба «мертвой теории» и «живой жизни» в сознании таких людей зачастую оканчивается победой теории: им легче признать «неправильность» жизни, чем неверность «единственно верной» идеи, должной эту жизнь объяснять. И поэтому, когда в немецком концлагере оберштурмбанфюрер Лисс убеждает старого большевика Мостовского в том, что между ними много общего («Мы форма единой сущности — партийного государства»), Мостовский может ответить своему врагу лишь молчаливым презрением. Он чуть ли не с ужасом чувствует, как вдруг появляются в его сознании «грязные сомнения», недаром названные В. Гроссманом «динамитом свободы». Таким «заложникам идеи», как Мостовский или Крымов, писатель еще сочувствует, но резкое неприятие у него вызывают те, чья безжалостность к людям проистекает не из верности устоявшимся убеждениям, а из отсутствия таковых. Комиссар Гетманов, некогда секретарь обкома на Украине, — бездарный вояка, зато талантливый разоблачитель «уклонистов» и «врагов народа», чутко улавливающий любое колебание партийной линии. Ради получения награды он способен послать в наступление не спавших трое суток танкистов, а когда командующий танковым корпусом Новиков, чтобы избежать ненужных жертв, на восемь минут придержал начало наступления, Гетманов, расцеловав Новикова за победоносное решение, тут же написал на него донос в Ставку. Ключом к авторскому пониманию войны в романе является парадоксальное на первый взгляд утверждение о Сталинграде: «Его душой была свобода». Как некогда Отечественная война 1812 года по-своему раскрепостила русский народ, пробудила в нем чувство собственного достоинства, так и Великая Отечественная вновь заставила почувствовать разделенный ненавистью и страхом народ свое единство — единство духа, истории, судьбы. И не вина, а скорее беда всего народа, что деспотичная власть, обнаружив собственное бессилие справиться с пробуждением национального сознания, поспешила поставить его себе на службу — и как всегда извратила и умертвила живой дух патриотизма. В свое время JI. Толстой противопоставлял патриотизм простых мужиков, Ростовых, Кутузова «салонному патриотизму» кружка Анны Павловны Шерер и «квасному» — графа Ростопчина. В. Гроссман также пытается разъяснить, что преданность родине таких героев, как Греков, Ершов, «толстовец» Иконников, уничтоженный немцами за отказ строить лагерь смерти, не имеет ничего общего с национал-шовинизмом Гетманова или же генерала-палача Неудобнова, заявившего: «В наше время большевик прежде всего — русский патриот». Ведь тот же Неудобное до войны собственноручно на допросах выбивал зубы тем, кого подозревал в пристрастии ко всему национальному в ущерб проповедуемому большевиками интернационализму! В конце концов, национальная или классовая принадлежность не зависит от воли человека, и потому не они определяют истинную цену личности. Ее определяет способность человека на подвиг или на подлость, поскольку только в этом случае можно говорить об истинной свободе или несвободе. На рубеже 50—60-х годов в литературе появились произведения, наследующие другие традиции батальной прозы Л. H. Толстого, в частности традиции его «Севастопольских рассказов». Своеобразие этих произведений прежде всего заключалось в том, что война была в них показана «из окопов», глазами непосредственных участников, как правило, юных, еще не оперившихся лейтенантов, командиров взводов и батальонов, что и позволило критикам такие произведения назвать «лейтенантской прозой». Писателей этого направления, многие из которых сами прошли дорогами войны, интересовали не перемещения войск и не планы Ставки, но мысли и чувства вчерашних студентов, которые, став командирами рот и батальонов, впервые столкнулись со смертью, впервые ощутили бремя ответственности и за родную страну, и за живых людей, ждущих от них решения своей судьбы. «Я раньше думал: «лейтенант» // Звучит налейте нам», //И, зная топографию, // Он топает по гравию. // Война ж совсем не фейерверк, // А просто трудная работа, // Когда — черна от пота — вверх // Скользит по пахоте пехота», — писал еще в 1942 году поэт-фронтовик М. Кульчицкий, говоря о тех иллюзиях, с которыми предстояло расстаться его поколению на войне. Истинное лицо войны, суть «трудной работы» солдата, цена потерь и самой привычки к утратам — вот что стало предметом раздумий героев и их авторов. Недаром не рассказ и не роман, а именно повесть, сосредоточенная на жизненном пути и внутреннем мире отдельной личности, стала основным жанром этих произведений. Войдя в состав более широкого явления «военной повести», «лейтенантская проза» задала главные ориентиры художественных поисков для этого жанра. Повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946) стала первой в ряду подобных произведений, более чем на десятилетие опередив последующие за ней «Батальоны просят огня» (1957) Ю. Бондарева, «Пядь земли» (1959) и «Навеки девятнадцатилетние» (1979) Г. Бакланова, «Убиты под Москвой»(1961) и «Крик» К. Воробьева, «На войне как на войне» (1965) В. Курочкина. Авторов этих книг упрекали в «дегероизации» подвига, пацифизме, преувеличенном внимании к страданиям и смерти, излишнем натурализме описаний, не замечая того, что усмотренные «недостатки» порождены прежде всего болью за человека, оказавшегося в нечеловеческих условиях войны. «Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт» — так начинается одно из ярчайших произведений «лейтенантской прозы» — повесть писателя-фронтоства представления о войне имеют мало общего с тем, с чем вынужден столкнуться человек на поле боя: «Все его существо противилось тому реальному, что происходило, — он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы тысячную долю того, что совершалось, — пятый месяц немцы безудержно продвигались вперед, к Москве... Это было, конечно, правдой, потому что... потому что об этом говорил Сталин. Именно об этом, но только один раз, прошедшим летом. А о том, что мы будем бить врага только на его территории, что огневой залп любого нашего соединения в несколько раз превосходит чужой, — об этом и еще о многом, многом другом, непоколебимом и неприступном, Алексей — воспитанник Красной Армии — знал с десяти лет. И в его душе не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны». Поэтому так нуждается поначалу Ястребов в словах капитана, умеющего разрешать противоречия между тем, что знаешь, и тем, что видят твои глаза. Ho пережитый страх и врожденная честность помогли Алексею устоять, и в лейтенанте появилось то необходимое, что позволяет человеку выжить и не сломаться в нечеловеческих обстоятельствах — способность воспринимать мир таким, каков он есть, не нуждаясь в спасительных иллюзиях и объяснениях: «Я не пойду... He пойду! Зачем я там нужен? Пусть будет так... без меня. Ну что я теперь им...» Ho он поглядел на курсантов и понял, что должен идти туда и все видеть. Все видеть, что уже есть и что еще будет...» Эта способность приходит к герою не сразу: сначала он вынужден пройти через осознание, что смерть человека страшна своей омерзительностью, когда убитый лейтенантом немец пачкает ему шинель предсмертной рвотой; вынужден испытать стыд за собственную трусость, отсидевшись в воронке во время последнего боя роты; пройти через искушение самоубийства, разрешающего все проблемы с совестью. Наконец, он должен был пережить потрясение после самоубийства его кумира — капитана Рюмина. «То оцепенение, с которым он встретил смерть Рюмина, оказывается, не было ошеломленностью или растерянностью. То было неожиданное и незнакомое явление ему мира, в котором не стало ничего малого, далекого и непонятного. Теперь все, что когда-то уже было и могло еще быть, приобрело в его глазах новую, громадную значимость, близость и сокровенность, и все это — бывшее, настоящее и грядущее — требовало к себе предельно бережного внимания и отношения. Он почти физически ощутил, как растаяла в нем тень страха перед собственной смертью». И финальный поединок Ястребова с немецким танком все расставил на свои места. Недаром критики в связи с «лейтенантской прозой» вспоминали имя Э. М. Ремарка. В романе немецкого писателя «На Западном фронте без перемен» впервые с неприкрытой откровенностью было сказано о незаживающих ранах, оставленных Первой мировой войной в душах совсем еще молодых людей, чье поколение получило название «потерянного». Ю. Бондарев в романе «Горячий снег» (1965—1969) попытался на новом уровне развить традиции «лейтенантской прозы», вступив в скрытую полемику с характерным для нее «ремаркизмом». Тем более к тому времени «лейтенантская проза» переживала определенный кризис, что выразилось в некотором однообразии художественных приемов, сюжетных ходов и ситуаций, да и повторяемости самой системы образов произведений. «Некоторые говорят, что моя последняя книга о войне, роман «Горячий снег», — оптимистическая трагедия, — писал Ю. Бондарев. — Возможно, это так. Я же хотел бы подчеркнуть, что мои герои борются и любят, любят и гибнут, не долюбив, не дожив, многого не узнав. Ho они узнали самое главное, они прошли проверку на человечность через испытание огнем». Действие романа Ю. Бондарева укладывается в сутки, в течение которых оставшаяся на южном берегу батарея лейтенанта Дроздовского отражала атаки одной из танковых дивизий группы Манштейна, рвущейся на помощь попавшей под Сталинградом в кольцо окружения армии маршала Паулюса. Однако этот частный эпизод войны оказывается той переломной точкой, с которой началось победное наступление советских войск, и уже поэтому события романа разворачиваются как бы на трех уровнях: в окопах артиллерийской батареи, в штабе армии генерала Бессонова и, наконец, в ставке Верховного Главнокомандующего, где генералу перед назначением в действующую армию приходится выдержать труднейший психологический поединок с самим Сталиным. Комбат Дроздовский и командир одного из артиллерийских взводов лейтенант Кузнецов трижды лично встречаются с генералом Бессоновым, но как отличаются эти встречи! В начале романа Бессонов отчитывает Кузнецова за недисциплинированность одного из его бойцов, пристально вглядываясь в черты юного лейтенанта: генерал «подумал в ту минуту о своем восемнадцатилетнем сыне, пропавшем без вести в июне на Волховском фронте». Уже на боевых позициях Бессонов выслушивает бравый доклад Дроздовского о готовности «умереть» на этом рубеже, оставшись недовольным самим словом «умереть». Третья встреча состоялась уже после решающего сражения, но как меняются за эти сутки герои романа! Дроздовский был человеком черствым и эгоцентричным, в мечтах он создал себе собственный образ отважного и бескомпромиссного командира, которому стремится соответствовать. Однако смелость лейтенанта во время вражеского налета на эшелон граничит с безрассудством, а нарочитая жесткость в общении с подчиненными не только не прибавляет ему авторитета, но и стоит жизни возчику Сергуненкову, которого Дроздовский необдуманным приказом посылает на верную гибель. He таков лейтенант Кузнецов: он подчас излишне «интеллигентен», лишен «военной косточки» Дроздовского. Однако лишен Кузнецов и стремления кем-то «выглядеть», и потому он естествен с подчиненными и любим ими, хотя тоже может быть жестким и с провинившимися, и даже с Дроздовским, не перенося показной грубости командира и склонности того к самодурству. Неудивительно, что во время сражения именно к Кузнецову постепенно переходит управление остатками батареи, тогда как растерявшийся Дроздовский под конец лишь бестолково вмешивается в слаженные действия бойцов. Разница этих героев проявляется и в их отношении к санинструктору Зое. У Зои близкие отношения с Дроздовским, но тот всячески это скрывает, считая их проявлением своей слабости, противоречащей образу «железного» командира. Кузнецов же по-мальчишески влюблен в Зою и даже робеет в ее присутствии. Смерть санинструктора потрясает обоих, однако потеря возлюбленной и пережитое за последние сутки по-разному повлияли на лейтенантов, что видно уже по тому, как они держатся перед прибывшим на батарею командующим. Дроздовский, «стоя перед Бессоновым навытяжку в своей наглухо застегнутой, перетянутой портупеей шинели, тонкий, как струна, с перебинтованной шеей, мелово-бледный, четким движением строевика бросил руку к виску». Однако после доклада он преобразился, и стало понятно, что события последних суток обернулись для него личностным крахом: «...шел он сейчас разбито-вялой, расслабленной походкой, опустив голову, согнув плечи, ни разу не взглянув в направлении орудия, точно не было вокруг никого». Иначе держит себя Кузнецов: «Голос его по-уставному еще силился набрать бесстрастную и ровную крепость; в тоне, во взгляде сумрачная, немальчишеская серьезность, без тени робости перед генералом, будто мальчик этот, командир взвода, ценой своей жизни перешел через что-то, и теперь это понятное что-то стояло в его глазах, застыв, не проливаясь». Появление генерала на передовой было неожиданным: прежде Бессонов считал, «что не имеет права поддаваться личным впечатлениям, во всех мельчайших деталях видеть подробности боя в самой близи, видеть своими глазами страдания, кровь, смерть, гибель на передовой позиции выполняющих его приказание людей; уверен был, что непосредственные, субъективные впечатления расслабляюще въедаются в душу, рождают жалость, сомнения в нем, занятом по долгу своему общим ходом операции». В своем окружении Бессонов прослыл человеком черствым и деспотичным, и мало кто знал, что напускная холодность скрывает боль человека, чей сын пропал без вести, попав в окружение в составе Второй ударной армии генерала Власова. Однако скупые слезы генерала на позициях почти полностью уничтоженной батареи не кажутся авторской натяжкой, потому что в них прорвались и радость победы, сменившая нечеловеческое напряжение ответственности за исход операции, и потеря по-настоящему близкого человека — члена Военного совета Веснина, и боль за сына, о котором вновь напомнила генералу молодость лейтенанта Кузнецова. Такой финал романа вступает в спор с традициями «ремаркизма»: писатель не отрицает негативного воздействия войны на людские души, однако убежден, что «потерянность» человека возникает не просто вследствие пережитых потрясений, а является результатом изначально неправильной жизненной позиции, как это и случилось с лейтенантом Дроздовским, хотя даже ему автор не выносит безапелляционного приговора. Охарактеризовав войну как «проверку на человечность», Ю. Бондарев лишь выразил то, что определило собой лицо военной повести 60—70-х годов: многие прозаики-баталисты акцент в своих произведениях делали именно на изображении внутреннего мира героев и преломлении в нем опыта войны, на передаче самого процесса нравственного выбора человека. Однако писательская пристрастность к любимым героям подчас выражалась в романтизации их образов — традиция, заданная еще романом Александра Фадеева «Молодая гвардия» (1945) и повестью Эммануила Казакевича «Звезда» (1947). В таком случае характер персонажей не изменялся, а только предельно наглядно раскрывался в исключительных обстоятельствах, в которые их поставила война. Наиболее ярко данная тенденция нашла свое выражение в повестях Бориса Васильева «А зори здесь тихие» (1969) и «В списках не значился» (1975). Особенность военной прозы Б. Васильева в том, что он всегда выбирает эпизоды «незначительные» с точки зрения глобальных исторических событий, однако много говорящие о высочайшем духе тех, кто не побоялся выступить против превосходящих сил врага — и одержал победу. Критики увидели немало неточностей и даже «невозможностей» в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие», действие которой развивается в лесах и болотах Карелии (так, Беломоро-Балтийский канал, на который нацелена диверсионная группа, с осени 1941 года не действовал). Ho писателя интересовала здесь не историческая точность, а сама ситуация, когда пять хрупких девушек во главе со старшиной Федотом Басковым вступили в неравный бой с шестнадцатью головорезами. Образ Баскова, по сути своей, восходит к лермонтовскому Максиму Максимычу — человеку, может быть, малообразованному, однако цельному, умудренному жизнью и наделенному благородным и добрым сердцем. Васков не разбирается в тонкостях мировой политики или фашистской идеологии, однако сердцем чувствует звериную сущность этой войны и ее причин и никакими высшими интересами не может оправдать гибель пяти девушек. Характерно, что в этой повести писатель использует прием несобственно-прямой речи, когда речь повествователя никак не отделяется от внутреннего монолога героя («Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробьиный, по силам ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать восемь накатов с переборами. Да заодно и майора того, что девчат в погоню отрядил, прополоскать бы в щелоке. Глядишь, и полегчало бы, а вместо этого надо улыбку изо всех сил к губам прилаживать»). Таким образом, повествование зачастую приобретает интонации сказа, а точка зрения на происходящее принимает черты, характерные именно для народного понимания войны. На протяжении повести меняется сама речь старшины: сначала она шаблонна и напоминает речь обычного вояки, изобилуя уставными фразами и армейскими терминами («в запасе двадцать слов, да и те из уставов» — характеризуют его девушки), даже свои отношения с хозяйкой он осмысляет в категориях военных («Поразмыслив, он пришел к выводу, что все эти слова есть лишь меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций: она... стремилась укрепиться на завоеванных рубежах»). Однако, сближаясь с девушками, Васков постепенно «оттаивает»: забота о них, стремление найти к каждой свой подход делает его мягче и человечней («Во леший, опять это слово выскочило! Потому ведь, что из устава оно. Навеки врубленное. Медведь ты, Басков, медведь глухоманный...»). И в конце повести Басков становится для девушек просто Федей. А главное, будучи некогда прилежным «исполнителем приказов», Басков превращается в свободного человека, на чьих плечах лежит груз ответственности за чужую жизнь, и осознание этой ответственности делает старшину много сильнее и самостоятельнее. Потому-то Басков и увидел свою личную вину в гибели девушек («Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?»). В образе девушек-зенитчиц воплотились типичные судьбы женщин предвоенных и военных лет: разного социального положения и образовательного уровня, разных характеров, интересов. Однако при всей жизненной точности эти образы заметно романтизированы: в изображении писателя каждая из девушек по-своему прекрасна, каждая достойна своего жизнеописания. И то, что все героини гибнут, подчеркивает бесчеловечность этой войны, затрагивающей жизни даже самых далеких от нее людей. Фашисты приемом контраста противопоставлены романтизированным образам девушек. Их образы гротесковы, намеренно снижены, и в этом выражается основная мысль писателя о природе человека, вставшего на путь убийства («Человека ведь одно от животных отделяет: понимание, что человек он. А коли нет понимания этого — зверь. О двух ногах, о двух руках и — зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И тогда ничего уж по отношению к нему не существует: ни человечности, ни жалости, ни пощады. Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там бить, покуда не вспомнит, что человеком был, покуда не поймет этого»). Немцы противопоставляются девушкам не только внешне, но и тем, как легко им дается убийство, тогда как для девушек убийство врага — тяжелое испытание. В этом Б. Васильев следует традиции русской батальной прозы — убийство человека противоестественно, и то, как человек, убив врага, переживает, является критерием его человечности. Особенно же чужда война природе женщины: «У войны не женское лицо» — центральная мысль большинства военных произведений Б. Васильева. Эта мысль с особой ясностью освещает собой тот эпизод повести, в котором звучит предсмертный крик Сони Гурвич, вырвавшийся, потому что удар ножа предназначался для мужчины, а пришелся в женскую грудь. С образом Лизы Бричкиной в повесть вводится линия возможной любви. С самого начала приглянулись друг другу Васков и Лиза: она ему — фигурой и сметливостью, он ей — мужской основательностью. У Лизы и Васкова много общего, однако спеть вместе, как обещал старшина, героям так и не удалось: война губит на корню зарождающиеся чувства. Финал повести раскрывает смысл ее названия. Замыкает произведение письмо, судя по языку, написанное молодым человеком, который стал случайным свидетелем возвращения Васкова на место гибели девушек вместе с усыновленным им сыном Риты Альбертом. Таким образом, возвращение героя на место его подвига дано глазами поколения, чье право на жизнь отстояли люди, подобные Васкову. В этом заключается утверждающая мысль повести, и недаром, так же как и «Судьба человека» М. Шолохова, повесть венчается образом отца и сына — символом вечности жизни, преемственности поколений. Подобная символизация образов, философическое осмысление ситуаций нравственного выбора весьма характерны для военной повести. Прозаики тем самым продолжают размышления своих предшественников над «вечными» вопросами о природе добра и зла, степени ответственности человека за поступки, продиктованные вроде бы необходимостью. Отсюда стремление некоторых писателей к созданию ситуаций, которые по своей универсальности, смысловой емкости и категоричности нравственно-этических выводов приближались бы к притче, только расцвеченной авторской эмоцией и обогащенной вполне реалистическими подробностями. Недаром родилось даже понятие — «философская повесть о войне», связанная прежде всего с творчеством белорусского прозаика-фронтовика Василя Быкова, с такими его повестями, как «Сотников» (1970), «Обелиск» (1972), «Знак беды» (1984). Проблематика этих произведений емко сформулирована самим писателем: «Я говорю просто о человеке. О возможностях для него и в самой страшной ситуации — сохранить свое достоинство. Если есть шанс — выиграть. Если нет — выстоять. И победить, пусть не физически, но духовно». Для прозы В. Быкова зачастую характерно слишком прямолинейное противопоставление физического и нравственного здоровья человека. Однако ущербность души некоторых героев раскрывается не сразу, не в обыденной жизни: необходим «момент истины», ситуация категорического выбора, сразу проявляющая истинную сущность человека. Рыбак — герой повести В. Быкова «Сотников» — полон жизненных сил, не знает страха, и товарищ Рыбака, хворый, не отличающийся мощью, с «тонкими кистями рук» Сотников постепенно начинает казаться ему лишь обузой. Действительно, во многом по вине последнего вылазка двух партизан окончилась неудачей. Сотников — сугубо штатский человек, до 1939 года работал в школе; физическую силу ему заменяет упрямство. Именно упрямство трижды побуждало Сотникова к попыткам выйти из окружения, в котором оказалась его разгромленная батарея, прежде чем герой попал к партизанам. Тогда как Рыбак с 12-ти лет занимался тяжелым крестьянским трудом и потому легче переносил физические нагрузки и лишения. Обращает на себя внимание и то, что Рыбак больше склонен к нравственным компромиссам. Так, он терпимее относится к старосте Петру, чем Сотников, и не решается покарать того за службу немцам. Сотников же к компромиссам не склонен вообще, что, однако, по мысли В. Быкова, свидетельствует не об ограниченности героя, а о его прекрасном понимании законов войны. Действительно, в отличие от Рыбака, Сотников уже познал, что такое плен, и сумел выдержать с честью это испытание, потому что не шел на компромиссы с совестью. «Моментом истины» для Сотникова и Рыбака стал их арест полицаями, сцена допроса и казни. Рыбак, всегда прежде находивший выход из любого положения, пытается перехитрить врага, не понимая, что, встав на подобный путь, он неминуемо придет к предательству, потому что собственное спасение уже поставил выше законов чести, товарищества. Он шаг за шагом уступает противнику, отказавшись сначала думать о спасении укрывшей их с Сотниковым на чердаке женщины, потом о спасении самого Сотникова, а потом и собственной души. Оказавшись в безвыходной ситуации, Рыбак перед лицом неминуемой смерти струсил, предпочтя звериную жизнь человеческой смерти. Спасая себя, он не только собственноручно казнит бывшего товарища — у него не хватает решимости даже на иудину смерть: символично, что повеситься он пытается в уборной, даже в какой-то миг почти готов броситься головой вниз, но не решается. Однако духовно Рыбак уже мертв («И хотя оставили в живых, но в некотором отношении также ликвидировали»), и самоубийство все равно не спасло бы его от позорного клейма предателя. А черных красок для изображения полицаев В. Быков не жалеет: отступившие от нравственных законов перестают быть для него людьми. Недаром начальник полиции Портнов до войны «против Бога, бывало, по деревням агитировал. Да так складно...». Полицаи в повести «взвизгивают», «вызвериваются», «ощетиниваются» и т. п.; мало человеческого имеет «кретинически-свирепый» облик главного полицейского палача Будилы. Характерна и речь Стася: он предал даже родной язык, разговаривая на варварской смеси белорусского с немецким («Яволь в подвал! Биттэ прошу!»). Однако Сотников, изувеченный в подвале полицейской управы, не боится ни смерти, ни своих мучителей. Он не только пытается взять на себя вину других и тем спасти их, — для него важно достойно умереть. Личная этика этого героя очень близка христианской — положить душу «за други своя», не стараясь купить себе мольбами или предательством недостойную жизнь. Еще в детстве случай со взятым без спроса отцовским маузером научил его всегда брать на себя ответственность за свои поступки: загадочную фразу отца во сне Сотникова: «Был огонь, и была высшая справедливость на свете...» — можно понимать и как сожаление о том, что многие утратили представление о существовании Высшей справедливости, Высшего суда, перед которыми ответственны все без исключения. Таким высшим судом для неверующего Сотникова становится мальчик в буденовке, который олицетворяет собой в повести грядущее поколение. Как когда-то на самого героя оказал сильное влияние подвиг русского полковника, во время допроса отказавшегося отвечать на вопросы врага, так и он совершает подвиг на глазах мальчишки, словно бы передавая своей гибелью нравственный завет тем, кто остается жить на земле. Перед лицом этого суда Сотников даже усомнился в своем «праве требовать от других наравне с собой». И здесь можно заметить скрытые переклички между образом Сотникова и Иисусом Христом: они погибли мучительной, унизительной смертью, преданные близкими людьми, во имя человечества. Подобное осмысление событий произведения в их проекции на «вечные» сюжеты и нравственные ориентиры мировой культуры и прежде всего — на заповеди, оставленные человечеству Христом, вообще характерно для военной повести, если она ориентируется на философическое осмысление ситуации категорического нравственного выбора, в которую ставит война человека. Среди произведений о войне, появившихся в последние годы, обращают на себя внимание два романа: «Прокляты и убиты» В. Астафьева (1992—1994) и «Генерал и его армия» Г. Владимова (1995). Для творчества В. Астафьева военная тема не нова: в своих проникнутых трагическим лиризмом повестях «Пастух и пастушка (Современная пастораль)» (1971), «Звездопад» (1967), пьесе «Прости меня» (1980) писатель задавался вопросом о том, что значат для людей на войне любовь и смерть — две коренные основы человеческого бытия. Однако даже по сравнению с этими полными трагизма произведениями монументальный роман В. Астафьева «Прокляты и убиты» решает военную тему в несравненно более жестком ключе. В первой его части «Чертова яма» писатель рассказывает историю формирования 21-го стрелкового полка, в котором еще до отправки на фронт погибают, забитые насмерть ротным или расстрелянные за самовольную отлучку, калечатся физически и духовно те, кто призван вскоре грудью встать на защиту Родины. Вторая часть «Плацдарм», посвященная форсированию нашими войсками Днепра, также полна крови, боли, описаний произвола, издевательств, воровства, процветающих в действующей армии. Ни оккупантам, ни доморощенным извергам не может простить писатель цинично бездушное отношение к человеческой жизни. Этим объясняется гневный пафос авторских отступлений и запредельных по своей безжалостной откровенности описаний в этом произведении, чей художественный метод недаром определен критиками как «жестокий реализм». То, что Георгий Владимов сам во время войны был еще мальчишкой, обусловило и сильные, и слабые стороны его нашумевшего романа «Генерал и его армия» (1995). Опытный глаз фронтовика усмотрит в романе немало неточностей и передержек, в том числе непростительных даже для художественного произведения. Однако роман этот интересен попыткой с «толстовской» дистанции посмотреть на события, некогда ставшие переломными для всей мировой истории. Недаром автор не скрывает прямых перекличек своего романа с эпопеей «Война и мир» (подробнее о романе см. главу учебника «Современная литературная ситуация»). Сам факт появления такого произведения говорит о том, что военная тема в литературе не исчерпала и никогда не исчерпает себя. Залог тому — живая память о войне, сохранившаяся в памяти тех, кто знает о войне лишь из уст ее участников да из учебников истории. И немалая заслуга в этом писателей, которые, пройдя войну, посчитали своим долгом рассказать о ней всю правду, какой бы горькой эта правда ни была. 7. Литература периода «оттепели». «Громкая» и «тихая» поэзия. Неформальная поэзия 196070-х: лианозовцы, смогисты. Анализ творчества одного из поэтов на выбор (Л.Губанов, В. Алейников, Ю. Кублановский). Период «оттепели», осмысляя терминологию Р. Якобсона, можно назвать эпохой поэтической инспирации: «советский ренессанс», как всякий новый социально-художественный цикл, начался с активизации лирики, так как из-за своей обостренной чуткости именно она первая улавливает происходящие в мире сдвиги и перемены. Лирическая экспансия наблюдается, как правило, при смене культурных эр - в этом отношении «оттепельный» поэтический бум является закономерным, поскольку к временному отрезку с середины 50-х до конца 60-х гг. можно применить понятие культурно-исторической эпохи. Раскрепощенная атмосфера, открывшаяся возможность бунта создавали флёр упоительной свободы. И эта особенность эпохи ярко выразилась в поэзии. Обострившееся чувство времени, оживающая активность личности порождали потребность высказать собственную оценку происходящего, вследствие чего лиризм с его повышенной субъективностью стал основной характеристикой художественного дискурса «эпохи шестидесятых». На начало «оттепели» приходится рождение нового, «четвертого» поколения русских поэтов, которое было неоднородным по своему составу: его сформировали участники группы Л. Черткова (Г. Андреева, А. Сергеева, В. Хромов, С. Красовицкий, О. Гриценко, Н. Шатров), поэты«лианозовцы» (Г. Сапгир, И. Холин, Вс. Некрасов, Я. Сатуновский), представители «ленинградской» поэзии (Е. Рейн, И. Бродский, А. Кушнер, Д. Бобышев, А. Найман, Г. Горбовский), организаторы объединения СМОГ (Л. Губанов, Н. Алейников) и, наконец, поэты«эстрадники», самыми известными среди которых были Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский. Такое многообразие художественных направлений позволяет современным исследователям выдвинуть концепцию «бронзового века» русской литературы, особенно поэзии (1950-1980 гг.), как периода подъема и расцвета, сопоставимого с «золотым» и «серебряным веком». Однако некоторые литературоведы, занимающиеся изучением литературной ситуации в России второй половины XX столетия, прямо связывают творческий подъем с художественными достижениями неофициального искусства (например, В. Кулаков). Его представителями в 50-60-е гг. являлись «лианозовцы», «чертковцы», «смогисты»; духовно близкие им ленинградские поэты. Главная заслуга этих авторов заключается в том, что они смогли в известных исторических условиях сохранить отношение к художественному творчеству как к самоценному явлению духовной жизни, они стремились расширить диапазон наследуемых и развиваемых современной литературой традиций за счет освоения открытий различных течений, школ и групп модернизма, а также предшествующей реализму «архаики». Своей важнейшей задачей авторы считали спасение русского литературного языка от омертвения. Однако В. Кулаков расценивает вклад поэтов-«шестидесятников» в развитие русского стихотворного искусства как совершенно незначительный. Между тем именно они занимали главное место в культурном пространстве тех лет и в восприятии современников. В начале «оттепели» наибольшей популярностью пользовались стихи Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной, ставших лидерами поэтической группы, называемой «эстрадниками», «громкими» поэтами, часто «шестидесятниками». Последний термин требует некоторых оговорок, поскольку понятия «шестидесятничество» и «эстрадная поэзия» «соотносятся как общее и частное» (Прищепа В.П., 1999, с. 33). В единый «поколенческий» ряд можно включить поэтов-традиционалистов (Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Н. Матвеева, Ю. Мориц, В. Высоцкий, Б. Окуджава) и «детей Ахматовой» - И. Бродского, А. Наймана, Е. Рейна, Д. Бобышева, Г. Горбовского, начинавших в ранние 60-е гг. и представлявших собой «ленинградскую» ветвь русской поэзии. Участникам СМОГа во главе с Л. Губановым были близки идейно-эстетические искания «эстрадников». Таким образом, вполне резонно назвать поэтов-«ленинградцев» и «смогистов» «младшими шестидесятниками». Основной характеристикой лирики поэтов-«эстрадников» являлась публицистичность. Мир их чувств открыто ориентировался на гражданское направление. В поэзии «шестидесятники» видели прежде всего акт гражданского поведения. Главными для них стали немедленный отклик на важнейшие события современности, их эстетическое осмысление. В результате поэзия превратилась из эстетического факта в явление общественного сознания. В этом заключаются достоинство художественного процесса 50-60-х гг. и его слабость, связанная с недооценкой эстетической природы искусства: часто расширение сферы дозволенного в литературе происходило за счет художественности. Однако «шестидесятники» значительно расширили горизонты гражданского переживания, придав ему глубоко личный характер, привнеся в него общечеловеческий, гуманистический пафос. В творчестве «эстрадных» поэтов мощным художественным фактором стал пафос эстетического «воспоминательства», восстановления, поскольку было сильным ощущение разрыва традиции, потери культурной памяти. Развивались неомодернистские тенденции: «все либеральное шестидесятничество по сути - неомодернизм» (Кулаков В., 1999, с. 70). Для некоторых их них были важны прямые и опосредованные контакты с классикой «серебряного века» (ученичество А. Вознесенского у Б. Пастернака, культ А. Ахматовой и М. Цветаевой в поэзии Б. Ахмадулиной). «Громкая лирика» наследовала традиции русского футуризма и постфутуристической советской поэзии 20-х гг. с ее пафосом комсомольской романтики, ориентируясь в первую очередь на конструктивизм и позднего В. Маяковского, от которого она получила сильнейшие творческие импульсы, переняв его гражданственность, придающую личному значение всеобщего, а общее переживающую как личное. «Оголенность» чувств, суровая правдивость изображения, бесстрашие видения в стихах «эстрадников» отсылают к ближайшим предшественникам - поэтам фронтового поколения. «Громкие» лирики переводили свой художественный мир в координаты отечественной и мировой культуры. Однако литературные авторитеты воспринимались ими без пиетета, как равные по духу. С гениями они устанавливали интимный, домашний контакт; иногда эти лирические взаимоотношения приобретали оттенок фамильярности: например, у А.А. Вознесенского в «Параболической балладе» о живописце Гогене сказано: «...Он дал кругаля через Яву с Суматрой» (Вознесенский А.А., 2000, т. 1, с. 22). Между тем в их стихах утвердился романтический культ художника с трагической судьбой, который они противопоставляли бездарности, меркантильности, расчетливости, безликости массы. «Эстрадная» поэзия была исполнена лирической экспрессии, максимального выражения авторской субъективности. О внутренних переживаниях авторы говорили прямо и открыто в исповедальных монологах, фиксируя малейшие движения собственной души. Они стремились к изображению внутренней жизни «частного» человека как всеобщей, остро реагируя на все изменения окружающего мира. Лирический герой «эстрадников» был предельно откровенен с читателем, рассказывая об отношениях с любимыми, размолвках с друзьями, случайных обидах. Одними из самых характерных особенностей поэзии 50-60-х гг. явились полемичность, боевой пафос, общественная активность. Здесь велась непрекращающаяся дискуссия по наиболее актуальным вопросам современности. При этом судьбы отдельных людей, жизнь страны, мировые события «шестидесятники» «пропускали через себя», резонируя на них предельно эмоционально, с живой непосредственностью. Каждый лирический герой стремился выразить свой символ веры, вплести свой индивидуальный биографический опыт в общую социальную канву; каждый ждал и требовал правды, непременно полной, без изъятий, и справедливости: по отношению к нему лично, ко всему обществу в целом и к историческому прошлому страны. Поэтому утрачивали свою мегамасштабность такие категории, как «эпоха», «история», «человечество». «Эстрадная» поэзия была в значительной степени экстенсивно развивающимся направлением в русской лирике. Она существенно раздвинула тематические горизонты стиха, расширила его пространственные границы: авторы воспевали научно-технический прогресс, грандиозные сибирские стройки, мир российской провинции и загадочное для подавляющего большинства зарубежье. Обновилась, в сопоставлении с более ранним периодом, среда, из которой шли в поэзию герои: в один ряд вставали юные романтики: и знаменитые люди, и рядовые сограждане. Расширялись представления о возможностях и назначении поэтического слова. Лирика сознательно взяла на себя просветительские функции, влилась в систему средств массовой информации. Поэзия наряду с публицистикой оказалась любимым родом литературы, способным быстро и остро реагировать на факты общественной жизни. Авторы активно откликались на новейшие события и веяния, облекая в поэтическую форму ожидания читающей публики, в спорах, в столкновении крайностей формируя общественное мнение. В атмосфере «оттепели» стихи «шестидесятников» приобретали пафос дискуссионности, истолковывались читателями и критикой в категориях «левизны-правизны», «прогрессивности-ретроградности», воспринимались как реплика в обсуждении социально значимых проблем. Однако часто открытие новых тематических пластов и героев не предрасполагало к глубокому осмыслению социальных процессов, оставаясь только заявкой на открытие. Предназначенная в первую очередь для голоса и слуха, «громкая» лирика рассчитывала на непосредственное восприятие и мгновенный отклик, отдавала предпочтение слушателю перед читателем. В поисках усиления публицистической экспрессии шлифовалось искусство афористичной, хлесткой фразы, высокую цену приобретало акцентированное слово -слово-клеймо, слово-ярлык, слово-эмблема. Отрицательное влияние «эстрады» сказалось в ориентации стиха на публицистическую и фельетонную заостренность. Значительно изменилась шкала ценностей, традиционные критерии эстетической оценки на некоторое время были потеснены понятиями «интересность», «общественная полезность», «смелость» и «острота» поэтического слова. При этом исчезали тонкости лирического сюжета, полутона, нюансы. Глубокие раздумья были вытеснены призывом, проповедью, плакатом, которые, выигрывая в актуальности и злободневности, часто теряли в гармонии, цельности, эстетической составляющей. Поэтому с высокохудожественными поэтическими образами, проникнутыми острым чувством совести и пафосом человеческого братства, здесь соседствовали откровенно риторические стихи, часто технически неуклюжие. 8. Творчество В.П. Астафьева. Анализ повестей «Звездопад», «Пастух и пастушка». Из поколения военного, Астафьев – фронтовик. Творчество Астафьева прорастает на перекрестье двух традиций 20 века: это фронтовая лирическая повесть (лейтенантская проза – Бондарев, Бакланов), с другой стороны – деревенская литература. Формирует и обновляет традиции литературных течений. Астафьев и принадлежит генетически к этим двум художественным течениям, и одновременно обновляет их. Не каноничен и не похож на те традиции, из которых он вырастает. Например, «Пастух и пастушка» - одно из лучших произведений, не канонично продолжает традиции фронтовой лирической повести. Сборник книги новелл «Последний поклон» - также одни из лучших. Периоды творчества Астафьева: 1.50-60 – ранний период творчества, становление и формирование писателя, первые повести, более крупные тексты «Звездопад», «Стародум». 2.60-80-е годы - этап творчества Астафьева, когда окончательно находит свой путь к писателю. 3.С конца 80 по начало 2000-х – поздний период творчества. Более полемичен, публицистичен в это время. Перестройка, слом и историческое обновление. Пишет роман-эпопею «Проклятые и убитые», несколько повестей, во многом автобиографические «Обертон», «Веселый солдат». Продолжает писать новеллы. Астафьев работает весьма активно. В 75 лет его не стало, в начале 2000-х годов. Темы и мотивы, стилистическая манера переходят из одного периода в другой, в чем-то изменяясь, в чем-то сохраняясь. Полное собрание сочинений Астафьева осталось, издано при жизни в Красноярском крае. После войны – тяжелое ранение и восстановление, непростая жизнь с семьей. Становится одним из ведущих советских писателей. Астафьев – писатель очень умный и интеллектуальный. Формально образование – 7 классов, при этом в его текстах звучат аллюзии, реминисценции из символистской поэзии, великолепное знание русской классической литературы, искусства. Творческое наследие, собрание сочинений в 15-ти томах в Красноярске вышло. Астафьев работал плодотворно в каждый из периодов творчества. Основная отличительная черта Астеафьевской прозы(если говорить о стилевом своеобразии, творческой доминанте): Астафьев представляет обновленную версию реалистической традиции. Но в чем его отличие от других авторов? У Астафьева на уровне стиля сочетаются две полярные доминанты (в чем-то противоположные друг другу). Это проявляется на уровне субъектной организации, сюжета, конфликта – на всех уровнях: 1)натурализм – жесткое изображение действительности, проза достаточно сурова, очень много работает и с военным материалом, но натурализм не есть смакование деталей и жутких подробностей, натурализм тяготеет к документальности, максимальной художественной достоверности. Точной и документальной выглядит проза Астафьева. Автобиографические мотивы, максимально искреннее и предельно открытое авторское ощущение. 2)лиризм, лирическое начало, которое доминирует несмотря на жесткий натурализм, суровую стилевую интонацию. Это лиризм, доходящий до сентиментализма (не в чистом виде направление сентиментализм, но именно накал чувств, эмоций, который свойственен и сентиментализму, а также стремление максимально воздействовать на эмоциональную сферу читателя). «Я» лирическое проступает в прозе, сфера присутствия автора в его текстах высока. Авторское «я» присутствует достаточно часто, открыто, проявляется намеренно. Астафьеву нужно, чтобы читатель был эмоционально увлечен текстом, сопереживал. Не только сострадание, но и сорадование. Повесть «Звездопад». Одно из первых произведений, которое заставило говорить об Астафьеве читающую публику, - это повесть «Звездопад» - о Великой Отечественной войне. Взбудоражило публику: от неприятия до восторженных откликов. Повесть «Звездопад» близка к традиции лейтенантской прозы. В центре внимания главный герой – солдат. Есть элементы личного повествования. Интересен сам сюжет. Хотя Астафьев вызова не планировал, но умел заострить противоречие в действительности, саму картину мира показать не однобоко, а во всей ее противоречивости. Действие – 42 год, юг, Краснодар, происходит на фронте. Краснодар еще прифронтовой, в достаточно далеком тылу. Солдат лежит раненый в госпитале. Солдат встречает свою первую любовь, которая работает там медсестрой, ответная симпатия со стороны девушки пробуждается. Первая любовь, влюбленность. Все обостряется обстоятельствами: война, испытания, угроза смерти – обостряет чувства. Он стремится добиться взаимности со стороны девушки. Кульминация повести – встреча с матерью возлюбленной. Вечером, сбежав в самоволку, герой идет по адресу, который девушка ему оставляет, чтобы побыть с ней, но, придя, встречает не ее, а ее мать (которая по стечениям обстоятельств возвращается с работы, а девушку неожиданно вызвали). Происходит неожиданная реакция, которая позволяет иначе взглянуть на ситуацию. Мать – женщина достаточно умная, интеллигентная, решительная, просит оставить солдата ее дочь, чтобы не поломать жизнь дочери. Он – молодой парень, практически без образования, дочь хочет поступить в институт. «Вы – обычный солдат, долечиваетесь, скоро отправитесь на фронт, и Вас убьют» - говорит мать достаточно цинично, но в то же время справедливо. Это тот самый натурализм, жестокая правда. Психологический конфликт – в душе героя и в столкновении с жесткой реальностью – вызвал бурю, неоднозначные суждения: мать дискредитирует подвиг простого обычного солдата, а значит и сам Астафьев подвергает сомнению народный подвиг. Хотя Астафьев никакого обобщения здесь не делает, рассказывает конкретную историю. Он не оправдывает и не осуждает героиню, оставляет сделать выбор читателю. Но мы понимаем, что мать права в оценке ситуации. Может быть, это даже помогает ему выжить. Он стремится вернуться на фронт в свою часть, инициатива поддерживается удивленным главврачом. Госпиталь воспринимался как место отдыха, где можно в себя прийти, сбросить с себя груз психологического напряжения, отоспаться. Если бы он поехал на фронт, окрыленный любовью, то его скорее всего убили бы в первом же бою. Не испытывая иллюзии о том, что ждет его, отправляется на фронт, он едет туда воевать, побеждать и выживать. Это не оправдывает мать, хотя она жалеет солдата. Повесть воспринимали отчасти как неверие в подвиг советского народа, хотя Астафьев описывает конкретную судьбу. Повесть Астафьева «Пастух и пастушка». Военная эпоха. Соответствует канону лейтенантской прозы. Борис Костяев – главный герой. Ассоциативный план связан с литературными и культурными перекличками, связан с восприятием и осмыслением военных событий. Не просто повесть, а современная пастораль (видно по названию). Повесть о ВОВ, но с необычным названием, Здесь виды черты Ас: натуралистическое и сентиментальное начало (уже на уровне семантики эти два начала сталкиваются), символизируя своего рода стилевой «взрыв». Повесть связана с жанром пасторали. Пастораль – античный жанр (романы о чистой и верной любви героя, счастливое или драматичное развитие любви, после смерти воссоединяются в мире загробном, либо живут счастливо и умирают вместе). Почему Астафьев актуализирует память этого архаичного жанра? Перед нами несколько месяцев из жизни лейтенанта Бориса Костяева. 4 части повести рисуют эпизоды из жизни лейтенанта: бой, непосредственно боевые действия, ранение, последний бой, угасание героя, заканчивается трагично. Встреча с девушкой Люсей происходит между двумя боями, первая и взаимная любовь лейтенанта, продолжавшаяся всего несколько суток. Пасторальный мотив, восходящий к античному романы- влюбленные, испытание судьбой, обстоятельствами. Важна молодость, юность. В центре авторского внимания – поиски ответа на вопрос: что происходит с душой человека на войне, выдерживает ли она может ли любовь противостоять силе любви. С одной стороны, жесткий облик войны, с другой стороны, мир нормальных, естественных отношений, чувство любви. Любовь как главное счастье, главное испытание в жизни. Астафьев рассматривает ситуацию в контексте всей человеческой истории, всей человеческой культуры. Эпиграфом является строфа французского поэта? (стих-е о сути и природе любви, созвучное Астафьеву, теме пастуха и пастушки, верной любви, невозможности разделить души и сознания любящих людей). Эпиграфы к каждой из частей выбраны из мировой классики: эпиграф к первой части – строка из пушкинской Полтавы, которая сталкивается с авторскими мыслями. Эпическое восприятие конфликта, борьбы. Сам Астафьев практически избегает батальных сцен. Главным событием становится создание высокой, чистой любви Бориса и Люси. Эта любовь подготовлена мотивами пастуха и пастушки, пасторальными мотивами. Пасторальные мотивы проявляются, когда Борис вспоминает свое детство – яркое, большое впечатление. Сцена аллитерации сцен – зеленая трава, белые овечки. Это воспоминание приходит по контрасту с реальной жизнью. 33. Драматургия А. Володина. Володин дебютировал как прозаик. В 1954 вышла первая книга Володина «Рассказы» — о судьбах молодых современников, на нее обратили внимание в своих рецензиях «Литературная газета» и «Комсомольская правда». Через год Володин участвовал в совещании молодых писателей в Москве, где книга обсуждалась на семинаре С.Антонова и была высоко оценена. В 1956 Володин предложил Ленинградскому театру им. А.С.Пушкина (Александрийскому) пьесу «Фабричная девчонка». Открывался путь к главной сфере творчества Володина — драматургии. Пьеса принята не была. Но слух об остродискуссионном произведении привлек к «Фабричной девчонке» внимание почти 40 театров страны — первые постановки прошли в Казани, в ЦТСА в Москве, театре им. Ленинского комсомола в Ленинграде. За один год Володин стал одним из самых «репертуарных» авторов. Но это было отнюдь не «триумфальное шествие». Вокруг пьесы развернулись острые споры (Дискуссия о «Фабричной девчонке»: статьи и рецензии. Театр. 1957. №4-7). Володина обвинили в дегероизации, очернительстве и даже в намерении «опорочить наше советское общество, советское время, время социализма» (Софронов А. Во сне и наяву // Литературная газета. 1957. 7 дек.). Защищали пьесу не только критики и писатели (А.Арбузов и др.), но и переполненные залы. Зритель «оттепели» конца 1950-х — начала 1960-х принял как свою собственную правду Женьки Шульженко, выступившей против казенщины, догматизма, унификации жизни во имя подлинной человечности. История, случившаяся в рабочем общежитии, открыла буквально «залповый выброс» в творчестве Володина, в котором сочетались произведения «жизнеподобного» реализма и условнофантастические. Это были пьесы «Пять вечеров» (1959, новая ред.— 1985, кинофильм Н.Михалкова — 1979), «В гостях и дома» (1960, в середине 1970-х переработана в сценарий «Портрет с дождем»), «Старшая сестра» (1961, одноименный фильм — 1967), «Назначение» (1963, переработана в сценарий в конце 1970-х, 3-я ред.— 1985, телефильм — 1988) и др. Это были киносценарии «Происшествие, которого никто не заметил» (1962), «Звонят, откройте дверь» (1964), «Похождения зубного врача» (1964, одноименный фильм Э.Климова — 1965), «Загадочный индус» (второе название — «Фокусник», 1965). Два последних сценария, объединенные в постановке Московского театра им. Ленинского комсомола, получили название «Аттракционы», а после написания пьесы «Графоман» Володин объединяет все три произведения в драму «Печальные победы». Характерной чертой ряда новых редакций все больше становится отказ от благополучных или сравнительно благополучных финалов. Вслед за реалистической пьесой «Назначение» (впрочем, в процессе работы над ней Володин также усиливает условность) и киносценарием «Звонят, откройте дверь» В. написал трагикомедию-гротеск «Кастручча» («Дневники королевы Оливии», 1966) — метафорическую пьесу об авторитарном обществе, которая увидела свет рампы только в 1988 (сразу в ряде театров — Московский театр сатиры, Театр-студия О.Табакова, «Эрмитаж» и др.). В 1970 была написана пьеса-притча на библейский сюжет «Мать Иисуса», которая была поставлена тоже только в конце 1980-х (московские театры — им. Моссовета, Театр на Малой Бронной, Ленинградский театр им. А.С.Пушкина и др.). 1971-й принес своеобразную литературную стилизацию — «Дульсинея Тобосская» (через несколько лет превращенную в мюзикл на музыку А.Гладкова), 1972-й — инсценировку рассказа «Стыдно быть несчастливым», получившую широкую известность под названием «С любимыми не расставайтесь» (в конце 1970х по пьесе снят кинофильм). На рубеже 1960-70-х Володин реализует два замысла, на первый взгляд достаточно далеких друг от друга. Во-первых, это был цикл одноактных пьес (как правило, монологов), сделанных как путем литературных стилизаций (в критике их называют «условно-историческими»), так и на современном материале («Монолог Агафьи Тихоновны», «Монолог Офелии», «Семь жен Синей бороды», «Женщина и дети», «В сторону солнца», «Перегородка» и др.). Во-вторых, Володин вновь обратился к жанру притчи, на этот раз на материале эпохи доисторической, и создал детектив-трилогию времен каменного века: «Выхухоль», «Ящерица» и «Две стрелы» (первые две пьесы впоследствии были объединены). Пользуясь определением А.Толстого, Володин попытался «подойти к современности с глубокого тыла» — понять, как всеначиналось на земле, как впервые прозвучало слово «милый», как появился самый первый «интеллигент», который не решился наубийство ребенка... Связь с современностью Володин подчеркивал речевой характеристикой героинь, в которой отчетливо звучал современный сленг. Главной в трилогии стала традиционная для Володина проблема нравственного выбора. Пьесы были отмечены новыми стилистическими поисками, рассчитанными на современный театр, — фантазия, импровизация, пластика, пантомима и т.д. В середине 1970-х Володин пишет киносценарии «Смятение чувств» и «Дочки-матери», а в 1979 появляется знаменитый кинофильм «Осенний марафон» (реж. Г.Данелия), получивший мировую известность и заслуживший множество наград (главный приз XIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе, «Золотую раковину» Международного фестиваля в Сан-Себастьяно, главную премию фестиваля комедийных фильмов в ФРГ и др.). Около 30 стран приобрели фильм для зарубежного проката. В то же время «Осенний марафон» вызвал не менее острую дискуссию, чем «Фабричная девчонка», правда, с менее резкими формулировками: положительный или отрицательный герой Бузыкин?.. Володин же оставался верен себе — продолжил начатое еще в рассказе «Пятнадцать лет жизни» исследование проблемы времени не в социально-политическом и историческом, а в нравственном плане: время, отпущенное человеку на дистанцию «рождение-смерть», как человек им распоряжается? Как реализуется его личность в жизненном марафоне? И в чем вообще предназначение человека на Земле? Почти одновременно с «Осенним марафоном» становится известным обращение Володина к гриновско-шагаловской теме «летающих людей». Пьеса «Блондинка (киноповесть с одним антрактом)», поставленная в БДТ им. М.Горького в 1984, посвящена, пользуясь названием одной из «одноактовок» Володина, «всем нашим комплексам повседневности». Но начинается она символической сценой в некоей студии, где люди... учатся летать. Вот, оказывается, какие физические и духовные возможности даны человеку, а он и не подозревает о них в своем прозаическом быту и застойном конформизме! При этом открытый «высокий пафос» для Володина абсолютно неприемлем — писатель «корректирует» его самыми различными эффектами комического. Критика советских лет обычно упрекала Володина в «мелкотемье» и «пессимизме». В последние годы, наоборот, подчеркивается, что Володин открыл новые пласты жизни, демократизировал героев, вскрыл острый социальный конфликт между свободой личности и общественными стереотипами, встающими на пути ее самоосуществления. Он соединил углубленное размышление о вечных ценностях человеческого бытия с самым пристальным вниманием к повседневной будничной жизни людей с ее глубинным драматизмом. Володин использует опыт драматургии XX в. с ее многообразием средств художественной выразительности. Не случайно его пьесы привлекали внимание таких режисерров, как О.Ефремов, Г.Товстоногов, Б.ЛьвовАнохин, А.Эфрос и др. Творчество Володина очень современно и даже злободневно, но в нем одновременно присутствует большой запас «долгосрочных гуманистических идей» (Панина Т.— С.284). К.Ф.Бикбулатова 34. «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына как «выстраданный документ» и памятник жертвам сталинских репрессий. Своеобразие жанра и композиции, образности произведения. Образ автора. Появление произведения А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», которое он сам назвал «опытом художественного исследования», стало событием не только в советской, но и в мировой литературе. В 1970 году ему была присуждена Нобелевская премия. А в родной стране писателя в этот период ждали гонения, арест и изгнание, продлившееся почти два десятилетия. Автобиографическая основа произведения А. Солженицын происходил из казачества. Его родители были высокообразованными людьми и стали для молодого человека (отец погиб незадолго до рождения сына) воплощением образа русского народа, свободного и непреклонного. Удачно складывавшаяся судьба будущего писателя – учеба в Ростовском университете и МИФЛИ, звание лейтенанта и награждение двумя орденами за боевые заслуги на фронте - круто изменилась в 1944 году, когда его арестовали за критику политики Ленина и Сталина. Высказанные в одном из писем мысли обернулись восемью годами лагерей и тремя ссылки. Все это время Солженицын творил, практически все запоминая наизусть. И даже после возвращения из казахстанских степей в 50-е годы он боялся записывать стихотворения, пьесы и прозу, считал, что необходимо «сохранить их в тайне, и с ними самого себя». Первая публикация автора, появившаяся в журнале «Новый мир» в 1962 году, заявила о появлении нового «мастера слова», у которого не было «ни капли фальши» (А. Твардовский). «Один день Ивана Денисовича» вызвал многочисленные отклики тех, кто, подобно автору, прошел через ужасы сталинских лагерей и был готов рассказать о них соотечественникам. Так творческий замысел Солженицына стал воплощаться в жизнь. История создания произведения Основу книги составили личный опыт писателя и 227 (позже список увеличился до 257) таких же, как он, узников, а также сохранившиеся документальные свидетельства. Публикация 1 тома книги «Архипелаг ГУЛАГ» появилась в декабре 1973 года в Париже. Затем, с промежутками в год, то же издательство YMCA-PRESS выпускает 2 и 3 том произведения. Спустя 5 лет, в 1980 году, в Вермонте появляется двадцатитомное собрание сочинений А. Солженицына. В его состав входит и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» с дополнениями автора. На Родине писателя стали публиковать только с 1989 года. А 1990-й был объявлен в тогда еще СССР годом Солженицына, что подчеркивает значимость его личности и творческого наследия для страны. Жанр произведения. Художественно-историческое исследование. Само определение указывает на реалистичность изображаемых событий. Вместе с тем, это творение писателя (не историка, но хорошего ее знатока!), что допускает субъективную оценку описываемых событий. Это порой ставили в вину Солженицыну, отмечая некую гротескность повествования. В произведении «Архипелаг ГУЛАГ» автор поясняет, что он не единственный автор книги. Такой памятник жертвам репрессий невозможно создать одному. Он лишь говорит от лица целого поколения людей, «замученных и убитых» с 1917 по 1956 годы. Краткое содержание. Краткое содержание «Архипелаг ГУЛАГ» - это обобщенная история возникновения, развития и существования огромной системы концлагерей, созданных советским режимом. Последовательно, в одной главе за другой, автор, опираясь на пережитое, свидетельства очевидцев и документы, рассказывает о том, кто становился жертвой знаменитой в сталинские времена 58 статьи. В тюрьмах и за колючей проволокой лагерей напрочь отсутствовали какие бы то ни было нравственные и эстетические нормы. Лагерники (имеется в виду 58-я, так как на их фоне жизнь «блатных» и настоящих уголовников была раем) в один миг превращались в изгоев общества: убийц и бандитов. Замученные непосильными работами от 12 часов в сутки, вечно замерзшие и голодные, постоянно унижаемые и до конца не понимавшие, за что их «взяли», они старались не потерять человеческого облика, о чем-то думали и мечтали. Описывает он и бесконечные реформы в судебно-исправительной системе: то отмены, то возвращения пыток и смертной казни, постоянное увеличение сроков и условий повторных арестов, расширение круга «предателей» родины, в который включили даже подростков в возрасте от 12 лет… Приводятся знаменитые на весь СССР проекты, типа Беломорканала, построенные на миллионах костей жерт сложившейся системы под названием «Архипелаг ГУЛАГ». Невозможно перечислить все, что попадает в поле зрения писателя. Это тот случай, когда для понимания всех ужасов, через которые прошли миллионы людей (по данным автора, жертвы ВОВ – 20 млн человек, количество крестьян, уничтоженных в лагерях или погибших от голода к 1932 году - 21 млн) необходимо прочитать и прочувствовать то, о чем пишет Солженицын.