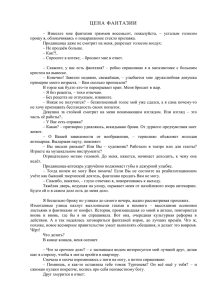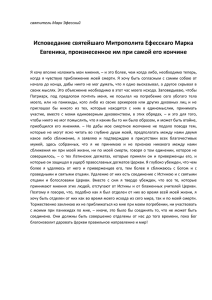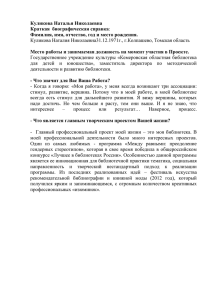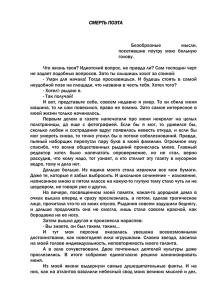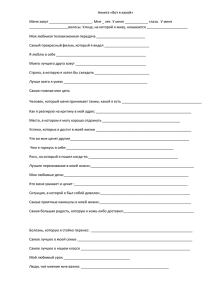Мемуары ч.1 - Официальный сайт Вениамина Яковлевича
реклама
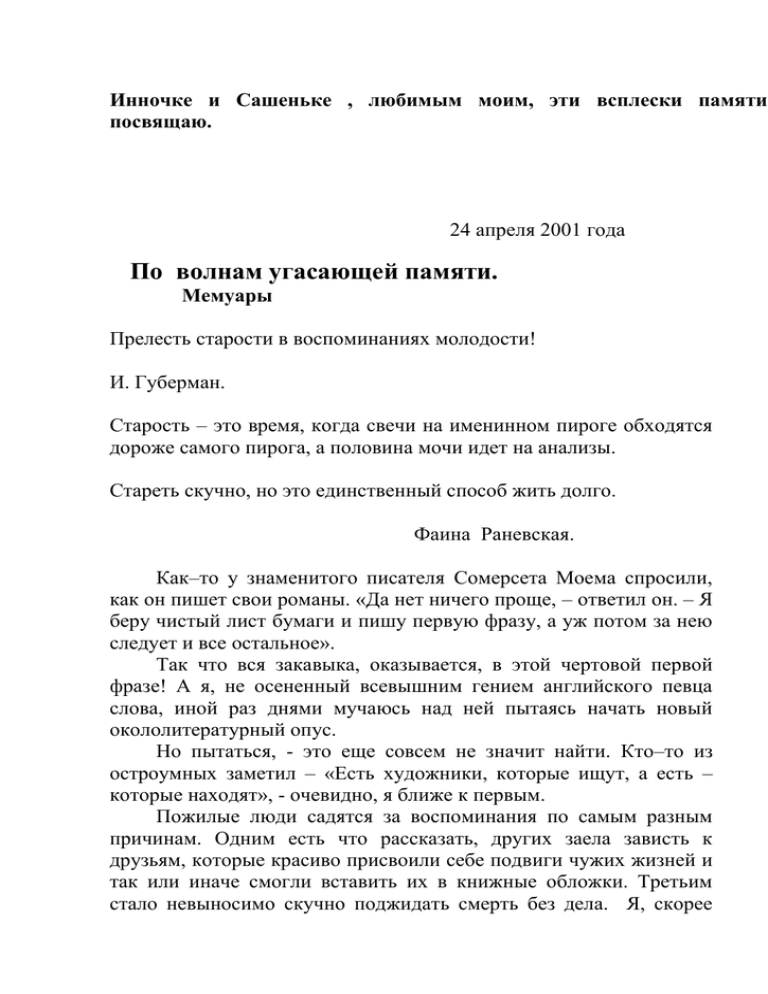
Инночке и Сашеньке , любимым моим, эти всплески памяти посвящаю. 24 апреля 2001 года По волнам угасающей памяти. Мемуары Прелесть старости в воспоминаниях молодости! И. Губерман. Старость – это время, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы. Стареть скучно, но это единственный способ жить долго. Фаина Раневская. Как–то у знаменитого писателя Сомерсета Моема спросили, как он пишет свои романы. «Да нет ничего проще, – ответил он. – Я беру чистый лист бумаги и пишу первую фразу, а уж потом за нею следует и все остальное». Так что вся закавыка, оказывается, в этой чертовой первой фразе! А я, не осененный всевышним гением английского певца слова, иной раз днями мучаюсь над ней пытаясь начать новый окололитературный опус. Но пытаться, - это еще совсем не значит найти. Кто–то из остроумных заметил – «Есть художники, которые ищут, а есть – которые находят», - очевидно, я ближе к первым. Пожилые люди садятся за воспоминания по самым разным причинам. Одним есть что рассказать, других заела зависть к друзьям, которые красиво присвоили себе подвиги чужих жизней и так или иначе смогли вставить их в книжные обложки. Третьим стало невыносимо скучно поджидать смерть без дела. Я, скорее всего, ближе к последним, ибо достаточно сытая и малоподвижная жизнь эмигранта без какого–либо мало–мальски занимающего свободное время занятия - тосклива безмерно. Писать мемуары – блаженство. Во-первых, некуда спешить, ибо глупо или, по меньшей мере наивно, лелеять призрачную надежду на возможность их издания, разве что, за свой счет. Для этого надо: либо обладать скандальной славой Коржакова или Лимонова (были такие одиозные личности в конце двадцатого века), либо пребывать в небесном шлейфе «звезд», чья интимная жизнь, вне всякого сомнения, многократно привлекательнее для обывателя, чем их тяжелый нерукотворный труд, подчас и сдобренный настоящим талантом и вознесшим их на этот «крутой» небосклон. А, во-вторых, пятых и восемьдесят третьих – ты, вроде бы, вновь начинаешь жить в придуманной самим обстановке некоего, очень важного дела… Мемуары - это закадычная и верная подружка, с которой можно пошептаться в уголке без посторонних ушей. Кого–то облить грязью, а кого-то и похвалить, кому - позавидовать «в черную», кому–то искренне (что случается не часто), отдать по заслугам должное… Мемуары, как правило, пишут не во второй, а скорее в четвертой части своей жизни. К этому времени многие из твоих недругов, да и просто знакомых уже отошли в лучший из миров и можно без стеснения говорить о них удобную тебе правду, не боясь их ответной реакции, подчас, неадекватной реакции на этом свете... Удивительно в этом отношении повезло великолепному литератору Юрию Нагибину. В своих воспоминаниях он расчихвостил всех своих великих коллег «под первое число», досталось на орехи, да еще как, практически всем, но умер он «поразительно удачно» - за день до выхода книги из печати. Друзья и знакомые из вежливости иной раз и спросят: - «Ну как движутся твои «нетленные» воспоминания? Многих уже облил?… Надеюсь, я буду одним из первых, кому ты дашь их прочесть?» Или – «А какую главу ты посвятишь мне?» - Можете не сомневаться! – обычно охотно отвечаю я, будет вам и белка, будет и глава, но, пока я еще путаюсь где-то в детсадовских соплях, потом пойдет счастливое детство и пылкая юность, так что вам придется десяток- другой лет пообождать. Конечно, печально осознавать, что мемуарная литература, в основном, может интересовать только твоих современников и уже мало интересна даже следующему поколению, другой век, другое измерение, другая жизнь, другие герои. Исключением из правил служат лишь «нетленные» биографии по–настоящему великих людей, гениев эпохи или эпох. Большинство человечества не желает учиться на ошибках и положительных примерах своих предков. Они страстно гонятся за собственными синяками и шишками и, может быть, именно это и является одним из основных законов движения жизни и прогресса. Ко мне Всевышний, по всей видимости, был расположен благодушно, и я прожил, во всяком случае глядя на нее со своей колокольни, достаточно сложную, но достаточно интересную жизнь! Ну уж во всяком случае - не скучную. Мне было лестно, хотя и совершенно неожиданно, попасть в сотню людей, названных Международным Институтом Исследований: «Выдающийся человек ХХ столетия». Равно , как и получить Премию Людвига Нобеля. Очень приятно было и поздравление Римского Папы в 2009 году. Мне казалось, да и сегодня кажется, что этого, исключительно обязывающего человека звания значительно в большей степени заслуживают множество других людей - не мне чета! Хотя я, отнюдь, не лишен честолюбия, иной раз совершенно незаметно для себя переходящего в мелкое тщеславие. Однако меня радует и тот факт, что в эту когорту не попал почти никто из современных «великих деятелей и политиков», вроде Чубайса, Ельцина, Березовского и им подобных, а находиться в одной «компании» с Сахаровым , Бехтеревой, Евтушенко, Ростроповичем, хоть и стыдновато, но, ох как приятно! Великая страна, в которой я прожил ту самую счастливую жизнь, в которой , как и миллионы моих единокровцев из «обрезанного» нацменьшинства, был человеком «последнего сорта» ( правда, тут еще со мной могут поспорить цыгане), страна, которой я подарил не мало, не сочла до самой пенсии необходимым отметить мои ратные подвиги даже самой плохонькой медалькой или дешевым государственным значком, типа: «Ветеран труда», «Заслуженный работник коммунального хозяйства», «Знатный канализатор» и т. п.(правда, значок «ГТО» – «Готов к труду и обороне», и спортивные награды я в детстве с гордостью перевинчивал с заношенных грязных маек на столь же заношенные парадные рубашки и обратно), но ей утерли нос Америка, Германия, Италия и Англия, наградив меня высшими наградами своих стран и, даже, присвоив мне звание «Экселенц», что до почечных колик до сих пор смешит моих родных и знакомых. Да, что там награды, я пенсию-то по старости получил меньшую, чем уборщица в основанной мною фирме, так как ей еще причиталась «блокадная» надбавка. Честно признаюсь, что в этом творении, может быть, кое–что и кое–где я несколько приукрасил. Но я думаю, это делает каждый нормальный мемуарист, ибо куда как приятнее видеть себя таким, каким тебе хотелось бы быть, чем таким, какой ты есть на самом деле. И еще одна причина, побудившая меня сесть за компьютер, используя его на этот раз только в качестве пишущей машинки: я никогда не могу ответить на вопрос – кто же я по профессии? В 1983 году «Российская книга Гиннеса» назвала меня одним из самых разносторонних людей страны. Я действительно затрудняюсь идентифицировать себя в какой–то одной области, будь то наука, техника, искусство и даже спорт. В одиннадцати самых разных Российских и Международных энциклопедиях, от «Экологической» до «Эстрадной», которые я оставлю после себя как единственное наследие, меня аттестуют в основном по одной, узкой специализации, как, собственно, и должно быть в специализированном справочнике. В последнем написанном мною романе («Любопытные бредни старой Вороны») редактор долго мучился, сочиняя титульные строчки об авторе и, в конце концов, плюнув, обошелся без таковых вообще, бросив сквозь зубы: «Бред все это, все равно не поверят и решат, что это рекламные штучки…». Так вот, чтобы не выглядеть лгуном и самохвалом, я и решил написать свою расширенную автобиографию, ибо изложив все последовательно, разложив все «подвиги» по полочкам и, разбавив их «водичкой из жизненных мелочей, избранных мест переписки с друзьями», воспоминаниями о встречах с замечательными людьми, я постараюсь сохранить приличную мину даже при очень посредственной игре. Вот, пожалуй, и вся преамбула. Теперь можно переходить непосредственно к предложенной теме и начать ее следует, как водится, с рождения «героя», не обойдя, естественно, родителей, бабушек и дедушек и всех прочих, имеющих самое непосредственное отношение к его нормально-порочному зачатию и первым годам безмятежно слюнявого младенчества. Увы я слаб весьма по этой части В душе есть уязвимый уголок Я так люблю хвалу, что был бы счастлив При случае прочесть свой некролог. И. Губерман ……………………………………………..Х……………………….ё Первые, в меру громкие и противные вопли новорожденного, раздавшиеся в местной узбекской больничке солнечным утром 29 августа 1935 года, услышал небольшой пригородный городок – Чирчик, расположенный близь столицы Узбекистана - Ташкента. Городок этот, кроме моего рождения, славен еще и тем, что расположен на берегу золотоносной речки того же названия. Правда о том, что местечко это сродни Джек Лондонскому Клондайку его жители узнали много лет спустя, уже после Второй Мировой войны с Германией, когда прочные пятиэтажные дома вновь выстроенного социалистического города и мощная плотина гидроэлектростанции оказались замешаны на богатейшем золотоносном песке с очень высоким процентным содержанием этого столь необходимого стране советов драгметалла. К этому времени я уже сильно подрос, был уже коренным жителем героического после блокадного Ленинграда и не мог ничем помочь вскормившей меня славной восточной республике. Я даже не мог, в виду значительного расстояния между этими городами сделать такую мелочь, как просто отбить кусок бетона от угла близлежащего к железнодорожной станции Чирчика дома и сохранить его в качестве дорогого сердцу памятного сувенира, как это делали практически все «коренные жители» городка, приехавшие из самых далеких уголков нашей многонациональной страны, дабы вложить и свой вклад в святое дело строительства самой сухофруктовой республики социалистической Родины. Сразу же после доставки из роддома в дм отчий моего красного прыщавого тельца , с бессмысленно вытаращенными глазенками, которые растяпа медсестра успела за один день уже вполне легального пребывания меня на этом свете, сжечь ляписом очень высокой концентрации, перепутав бутылочки, и победно торчащим петушком, перед моим папой – верным и преданным членом компартии, оба беспартийные деда поставили нешуточный по тем временам вопрос: что делать с крайней плотью первенца и будущего наследника славной фамилии, корни которой терялись где–то в до– наше - эрной дали Иерусалимских первосвященников. Однако отец, вдохновленный немеркнущей славой и ратными подвигами комбрига Чапаева, пулеметчицы Анки, пограничника с собакой , Карацупы, лысого Котовского и кудрявого Камо - стоял насмерть: настоящий партиец - ленинец – сталинец - марксист – энгельсист, этого пережитка допустить не мог! - «Можно подумать», - сказал мудрый дед Соломон - отец матери, - «что в этом обрезке и есть все достояние этой партии». Отца горячо поддержала домработница Надя. Судя по сохранившейся в семейном альбоме фотографии- задорная крутобедрая деревенская деваха с Урала с твердыми сибирскими убеждениями, что в настоящем мужике ничего лишнего быть не может, включая неизвестно где спрятанный аппендикс! По всей вероятности, от кого–то из друзей моих родителей, а для них дом всегда был открыт, она услыхала старый еврейский анекдот: Русская девушка, прощаясь со своим еврейским любовником, говорит ему на посошок: - «Ося, я слышала, что евреям делают обрезание, но даже представить себе не могла, что до такой степени!». С «тонким юмором», видать, Надя была «на Вы», и приняла этот короткий рассказ за чистую монету. «Не дам дитя на вырезание!» – заявила она, - «а если чего Вам не хватает из человеческого организма, Соломон Израилевич, возьмите это самое с меня самой!» Мудрая мама заняла нейтральную позицию, ибо она то хорошо знала твердокаменный характер своего отца и понимала, что все равно все будет именно так, как он сказал. Дед Соломон имел подпольную кличку – «дед молчун». Он редко произносил в день более трех фраз «не по делу», и на тот день он уже исчерпал свой словарный лимит. Утром отец ушел на работу, и не успела закрыться за ним парадная дверь, как с черного хода в дом зашли два старых узбека в засаленных ватных халатах. В руках одного были две камышовые трубочки, входящие одна в другую с зазором равным толщине кожицы младенческого кончика «петушка», и по диаметру примерно совпадающего с ним. В руках второго находилась обычная опасная бритва. Тот, что был с бритвой, годами не мытой рукой, а от того и стерильной, сунул мне в рот сваренное вкрутую яйцо, другой же зажал кожицу между камышинок и, аккуратненько обведя окружность бритвой, вынул яичко изо рта, что бы я не задохнулся. Истошный крик младенца известил миру, что одним потенциальным коммунистом в Стране Советов стало меньше. Знал бы этот старик – декханен, что в тот миг он обрезал этому славному малышу и все пути к карьере в государственной службе. Много лет меня мучил вопрос: куда в синагогах девают обрезки? Ответ пришел с анекдотом: В синагогу приехала комиссия с проверкой. -Чем вы красите полы? – спросил раввина проверяющий. -Масляной краской. – ответил раввин. -С олифой? -С олифой. -Искусственной? -Что вы, с натуральной. -Вы делаете мацу? -Конечно. -И конечно льете в нее молоко и сыпете, сыпете соль? -Что вы! Только кошерную воду! -А обрезание вы делаете? -А как же! Конечно! -И куда деваете обрезки? -Мы их собираем в мешок, хорошенько его завязываем и отправляем в Москву. Там из них делают таких «поцев», как Вы, и присылают к нам в Житомир на ревизию! Уверен, что если бы моя милая нянька Надя услышала этот анекдот, она наверняка приняла бы и это за истину в первой инстанции. Надя пользовалась повышенным вниманием молодых солдатиков, и те на вечерних свиданиях частенько пытались затащить ее в кусты. Надежда, с раннего детства воспитанная в лучших уральских традициях, давала им решительный физический отпор, то есть била в незащищенный средневековой кольчугой солдатский пах коротким мощным ударом коленки. Она была грамотной и, в раннем детстве начитавшись рыцарских романов, терпеливо ждала своего принца – кузнеца ( была у нее такая феня), с кувалдой в руке и на «белом боевом коне». -Ихуевое дело просить, -- говорила она моей матери, отбив яйца и поставив солидный фонарь под глазом очередному нахальному ухажеру, -- нашенское дело – не давать! В 1939 году отца перевели на строящуюся гидроэлектростанцию в городок с названием Энсо, на границе с Финляндией, сейчас он называется Светогорском. На этом закончился мой узбекский жизненный этап. Правда, я вернулся туда вновь в конце войны , в1945 году и посетил еще пару раз после ее окончания. Там было несколько забавных историй, до которых я, надеюсь, еще доберусь. Энсо был небольшим финским городом и отошел к нам после печальной для СССР финской кампании в 1939 году, в которой маленький «чухонский» народ показал «кузькину мать» непобедимым сталинским соколам - Ворошилову, Буденному и Тимошенко. Городок был пограничным, и прямо вдоль нейтральной полосы протянулась километров на пять главная его достопримечательность -- гигантская лесобиржа. Это в целости и сохранности доставшееся нам в качестве трофея финское сокровище не имело цены. В нем на огромной площади были собраны сотни штабелей драгоценных, высушенных естественным путем, завезенных со всего мира редчайших пород деревьев. Высота штабелей иной раз превышала 15 метров, причем многие штабеля были заложены еще в 1870 году. На каждом были набиты большие, замечательно красивые, ярко-красные бирки с какими–то, каллиграфическим подчерком написанными, по–фински текстами. Знаменитой бирже к тому времени уже стукнуло около сотни лет. По ее территории были проложены рельсовые узкоколейки, по которым курсировали крохотные, размером чуть больше легкового автомобиля, элегантные и очень чистенькие угольные паровозики, сверкающие начищенными до золотого блеска бронзовыми деталями. За собой эти малышки таскали такие широкие и длинные платформы с бревнами, что не то что мы дети, но и наши родители не могли прийти в себя от удивления. Мне еще не было и пяти лет, когда меня, младшего брата Феликса и маму через пять часов после объявления Германией войны с одним чемоданом на члена семьи срочно эвакуировали из Энсо машинами в Ленинград, но этот очаровательный лесной финский городок я буду помнить до конца моих дней. В Ленинграде я, брат и мать прожили чуть больше года и застали голод блокады во всем его могуществе. Отца отправили на Урал, в Челябинск строить огромную тепловую электростанцию, и ему удалось вывезти нас из блокадного города к дедам в Ташкент попутным военным грузовым самолетом поздней осенью 1942 года. С отцом после нашего бегства из Энсо в Ленинград произошла небезынтересная история. Огромную по тем временам плотину на реке Вуокса начали строить еще финны. К началу войны уже наши энергетики практически закончили строительство гидростанции, и она была накануне запуска. Государственная граница проходила по правому берегу реки в 2–3 километрах ниже плотины. Вуокса - река глубокая, полноводная, то разливающаяся на большие, многокилометровые озера со стоячей водой, то, извиваясь в бурных порогах, с сумасшедшей скоростью несущаяся вниз. Отец был главным механиком гидростанции, и его с несколькими сотрудниками оставили до полного отхода наших пограничников с особым заданием. Ему было поручено уйти последним, взорвав плотину. В это время сотрудники МГБ (может быть, эта «замечательная организация» в то время называлась как– нибудь иначе) подожгли лесобиржу, заблокировав на несколько суток пятикилометровый участок границы пожаром невероятной силы. Оба эти правительственные решения сегодня кажутся по меньшей степени странными, ибо товарищ Сталин обещал в те первые дни войны ее неминуемый быстрый победоносный конец. В таком случае и биржа и станция должны были вскорости целехонькими возвратиться к нам назад, и это сэкономило бы стране немало сил и средств. Отец, будучи за старшего, поступил в то время очень мудро. Он полностью закрыл слив воды с верхнего бьефа, подняв ее уровень до самого края плотины. Дно реки, при этом, практически стало сухим. В основание плотины был заложен огромный заряд взрывчатки. Чтобы обмануть финнов и заставить их и немцев пустить танки, технику и пехоту через пересохшее русло реки, подходы к плотине грубо заминировали и поставили небольшой загранотряд с плохонькой пушченкой. Немцы, считавшие еще до начала войны, что баталия ими практически уже выиграна, и что до Ленинграда они с ходу дойдут не более чем за сутки, попались на эту элементарную удочку и форсировали реку по выданному им «на блюдечке с голубой каемочкой» сухому дну. Когда первые танки, буксуя во влажной глине, начали вылезать на наш берег, отец взорвал плотину. Пятидесятиметровой высоты волна, шириной в пол километра, с огромными глыбами бетона, металлическими конструкциями, турбинами и генераторами в считанные секунды смела воинскую армаду противника и задержала наступление на этом важнейшем участке фронта минимум на неделю. Отец пешком добрался до Выборга, где ему дали машину с водителем. По дороге к Ленинграду он, откинув сидение назад, прикорнул. Дорога простреливалась десантными парашютистами. Проснулся он от сильного удара лбом о ветровое стекло. Долго приходил в себя и когда, наконец, очнулся, не поверил своим глазам: машина уперлась бампером в дерево на обочине, а тело водителя с оторванной начисто головой покоилось у него на плече, слабо, но ритмично фонтанируя кровью. Сердце убитого шофера еще билось… Война только началась, и отец, не воевавший в Финскую кампанию, еще не привык к подобным ужасам. Полгода спустя, выйдя из бомбоубежища после очередной бомбежки города или артобстрела, подобные картины можно было видеть почти ежедневно, но в тот момент это потрясло батю не менее, чем последовавшая вскоре контузия. Волею судьбы через год после окончания войны, а вернулись мы всей семьей в Ленинград в 1944 году, через три недели после снятия блокады, меня и младшего брата отправили в пионерский лагерь на лето в Энсо, и я сразу же побежал смотреть, что же стало с лесобиржей. Зрелище было страшненькое. Огромное черное плато с ржавыми кляксами расплавившихся от чудовищного жара паровозиков и платформ. Кое-где на этих ровненьких коричневых кляксах диаметром 5-10 метров проблескивали золотинки от бронзовых кранов и табличек, уже местами по краям покрытых зеленой купоросной патиной. С детства я отличался плохой памятью, то есть я неплохо соображал, но таблицу умножения, а позже и теоремы Пифагора мне было легче вывести самому, чем зазубрить. Этот порок преследовал меня в течение всей жизни и очень прогрессирует сейчас, что меня особенно печалит. А память в работе над мемуарами, как понимаете, – первое дело! С возрастом довольно легко привыкаешь к дрябнущей коже на теле, к морщинам на лице, лысине на темечке и нависающему над поясом джинсов животу. Спокойно провожаешь на заслуженный отдых потенцию, и пословицу: «с тех пор как стал импотентом, - гора с плеч», уже говоришь без бравады и двусмысленной ухмылки, а с теплой признательностью природе за то, что она, голубушка, наконец–то, освободила тебя от массы отвлекающих от работы и отдыха мельтешений и петушиных забот. Начинаешь ловить себя на мысли, что постельные сцены в кинофильмах не только не волнуют тебя, но и, попросту, вызывают неприязненное чувство. Нет, очевидно, для красивых в молодости и зрелости, импозантных мужиков (о женщинах в этом абзаце речь не идет, у них – то как раз с возрастом все это происходит с обратным знаком, что естественно) этот процесс протекает не столь безболезненно. Я никогда не относил себя к категории породистых жеребцов арабских кровей, а не слишком яркое, но достаточно четко проштампованное в чертах лица семитское начало скорее больше мешало, чем помогало мне на любовном ристалище в молодости и, отнюдь, не являлось пособником в умеренных донжуанских проказах. И своим не столь частым победам в любовных поединках я, скорее всего, был обязан быстроте национального мышления. Пытаюсь вспомнить годы проведенные в Ташкенте, и не нахожу в них ничего интересного. Мы жили в доме деда Соломона, маминого отца. Кроме нас он приютил еще пять семей очень дальних местечковых родственников из Белоруссии и Украины. Это были очень хамоватые «веселые ребята». Дед не мог ничем помочь нам, так как сам с бабкой едва мог прокормиться. Мама ходила на какую–то работу, и ее частенько привозила домой «скорая» с сильнейшими сердечными приступами, а скорее в голодных обмороках. Она приносила нам с работы выдаваемую ей на обед жидкую луково-мучную затирушку, говоря, что точно такую же уже съела на службе сама. В то время в Ташкент – «хлебный город» - съехалось полстраны. Голод был страшный, думаю не намного меньший, чем в Ленинграде. Люди мерли как мухи и труповозки собирали «жмуриков» по городу. К тому же, свирепствовал брюшной тиф. Братец мой был на редкость тихим и терпеливым ребенком. Он днями не вылезал из-под стола гостиной, играя старой маминой туфлей и бормотал на разные лады одно слово – ема, ема, ема…, что означало – хочу есть. Я тоже постоянно хотел есть и в конце– концов нашел способ, как можно заработать себе и Фелу на пропитание Спаситель в детстве наградил меня замечательным голосом. Позже голос практически пропал во время мутации. В двенадцать лет, будучи болен сильной ангиной, я продолжал развлекать семью домашними концертами и это вышло мне боком. Хотя, кто его знает? Может быть, став посредственным профессиональным певцом, как это случилось со взрослым Робертино Лоретти, я не смог бы сотворить того, чего добился в других ипостасях. Итак, я в семь лет начал устраивать двухчасовые сольные вечера под огромной чинарой дедовского двора. На них собиралась почти вся улица. Мама, много позже, после войны говорила мне, что Робертино мог бы носить за мной шляпу для денег. Но великим итальянским мальчиком не двигал, как это было со мной, постоянный ташкентский голод, а это, поверьте мне , - величайший стимулятор любого творческого процесса! Зарабатывал я не много, но вполне достаточно, чтобы маму значительно реже стала привозить с работы «неотложка», а терпеливый Фелька уже не так занудно стонал под столом. В очень голодный в Питере, да и в стране послевоенный 1947 год я с мамой и братом опять приехал на лето к деду, на этот раз в Андижан, но это уже отдельная и довольно интересная эпопея. И, пожалуй, не менее интересен мой второй приезд в этот город уже совсем взрослым, в 1980 году, и на этот раз в качестве писателя – сатирика. Через год из голодного Ташкента отец перевез нас к себе в Челябинск. Очевидно ничего примечательного в этом городе не произошло, ибо из моей детской памяти он выпал начисто. Запомнился лишь один эпизод: перед отъездом в Ленинград мама уговорила отца купить корову. С этой буренкой мы одной семьей месяц тащились в теплушке в Питер. Мы кормили ее сеном, которого было с пол-вагона, а она нас грела и отпаивала дивным молоком. Да и в голодном после блокадном городе она тоже содержала нашу семью пару лет. Определили ее в подсобное хозяйство треста, которым руководил отец. Потом меня с братцем решили обучать музыке, и корову обменяли на кабинетный рояль «Бакштейн». Феликс и сейчас неплохо играет на рояле, а мне, очевидно, по дороге в вагоне, буренка, как–то ночью наступила на ухо, а, скорее, моя лень родилась значительно раньше меня, и я так и остался музыкальным неучем. ---------------------------------------+---------------------------------По возвращении в Ленинград нашу семью на пять месяцев поселили жить в гостиницу «Астория». Это было шикарное время. Гостиница была в полном порядке, даже работал лифт. После дедова клоповника и теплушки с коровой, можете себе представить, чем нам казался «пятизвездочный» люкс! Следующее наше жилье тоже было не из последних. Нам дали квартиру во дворце князя Юсупова на Мойке 92. Князь, как известно, был одним из самых состоятельных людей России. Его богатство превышало состояние царской семьи. В одном только Петербурге у него было несколько дворцов, но дом на Мойке по красоте интерьеров не имел равных. Квартира наша находилась в очаровательной двухэтажной пристройке ко дворцу, в доме княжеского дворецкого. Сейчас, к сожалению, этот домик снесли и на его месте построили бездарное четырехэтажное, казарменного типа, здание. Квартира наша ранее непосредственно сообщалась со дворцом, а ниша в кухне некогда была дверью в дворцовый коридор . Сразу же за этой дверью был выход в тот самый злополучный подвал, в котором закончилась жизнь и эпопея Григория Распутина. В подвал этот можно было попасть и со двора, выходившего на речку Мойку. Некогда дом был отгорожен от набережной высокой красивой кованой оградой. В наше же временное пребывание там этой решетки уже не существовало. Итак, в подвал можно было попасть через небольшую железную дверь, запирающуюся на старый висячий замок. Старшие мальчишки сломали замок ломиком, и мы в любое время могли через подвал попадать внутрь дворца. Дворец охранялся чисто условно. Парадный подъезд был заколочен наглухо досками, а черный ход закрывался на два висячих и один внутренний замок. Все окна были наглухо задраены фанерой, а на двух первых этажах еще и забиты досками. Внутри дворца было темно, как в закрытой бочке. Раз в неделю приходила старушка – сторож. Открывал ей дверь завхоз, он же и дворник нашей пристройки. Они включали свет, электричество во дворце было, и делали обход. Иногда старушка разрешала мне и еще двум мальчишкам ходить с ней. Мы с восхищением рассматривали бесценные реликвии Юсуповых и заодно изучали план дома, чтобы потом, пробравшись через подвал, самостоятельно путешествовать по нему с керосиновым фонарем, найденном в том же подвале. По нынешним временам мы могли бы стать воришками – миллионерами, но в те, послевоенные годы, нравственные устои наши были, очевидно, на порядки выше, ибо подобные мысли просто не приходили в наши головы. Мы, превозмогая страх, как очумелые бегали по гулким залам дворца, играя в казакиразбойники и ловили друг дружку «на звук». Находиться одним в этом наглухо зачехленном доме было жутковато, но таким образом мы закаляли свою нервную систему и готовили из себя настоящих бесстрашных революционных героев: Павку Корчагина, Чапаева и Котовского. Молодогвардейцы пришли к нам попозже. Моей бы ангельской державушке – Два чистых ангельских крыла; Но если был бы … у бабушки, Она бы дедушкой была. И. Губерман Старушка – сторож, божий одуванчик, была человечком не простым. Она, по ее словам, служила личной горничной княгини Ирины Юсуповой и осталась после эмиграции княжеской семьи во дворце, дабы следить за сохранностью имущества до их возвращения. Советская власть не оставила ее в покое, и ОГПУ занималось ею настолько серьезно, что бабуля, кажись, малость свихнулась от его неустанных забот. Она иной раз заговаривалась. По несколько раз повторяла одно и то же. Показывала нам место в библиотеке, где «революционеры», так она называла доблестных дзержинцев, ежовцев и бериевцев, нашли спрятанные драгоценности хозяев. Показывала она не только нам, но и довольно часто приезжающим в дом высокопоставленным гостям, властьимущим градоначальникам города. Чаще других с гостями из столицы приезжал во дворец второе лицо города - секретарь горкома Кузнецов, но несколько раз приезжал и сам градоправитель, друг вождя всех времен и народов товарища Сталина, - Жданов. В такие визиты нас, пацанов, конечно, гнали взашей, но поскольку экскурсия обычно заканчивалась в нашей квартире, нам удавалось вдосталь насмотреться на великих начальников. А заканчивалась она в ней вот почему: Старушка рассказывала гостям историю об убийстве Распутина, свидетельницей которого она была, не совсем так, как ее описывает Пуришкевич и сам Феликс Юсупов. Предполагаю, что их версия имеет под собой более прочный и достоверный фундамент, однако вкратце перескажу историю в версии бабки. Оба начала полностью совпадают: распутному Григорию Распутину очень пришлась по душе красавица княгиня. Он упросил Феликса познакомить их. Юсупов и заговорщики решили использовать этот счастливый случай для совершения теракта. Феликс переоборудовал тот самый подвал, через который мы пробирались во дворец, в специальную комнату, в которой он, якобы, устраивал мужские посиделки с друзьями, дабы не мешать жене, когда она принимала своих подруг. В эту самую комнату и был приглашен Распутин, дабы посидеть и выпить с князем до того момента, когда Ирину покинут ее гости. На самом деле княгини в тот раз вообще не было во дворце. По разработанному плану заговорщики должны были напоить Григория отравленным вином и чаем с пирожными, напичканными цианистым калием, а затем мертвого утопить в Неве. Разные источники трактуют вкусы Распутина по–разному. Одни утверждают, что «черный священник» был сладкоежка, другие же, что он терпеть не мог сладкого. Один господь знает, как Феликсу удалось впихнуть в гостя сдобную отраву и дать выпить отравленного вина, однако и то и другое не сработало, и «заговоренного» Распутина князь, боевой офицер, наделав в штаны от страха, был вынужден пристрелить. Бледный, как смерть Юсупов поднялся из подвала наверх, дабы сообщить соратникам по заговору, что «мерзавец готов». И когда, немного придя в себя, он снова спустился вниз проверить все ли в порядке с покойничком, мертвец, как в плохой страшной сказке, «восстал из мертвых» и даже ухватил, чуть не сошедшего с ума от ужаса князя за грудки. Юсупов оторвал от ворота рубашки цепкую руку «вурдалака» и опрометью выскочил из подвала. И вот тут - то версия старушки-служанки и всех остальных участников событий, несколько расходится. Пуришкевич и Юсупов утверждают, что основательно напичканный цианистым калием Григорий, вскарабкавшись по крутой лесенке из подвала, никогда ранее не бывавший в этом дворце, пробежал с пулей в груди направо по длинному дворцовому коридору, спустился по роскошной двухпролетной парадной лестнице в вестибюль первого этажа, нашел выход во двор, о существовании которого он до этого момента просто не знал, где его и достали еще шесть пуль убийц. Старушка–сторож же рассказывала несколько иначе, и ее версия мне кажется значительно более достоверной. Дело в том, что дворец имел два двора: большой внутренний, хорошо закрытый от посторонних глаз с улицы, и еще один маленький дворик, а, скорее, просто палисадник, с выходом на Мойку через дом дворецкого, то есть через нашу тогдашнюю квартиру. .Маленький дворик, как я уже говорил, был закрыт с набережной высокой решеткой с коваными воротами, которые на ночь запирались на замок. Так вот, если тяжело раненный в грудь Распутин, по версии заговорщиков, пробежал длиннющую дистанцию по совершенно незнакомому ему дворцу и выбежал в большой закрытый задний двор, где его и добили (прямо скажем, решение вопроса о спасении собственной жизни для чуть живого человека, - не из лучших), то старушка-служанка утверждала, что, вскарабкавшись по крутой узкой лестнице, чуть живой Григорий ткнулся в первую же дверь слева, находящуюся буквально в метре от выхода из злополучного подвала, ту самую дверь, которая вела в палисадник через квартиру дворецкого, и кратчайшим путем выскочил к злополучной закрытой решетке на набережную Мойки. Тут – то в квартире дворецкого его и достали еще пять пуль бегущего за ним князя и его сотоварищей. Распутин бросился к воротам, но, поняв, что они заперты, попытался перелезть через ограду. Однако последняя, седьмая пуля снесла ему затылочную кость, и на этот раз он свалился, и уже навсегда, в снег у дворовых ворот… Всю эту увлекательную детективную картину наблюдали обитатели дома дворецкого и, вне всякого сомнения, на следующий день подробности убийства знала вся челядь дворца. На выстрелы прибежал городовой, охранявший парадный вестибюль дома, и скрыть убийство столь известного лица и любимца императрицы стало практически невозможно. Что и случилось. Как известно, Распутина закатали в ковер, взятый из спальни того же дворецкого, это был самый близкий вариант ковра, что опять же играет на версию бывшей горничной, отвезли тело в закрытой пролетке на Крестовский остров и спустили в прорубь Невки. Экспертиза установила, что «смерть наступила от удушья и заполнения легких водой», то есть могучее сердце этого звериного здоровья человека, после яда и семи тяжелейших пулевых ранений, еще билось под водой! Не так давно я рассказал эту версию нынешней хранительнице дворца, которая пребывала в этой должности более чем два десятка лет, и она согласилась, что такая концовка логичнее официально принятой. Мы сидели с ней на диване в том самом знаменитом подвале, и я рассказывал ей о наших детских шалостях того времени. Рассказал я ей и о том, что во время игр нам часто казалось, что мы слышим чьи–то размеренные тяжелые шаги на втором этаже и в картинной галерее, которая вела в дивной красоты дворцовый театр. Она как–то странно улыбнулась и, помолчав с минуту, рассказала мне кое-что в свою очередь. Ей часто приходилось уходить с работы поздно вечером последней, так как во дворце (ныне это «Дворец работников просвещения») регулярно проводятся концерты и спектакли в дворцовом театре. Театр, гордость семьи Юсуповых, полностью копирует зал Мариинского театра, но выполнен в масштабе один к десяти. Однако на его позолоту ушло драгоценного металла столько же, сколько и на весь большой зал театральной жемчужины Петербурга. Однажды, проверив все ли служители ушли и закрыты ли на замки двери второго этажа, она погасила свет и спустилась к себе в кабинет, где ее на несколько минут задержал телефонный звонок из дома. Закрыв на ключ кабинет, она вышла в мраморный вестибюль и совершенно отчетливо услыхала мерные тяжелые шаги на втором этаже в картинной галерее. Решив, что кто-то всетаки остался наверху и не может выйти, она быстренько поднялась по мраморной парадной лестнице и, отперев дверь в галерею, зажгла свет. Однако, ни в коридорах, ни в самой галерее, ни в театре она никого не обнаружила. Решив, что это была слуховая галлюцинация, она вновь закрыла все двери и на следующий день никому из сотрудников не рассказала о ночном приключении, не сомневаясь, что ее рассказ будет принят коллегами с недоверчивыми улыбками. Однако, через неделю история с шагами повторилась. На этот раз она не решилась подняться наверх и, стоя на лестнице, с замирающим от страха сердцем, слушала эти непонятные звуки. Шаги, тяжелые, размеренные как удары метронома, то затихали, уходя в направлении театра, то возвращались оттуда к запертой массивной дубовой двери, ведущей через «дубовый зал» к выходу на парадную лестницу. Причем, подойдя к двери, они замирали, словно человек останавливался и прислушивался к чему–то, прежде чем развернуться и идти назад, а затем вновь начинал свой размеренный жутковатый ход. Продолжалась эта таинственная прогулка минут двадцать. Затем шаги проследовали в направлении театра и стихли. На неделе она, как бы ненароком, в шутку, начала выспрашивать у уборщиц, остававшихся, как обычно, дольше всех, не слыхали ли они чего–нибудь… «эдакого»…, посторонних шумов, шагов, странных скрипов ближе к полуночи? Ответы были отрицательными, однако по тому, как женщины опускали головы и отводили в сторону глаза, ей стало ясно, что ночные «галлюцинации» преследовали не только ее одну. - Кстати, - обратилась она ко мне, - Вы не чувствуете, какая тяжелая аура в подвале, в котором мы сейчас с Вами сидим? Я не помню, что ей ответил, но то, что мне в процессе нашей милой доверительной беседы безумно хотелось поскорее выбраться оттуда наверх, и что диван в нише, на котором мы сидели, казался мне ледяным, - было точно. За несколько лет до этого разговора директриса дворца, очень деловая и энергичная женщина, предложила мне, уже в то время вполне сложившемуся профессиональному драматургу, написать пьесу о Распутине для дворцового театра. И хотя эта работа не сулила мне ни хорошего гонорара, ни какого-либо дополнительного литературного признания, а была бы очередной тратой драгоценного времени, я серьезно задумался над предложением и перевернул почти всю доступную мне литературу по этой тематике. Однако пьеса не складывалась. Все, что приходило мне в голову, - было перепевами уже сделанных литературных произведений в разных жанрах моими коллегами по перу в различные годы ХХ века. Во всех моих придумках не хватало какой-то совсем маленькой изюминки. Сейчас, мне кажется, я бы смог достаточно интересно и самобытно сделать эту работу, но, увы, время того прекрасного предложения безвозвратно кануло в лету. Недавно мне попалась небольшая газетная статья. В ней история мрачного духовного секс - символа России эпохи последнего царя подается совсем в другом ключе, и кто знает, может быть все было именно, так как это видит автор публикации. Более того, вопрос в статье был поставлен очень «круто»: определенные, достаточно близкие к церкви круги, хотели бы канонизировать, то есть причислить Григория к лику святых. Как? – Воскликнут многие! –Фаворит последней русской императрицы, полуграмотный авантюрист, который вел распутнейший образ жизни, не исключено, что спал с самой матушкой благодетельницей, за что и был убит. Человек, который как никто другой во всей России компрометировал царскую семью, да и, вообще, все самодержавие! Какой святой? Да это был сам черт в человеческом облике! Однако встает встречный вопрос: как Николай II и его семья, канонизированные как святые великомученики, могли при жизни столь тесно общаться с « бесом»? Ничего страшного в этом нет, ведь судят о святом не потому, с кем он общался. Иисус Христос отнюдь не чурался тех, кого общество презирало! Кстати на расстрелянных царевнах и самой царице были обнаружены медальоны с изображением Распутина, на Николае его крест. Император называл его «Наш Друг, Человек Божий»… На убитом Григории была надета рубашка, собственноручно вышитая императрицей: синие васильки, да золотые колосья…. А Николай незадолго до расстрела передал на волю шкатулку:-«Здесь самое дорогое для нас: письма Григория». В католической церкви есть такое понятие – «адвокат дьявола». Когда у католиков рассматривается вопрос о канонизации того или иного святого, назначается «адвокат», которому вменяется в обязанность противостоять прославлению, представляя порочащие святого поступки. Попробуем и мы с вами, дорогой читатель, объективно изложить некоторые факты. Странная казалось бы история: Распутина не любили при всех режимах после его смерти. Ни правительство Николая II (я, естественно, исключаю царскую семью), ни Временное правительство Керенского, ни подхватившие безвременную власть большевики Ильича, а, затем, и «Сталинские соколы». Хотя, казалось бы: - зверски убиенный царскими приспешниками, простой лапотный мужик – простой нищий русский крестьянин?!. Это почище Павлика Морозова! Живая легенда произвола буржуазии, помещиков и дворян! Что может быть показательней и лучше? Однако – не привечали этого мужика рабоче-крестьянские власти, и все тут. Хоть застрелись! Достаточно вспомнить, что при полном попустительстве новых властей, а скорее при их одобрении, чернь извлекла прах «старца» из могилы и шесть часов жгла останки, поливая их керосином. Что может быть страшнее эдакого богохульства? Жизнь Распутина за время советского режима обросла таким количеством грязных сплетней, что отмыть его нынешний «гнусный образ» в глазах последних поколений почти невозможно. Впрочем, не лучше, если не хуже, новая власть обошлась и с членами царской семьи, да и самим государем Их ныне священные тела, после бесстыдного расстрела, баграми вытащили из шахты и, окружив место святотатства солдатами, жгли тем же керосином, для верности поливая соляной кислотой. Жуткая история! Чего же боялись верные большевики - Ленинцы? Им - то, атеистам, бояться чертей не пристало? Значит, ожидали, что на место гибели царя – батюшки придут поклониться честные православные россияне! По той причине сравняли с землей и часовенку, где схоронен был Григорий. А епископа, который отпевал его, посадили на кол, совсем уж не по–революционному со святым отцом расправились. Так что неизвестно еще, кем владели черные силы: Распутиным, который стал духовником Николая, помогал ему, слабому человеку и царю, выдержать тяжкое испытание апокалиптического времени или теми, кто вверг Россию в ужасы войны, голода, лжи, разрушения церквей и разорения крестьян. Загадку эту - ненависть всех новых властей к Григорию, кстати, с очень простенькой отгадкой, никто до сего дня и при нынешней, демократической власти решать не торопится. Мы к ней, к отгадке, вернемся чуть позже, а пока поговорим чуток не о пакостях «черного монаха», как это обычно принято, а о его «доблестных», хотя, впрочем–то, совершенно обыденных деяниях. Да, Распутин действительно влиял на политику страны. Очень даже влиял. И даже в 1912 году сумел убедить Николая II не ввязываться в Балканский конфликт, чем нажил себе сразу множество врагов. Зарубежная печать называла тогда Григория «апостолом мира», а неблагодарные сограждане, сотням тысяч которых он тем самым спас жизнь, обливали его потоками грязи. Война – дело прибыльное для беспардонных политиков и дельцов. Во все времена множество людей на крови своих соотечественников без зазрения совести делали огромные деньги. Делали, делают и сейчас, и будут делать всегда? – такова уж натура человеческая! Видать, есть в каждом из нас ген бесстыдства? И в определенный момент он вылезает вперед и правит шабаш! Да, влиял он на царя, убеждая его в том, что он помазанник Божий и слушаться в своих деяниях может только Господа! А Господь - миротворец по сути своей, Господь - есть любовь к ближнему своему, и он всегда против войны. Люди, по глупости своей, по алчности, тщеславию и жажде мести, войну зачинают. Бог и только Бог же - ее рано или поздно заканчивает, наказав за это людей мором, ранами и смертями близких. Свой удивительный дар предсказателя и целителя Распутин приобрел исключительно церковным путем. Он был молитвенником и постником. Во дворце появился после 10–летних странствий. Пришел с просьбой помочь в Тобольске возвести храм. Принес царю икону Симеона Верхотурского. Именно эта икона сопровождала Николая в заключении в …Тобольске! Так по спирали закручивалась самая страшная российская трагедия ХХ столетия. И именно тогда малыш царевич первый раз истек кровью – наследственное заболевание, передающееся через поколение по женской линии – гемофилия. Похоже, что это был страшный знак Господний – не царский наследник истекал кровью, это кровоточило будущее России! Прервать течение этой смертельной кровавой струйки смог только «старец», лучшие медики России и Европы оказались перед ней бессильны. Распутин останавливал кровотечение только молитвой, обращенной не к дьяволу, а к Христу, и делал это многократно в течение многих лет. Однажды, когда Григорий был в Тюмени, а царевич в Польше, болезнь запустили настолько, что уже был заготовлен медицинский бюллетень, объясняющий смерть Наследника. Обезумевшая от отчаяния государыня послала умоляющую телеграмму Распутину в Тобольск. Григорий в молитве не вставал с колен сутки. И когда обессиленный, с почерневшим от страшной отдачи энергии лицом он поднялся и, качаясь от слабости, вышел из церкви, пришла телеграмма, что ночью у Алексея кровотечение прекратилось, кризис миновал. Думаю не трудно понять, почему государыня боготворила придворного целителя и духовника и, по меньшей степени, было бы глупо подозревать ее в сексуальной привязанности к Григорию. - «Я не могу позволить, чтобы с Григорием Ефимовичем что– нибудь случилось», - говорила она – «Он спаситель Алексея, а, значит, и наш спаситель. Пока он с нами,-- я спокойна за всех нас». Любопытно, что убийца Распутина - Феликс Юсупов признаваясь, что он занимается оккультными науками, говорил, что люди наделенные такой мощной магнетической силой, как у Распутина, рождаются раз в несколько столетий. Интересно, что в 1914 году на Григория бросилась с ножом некая Хиония Кузминична Гусева. Нож глубоко вошел в живот и рана была практически смертельной для того времени. Но странное совпадение: в этот же день в Сараево был убит австрийский эрцгерцог Франц – Фердинанд, славившийся своим воинствующим пацифизмом. Как известно, это убийство послужило поводом к началу первой мировой войны, в которую оказалась втянута и Россия. «Апостол мира» Григорий Распутин в это время находился на краю гибели и чудом спасся, долго залечивая страшную рану. В это время он был не в силах влиять на решения царя, которого определенные круги буквально заставили бросить страну в мировую мясорубку, и Россия встала на путь гибели. Кто знает, не будь той бездарной кровопролитной затяжной войны, история России сложилась бы совсем иначе... Но, что задумано на небесах, человеку отменить не под силу. Суда над несостоявшейся убийцей Гусевой не было, ее отправили в психиатрическую клинику. Понятия «заказчик» тогда еще не существовало… В 1919 году эта же « киллерша» бросилась с ножом на патриарха Тихона, только Господь да скользкая от золотых нитей церковная одежда спасла священника. Нож скользнул по многочисленным рясам и подрясникам, как по доспехам. Как и в прошлый раз женщина была освобождена от наказания, так как была матерью красноармейца. Священнослужители уже в те годы были у Ленина не в чести. Известно, что Григорий был бессребреником, и деньги, которые он брал с высокопоставленных чиновников за продвижение в чинах, раздавал церковным беднякам. Он мог бы стать очень богатым человеком, но после его смерти остались Библия, кое-что из одежды и несколько предметов, подаренных императрицей для его личных нужд. О том, что он будет убит, Григорий знал с детства и всю жизнь готовился к мученической гибели. В тот роковой день он как бы предчувствовал недоброе и переоделся в чистую льняную рубаху, вышитую царицей. И еще несколько из многочисленных совпадений: Распутин был убит в подвале дворянами, - царь расстрелян в подвале пролетариями. На месте, где пролилась кровь «старца», Юсупов бросил пристреленную им же собаку, - собачку великих княжон расстреляли вместе с царской семьей и, нацепив на штык, бросили поверх поверженных тел. - «Собаке - собачья смерть», - в каждом случае говорили убийцы. Любопытно, что убийца Григория - Феликс Юсупов часто говорил, что дух Распутина его простил и, более того, часто помогает ему жить: - «Казалось бы не мыслимо, но Бог и Распутин – сохранители мои! И все ж признаюсь, в течение всей моей жизни имя Распутина не раз спасало меня и моих близких». « И сам не понимал, да и теперь не понимаю, как я мог замыслить и совершить поступок нимало не в духе натуры моей и принципов. Действовал я как во сне» - пишет Феликс в своих мемуарах. За несколько дней до своей смерти Распутин написал Николаю II письмо, в котором были такие провидческие и страшные строчки: «Братья будут убивать друг друга и друг друга ненавидеть, и через двадцать пять лет ни одного дворянина в России не останется. Царь земли русской, если услышишь Ты звон погребального колокола по убитому Григорию, то знай: если в моей смерти виновен кто–то из твоих родичей, то скажу Тебе, что никто из Твоей семьи, никто из Твоих детей и Родных не проживет и двух лет. А если проживет, то будет молить бога, ибо увидит такой позор и срам русской земли, пришествие антихриста, мир, нищету, поруганные храмы божьи, святыни оплеванные, где каждый станет мертвецом…» В кровавом подвале, где была расстреляна царская семья на стене были обнаружены кабалистические знаки. В Британском музее находится книга Энеля «Жертва» с полным раскрытием написанного: - «Здесь, по приказанию тайных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения государства, о чем извещаются все народы». Какая рука начертала эти знаки, - неизвестно. Так же неизвестно, когда они были начертаны. Но подвал после ужасного ленинского шабаша был наглухо забит досками, и до самого сноса дома Ипатьева в него никто не мог попасть, ибо дом был под охраной. Есть в этом нечто сатанинское, впрочем, как и во всей эпохе коммунистической напасти в России. - «Волею или неволею они приедут в Тобольск и перед смертью увидят мою родину», говорил Распутин, и это предсказание, как видите, сбылось… По дороге в ссылку в Екатеринбург царская семья проплывала мимо родного села Распутина - Покровского. Они даже собирали цветы там на берегу. И еще одно совпадение: епископ Саратовский Гермоген, бывший ранее его наставником, поверивший клевете и сплетням, горячо разрывает с Распутиным отношения. А через несколько лет Временное правительство ссылает Гермогена на …Тамбовскую кафедру. Куда вскоре прибудет царская семья. Потом Гермоген рассказывал, что в день своей смерти Григорий к нему явился, объяснив, что темные силы надвигаются: - «Я с трудом дождался вечерни, после которой отслужил по нему панихиду, духовно примирившись с ним…» 16 июня 1918 года Гермоген принял мученическую смерть от красных. Святителю связали руки и бросили его страшно избитого, в реку Туру, напротив…села Покровского. Те, кто считает Распутина бесом, приводят пример, что мол и многие люди церкви отвернулись от него. И в этом нет ничего удивительного. Распутин критиковал церковь за то, что в ней «много буквы и мало духа, оттого и уходят люди из храма», – говорил он – «иным батюшкам лучше в урядники пойти, а они в священники». Григорий всегда считал, что «на любое зло найдется добро, которое победит зло…» - пишет дочь Распутина - Матрена. Еще один любопытный факт. Григорий, как и большинство русских людей, не был юдофилом. Нелюбовь к евреям, по–моему, заложена в генах кондового россиянина. Однако, он несколько раз, узнав о готовящихся еврейских погромах от своего секретаря – еврея, обращался к министру внутренних дел, а то и к самому царю с просьбой принять меры, и тем самым спас сотни и сотни еврейских семей. При этом надо заметить, что Николай в душе был антисемитом и подобные просьбы встречал без энтузиазма. Я не знаю, какой ген в это время в нем протестовал, но думаю, что скорее немецкий, так как русской крови в нем было немного. Так в чем же причина столь лютой ненависти большевистского режима, да и нынешних недоделанных демократов к «старцу»? Россия надрывно рыдает О детях любимых своих Она самых лучших съедает И плачет, печалясь о них. И. Губерман. В том, что был он человеком, исповедовавшим добро и вольную волю: «Дух есть добро! Дух дышит, где хочет!» - это было его жизненным кредо. За то, что Синод дважды отклонял его кандидатуру, а царица прилюдно целовала ему руку как человеку со священным саном. «По имени твоему будет дано тебе» – предсказал когда–то Распутину Иоанн Кронштадский. Противники в этом случае вспоминают, что фамилия «Распутин» созвучна распутству, а сторонники говорят о «распутье» и о традиции ставить на развилках дорог кресты и часовни. Вспомним о простом значении слова «распутье»: - выбор дороги Екатеринбургская журналистка Светлана Изотова, написавшая очень толковую статью о Распутине пишет: «Григорий появился тогда, когда Россия стояла на распутье. Григорий не напрасно появляется и сейчас с той же миссией: церковь явно находится на распутье перед его именем». -------------------------+---------------------Годы моего проживания на Мойке 1944 – 1949 были, пожалуй, самыми прекрасными, самыми интересными в моем военном детстве. Во втором классе меня отдали в капеллу, но проучился и пропел я в ней недолго, так как мне очень не нравились «блатные гогочки», в основном безголосые сынки и дочки именитых партийных бонз, капризные выпендрилы. Я стал плохо вести себя и лупить их на переменах, и меня, «от греха подальше» родители перевели в обычную школу на набережной Мойки, как раз напротив фантастических ворот Новой Голландии. Об этом «чуде света», замечательном памятнике Петербургской архитектуры нельзя говорить всуе. О нем, вообще, как о любом настоящем произведении искусства бессмысленно что–то говорить. Эти высоченные, ажурные, как летний бриз ворота для выхода в Мойку, а затем в Неву, только что сходивших со стапелей парусников, надо видеть своими глазами. К, сожалению, на моем веку эту драгоценную реликвию города автобусные экскурсоводы обычно обходили вниманием, и думаю, что большинство даже коренных жителей Питера не знакомо с ней, а зря! Приезжая в свой город, я обязательно навещаю ее, если меня заносит в тот район, и уж обязательно показываю своим иногородним гостям. В те первые послевоенные годы пригороды города, причем со всех сторон, были буквально забиты нашим и немецким оружием всех родов войск и систем. Выехав за пару десятков километров в сторону Карельского перешейка или Дубровки, можно было вооружиться до зубов. В лесах лежали не захороненные скелеты наших и немецких солдат и офицеров, часто с оружием в стиснутых костяшках рук. На брустверах траншей частенько стояли пулеметы и минометы с запасом патронов и мин в герметичных металлических коробках. Можно было найти вполне исправные немецкие легковые автомобили - амфибии, грузовики, бронетранспортеры и даже целые, вполне боеспособные танки, брошенные экипажем ввиду отсутствия топлива в баках. А уж такого добра как винтовки и патроны было, вообще, навалом и полным - полно их было почти у каждого нормального мальчишки. В моем личном арсенале, который, найдя в подвале нашего дома по наводке дворника, отец до последнего патрона выбросил ночью в Мойку, прямо напротив парадной нашего дома у меня насчитывалось с десяток разных гранат - от РГД до «лимонок», советская трехлинейка со штыком, немецкий «шмайсер», пулемет Дегтярева и немыслимое количество всякого рода патронов. Я, естественно, сам не мог привезти тяжелое оружие из леса, но, например, пулемет выменял на 30 домашних завтраков, которые мама давала мне в школу, у дворовых парней, а винтовку всего – за 15! За один завтрак: бутерброд с домашней колбасой и еще один, с « ленд – лизовским» американским повидлом (джемом из папиного спец пайка) давали три гранаты и обойму патронов 36 штук - от «шмайсера». Шикарной домашней колбасой наша семья была обеспечена на всю зиму 1945 года. Вместе с молочной коровой Буренкой мама привезла из Челябинска и жутко вонючего кабанчика Ваську. Кабана год окармливали в том же отцовском подсобном хозяйстве, потом отдали какой–то крестьянской семье в деревню, где из половины его туши сделали огромное (по тем временам) количество безумно вкусной чесночной домашней колбасы с большими, необыкновенно ароматными кусками сала и мяса в натуральных кишках.. С той поры и до сего дня я никогда не ел ничего подобного. Так что школьные бутерброды с той изумительно аппетитной колбасой, да еще в то очень голодное время, поверьте мне, стоили какого–то жалкого пулемета, уж не говоря о таком пустяке, как винтовка. 9 мая 1945 года в 12 часов дня нас выстроили во дворе школы, и директор, торжественно объявив об окончании войны, зарыдал в голос как последний пацан. Мы тоже коллективно завыли вместе с учителями, сморкаясь в рукава парадных белых рубашек, которые неизвестно откуда в те времена, каким-то немыслимым образом умудрялись доставать наши несчастные, замученные тяжелейшим бытом мамы. Потом все долго истошно кричали « УРА» и обнимались до посинения . В третий класс я пошел уже в другую школу. Это была некогда знаменитая «Третья гимназия», которую окончил Писарев. На великого писателя – демократа нам было в то время глубоко наплевать, и тем более, когда мы узнали, что он критиковал нашего любимого Пушкина. Но у школы, которая находилась на Соляном переулке были и другие замечательные достоинства. Все классы выходили окнами на «Мухинку», бывшее художественное училище барона Штиглица, выпускающее мастеров художественных промыслов. Сама по себе «Мухинка» нам также была «по– барабану», художественные промыслы нас волновали не более, чем произведения рано умершего господина революционного демократа, но обнаженные натурщицы, отощавшие блокадные прелести которых, если чуть поднапрячь зрение и воображение (чего у нас было в избытке), можно было узреть невооруженным, горящим от перевозбуждения глазом. Мы воровали из дома старинные, одетые в натуральный перламутр бабушкины театральные бинокли с откидной ручкой, или (находились и такие счастливцы) папашины трех, а иногда шести и более кратные военные, и на переменах, обязательно поставив кого–нибудь из слабаков «на атасе», во все глаза, затаив дыхание уходили в сладостный мир сексуальных мальчишечьих грез. Этому запретному занятию предавались поголовно все ученики нашей 181-ой мужской школы с третьего по десятый класс. Еще одной достопримечательностью был расположенный в соседнем с училищем здании - Музей Обороны Ленинграда. После знаменитого «Ленинградского дела», когда Иосиф Виссарионович Сталин расстрелял и отправил в лагеря всю партийную верхушку города-героя, музей, почему–то, закрыли. Предполагаю, что его в его экспонатах была не достаточно отражена руководящая и направляющая роль «вождя всех народов» в героической эпопее сопротивления голоду ленинградцев и в снятии сильно затянувшейся блокады города. Но в то время очень представительный музей еще существовал, и часть его экспозиции, состоящая из огромных гаубиц, всех типов немецких танков, сорокоствольных минометов и т. п., занимала полностью весь школьный сад. Несколько танков стояло на бетонных пьедесталах. Танки были в абсолютно рабочем состоянии, пришли и забрались на пьедестал своим ходом. Топливные баки были заправлены соляркой, орудийные башни вращались, аккумуляторы - в полном порядке. Крышки башенных люков были наглухо задраены и заварены автогеном, таким образом дирекция музея обезопасила себя от всякого рода непредвиденных неприятностей. Однако существовали еще и нижние, аварийные люки, расположенные между гусениц, о них устроители выставки, очевидно, забыли, а, может быть, просто не знали. Но так или иначе, а конструктивная мысль нашей молодежи, как это известно даже из песен советских композиторов, всегда была на должной высоте. А уж против «русского пинцета» – в просторечии стального лома, немецкой технике было просто не устоять. Итак, в танк, знаменитый гитлеровский дизель – электроход марки «Пантера» трем нашим комсомольцам – умельцам не только удалось без особого труда забраться, но и завести его. Случилось это как раз во время одной из переменок, и вся школа, включая педагогический персонал во главе с директором, с огромным интересом следила за разворачивающимися военными действиями грозного бронированного «фашиста». В начале танк громыхнул выхлопными газами застоявшегося двигателя, да так, что все вокруг застлало дымом, как после дымовой шашки. Когда дым немного рассеялся, мы с восторгом и ужасом увидели, как бронированная махина, натужно завывая мощным мотором, тяжело сползла, а скорее свалилась с довольно высокого пьедестала и урча, несколько раз повернув башню влево и вправо, развернулась на одной гусенице, и прямиком направилась на здание школы. Столетней давности постройка в свое время была сложена добротно, и ее цоколь, примерно до высоты двух метров, был облицован гранитом. Танк дошел до угла школы и уперся в стену пушкой, легко проткнув кирпичи. Однако гранитный цоколь дома представил для него достаточно мощную преграду, и он, еще раз щедро газанув, остановился и замолк. Из-под его гусениц выползли три чумазых танкиста, – три веселых друга из местной шпаны. Некогда они были учениками нашей гимназии, и в лицо, или даже просто по развинченно–вихляющей походке их знал весь микрорайон. С торжествующим видом, сделав ручкой пламенный «салют–привет» высунувшемуся из окна бледному от страха и злости директору, они, не торопясь, небрежно закурив, направились к выходу из садика. По достоверным слухам, уже через час их накрыла на чердаке «Мухинки» наша доблестная милиция и советский, самый справедливый в мире суд, открытым показательным процессом, быстренько объявив «заговорщикам» заслуженный приговор по статье 58 - 10: «Свержение существующего строя». Их отправили на десять лет, «без права переписки», к великой радости жителей микрорайона, осваивать лесоповальную технику ХV века, на колымскую речку Колыма. Благо, каждому из них к тому моменту уже стукнуло по шестнадцати лет. По всей вероятности, столь наглядная воспитательная мера возымела действие, и до закрытия музея комсомольцы– добровольцы угонять танки уже не пытались. В нашей школе учились сыновья двух самых крупных партийных послевоенных руководителей города: Капустина и Попкова. Их привозили на занятия шикарные лимузины, и учителя смотрели им в рот. Они были старше меня класса на 2, на 3, и я их плохо помню. Отцов обоих вскоре расстреляли как врагов народа, а детей, очевидно, отправили в сибирские лагеря с матерями. Впрочем, не исключено, что и их матери могли разделить участь своих мужей, уж больно громкое Иосиф Виссарионович «отгрохал дело». Правда, и в моем классе учились два сына именитых родителей: Валерка Вознесенский, отец его был в то время Министром Просвещения, и Генка Визнер, мать которого, первый секретарь Куйбышевского райкома партии, была родной сестрой этого министра. У обоих братьев был еще и знаменитейший дядя – руководитель Госплана СССР, знаменитый экономист и правая рука Сталина - Николай Вознесенский. Практически это был второй человек в стране. С него-то и начались все несчастья этой знаменитой фамилии. Ходили слухи, что Великий Вождь осерчал на него после выхода учебника по экономике страны, вероятно, с точки зрения Иосифа Виссарионовича, роль Гениального Вождя и Учителя была отражена в нем недостаточно ярко и выпукло! Оба брата и сестра Главного Экономиста были расстреляны, а мальчишки, - Генка с отцом, а Валерка с матерью, сосланы в Сибирь, где и окончили десятилетку. С обоими братьями я очень дружил, Генка учился так же средне, как и я, но был чертовски одарен в умении работать руками и изобретать разные забавные конструкторские штучки. Я тоже до техники был сам не свой, и на этой почве мы были «не разлей» вода. К сожалению, после ссылки мы еще много лет не виделись, и дружба сошла на нет. Валерка Вознесенский, после лагеря взял фамилию матери, первой жены опального министра. В отличие от нас с Генкой, он был из породы настоящих гениев. Учился он не просто отлично, а сверх отлично! За все время нашей совместной учебы (а их с матерью отправили в ссылку, когда он был в 8 классе) он не получил ни по одному предмету ни одной оценки ниже пятерки. Десятый класс в Сибири закончил с золотой медалью. Цену себе всегда хорошо знал и хоть и старался в отношениях с нами быть демократом, однако, некую дистанцию мы чувствовали всегда. С ним я учился танцевать под трофейный патефон, запрещенные тогда фокстрот и танго, и мы, «шерочка с машерочкой», часами строгали домашний паркет, обычно нашей квартиры, под сладкое: «Сердце мое, я нашел в нашей дружбе с тобой…», или «Утомленное солнце, нежно с морем прощалось…» - тогда это были самые «попсовые» мелодии . Мой отец, после ареста родителей Валерки совершил настоящий гражданский подвиг, который в полной мере я оценил лишь много лет спустя, когда, наконец, «политически» несколько поумнел. Он позволил маме поселить в нашей квартире «опального мальчика», оставшегося одного в городе, без знакомых, родственников и средств к существованию. Тогда это было равносильно самоубийству, ибо за подобное «укрывательство сына врага народа» коммунистом, да еще и какого врага, вся наша семья таким же «макаром» элементарно могла «залететь» в далекий сибирский лагерь по той же страшной 58 статье. В те года это был «подвиг камикадзе». Нам еще очень повезло, Валерку «взяли» в его родительском доме, когда он пришел за сменой белья. К сожалению, ни сразу после амнистии, ни позже, Валерка не оценил благородный отцовский порыв и, по возвращении в Ленинград, да и в остальные годы, даже не позвонил нам. По всей вероятности, он был так обижен на власть, что перенес обиду и ненависть заодно и на всех остальных, кто не разделил с ним той тяжелой, незаслуженной доли, и мы тоже чохом попали в этот круг. Я не обиделся на него, и когда, лет эдак через сорок, он неожиданно позвонил мне, очевидно, случайно увидев по телевизору одно из выступлений, я, правда больше из любопытства, чем с удовольствием, встретился с ним. Он, как ни странно, мало изменился внешне. По-прежнему держал некоторую дистанцию, но встреча напомнила мне нашу раннюю юность, и я был рад, что судьбе было угодно вновь свести нас. Жизнь его удалась, он закончил университет и горный институт, рано защитил докторские диссертации по обеим специальностям, имел звание членкора РАН и, по–моему, был сильно удивлен, что я, в школьные годы беспросветный, жалкий троечник, тоже вдруг добился каких–то громких регалий и некоторой известности. Я побывал у него в доме, познакомился с прелестной женой. Мне было тепло тем вечером в его доме, но неумолимое время сделало свое, и войти второй раз в одну и ту же воду, в той же в речке бытия, – очевидно, дело невозможное… -----------------------------------+------------------------------Мы в ранней младости усердны От сказок, веющих с подушек, И в смутном чаяньи царевны Перебираем тьму лягушек. И. Губерман. Был у меня еще один закадычный школьный друг, сегодня, пожалуй самый старый. Звали его Володька. Он относился к разряду «гогочек», т. е. отличников и «маменькиных сынков». Под каблуком у грозной, бестолковой матери и тирана отца он прожил все детство и юность. Класса до шестого росточка был небольшого, носил ровную челочку на лбу и постоять за себя в наше хулиганское время не мог. Я был покрепче и позадиристей и частенько вставал на его сторону, что обычно решало дело в его пользу. С класса седьмого он, вдруг, начал расти как мухомор и к десятому стал длиннее меня на полторы головы. К тому же он начал заниматься спортом, окреп и уже не нуждался в моих бицепсах, прилично рисовал, был необычайно честолюбив и любвеобилен. После школы поступил в Академию Художеств, стал хорошим архитектором. Обзавелся способным напарником с именитым отцом, тоже архитектором, и они вдвоем сумели получить правительственный заказ на реставрацию музея Ленина к столетнему юбилею Великого Творца Революции. Это было грандиозным жизненным везением и во многом определило его дальнейшую служебную карьеру, хотя негативно отразилось на крайне самолюбивом и заносчивом характере. Курировал эту архи престижную юбилейную работу лично сам Генсек Леонид Ильич Брежнев. Сорок оборонных заводов «денно и нощно» из драгоценного титана точили и фрезеровали детали для «Музея века». Сейчас уже практически невозможно понять, что это было за время! Очень точно отразил его ходивший тогда в народе анекдот: Милиционер тормошит пьяного, лежащего в луже: --Как тебя звать? --Не – е – знаю… --Фамилия твоя? --Не – е – помню… --Живешь - то где, помнишь? --Не – е – е… --А хоть год-то какой нынче на дворе, знаешь? --А как же…Конечно…Ю – би – лей – ный! За музей, монтажом которого руководил мой братец Фел, Володька получил следующий, аналогичный правительственный заказ – Музей Брежнева в Днепропетровске. Потом пошли другие заказы и «в демократическом зарубежье», и в конце концов он дослужился до Заслуженного Художника Монголии и стал Лауреатом Государственной премии Украины. За самозабвенную, не знающую границ любовь к прекрасному полу он получил у друзей «кликуху» – «кобелище», но чтобы не шокировать его в малознакомой компании, особенно в разгаре «кобелиной охоты» сей, не очень благозвучной «кликухой», мы, между собой, называли его коротко - наш «Ще». С годами он стал особенно хорош: высокий, статный, седой, с красивыми холеными руками истинного художника. У него был прекрасно подвешенный, несколько язвительный язык, и эдакая ироническая небрежность в разговоре, особенно в беседах с мужчинами, когда рядом находилась представительница прекрасного пола, которая могла бы его заинтересовать, хотя интересовала его любая длинноногая особь. Знакомить его со своими избранницами было подобно самоубийству. Тут у него не существовало ни мотивов дружбы, ни каких-то там моральных или иных сдерживающих барьеров. Могучий инстинкт всепобеждающего самца был непоколебим. – Надеюсь, ты понимаешь, что это - уж точно «мой человек»?! Она меня любит! – С вопросительно – утверждающей интонацией в голосе, бархатным, ласкающим слух драматическим тенором, небрежно произносил он, и несчастному идиоту, переоценившему свои мужские чары, или недооценившему чертовскую силу обаяния «Ще», приходилось складывать оружие и покидать «поле боя» в гордом одиночестве, под щитом. В годы совместной дружной юности со мною он проделывал эти показательные эксперименты настолько часто, что, в конечном счете, я уже перестал обижаться и ревновать, а наученный горьким опытом водил своих подружек подальше от него. Правда, его первая жена попыталась дать ему несколько уроков «семейного уважения», и поскольку женщина она была крупная и мускулатурой вполне могла поспорить с муженьком, да к тому же была еще и дюже ревнивая, синяки под его глазами иной раз были столь велики, что даже самые большие темные очки не могли прикрыть результаты столь поучительных «лице - мало приятных» уроков. Столь красноречивые и «веские доказательства» его «неправоты» по отношению к товарищам, могли в какой–то мере утешить нас, друзей – рогоносцев, но изменить, что–либо в характере его поведения, или в его, на генетическом уровне заложенном начале суперсамца – победителя, были бессильны. Победитель – всегда прав! – Непререкаемая истина, известная еще в Древнем Риме. На память приходит один случай из обширной Вовкиной любовной практики. Мы, нищие студенты, отдыхали дикарями в палатках на берегу Черного моря в Кудепсте. Ще приехал на машине, он уже был женат, и к свадьбе богатый тесть, известный на весь Ленинград гинеколог, подарил молодым «Москвич». В первый же день Володька, приехавший почему–то один и расположившийся в моей палатке, положил глаз на хорошенькую москвичку, которая жила в соседнем бунгало с несколькими подружками. Вечером Ще, как обычно отправился на «охоту» и попросил меня переночевать в его машину. Конечно, это было очень неудобная постель, но настоящая мужская дружба всегда дороже таких мелочей, как личные удобства. Правда, в автомобильной спальне есть некое неоспоримое удобство, которого лишены палатки из грубого брезента тех времен – круговой обзор местности. И в тот раз он позволил мне подглядеть потрясающую картину. Володьке, очевидно, не удалось достаточно быстро разжечь ответную, до потери пульса пламенную страсть в сердце своей очередной столичной жертвы, а скорее всего ему мешали ее товарки. И он, в могучем кобелином порыве, не раздумывая, поднял кровать вместе, с отнюдь не хилого сложения девицей, и перенес ее в мою палатку. Не сомневаюсь, что такого…не сумел бы сделать и Григорий Новак, тогдашний чемпион мира по штанге в тяжелом весе, и сделать этого он не смог бы не потому, что девушка вместе с кроватью весила, скажем более 180 килограмм, а потому, что это было дьявольски неудобно. Такой подвиг можно было совершить только под влиянием мощнейшего сексуального стресса, ибо именно в этих случаях, утверждают ученые, у человека или животного открывается так называемая «кладовая экстремальных возможностей» и происходят чудеса. Петуху отрубают голову во время любовного акта и он, фонтанируя кровью, продолжает и дальше топтать курицу. О Володьке я рассказываю столь подробно не просто так; дальше в своих воспоминаниях, если Всевышнему будет угодно подарить мне еще несколько лет в уме, памяти и здравии, я посвящу ему еще несколько забавных строк, но эти события происходили уже значительно позже, на другом жизненном витке моей биографии. Там же я поведаю еще одну крайне любопытную, но трагическую историю моего соперничества с другим моим товарищем, тоже школьным лидером, ставшим со временем известным российским и даже мировым кинорежиссером, и как–то грустно и непонятно трагически окончившим свою жизнь. Эта история в чем–то схожа с нашим неразделенным самолюбием в личном лидерстве с Володькой, которое в конечном итоге сделало нас, некогда самых близких друзей, практически чужими друг другу людьми. В мире людей это обычная, рядовая история – лидеры не дружат долго. Ни в коем случае не провожу параллелей, но так великий российский поэт решил сложные взаимоотношения музыкальных лидеров XVIII столетия Моцарта и Сальери, таковой была судьба взаимоотношений двух величайших итальянских кинорежиссеров Феллини и Росселини, двух шахматных гигантов Карпова и Каспарова. Это, очевидно, один из непреложных законов общества, так было всегда и так будет, да, что там трогать Великих мира сего, когда два разнополых лидера в самом обычном, трафаретном браке практически никогда не живут под одной крышей в добром мире и согласии. ------------------------------------------------+------------------------------- Еврею не крутиться на Руси и воду не толочь в российской ступе, тот волос на котором он висит, у русского народа – волос в супе И. Губерман. Послевоенное время было тяжелым. Моральный климат суровел год от года. Наши лучшие в годы войны друзья – союзники по уничтожению фашизма стали нашими заклятыми врагами. «Холодную войну», неустроенность, хулиганство и бандитизм надо было чем–то объяснить народу тогдашним правителям и выход, как всегда в мире, а особенно в России был найден быстро – евреи, евреи, кругом одни евреи…В то время по ушам ходила популярная песенка: Туристу-негру девочка дала, Затем дала японцу дипломату, Потом, когда беременна была, Сказала: - «Всё евреи виноваты!». Оказалось, что жиды и не воевали, да и погибали-то только потому, что сами добровольно шли в концлагеря к немцам. До 1952 года, до «Дела врачей – отравителей», взрослые, пожалуй, ощущали это даже меньше, чем мы - дети, школьники. Слово «жид» просто не сходило с языка моих «необрезанных» товарищей. К нему мы почти привыкли. К слову – то, да, но к физическим выпадам, да и моральным тоже, привыкнуть было труднее. Первый урок каждого нового учебного года начинался с ханжеского коммунистического издевательства. Учителя – евреи старались как–то обойти этот фашистский ритуал, но если об этом докладывали директору или парторгу школы, – мог возникнуть скандал. А все было так: на первом уроке каждого учебного года классный руководитель, который вел свой класс, как правило, несколько лет и знал о своих птенцах все от «А» до «Я» наизусть, открывал или открывала первую страницу нового журнала успеваемости и заполняла несколько граф на каждого ученика, включая одиозную пятую – национальность! Каждый ученик должен был встать и громко ответить на все вопросы. И каждый еврейский мальчик или девочка смертельно боялись этого гнусненького допроса, потому что, как только доходило дело до пятой графы - класс замирал, а потом начинал мерзко гикать, картавить, грассировать и обзываться. Те, кто был поближе к «отверженному», пытались его чем – нибудь побольнее уколоть, ущипнуть, поддать коленкой под зад, а то и просто влепить оплеуху. Я все это терпел до четвертого класса, а в пятом дал себе слово побороть страх перед организованным массовым террором молодых недоносков, великодержавных русских шовинистов и начать на переменках «стыкаться» с особенными «приставалами», чего бы мне это не стоило. Голодное военное время и каверна в легком не способствовали физическому развитию, и до шестого класса я был «дохляк», в шестом, то ли от того, что я пошел заниматься плаванием и боксом, то ли природа и родовые гены взяли свое, но произошла какая–то метаморфоза, и я начал расти и крепнуть как пушкинский царевич Гвидон в винной бочке, – буквально не по дням, а по часам. Для «стычек», то есть драк на переменках, я для начала выбрал себе такого же доходягу, каким в то время был сам – Витьку Быстрова, по прозвищу Быстрик. Меня в те годы назвали Сквирой, а с класса восьмого близкие друзья дали кличку Кот. Витек, отнюдь, не был антисемитом, впрочем, как и абсолютное большинство русских ребят. Просто травить жидов в то время было модно и клево. Они слышали это дома в разговорах родителей. Это веяние носилось в воздухе страны, как летний тополиный пух. К этому времени подоспела очередная фашистская кампания: - бей «безродных космополитов» - читай – евреев, и пацаны, просто как и весь многонациональный советский народ с гордостью купались в этом подленьком национал коммунистическом соусе. Быстрик тоже похихикивал над очередным списочным жидёнком, а один раз даже свистнул во время общего взрыва сугубо российского энтузиазма. Для того, чтобы набить друг другу физиономию в те времена, не знаю, как это у современных школьников, совсем необязательно было иметь достаточно веский повод. Нужно было просто подойти к любому пацану и сказать: – давай стыкнемся, - а дальше, либо тот как последний трус начинал пускать сопли и тут же бывал заклеймен всеобщим презрением, либо как настоящий мужчина, принимал вызов. Всю жизнь я чертовски плохо разбирался в людях и, как показала первая же стычка, партнера для тренажа будущих смертельных боев за национальное равенство я выбрал себе крайне неудачно. Быстрик только с виду был дохляк, внутри же этого костистого, упругого как стальная пружина, маленького тела, сидел могучий атомный реактор! Витек был необычайно подвижен, видно его предку не зря дали фамилию Быстров, и бесстрашен, как легендарный английский бульдог, без колебаний вступающий в смертельную схватку, хоть с бритым львом, и к тому же неутомим, как атлант, который без дублеров, уже которое тысячелетие, бессменно, а главное – безвозмездно, то есть буквально на общественных началах, держал на своих могучих плечах тяжеленный небесный свод, обремененный черт знает каким количеством планет, звезд, астероидов и хвостатых комет. Первый, пробный бой продолжался всю большую перемену при большом скоплении зрителей, любителей кроваво - халявных зрелищ. Не могу сказать, что схватка проходила с переменным успехом, скорее это был матч в одни ворота, - в мои! Физиомордия моя на момент звонка имела такой красочный вид, что даже учительница математики, женщина без сердца, дородная Тамара Петровна, ужаснувшись, не отправила меня прямиком к грозному директору, а милостиво отпустила в туалет для отмывания кровавых соплей. Дома я честно поведал моей логически мыслящей и справедливой маме историю подглазных «фонарей» и о своем непоколебимом решении продолжать «переменные тренировки», и моя многомудрая мать поддержала меня. Приблизительно с месяц на меня было жалко смотреть. Как ни странно, но ни директор, ни завуч не вызывали меня. Драки на переменках и после занятий были делом обычным, и мне даже не снизили оценку за поведение в первой четверти. Но, то ли Быстрик начал жалеть меня, то ли закалилась и задубела кожа на морде лица и стала лучше держать удары, то ли я просто поднабрался боевого опыта и научился прикрываться, но дела мои пошли много лучше, и в конце второго месяца мы дрались почти на равных. Однако радость начавшихся побед, а вернее конца проигрышей была не главной в наших поединках, главным было то, что я перестал бояться ударов в лицо и, вообще, драки, как таковой, и что мои одноклассники, да что там они, - весь наш второй этаж теперь знал; - к Сквире лучше не приставать! Теперь я спокойно вставал во время постыдного допроса в начале учебного года, и уже не тихим писклявым, дрожащим от непонятного стыда и страха голоском, как это делали остальные, а громко и твердо, высоко задрав подбородок, произносил по складам: «По национальности, Любовь Адольфовна, я еврей и оба моих родителя тоже чистые евреи!» И никто в классе при этом не позволял себе произнести ни единого звука, ибо каждый прекрасно знал, что на первой же переменке его ждет дружеская встреча «из глаза в глаз». Я повторил эту личную демонстрацию человеческого достоинства , правда в несколько ином виде, совсем недавно, после отъезда на постоянное жительство в Германию. Община славного городка Фульда, приютившего меня, потребовала документального доказательства, что я чистокровный еврей. Это было из области обычного немецко – иммигрантского издевательства. Еврея по матери, то есть чистокровного еврея, хоронили на еврейском кладбище еврейской общины, быстро и недорого; еврея же только по отцу – как бездомную собаку под забором. В 1952 году моего замечательного учителя и старшего товарища, удивительного изобретателя, гения – конструктора, о котором чуть позже я непременно расскажу подробнее, с некогда знаменитой на весь мир фамилией летчика - полярника Бахчиванджи, фамилия, как вы понимаете, скорее грузинская, чем жидовская, попросили доказательств о том, что он не еврей. Всеволод Евгеньевич - так его величали, в то время был директором Рижского Автомобильного завода, а вопрос ему задал председатель госкомиссии, которая специально приехала из Москвы по доносу, что в руководстве и конструкторском бюро завода работают сплошные евреи. Всеволод Евгеньевич очаровательно улыбнулся старой грымзе, возглавлявшей комиссию, не торопясь расстегнул ширинку на брюках и выложил свое, естественно не тронутое раввинами, немалых размеров грузинское «хозяйство» перед ней на стол. Роста он был высокого, и для демонстрации «вещественного доказательства» ему даже не пришлось приподняться на цыпочки. Этот блестящий номер мог бы окончится на далеких сибирских лесоповалах, но Всеволода Евгеньевича на эту должность поставил лично товарищ Сталин, и его просто сняли с должности «за слабую кадровую политику и не понимание основных задач партии в деле развития автомобильной промышленности страны». Я не решился в Германии повторить этот увлекательный способ доказательства своей принадлежности к древнейшей и умнейшей человеческой нации, - очень уж не хотелось вновь навсегда возвращаться на свою этническую родину. Остается только удивляться, что глупость, по которой, чтобы еврею быть действительно евреем, он должен быть выходцем из чрева только еврейской матери, а папаня здесь, вообще, мол не причем, придумали те же умники евреи. А ведь генетика нам сегодня четко говорит, что именно папа закладывает в маму как в лабораторную пробирку свое родительское, кровное семя, мамочке же, как физиологическому раствору остается лишь функция выняньчивания его в своей теплой ласковой утробе. Однако по еврейско - немецкому закону родство именно по матери формально должно быть подтверждено официальной российской справкой. . Фамилия моей мамы: - Полякова, а в моей метрике образца Узбекистана 1935 года национальность родителей не указывалась.. Я подъехал к главному раввину кафедральной СПетербургской синагоги, американскому еврею и очень славному человеку, и он мне посоветовал обратиться в ЖЭК по последнему адресу проживания мамы, где в домовой книге национальность-то обязательно должна была быть указана. Любопытно, что ленинградская еврейская община после развала КГБ выразила вотум недоверия прежним раввинам синагоги, не без основания считая, что они были агентами спецслужб, и США прислала в Питер своего ставленника на должность главного раввина, Менахема Певзнера. Этот молодой человек быстро освоил русский язык, женился на очаровательной ленинградке, начал издавать великолепный журнал «Лехаим», и синагога преобразилась. Отстояв положенную в России очередь в паспортный стол, я, наконец, вошел в святая – святых этого микрорайонного храма коммунального хозяйства. За длинной стойкой важно восседали шесть девственно –непорочных, неподкупных жриц- мадам – паспортисток. --Ну? – обратила на меня свой сияющий надменностью лик одна из них. --Простите, - громко сказал я, - мне нужна справка, что моя родная мать, проживавшая по адресу, подведомственному вашей жилконторе, была по национальности чистокровной еврейкой. --Не поняла?!…Тихо простонала жрица и помутневшим от полного обалдения взором беспомощно оглядела четырех своих товарок - однокровок, так же застывших «в полном отпаде». Шестая, я мгновенно это вычислил, была носительницей того же национального проклятия, что и я. Она опустила глаза к полу, и ей совершенно очевидно стало грустно, от того, что этот славный, хорошо одетый ее соплеменник, оказался олигофреном, то есть полным идиотом, говоря по-русски. --А что тут непонятного? – так же вызывающе громко продолжил я, – мне для нашей еврейской общины беженцев в Германии нужна справка о том, что я чистокровный еврей. Из двери смежной комнаты, как оказалось кабинета руководства, вальяжно выплыла круглолицая фея с лицом серого волка из мультипликационной сказки о Красной Шапочке и задницей мамы - бегемотихи из диснеевского мультика.. --Гражданин, -- пропела она прокуренным звучным контральто, -- подобных справок мы выдавать кому попало не уполномочены. --Простите, не уполномочены кем? – не меняя тональности и силы звука спросил я. Фея задумалась, вопрос озадачил ее. --Властью, – гордо нашлась она. --Какой? Советской? – продолжил я. --А какой же еще! – сработал в ее начальственном мозгу многолетний, крепко забитый в башку номенклатурный рефлекс. И тут она безусловно была права, ведь за эти годы ничего не изменилось в кадровой политике страны. Новой демократической Россией правила та же самая, бывшая советская коммунистическая элита, те же люди, те же лица. Произошла лишь некоторая перетасовка руководящих задниц на местах. --Советская власть, мадам, в этой стране похерена годков эдак шесть назад, и хотелось бы очень надеяться - надолго, если не навсегда, а сейчас, мадам, мы с вами пребываем в глубокой… - я сделал длинную паузу -- демократии, с вашего позволения. --Псих какой–то на нашу голову, честное слово, и еще выражается по- матерному. Сообщить бы куда следует, так сразу орать бы перестал… -- забурчала она себе под нос и, как бы ища поддержки, гордо оглядела граждан из очереди, стоявших к остальной пятерке паспортисток. Однако, времечко было уже не то, и трехдневный революционный запал, все, на что хватило великий российский народ в октябре 1993 года, давным-давно угас, сменившись, как это и было в России всегда, на ленивую полупьяную апатию с точным названием – «похеризм». --Тося, сделай этому… -- она запнулась, так как совершенно очевидно на язык так и просилось – «жиду», выписку из домовой книги про… евонную мать…и пусть он идет себе…в ихнюю фашистскую синагогу. Вне всякого сомнения, вместо слова «идет» из ее прокуренного, жирно напомаженного рта так и рвалось - «катится», но, в последнюю долю секунды, ей все же удалось удержать более или менее пристойную мину, при плохой игре. Пока полногрудая паспортистка Тося, не спеша пронесла свои женские прелести вслед за начальницей в кабинет, а уж там – то, вне всякого сомнения, они перекинулись несколькими нелицеприятными словами в мой адрес, я смотрел на милую, далеко уже не молоденькую и наверняка нищую соплеменницу, глядевшую на меня с нескрываемым восхищением в один миг помолодевшими, огромными, лучезарными глазами. В ее всколыхнувшемся, выглянувшим на секунды из-под привычного, веками узаконенного смиренного гнета сознании, я, наверно, сейчас занял место национального итальянского героя - Гарибальди или украинского - Котовского, или, на худой конец, одного из иудейских братьев – героев прошлой эры - Маккавеев. Нет, я, конечно, не был героем. В это время уже не сажали за подобные митинговые глупости. Я просто, сдуру, попытался отомстить за свои прошлые обиды ни в чем не повинным, забитым властями людям, вся вина – то которых заключалась лишь в том, что господь сподобил их родиться в той же страшноватой стране, в которой родился и я. В тот момент я почему–то вспомнил моего школьного спарринг– соперника Быстрика. Вспомнил забавную историю, которая произошла с ним лет через тридцать после окончания школы, и невольным свидетелем которой я случайно оказался. --------------------------------------+---------------------------------------Раньше каждый бежал на подмогу, если колокол звал вечевой; отзовется сейчас на тревогу только каждый пузырь мочевой И. Губерман Я играл свои авторские концерты в Ялте. Семидесятые Брежневские годы на украинском курорте были знамениты своими «нравственными устоями». После 21 часа нельзя было находиться на пляже! В номер гостиницы посторонних – ни, ни! «Кустотерапия» каралась 15 сутками принудработ плюс письма на работу или по месту учебы обоим! Карточные игры на пляже и в номерах заведений для отдыха трудящихся карались страшнее нынешней продажи наркотиков! Подвыпивший на улице – враг советского общества! На югах же самая непримиримая борьба велась с подражателями «развратной западной культуры», - любителями шорт! На непримиримую войну с этим страшным злом были брошены все роды милицейских войск, морально подкованные пенсионеры – герои крымского Перекопа, ветераны войны и труда и, естественно, передовой отряд советской молодежи – комсомольцы – добровольцы, они же оплот местных народных дружин и, даже , просто местная шпана. На ночную охоту за «голоштанниками» выходили даже со служебно- розыскными собаками, ибо то, чего нельзя разглядеть в темноте, то по ненашенскому запаху учует незабвенный вечный друг ментов и пограничников типа незабвенного Карацупы, - овчар местной гебистской выучки, кобель Мухтар. Итак, иду это я себе по Ялтинскому «променаду» и гляжу, трое дружинников хватают за руки невысокого, худощавого человечка с обширной круглой лысенькой на темечке, в коротких шортиках, явно ихуевого, западного покроя. Человечек этот довольно энергично пытается им что–то объяснить, однако, даже из моего далека видно, что доблестные стражи порядка и не думают слушать чушь, которую он несет в свое оправдание, и лихо заламывают ему «белы ручки» за спину. Дальше, однако, экспозиция резко меняется, и все происходит , как в хорошем американском боевике: человечек точным ударом в пах выключает здоровенького мальчика, стоящего перед ним, затем молниеносным ударом затылка превращает нос стоящего за ним верзилы в кровавое месиво и коротким, почти неуловимым для глаза ударом в солнечное сплетение прочно и надолго сажает на асфальтовую дорожку променада третьего дружинника. Затем «делает ноги» и исчезает в близстоящих кустах. Восхищенные свидетели из передовых слоев городской кухонной интеллигенции, которая во все времена сочувствовала любому сопротивлению представителям власти – с ихней гнило – интеллигентской точки зрения «аппарату насилия над личностью», тут же объединились в единый базар и, на всякий случай, испуганно зыркая по сторонам, принялась в голос возмущаться незаконной запретительской деятельностью «оборзевших» местных властей. Однако, находящиеся поблизости заслуженные пенсионеры от всякого рода тяжелых физических работ, безоговорочно приняли сторону дружинников, защитников незыблемой, самой моральной в мире советской морали. Я не стал задерживаться, понимая, что дискуссия затянется на много часов и повернул на небольшую дорожку, ведущую от моря в заросли парка. Каково же было мое удивление, когда на первой же скамейке я обнаружил героя, только что прокрученного боевика, спокойно, как будто пять минут назад с ним ничего и не произошло, читавшего местную газету. Я подошел к нему, дабы отдать дань восхищения «настоящему человеку», и с изумлением обнаружил, что передо мной сидит никто иной, как Витька Быстрик! Нет, конечно, некоторые сомнения были, все же, как ни говори, тридцать с лишком лет бесспорно способны существенно изменить внешность любого человека, однако бойцовского начала черты лица, всегда определяющие суть моего школьного соперника Витька, - природа изменить не смогла, как ни старалась! Витек тоже сразу узнал меня, но город был заклеен концертными афишами с моей тогдашней физиомордой, и встреча с его стороны была ожиданной. Мы радостно обнялись и, перебивая друг друга, ударились в воспоминания. Я обратил внимание, что в широкой улыбке моего друга не хватало одного переднего зуба и спросил. не здесь ли он его, случаем, потерял? - Не далее, как вчера, - кривовато улыбнулся он. – Забрали суки менты и отволокли к себе в дежурку. Я думал договоримся похорошему, все–таки интеллигентные люди, да и Ялта - не Колыма. Но эти местные гады полностью осолопели от солнца, фруктов и полной безнаказанности. Заломили бугаи руки за спину, нацепили наручники и пошли меня лежащего метелить ногами. Один, сука, вообще, разошелся и вломил мне чем–то тяжелым по зубам. Пришлось один передний оставить им на недобрую память. Да черт с ним, у меня дружок в Ленинграде - зубной техник, если живым приеду - сообразит новый, не хуже старого. - И ты этому живодеру простишь? Можно же пойти к начальству, в конце концов ты же не бандит с большой дороги. Хочешь я попробую помочь, у меня визитка спецкора « Крокодила», а они этого и здесь наверняка боятся. - Не делай лишних движений, я с тем уже разобрался. Они сами напугались, что перестарались. Ребра в синяках, зуб выбит, кровища, ну и отпустили. Я в туалете помылся, подождал пока товарищ пойдет после смены домой и тихонечко, по вечерку проводил его до парадной. Ну, а там мы с ним немножко душевно побеседовали, думаю, ему надолго этот разговорчик в память западет, если, конечно, он дураком не стал. - И ты не побоялся сегодня выйти в город, да еще снова в шортах? - Волков боятся… Я, Сквира, если ты еще не забыл, всегда был не из пугливых. Сегодня, конечно был перебор, но они же сами напросились. Не понимаю я здешний народец, ну пошел «дружинить» за день отгула, так и гуляй себе и гуляй по свежему морскому воздуху. Клей себе на красную повязку хорошеньких дамочек, благо, что они здесь голодные, как волчицы. Так нет же, неймется людям…Но похоже, тут я действительно чуток перебрал, завтра надо с утречка линять в Алупку. Я не стал спрашивать Витька, где он так дообразовался в защите и нападении. Пригласил его на свой сегодняшний концерт, а потом в гостиницу вспомнить за стаканом школу. Оставил ему на контроле контрамарку и постарался подобрать репертуар поострее, что могло мне на ханжеской Украине выйти боком, несмотря на липовую «крокодильскую» визитку, но он, как видно, не пришел, Во всяком случае, не подошел ко мне после концерта. С тех пор я его больше не встречал. Кто–то из школьных друзей сказал, что Витек научный работник и очень толковый. Вот с каким «бойцовским петухом» я в детстве пытался выбить из себя всеподавляющее чувство страха. -------------------------------------+-----------------------------------------------В школе я начал две карьеры: спортивную и эстрадную. Нет вру, - еще, пожалуй, и комсомольскую. Комсомольцем я был вполне искренним, и именно благодаря этой, столь разноречивой, но достаточно мощной и интересной организации я испытал два, пожалуй, самых ярких момента в своей жизни – первый выезд за рубеж и первую тюрьму. В спорт я пришел случайно. Началось все с первой поездки в Андижан в 1947 году летом. Это был самый голодный послевоенный год. В Ленинграде буханка хлеба стоила 100 рублей, а отец мой, тогда уже управляющий крупного треста, получал около трех тысяч в месяц. Про мясо и масло я, вообще, уже не говорю, а цены на носильные вещи, которые можно было купить только у спекулянтов, витали где–то в заоблачных высях. Мать, списавшись со своим отцом, мудрым дедом Соломоном, жившим в Андижане, решила на летние каникулы вывезти нас с Фелом на солнце и фрукты. Дед занимал в Узбекистане высокую и, будь он хоть чуточку менее щепетильным, очень «хлебную» должность. Он был главным уполномоченным по вывозу сухофруктов из этой южной республики в Россию. Его многочисленные «замы» купались в роскоши, имели собственные дома с садами и огородами, пользовались служебными автомашинами, и несмотря на строжайшие партийные запреты, имели по две – три семьи. Дед снимал три комнаты в доме украинской семьи, ходил пешком, имел полусумасшедшую жену Мусю и ораву халявщиков дальних родственников, которые жили у него в Ташкенте, еще во время войны, и возвращаться по ее окончании в голодную Белоруссию и Одессу не собирались. Вывезенные ими когда–то в эвакуацию довоенные, а, вернее, дореволюционные бабушкины драгоценности были уже давным-давно проедены. Дети подросли и учились в местной школе. Взрослые физически работать не хотели - не привыкли, а на занятие «этееровских» должностей, по всей вероятности, недоставало ума, а скорее, было слишком много лени. Дед Соломон был человеком великой совестливости и доброты, и выгнать всю эту поганую братву ко всем чертям - у него не хватало духа. Он терпел и кормил всех этих засранцев. Излишняя порядочность мешала ему всю жизнь. А гипертрофированная щепетильность, как показывает практика, - крайне вредная штука! Итак, дед Соломон мужественно терпел. Он не разу никого из них не попрекнул дармовым столом и собственными неудобствами. Ни единым словом или жестом не намекнул, что, мол, пора бы и совесть знать. Нет, нет и еще раз нет! Вот таким он был евреем! Не знаю, был ли действительно «железным» туберкулезник и революционный палач Дзержинский Феликс (что-то многовато у меня Феликсов получается в уже самом начале воспоминаний, а ведь будет, если допишу до конца, как минимум еще парочка), но мой славный дед Соломон был, вне всякого сомнения, выкован из высших сортов бессемеровской стали. Сравнить его нечеловеческое терпение и выдержку я могу, разве что, с древнегреческим героем Прометеем. А в качестве безнравственного обжоры и лакомки босяка – орла, в моей легенде безусловно выступит его вторая супруга, мачеха моей мамы – незабвенная Мария Соломоновна Полякова, или, попросту, Муся. Муся начала усердно клевать дедову печень, когда моей матери было четырнадцать лет. Нельзя сказать, что делала она это самозабвенно. Нет, скорее так, походя. Есть-то что–то надо было… И, к тому же , лучше каждый день… Дед, как истинный герой, пошел на эту пытку добровольно, сродни поступку Христа. Так же как Иешуя, он четко знал, на что он себя обрекает в новом браке, после трагической и поистине героической гибели его первой жены , моей родной бабушки.. Муся была детской писательницей. Вернее, она считала себя таковой. Правда, находились люди среди тогдашних чиновников от литературы, которые в глубине души, может быть, и не совсем разделяли ее незыблемую веру в мощь и красоту собственного пера, но им очень импонировала «точно направленная» коммунистическая тематика ее произведений. В основном Муся писала про подвиги пионеров – тимуровцев. Про их одухотворенные лица, алые галстуки, цвета пролитой рабочими и крестьянами крови в борьбе за счастливое Сталинское детство детей и всего трудового народа. Она была влюблена в бессмертный подвиг Павлика Морозова, и если бы была возможность, наверняка усыновила бы этого героя – предателя собственного отца (естественно, до того момента, когда разгневанный папаша сам не прирезал оболваненного большевистской пропагандистской машиной недоноска выкормыша). О Павке Корчагине она не могла говорить без слез, а на беднягу Лазо в одном из своих рассказов надела красный галстук, и в таком наряде отправила героя в топку паровоза. Оборзевших жлобов - родственников Муся попросту не замечала. Она на героических примерах советской молодежи помогала партии воспитывать высоконравственных строителей славного и очень светлого коммунистического будущего и, не прибегая к услугам крылатого пегаса, а просто размахивая маленькими ручками, с крепко зажатыми в коротких пальчиках листочками писчей бумаги вместо лошадиных перьев, легко порхала в окололитературных облаках. Она была беспартийной, но, упаси господь, не в силу своих антисоветских убеждений, а потому, что советская власть, на всякий случай, в 1936 году попридержала ее неугасимый темперамент на парочку лет в Колымском лагере, – скорее всего по ошибке, а, может быть, просто для профилактики. Вышла из–за колючей проволоки Муся столь же жизнерадостной и идейной, какой была и раньше. Она не любила вспоминать о днях лишения свободы, – жизнь ее, маячившая впереди, переливалась радужным розовым светом и казалось прекрасной, и этого ей было более чем достаточно. Муся всю жизнь прожила в мире идиотских грез. Узбекская республика была ей очень признательна и высоко оценила творчество. В 1940 году ей торжественно вручили переходящий приз: «Лучшая детская писательница Узбекистана»! Это окончательно заставило ее поверить в свой бесценный литературный дар и правильно выбранное направление писательского пера. Больше никогда, до глубокой старости и смерти она не сворачивала с этой светлой дороги. Правда, надо отдать ей должное, - прекрасных человеческих качеств в ней тоже было не мало. Муся была патологически добра. Самой большой после литературы страстью ее были подарки. Она беспрерывно, самозабвенно одаривала всех подряд, и если день обходился «без дарения», – он был днем, выброшенным из жизни. Дарила она все, что попадалось ей под руку: булавки, конфетку, пачку чая, собственную шляпку, старый чемодан, свое, пусть даже ношенное, но, конечно, чистое нижнее белье, скатерки, дворовых котят и щенков, книжную полочку с барахолки, ложки, вилки и салфетницы, короче все, что можно было вынести из дома. Так алкаши обносят собственные дома, добывая деньги на спиртное. Дед работал на родственников, на пропитание собственной семьи и на Мусины подарки. Она была вечно голодна, так как отдавала кому–то или просто нищим свой завтрак, любовно приготовленный для нее утром, перед уходом на службу, дедом. Или тащила в столовую, а после войны в «кафешку» всякого, кто в обеденное время оказывался рядом с ней. Однако, несмотря на бесконечное недоедание она до старости была толстушкой с прекрасным цветом лица. Муся пережила деда лет на десять, и в 72 года еще раз вышла замуж за 76 летнего толстяка, с которым не помещалась в кровати. Однако в первом же письме к моей матери она сообщила, что Котик, так она называла своего очень смешно хрюкающего пузанчика-мужа, совершенно обворожительный мужчина в постели. Котик был патологически жаден. Мусины подарки буквально сводили его с ума. А она по–прежнему писала про замечательных местных пионеров – тимуровцев и покупала им на его и свою нищенские пенсии пирожные к чаю. Однажды он не выдержал очередного чаепития и умер от разрыва сердца. У добра оказалась злая изнанка! Я с детства любил Мусю. Любил ее незатейливые сусальнопатриотические очерки и рассказы о прекрасных советских ребятах. Сам чувствовал себя таким же героем и хотел во всем подражать им. Как всякий ребенок, я обожал ее и за бесчисленные подарки, и один из них впоследствии «запустил» меня в «большой спорт». Случилось это так: сразу по приезду с братом и мамой в Андижан, Муся с дедом пошли показывать нам город. В витрине одного из магазинчиков я увидел пневматическую винтовку. Мне показалось, что у этой витрины жизнь моя закончилась. Я замер с остановившимся сердцем у волшебной витрины, и оттащить меня от нее было невозможно. Винтовка была с нарезным стволом и стоила по тем временам недешево. Дед был в нерешительности, но Муся немедленно затащила его в магазин и через десять минут заветная игрушка, несмотря на протесты мамы, оказалась у меня в руках. К ней дед купил мне два килограмма дроби нужного диаметра и пачку ваты, так как при выстреле каждую дробинку надо было завернуть в нее и смочить слюной для большей герметичности заряда. Первым же выстрелом я уложил соседскую курицу за забором, за что был дедовским ремнем основательно выдран мамой. Третьим - укокошил воробья, которого немедленно уволокла и слопала соседская кошка. А через неделю, уже не дед Соломон, а я стал главным кормильцем всего населения дедовской колонии. За пару, тройку часов я набивал до сорока воробьев. Эти жулики склевывали посевы на колхозных зерновых полях, и узбеки были мне очень благодарны за охоту. В удачный день в придачу к воробьям я получал десять-пятнадцать початков кукурузы, а иногда дыню или арбуз. Мама ошпаривала птичек кипятком и чулком легко снимала с них шкурки вместе с перьями. Трех-четырех десятков маленьких тушек с картошкой или кукурузой хватало на сытный обед для всего кагала. В течение трех каникулярных летних месяцев я был в нашей колонии героем дня. По возвращении в Ленинград я решил было продолжить свои охотничьи подвиги, но не тут–то было. Город не поле, дробинка могла ненароком залететь в чей–нибудь глаз, и родители категорически запретили мне выносить любимое оружие из дома. Дома, по стенкам и окнам тоже не постреляешь и я, помозговав, очень симпатично решил эту проблему. В конце второй комнаты ставился большой таз с водой, и в это «море» запускались парусные корабли из ореховых скорлупок. Благо орехи из Андижана нам регулярно посылками отправлял дед. До флотилии от противоположной стены было метров двенадцать, так как стрелял я через проем двери из первой комнаты. Через пару месяцев непрерывных «морских сражений» я бил вражеские корабли с первого раза без промаха. Мои дворовые друзья тоже намастрячились стрелять метко довольно быстро, и для того чтобы быть первым, а с тщеславием у меня всегда было все в порядке, я начал учиться стрелять, держа винтовку в одной руке как пистолет. Можете поверить на слово, что для пацана моего возраста это было совсем не так просто. Морскими боями я баловался еще несколько лет и с удовольствием поиграл бы в эту увлекательнейшую игру и сейчас, и, когда в седьмом классе нас повезли в тир на занятия по стрельбе из малокалиберного оружия, я, к изумлению школьного военрука, с первого же раза «выбил» второй взрослый разряд из винтовки и не дотянул двух очков до первого из пистолета . Так через месяц я был уже в сборной взрослой команде города по стрельбе из пистолета, имел первый разряд и стрелял «по – мастерам». Это был первый случай в истории ленинградского пистолетного стрелкового спорта, и, по–моему, последний. Мне только что стукнуло 14 лет. Война, блокада, голодный Ташкент, тяжелые послевоенные годы в Ленинграде наградили меня каверной в легком, и врачи посоветовали маме отдать меня в бассейн. Сильная концентрация хлора в воде, закалка организма и физическое развитие, с их точки зрения должны были содействовать быстрому заживлению легочной раны. Врачи не ошиблись, я действительно здоровел на глазах. Но к успехам лечебным прибавились и успехи чисто спортивные. Неожиданно для себя самого я через три года выиграл первенство Ленинграда среди мальчиков. На следующий год среди юношей, и далее в течение шести лет первый городской приз в брассе принадлежал мне. С плаваньем связаны довольно забавные истории в мои студенческие годы, и я попозже с удовольствием попробую о них рассказать. Правда, совсем недавно, буквально в прошлом, 2000 году былые заслуги пловца сыграли со мной печальную шутку, которая только чудом не закончила мой бренный путь на этом свете. -----------------------------------+----------------------------------------С азартом жить на свете так опасно, Любые так рискованны пути, Что понял я однажды очень ясно: Живым из этой жизни не уйти. И. Губерман. Питерский приятель, заехав к нам в гости в очаровательную немецкую Фульду, вытащил меня на юг Франции в Ниццу. Средиземное море встретило нас небольшим штормом, что нередко бывает в конце сентября, и на море мы выползли только на третий день. Ветер стих, и на диком пляже в центре Ниццы кроме нас на голой крупной гальке собирали последний загар всего лишь несколько человек. Остаточная послештормовая волна была еще достаточно высокой, и девятый вал прибоя был, пожалуй, не ниже двух с половиной метров, что для купальщиков крупнокаменистого пляжа, более чем опасно. Ни у меня, ни у моего товарища вопрос о купании, естественно, не возникал, и мы просто наслаждались солнцем и набережной «южной жемчужины» Франции. Вдруг молодая и, видать, очень неопытная парочка, переждав самую высокую волну, по глади отлива заскочила в море, и откатное течение, подхватив их, мгновенно утащило метров на 25– 30 от берега. Девушка сразу же начала истошно верещать, однако ее кавалер и не думал помогать ей бороться с течением и, бросив на волю волн, сам, по всей вероятности неплохой пловец, начал в одиночку истово бороться с морем, шкурно спасая собственную жизнь. Какой-то молодой, спортивно сложенный парень, может быть, также из компании этой девочки, бросился ей на помощь. Однако, то ли от волнения, то ли он просто не рассчитал волну, но прибой поднял его на гребень, перевернул вниз головой и с размаху ударил о береговые камни. Хрустнули шейные позвонки, и юноша погиб мгновенно. Еще какой–то мужчина вместо того, чтобы попытаться вызвать спасательную службу, удачно заскочил в море, но, почему– то, не поплыл к девушке, а просто перевернулся на спину и спокойно качался на волнах. Девица продолжала истошно кричать, и мое больное, уже никудышнее сердце не выдержало. Я встал, подошел к воде, и не успел мой приятель схватить меня, старого идиота, за ногу, как я, переждав волну, удачно впрыгнул в море. Думал ли я, безмозглый кретин, в этот момент, что этот «подвиг» мне уже давным-давно не по плечу? Рассчитал ли я свои силы? Конечно, нет! Я только слышал истерические вопли девицы на непонятном мне языке и помнил, что я хороший пловец и утонуть просто не смогу! Сердце сдавило сразу же, и почти без дыхания я добрался до девушки. Она тут же схватила меня за и без того не дышащее горло и благодарно затихла. Это конец, с каким–то наивным удивлением подумал я, и чисто инстинктивно, резко и достаточно сильно, как-то изловчившись, ударил ее по лицу. Она отпустила меня и заорала еще сильнее. Как ни странно, но этот, отнюдь, не джентльменский поступок на несколько минут вернул мне дыхание, и я смог доплыть до маленького детского надувного круга, брошенного кем–то с берега. К кружку была привязана короткая веревочка. Я вернулся к девушке и отдал ей спасительный круг. Она цепко ухватилась за него, не подпуская меня на расстояние вытянутой руки, и я понял, что с ней будет все в порядке, она на- плаву, и теперь спокойно дождется спасателей. Со мною же дело обстояло, куда как хуже. Дыхалку опять заперло, руки и ноги отказывались работать. Я понял, что если через пол–часика не подоспеет подмога, - мне конец. Но на этот раз меня спасла виновница незапланированного купания. Она по–прежнему продолжала истошно кричать, и ее душераздирающие вопли заставили кого–то из лежащих на берегу местных аборигенов дозвониться по хенди до спасателей и вызвать их и медицинскую помощь. Два примчавшихся молодца обвязались веревками, надели спасательные жилеты и вполне профессионально, с помощью пляжных зевак достаточно оперативно выволокли три тела на берег. Третьим был мужчина, который вошел в море вторым, но не доплыл до девушки. У него бедняги, почему–то остановилось сердце. Видно, он был из тех же «героев», что и я. Господь не обошел судом и предателя – парня девушки. Море так хрястнуло его мордашкой о камни, что от былой красоты личика осталось совсем немного. Я же минут сорок не мог сказать ни бе, ни ме, и два месяца после возвращения в Германию провалялся в постели. Свои незыблемые законы природа делает не для дураков, даже если в далеком прошлом они были чемпионами. --------------------------------------+-------------------------------------В то андижанское лето имел место быть весьма любопытный эпизод. Хозяин дома, который снимал дед Соломон для себя и всей оравы родственников, громадного роста и физической силы хохол, был страстным охотником. Ходил он километров за 50 в предгорья Памира и там в зарослях камышей бил кабанов, а, заодно, как правило, отстреливал в тех же камышах несколько крупных фазанов. Кабанчики тоже были неслабые, обычно килограмм эдак на 100, а то и более. На охоту он запрягал в арбу малорослую, но удивительно сильную и выносливую горнопроходческую кобылку, которую в свое время взял за три кабаньих туши. Лошадка была наверняка краденая, ибо выменял он ее у пришлых цыган. Он любил рассказывать об этой выгодной сделке, и потому я запомнил эту историю. Я, конечно, страстно мечтал поохотится вместе с ним и без конца канючил об этом все лето. В конце августа его сердце или терпение не выдержало, и он велел мне быть готовым к четырем утра. Я почистил проволокой свою «снайперскую» винтовку. Насыпал в мешочек две горсти дроби, утащил у Муси полпачки хлопковой ваты и выклянчил у нее же ее любимый старенький шотландский плед, чтоб не замерзнуть ночью в горах. Мама без причитаний, ибо таковое было несвойственно ее сильному характеру, приготовила мне сухой паек из вареного риса, куска подсолнечного жмыха, хлеба, пяти вареных картофелин, фруктов и воды. До места добрались мы почти к вечеру. Переночевали, как положено настоящим охотникам, у костерка, с чаем в закопченном котелке, и рано утром хозяин с тульской двустволкой двенадцатого калибра, а я со своей 5,6 миллиметровой «воздушкой» разошлись в разные стороны, каждый за своей добычей. Пределом моих мечтаний был, конечно, красавец фазан с хохолком на аккуратной головке и пышным хвостом, но понимая, что уложить его с моей огневой мощью практически невозможно, я был согласен на горлицу, - дикого голубя или, в самом крайнем случае, на пару десятков жирных воробьев. Хозяин оставил мне свой компас, но в пылу охотничьего азарта забыл показать, как им надо пользоваться. А посему, заблудился я в высоких камышах сразу, не отойдя от арбы и на сотню метров. С дичью было плохо. Воробьи в камышах не летали; горлиц и голубей не было и в помине; фазаны, по всей вероятности, готовились к встрече с хозяином и мною пренебрегали, и только сволочная ворона, добрый час поиздевавшись надо мной, с прощальным криком сбросила на плечо крупный бело–зеленый жидкий комок помета и улетела ко всем чертям в горы. Еще через час я понял, что заблудился окончательно, и что хозяин меня, конечно, не отыщет в этом непроходимом скопище камыша. Я отчетливо представил свой белоснежный скелет, обглоданный тушканчиками и загаженный дерьмом этой мерзкой вороны, и мне стало до жути жаль себя, маму, отца и деда Соломона с Мусей. Я сел на землю и тихонечко завыл от страха, безвыходности и невыносимой тоски. И вдруг, в тишине предгорного утра, нарушаемой только жидким стрекотом цикад, я совершенно отчетливо услышал чавканье и подфыркивание нашей славной лошадки. Через пять минут я уже сидел в тени арбы, с наслаждением сосал и грыз каменной крепости жмых, и не было на всей планете человека счастливее меня. Выстрелы хозяйской двустволки раздались настолько внезапно, близко и громко, что я от неожиданности чуть было не наложил в штаны. В камышах что–то громко зашелестело, затопало и прямо на меня выскочил раненый огромный серо-черный кабан. Ученые говорят, что у человека, а может быть и у всей остальной земной живности, есть некое, заложенное в генах самой природой, седьмое или восьмое чувство самосохранения, называемое «кладовой экстремальных возможностей». То есть, если за тобой бежит здоровенная собака, то даже, не умея прыгать вообще, ты можешь скакануть метра на два в высоту и перескочить через крутой каменный забор. Так вот эти мудрые дяденьки и тетеньки оказались и на этот раз правы. Я в долю секунды оказался на высокой арбе и с мокрыми штанами стал свидетелем зрелища, которое, дай бог, выпадает из доброй сотни тысяч охотников одному, да и то - раз в жизни! Раненный в голову кабан начал кружить вокруг арбы. Вусмерть испуганная лошадка встала на дыбы и пыталась долбануть его подкованным копытом. Из длинного раскрытого шва раны хлестала кровища. Видно, свинцовая пуля отрикошетила от мощной лобной кости зверя, располосовав лишь кожу головы. Из камышей выскочил хозяин и в упор, не целясь, выстрелил подряд из двух стволов. Кабан остановился, дико захрипел и, сумасшедше вращая глазами, бросился на обидчика. Я дико заорал от ужаса и, то ли от этого безумного вопля, то ли от боли вепрь на секунду приостановился. Гигант-хохол поднял за стволы ружье, и как когда–то первобытный человек орудовал дубиной, - долбанул кабана прикладом по башке. От страшного удара грушевый, железной крепости приклад ружья разлетелся в щепки. Кабан замер, замотал головой и сел, совсем как человек, на задницу. Хозяин мгновенно вставил два патрона в оставшееся железо и взяв раскуроченное ружье за стволы, всадил вепрю два жакана в живот. Битва была закончена. Хозяин деловито, так, как–будто такое случается с ним каждый день, вынул из кожаных ножен тонкий и острый как бритва узбекский нож – пчак и начал спокойно и деловито обрабатывать еще неостывшую тушу. В домашнем пересказе этой битвы и я тоже был отмечен как герой, ибо из скупого рассказа хозяина всем должно было стать ясно, что исход поединка решил именно мой богатырский крик, остановивший великана вепря. В школьном же варианте этой сногсшибательной охоты получилось так, что кабана убил я, точно попав ему в зрачок глаза дробиной из своей «воздушки», а хозяин просто для верности долбанул вепря прикладом и со страха пальнул в него, уже дохлого, из двух стволов. Через три дня я вновь стал героем дня, так как мама из доброй сотни воробьев и двух мосталыжек кабана сварила царский холодец, и с наслаждением пережевывая мягкие воробышкины косточки каждый из сидящих за столом понимал, что без Веньки этого лукуллова пира не было бы и в помине. В третий раз я вновь побывал в Андижане уже в качестве автора – исполнителя своих монологов для эстрады в начале восьмидесятых годов, но еще до Горбачевской «перестройки». Дом деда я не нашел, да и улицы такой уже не было. Город вырос в несколько раз и стал довольно крупным промышленным центром. Однако он по–прежнему остался узбекской глубинкой, и 90% населения практически не владела русским языком. Вехой мне мог бы послужить старый, еще с военных лет аэродром. Он был тогда в сотне метров от нашего дома, и там, как минимум раз в неделю, хоронили очередной экипаж разбившегося самолета. Молодых мальчиков – курсантов летного училища. Аэродром был учебным, и летали курсанты на старых, давно отслуживших срок английских «Дугласах», полученных сразу после войны по «Лендлизу». Механиками, инструкторами, да и курсантами были в основном узбеки, а отсюда и гробы. Но аэродрома давно уже не существовало, и никто из местных не мог мне толком объяснить, где же он раньше находился. Так и ушло в небытие мое счастливое детское охотничье лето. --------------------------------------+----------------------------------------В этот, уже актерский приезд 1984 года со мною тоже произошла забавная история. Гастролировал я тогда от Псковской филармонии. Как я туда попал – это уже отдельный рассказ, до которого я еще, может быть, и доберусь. Гастролером в России я был прибыльным. Имена Аркадия Райкина, Геннадия Хазанова, Клары Новиковой и в то время очень популярных в народе «Мавриикиевны с Никитичной»,на моих афишах, то есть артистов, автором которых я являлся, практически в любом зале страны делали большие сборы, и филармонии почти всех республик приглашали меня с большим удовольствием. Гастрольной тематике, которая заняла 15 лет моей жизни, я намерен посвятить в этой книжке особое место, но в данном случае хочу закончить Андижанскую эпопею. Администратором в ту пору был у меня Миша Кудряшов. Человек неординарный, продюсер мировой, хотя человеческих качеств не высоких . В свое время он «прославился» тем, что работая главным администратором ленинградского Мюзик–Холла, повздорил с известным эстрадным певцом, тогдашней «звездой», - Сергеем Захаровым. Для Миши эта ссора закончилась отбитыми гениталиями, а «эстрадная звезда» отсидел год на «химии». Эта история облетела всю страну и, несмотря на то, что красавец певец был (и вполне заслуженно) кумиром практически всех женщин Советского Союза, Миша стал одиозной фигурой, так как голос – голосом, а мужское достоинство – мужским достоинством. Пой сколько хочешь, но яичники наши – не трожь! То есть, как гласит индусская народная поговорка в устах героев Маугли: «Отелло промахнулся»…» У Миши было «море обаяния», а так же колоссальные связи в эстрадном мире, и он договорился с Узбекистанконцертом о месячных гастролях в столице республики Ташкенте, в Самарканде и Бухаре. Поездка обещала быть волшебной, тем более, что обе бывшие узбекские столицы были родинами моих дедов. Однако, по прибытии в нынешнюю столицу Узбекистана, на мою родину, выяснилось, что город и так забит российскими гастролерами, и круглый идиот - начальник концертного отдела перевел наши железнодорожные рельсы на провинциальный, сугубо узбекоязычный Андижан. Там нас встретил высокий красивый парень по имени Анис директор местного филиала филармонии. Юноша этот оказался административным гением и впоследствии сделал головокружительную карьеру в Москве. О нем я тоже постараюсь далее рассказать подробнее; это того стоит. Кроме Миши со мной приехал ленинградский композитор Сергей Касторский. Песни он писал неплохие, и несколько его шлягеров были в то время у всех на слуху, но характер он имел капризный и в поездке доставил нам много ненужных хлопот. На первых трех концертах в зале сидело человек по десять, а так как концертные ставки у нас были высокие, а я, вообще, получал за концерт больше, чем в то время Алла Пугачева, то филармония терпела значительные убытки, и ни в чем не повинный Анис мог получить нагоняй от своего безголового начальства. Однако контракт - есть контракт, и отправка нас обратно в Псков с нарушением контракта стала бы Узбекистанконцерту еще дороже. Анис выкручивал себе мозги и готов был воткнуть нас куда угодно, лишь бы не прогореть так сильно. На пятый день он с виноватой физиономией подошел ко мне и робко спросил, не откажусь ли я без Касторского выступить на свадьбе дочери секретаря Обкома Партии Андижана, ибо за это выступление филармония могла бы получить из фонда управления культуры города как за пять полновесных концертов. Я, конечно, его успокоил и сказал, что мне это даже интересно. На следующий день черная обкомовская «Чайка» с помпой доставила меня с Анисом к месту свадьбы. Вместо большого зала устроители торжества закрыли с торцов красиво расцвеченными заборами улочку старого города. С обеих сторон она была огорожена высокими дувалами (стенами дворов). Длина этого «зала» под открытым небом была не менее 200 метров. Вдоль стен стояли длиннющие сбитые столы, за которыми уместилось не менее тысячи гостей. В центре стоял еще один большой красивый стол для жениха с невестой и их самых близких родственников. Времечко в стране было далеко несытое, но столы буквально ломились от еды и питья. Такого изобилия «жратвы» я не видел в своей жизни никогда. Даже знаменитое «застолье» в показушных Сталинских «Кубанских казаках» не шло ни в какое сравнение с этим праздником для живота. Недалеко от «торжественного стола» находился «главный стол», за которым разместились «самые уважаемые гости» и, в том числе, партийные бонзы из соседних городов. В дувале напротив стола жениха и невесты был сделан проем и образовано что–то вроде небольшого дворика, в котором разместился ансамбль народной музыки. Там же в сторонке усадили на табуретках и меня с Анисом. Так же, как и ансамблю, нам была отведена роль рабов – негров. И вот в этом месте я должен рассказать об одной маленькой, но необычайно важной «детальке», которая на добрые 10 из 15 лет гастрольной жизни расцвечивала мое существование, а, порой, и спасала, если не жизнь, то свободу. «Детальку», благодаря которой я сделал совершенно посторонним, незнакомым мне людям массу добрых дел, и не будь которой, – один господь знает, как сложилась бы к сегодняшнему дню моя судьба. Самое смешное заключается в том, что ни в одной стране «нормального мира», я не включаю в это понятие «соцлагерь», эта скромненькая «деталюшечка» не имела бы ровным счетом никакого значения. Более того, когда я рассказывал эту, с моей точки зрения, забавную историю и подобные ей моим буржуазно- закордонным друзьям, они, как не силились, не могли понять, в чем же здесь собачка зарыта. А дело было так: мой приятель, тоже писатель – сатирик, работал внештатным корреспондентом журнала «Крокодил». Каждый житель нашей страны знал, что это «сатирическое» издание являлось рупором ЦК КПСС, через который его идеологи вещали народу «нужную каждому советскому человеку, самую острую, самую правдивую из всех многочисленных возможных правдивых правд правду ». И если фамилия какого–нибудь провинившегося (опять же с точки зрения идеологов того же ЦК КПСС) руководителя появлялась сегодня (даже вроде бы невзначай) на страницах очередного номера, – завтра он уже не был членом партии и, естественно, становился безработным изгоем. Друзья, знакомые и просто сослуживцы не только переставали с ним общаться, здороваться при случайной встрече, они просто переходили на другую сторону улицы, завидев его издалека, или садились в соседний вагон метро, троллейбуса или трамвая. Мило и ненавязчиво переданная через секретаря приемной скромная визитка корреспондента «Крокодила» или просто сочетание этих, таких простых и так подходящих друг другу слов, сказанных по телефону, вселяли в руководителя учреждения любого масштаба и высоты панический ужас. Даже просто ничего не стоящая фраза, брошенная просто так, для красного словца в справедливом негодовании рядовым, ничего из себя не представляющим покупателем в лицо хаму, ну, скажем, от торговли: - «Я на вас, сволочей, в «Крокодил» напишу!» - и та, иной раз, «срабатывала». Итак, мой приятель – журналист пригласил меня посидеть за рюмкой с бутербродом в какой – нибудь более или менее приличной забегаловке с разговорами «за жизнь». Было это в городе Свердловске (ныне Екатеринбурге). На дворе трещал тридцатиградусный мороз. Я случился там на гастролях с наипопулярнейшим по тем годам ансамблем «Поющие гитары». На пути нам попался какой–то, сейчас уже и не помню, солидный, центрального толка ресторан. Время для попадания в такого класса заведение было поздноватое. Не успел я открыть рот, как усатый министр – швейцар, согнувшись в совершенно не подобающем его сану поясном поклоне, широко распахнул перед нами тяжелую дверь. Я, решив, что ливрейный начальник либо переподдал на боевом посту, либо принял нас за невесть кого другого, удивленно проследовал за коллегой по перу. Однако удивление мое поднялось выше всяких границ, когда метрдотель, едва завидев моего товарища, изобразил на лице невыразимую словами радость и радушие и, нежно взяв его за пальчики руки, кланяясь на ходу, подвел и лично усадил нас обоих, предупредительно задвигая под зады бархатные стулья, за резервный столик. Официант уже нес нам графинчик и какой–то вполне пристойный закусон, а руководитель оркестра, почему–то подмигнув не ему, а мне, заиграл что–то очень мелодичное, родное и интимное, хотя, когда с нас осторожно и архи вежливо снимали в гардеробе шубейки, музыкальный грохот в зале стоял неимоверный. -Терпеть не могу громкой музыки, - опрокинув сходу первую рюмку без закуски и блаженно выдохнув сладкие водочные пары, скромно заметил мой товарищ - корреспондент. Учись, как надо жить в этой сра..ой стране, друг Веня, говорил он мне через пол часа после пятой или шестой рюмки мягкой дефицитнейшей «старки»: - Когда будем отсюда линять, главный пидор этого вонючего трактира прибежит из дома, чтобы лично, ты понял меня, Вениамин, лично, облобызать мои уста и пожать мою ублаготворенную его шестерками «крокодильскую» лапу. Дальше все было почти так, как он предсказал. Был и миляга – парень, директор. Был какой–то уморительно ничтожный счет. И заверения в любви и вечной дружбе, и «брудершафт» за …надцатой рюмкой «на посошок». В те свои года я уже был очень сообразительный малый и перенимал накатанный положительный опыт своих коллег на раз. Я заказал другу - директору маленькой типографии, которая печатала мои афиши, сотню таких же скромных крокодильских визиточек (в то время это было непросто, так как любая печатная продукция делалась через Главлит, то есть цензуру, а значит через КГБ ), и отлично прожил с ними, как в раю много лет, попавшись всего единожды в Кисловодске, с подачи приятеля, никакого журналиста, но, видать, классного стукача. Да и кому в голову могла прийти шальная мысль, что известный писатель – сатирик, автор, с легкой руки которого на эстраде появились самые любимые народом звезды, автор самого Аркадия Райкина – работает не в самом «крутом» сатирическом журнале страны! А где же ему тогда еще работать?! Через год кто–то из друзей подарил мне юбилейный значок «Крокодила», его я мог носить смело хоть когда, ибо вручался он не только сотрудникам журнала, но и всякого рода известным людям, близким журналу. Вот этот – то самый значок, сверкающий гордым светом бескрайней власти страха на лацкане белокремового кримпленового костюма, подарка эмигрировавшего в США братца Фела, и заварил ту великолепную кашу на свадьбе секретарской дочки, с которой я и начал этот рассказ. Итак, сидим мы скромненько с Анисом во дворике с оркестром, я с интересом вникаю в народный ритуал узбекской свадьбы, гляжу на танцы, слушаю завывание народного акына, жалею его беднягу. Куда, думаю, с такой узкой специализацией выедешь на гастроли, кроме своей маленькой республики? Ну, разве что, редкими свадьбами бедолага перебивается. В этот момент очередной танец заканчивается, и к небольшому загончику на ножках, к эдакой верандочке – эстрадки с низкими перильцами, на которой располагается оркестрик и певец, выстраиваются в очередь танцевавшие пары, и мужики, наклоняясь к полу эстрадки, с добрыми улыбочками сбрасывают на нее тюбетейки, полные крупных купюр. Этот народный обычай как–то сразу пришелся мне очень по душе, и я с неподдельным интересом начал выяснять, откуда эти деньжищи берутся. Как и все гениальное, процесс появления денег в тюбетейках оказался удивительно простым. На время танца танцующие представители мужского пола надевают свои национальные головные уборы, а сидящие за столами гости, выходят в центр площадки и, гордо показывая всему уважаемому обществу достоинство дарственной купюры или купюр, заправляют деньги внутрь тюбетейки ближайшему танцующему мужчине. После окончания танца эти дарственные деньги и сваливают оркестрантам. - Сколько же получается в среднем за хорошую свадьбу? – спросил я певца, который, как оказалось, слыл «народной национальной звездой». Сумма, которую он мне назвал, была ошеломительная. За одну такую «халтурку» можно было купить «Жигули». - И сколько таких свадеб вы играете в месяц? - Иногда, если успеваем, в среднем: три – пять… в день, скромно потупилась «звезда». Наконец дошла очередь и до меня. Распорядитель мероприятия громко объявил: «Поздравить наших дорогих умных, процветающих и красивых жениха и невесту специальным самолетом прилетел из столицы нашей Великой Родины - Москва наш знаменитый и выдающийся поэт и композитор, очень большого веселья человек, лауреат многих и разных государственных премий, писатель и замечательный артист, Феномен Сикровецкий! В моей долгой жизни мое имя и фамилию коверкали многократно, но так, как это замечательно противно сделал распорядитель свадьбы, пожалуй, – никогда! По недружным жидким аплодисментам я понял, что добрых три четверти сидящих за столами людей просто напрочь не знакомы «с великим и могучим русским языком», а остальной четверти этого праздника вообще плевать на этого поэта и композитора с десятого этажа. Все понимали, что на такую «великую свадьбу» должен быть обязательно приглашен «свадебный генерал», вот его и привезли, а что он там будет болтать, – это уже всем было до лампочки. Кроме жениха и невесты никто из этой тысячной толпы гостей не повернул в мою сторону головы, да и эта милая парочка лучше бы не поворачивала. У жениха, совсем еще молоденького мальчика, сына ректора местного университета, было лицо овечки, которую приволокли на бойню, уже подвесили за задние ноги и поднесли нож к горлу. Зато у молодки, которой наверняка уже давненько стукнуло за тридцать, с выражением лица все было более, чем в порядке. Так выглядит сытая кошка, лениво играющая с полупридушенной мышкой, но еще не решившая, съесть ли ее прямо сейчас, или потерпеть и смачно зачавкать её немного попозже, но с аппетитом. Я подошел к микрофону и начал бубнить какой–то, никому не нужный фельетон. Невеста сразу же поняла, что это ей неинтересно и наглухо прикрыла свое плоское как полная луна, жирно нарисованное лицо широченными полями шляпы Младенец же женишок, обалдевший от бесконечных громких фальшивых тостов, с видимым интересом прислушивался к нормальным человеческим словам и, дослушав монолог до конца, пару раз хлопнул маленькими ладошками, чем и обозначил для остальных финал моего «выдающегося выступления»! На этом все могло бы благополучно и закончиться, однако… тут-то все и началось! Именитый папа невесты – Великий партайгеноссе Всего Андижана и Его окрестностей решил лично поблагодарить «заезжую столичную знаменитость» и, с трудом отвалившись от Главного стола, выставив вперед необъятных размеров живот, утиной походочкой на коротеньких толстеньких ножках, виляя толстенькой попочкой–курдючком, доплыл до меня и, почему-то, прикрыв глаза, протянул маленькую пухлую ручку как француженка для поцелуя. Я взял его за протянутые пальчики и резко и довольно сильно дернул на себя. Ей богу, я до сих пор не понимаю, какая муха меня тогда укусила, и на кой черт мне надо было так озорничать. Он тоже этого не понял и, не ожидая рывка, ткнулся носом прямо в … «юбилейный крокодильский» значок, блиставший ярким золотым пятном на моем шикарном американском бело– кремовом костюме. Свадьба, с интересом наблюдавшая эту немую сцену, – замерла. На мгновение прекратился стук вилок и ножей, замолкло чавканье тысяч ртов. Только громкое чириканье воробьев, пирующих крошками с барских столов, говорило о том, что жизнь на планете Земля еще продолжается. Великий «папа» зло оттолкнулся от меня, потер слегка оцарапанный значком нос и только тогда заметил, «обо что» он поранил свое непогрешимое партейно всемогущее личико. Никогда в жизни ни до, ни после я не видел подобной трансформации человеческого лица. Ни неподражаемый Дю Фюнес, ни великолепный грузинский комик Мамука, и в этом я абсолютно уверен, не были способны на такое! В момент «отталкивания» оно было каменно–надменным, и на нем ясно прочитывался смертный приговор мерзавцу, посмевшему сотворить с Самим Им «такое!». Узрев же и осмыслив сияние «страшного знака» на лацкане пиджака обидчика, это выражение сперва сменилось на невероятное удивление, затем на неподдельный ужас. Затем, буквально по прошествии двух-трех секунд по нему прокатилась такой мощи волна необычайного радушия, гостеприимства и невероятной любви к стоящему совсем рядышком с ним ближнему, что нужно было быть по меньшей мере Гераклом, чтобы удержаться на ногах под ее все обволакивающим мощным напором. Я уже давно заметил, что подобная и очень правдивая, сладкослюнная маска всегда появляется у любого ранга партийных бонз, при появлении другой «особо важной персоны», от которой хоть в какой-то степени может зависеть дальнейшее безупречное течение их биографий. - Вай – вай! Какой гость к нам заехал! Какой гость! Какая радость! Какая честь! Ах, Анис, Анис! Ах, Анис, Анис! Какого гостя, ничего не сказав, нам привез! Ну, Анис, Анис! Какой подарок нам сделал! Какой большой подарок! Какой замечательный человек привез! Я не обернулся в сторону несчастного Аниса, но мне, да и всем, кто слышал эти ласковым тоном произнесенные шефом слова в адрес предателя из местной филармонии, было понятно, что часы пребывания на этом посту молодого идиота - директора, да, пожалуй, и вообще в самом городе, а может и в республике сочтены. Партайгеноссе подошел к микрофонной стойке и, встав на цыпочки, голоском, из которого на утоптанную поколениями дехкан, растрескавшуюся от жары землю полилась струйка елея, пропел: - Мои дорогие молодые! Наши дорогие сродственники и друзия! Наш праздыник, нашу свадибу, обалагородил и осачасливил, посетив ее, сам многоуважаемый и висем узбекским народом любимий товарищ Каракадил! Он не пожалел дарагоценного времени, денег на проезд и по просибе нашего дорогого и всеми уважаемого Аниса сиделал нам такой огромный подарок и оказал такое высокое уважение всем пирисутствующим сидесь уважаемым гостям и висем жителям города Анадижана и его области. Позвольте мине от вашего имине и лично от моего поблагодарить нашего всеми уважаемого и замечательного Аниса и попросить его делать нам такие же замечатилиные подарки и впередь. Зал встал, и бурные, долго несмолкающие аплодисменты радостной волной захлестнули праздник. А теперь, мои дорогие сроственники и многоуважаемые гости, ви можете породолжать наш праздыник, а мы с дорогим нашему сердцу, многоуважаемым товарищем Каракадилом тоже пирисядем к праздничному столу. Я, совершенно сбитый с толку этой заздравной речью в честь Аниса, так и не поняв, прощен он или это хитрый дипломатический ход мудрого «папы», сел за стол для особо важных персон. Мне мигом был поставлен прибор, и каждый из сидящих за столом поднес мне тарелку или блюдо с праздничной снедью. Однако, в ближайшие двадцать минут мне пришлось довольствоваться лишь обильным собственным слюновыделением, так как началось представление Андижанских «начальников». - Второй ссыкрытар Обокома Партии Анидижана Казибек Казибеков, - очень пириятно. - Тыретий ссыкрытар Обокома Партии Анидижана Зимбек Зимбеков,- очинен пириятно. - Перевый ссыкрытар Горокома Партии Анидижана Букамбек Букамбеков, - очинен пириятно. И так - человек тридцать. Последним был директор кладбищ. Тоже, как я понял, очень уважаемый человек, и уж ему-то точно очень приятно было бы видеть меня своим гостем в дорогом дубовом полированном гробу с сияющим значком на лацкане кремового костюма и в белых чувяках. Потом было бесконечное количество подхалимских тостов. Меня, вне всякого сомнения, хотели споить, а далее спокойно продумать, как быть с «ревизором». Не исключено, что могли подстроить и компромат по «пьяному делу», но я от рождения – малопьющий, и фокус не прошел. «Папаша» привел к столу новобрачных, вроде как «на благословение». Невеста, скорчив рожу ангелоподобной недотроги, пыталась подставить мне щечку для поцелуя, но плохо ориентируясь в национальных обычаях, я не рискнул быть облагодетельствованным столь высокородной девицей и отделался похлопыванием по спине полупридушенного жениха с глазами затравленной газели. «Городничий», так я окрестил для себя партайгеноссе, не отпускал меня никуда дальше своего живота, безостановочно дул мне в уши, что он–то человек бедный, живет очень скромно и только на свою небольшую секретарскую зарплату. А эту шикарную свадьбу, против его воли, закатили родители и родственники жениха. Как оказалось, дедушка запуганного мальца- жениха - знатный чабан, пасет колхозные отары в отрогах гор. Всю свою жизнь он копил деньги на свадьбу внука, и вот к стыду и сраму ему, «Городничему», - верному и честному, как слеза барана коммунисту – ленинцу, пришлось отгрохать такую некрасивую свадьбу. - Какая прелесть, - заметил я. Давайте–ка, сделаем большую подвальную статью в «Правде» или у нас в приложении к «Крокодилу», где опишем трудовые подвиги деда – пастуха и его по старинке байские замашки при устройстве свадьбы любимого внука! На лицо «папаши» спустился туман, причем настолько плотный и густой, что глаз было просто не разглядеть. - Друг мой, - он нежно обнял меня, не тратьте драгоценное время на пустяки. Завтра я дам Вам свою личную персональную черную «Волгу» с телефоном, телевизором и холодильником. Сегодня же вечером обзвоню своих лучших друзей – секретарей Обкомов и Горкомов всей Ферганской долины. Вас как эмира Бухарского будут встречать во всех городах и поселках этой жемчужины Узбекистана, и умирая Вы на смертном одре будете вспоминать меня и эту восточную сказку. - А как же тридцать концертов в Андижане, - с глазами наивного простяги Адама, еще не вкусившего с Евой запретного плода, - спросил я, строго глядя в его честные партийные глаза. - Пока мы с Вами, уважаемый, пили сладкое виноградное вино и вкушали от плодов щедрой природы Узбекистана, Анис и мой начальник отдела культуры уже положительно решили этот совсем простой вопрос. И как сказал Моисей, сойдя с горы Илионской: - …И было так… Через много лет администратор Миша поведал мне историю невероятного финансового взлета Аниса. Он стал крутым «новым русско– узбеком», крутил миллионами «зеленых». Перебрался в Москву, стал лучшим другом мэра Лужкова и небрежно одалживал городской казне десятки личных миллионов в трудную минуту. На рынке, тогда еще Советского Союза, появились сигареты, вина и даже парфюм с торговой маркой на этикетках - «Анис». Но от его коммерческого гения и феноменального разворота я обалдел окончательно, когда по центральному телевидению увидел «Банковский конкурс», в котором приняли участие все самые известные Банки страны. Финансировал это мероприятие и был его президентом известный предприниматель по имени Анис. Думаю, что дальнейшие комментарии излишни… -----------------------------------------+----------------------------------------Масштабность и значительность задач, Огромность затевающихся дел— Заметней по размаху неудач, Которые в итоге потерпел. И. Губерман. Старость - премерзкая штука. И чтобы о ней ни говорили оптимисты, – умирать надо если не молодым, то хотя бы еще здоровеньким. Старость, как и сама смерть - это конец жизни, а интересна только полнокровная жизнь, когда работает величайшее чудо творения Господа - человеческий мозг. В старости он слабеет, да и слишком много отвлекается на болезни. В старости человек перестает не только сам чувствовать, что такое любовь, в полнокровном понимании этого удивительного всеобъемлющего чувства, но иной раз и не помнит, как все это с ним происходило. В человеке умирает Человек, когда прекращает волноваться кровь. Что же касается разных благоглупостей о растворении в природе, о новых формах бытия после разрушения земной оболочки, – это все чепуха. Старость как и смерть - бездарна, она способна лишь к разрушению. А жизнь - это созидание. Приближение старости я почувствовал довольно поздно, лет эдак в шестьдесят. Я, как и все стареющее, пытался обманывать это клеточное угасание. Хорохорился, пытался еще эдак поглядеть на молодую женщину. Прикидывал, конечно, так, для себя, - а не убрать ли две-три основные морщины на физиономии? Но быстро к ним привык и уже посмеивался над собой, вспоминая эти глупые мысли. К старению, вообще, привыкаешь довольно быстро. Год, два мучаешься, разглядывая в зеркале начавший неизвестно от чего расти живот, потом забываешь о нем, а вернее свыкаешься с неизбежностью процесса. Такая же история происходит с появлением и неуклонным ростом лысины. Вдруг замечаешь, что уже не можешь догонять тронувшийся трамвай, – задыхаешься. Потом давление, плохо работающий желудок, сердце, простата, аденома, бессонница, пародонтоз, суставы… Какая тут любовь, какая жизнь… Нет, я, конечно, был не прав, говоря, что мысли о жизни после смерти – пустяковина. Я лукавил перед самим собой. Но меня уже действительно не волнует кладбище как склад, куда на вечное хранение отдадут под расписку мое бренное, уже никому не нужное тело. Я, очевидно, утратил мелкое любопытство к Смерти. Вспоминая о ее неизбежности, я просто получаю отдохновение души. Однако сама мысль, что продолжение Жизни возможно в каком–то там другом измерении после земной жизни, это основа любой веры. А есть ли она?! Или это очередная человеческая выдумка, – не имеет значения. Для протекания активной жизни - это абсолютно неважно, но для перехода к смерти, – большое облечение в любом возрасте. Мемуары - штука приятная, но грустная… Ты как бы сам, в конце еще не полностью заполненного листа, подписываешь себе приговор, – выбрасываешь белый флаг. Ведь, по меньшей мере, глупо, поставив точку под словом «конец», начинать все с начала, даже если кажется, что пороха в пороховнице еще с горсточку наскребется. Мне и прежде страх смерти был чужд. Когда ты молод, полон сил и идей, когда тебя любят женщины, когда есть видимость, что у тебя немеренно друзей, что все тебя любят и впереди бескрайная жизнь, смешно думать о подыскании своего местечка на каком-нибудь престижном кладбище. В молодости не видишь горизонта. В молодости живешь так глубоко и серьезно, если внутри тебя бушует огонь, что просто не хватает душевного времени на боязнь какого–то там конца. – Смерть выдумали старики, – вот они пусть ее и боятся! Старики, на то они и есть старики. Старость, и тогда тут же рукой подать, – смерть. А ведь начинаем мы все с безмятежного, бескрайнего детства. Ушел мой поезд, только фонарь еще мигает в хвосте, утопая в черной дыре ночи… Как быстро, поразительно быстро минул день… Плохо живущие люди куда больше боятся смерти, чем люди, живущие полно и радостно. Это, наверное, один из законов природы. Много позже эйфория заканчивается, и ее сменяет житейская трезвость. Начинаешь понимать, что родители всегда уходят слишком рано, а дети вылетают из родительского гнезда слишком поздно, когда отношения уже безнадежно испорчены. Друзья? Но сейчас это такая редкость! Открытия интимно близки тебе, пока они живут в твоей голове, затем они становятся шлюхами, доступными каждому. Остается лишь жена, стареющая как и ты сам, поглупевшая, слабеющая, надоедливая, сварливая и все же своя единственная и вечная. Лишь в ней одной доказательство того, что ты еще личность или хотя бы особь. После смерти какой–нибудь тонкий, как глист, критик подытожит суть моей последней литературной потуги глубокомысленной фразой типа: - «В его мемуарах много остроумной печали и поверхностной глубины». Кстати, это была бы отличная эпитафия на мой (хотелось бы надеяться, что вдова не поскупится) на мраморный камень. Лев Толстой, умирая, пальцем писал по одеялу. Как жаль, что сидящие у его одра не сохранили эту, самую подлинную из его рукописей. Марсель Пруст говорил: - «Настоящий рай – это тот рай, который мы потеряли». - Но разве мы по–настоящему его ощущали, когда жили в нем? Сегодня я могу всю квартиру оклеить патентами на изобретения, а блейзер сверху донизу заколоть орденами многих стран. Если бы не ленился или было бы больше свободного времени и денег на оформление этих патентов, – можно было бы оклеить еще и дачу. Мои патенты, медали, ордена, энциклопедии, звания, пьесы, романы, просто сборники – это бирюльки, с которыми так приятно поиграться в старости, это темы для завалинки домика в деревне. Беда лишь в том, что кроме тебя самого в эти твои игры никому из окружающих играться неинтересно, у каждого из них свои такие же, и они тоже хотят, чтобы с ними играли в их бирюльки. Как бы не было велико твое творческое наследие, как бы много страниц ты не написал за отпущенный тебе срок, какие бы твои проекты не увидела жизнь, - все они поместятся в двух–трех коротких строчках на кладбищенском камне. Ну, разве что, если памятник ты создал себе «нерукотворный»… Но это удел единиц. Так, может быть, надо было не спешить? Подождать еще какой–то срок и тогда уже, под самый финал и сесть с воспоминаниями за компьютер? Может быть, и так. Но кто знает, какой срок ему отпущен. Ведь можно сесть, и… не успеть… Да и память катастрофически слабеет, так много интересного я уже безвозвратно потерял…А куда девать последний подарочек судбы – рачке? Я часто думаю: - И, все–таки, когда же она по–настоящему прочно повязала тебя, эта подлая старость? Когда до чертиков надоели болячки? Когда, встречаясь с друзьями, да и в разговорах со случайными собеседниками, - главной темой становятся диеты, таблетки и капли, свечи и клизмы? Когда тема «жизни после смерти» прочно вошла в репертуар твоих литературных увлечений? Когда тебя перестали волновать длинные стройные женские ноги на улице и стали неприятны эротические эпизоды в кинофильмах на экране телевизора? Когда ты перестал кокетничать с хорошенькими женщинами из страха, что какая– нибудь из них, вдруг, может и откликнуться? Не знаю. Все ответы на эти вопросы стоят очень близко друг от друга, но запри их в одно, казалось бы еще прочное тело, и они превратят его в рухлядь. Ну все! Сморкнулся плаксиво в жилетку - и будет. Вернемся в мое, действительно прекрасное детство. ----------------------------------+-----------------------------------------В четвертом классе, а может быть пятом, историю древнего мира преподавала нам хорошенькая и совсем еще молоденькая «училка» - Дина Львовна. Тогда еще не пришла мода на «ноги от ушей», а пышная попка пониже осиной талии, и чуть выше такая же пышная грудь – валили любого мужика и мальчика познавшего эрекцию и мастурбацию на раз. Наша Диночка и была такой Мерлин Монрошкой. На ее уроках все пацаны ерзали на партах, и где в этот момент находились их замызганные чернилами руки, догадаться было нетрудно. На ее уроках класс не молчал, а натужно сопел. Я забыл сказать, что школа у нас была «мужская», ибо в те времена обучение было раздельным. Во мне уже тогда начинали прорезаться некие литературные ростки, и вместе с моим соседом по парте Витьком Метелкиным мы редактировали подпольный журнал «Бузотер». В журнале было много малопристойных картинок, благо с художниками в классе был полный порядок. И в конце третьей четверти в одном из еженедельных номеров на обложке журнала очень реалистично была изображена обнаженная историчка и сидящий за партой школяр с засунутыми в штаны руками. А под картинкой стихи: Весна, цветы, любовь Волнуют в сердце кровь И чешутся яички, При виде исторички! Любовный нежный взгляд, Величественный зад, Гордая осанка, Ну, чем плохая самка?! Восьмистишье имело шумный успех в классе, и «Бузотер» на уроке истории с повизгиванием пошел под партами по рукам. Дина Львовна долго не могла понять, что происходит, и все окончилось бы благополучно, если бы журнал случайно не упал на пол. Историчка сама подняла его и, пролистав, споткнулась о пародию на себя. Почему она сразу же решила, что именно я имею отношение к этому «безобразию», для меня осталось загадкой, но в течение двух последующих недель я получил по истории семь двоек и, как суммарный итог, - двойку в четверти. Если бы я был отличником по остальным предметам как, скажем, Володька «ЩЕ», эта двойка могла оказаться случайностью, но, увы, я был твердый троечник. В то время я еще не был спортсменом – гордостью школы, а мой папа не был ни секретарем Обкома или Горкома Партии, как папаши Попкова и Капустина, ни министром просвещения, как отец Валерки Вознесенского. С этой двойкой я мог остаться на второй год, а это уже было серьезно. Дома моя справедливая мама дала мне вполне заслуженную затрещину по затылку, а затем заставила выучить наизусть, как таблицу умножения, всю хронологическую таблицу, помещенную в конце учебника истории. Памяти у меня с рождения не было никакой, да и до сего дня я боюсь врать жене, так как обязательно забуду завтра, что соврал вчера. Так что долбить мне пришлось по нескольку часов в день целую неделю. Лет через сорок пять мой исполнительный секретарь зашла в кабинет и, неуверенно подавая мне телефонную трубку, сказала, что звонит какая–то молодая женщина по имени Дина Львовна и говорит, что она моя бывшая школьная учительница по истории. Она, мол, видела мое выступление по телевизору и нашла меня через студию. Я схватил трубку и действительно услышал прежний молодой голос некогда соблазнительной Дины. По самым скромным подсчетам ей уже было за семьдесят, но природа щедро сохранила её красивый, мелодичный и задорный голос двадцатилетней девушки. Мы проболтали с ней добрые полчаса, хотя я не любитель длинных телефонных бесед. Она, смеясь, спросила меня, помню ли я хоть одну дату из истории древнего мира или средних веков, и была поражена, впрочем, так же, как и я сам, когда ее самый нерадивый ученик без запинки назвал ей даты Битвы при Гастингсе, Ледового побоища и Куликовской Битвы, реформ Салона и Дракона и даже Суда Черепков. Ей нужна была моя помощь в каком-то личном вопросе, и я был счастлив, что смог помочь ей. К, сожалению, больше она не звонила. После восьмого класса началась пора любви. В те годы и мы и наши девочки- одногодки были значительно целомудреннее, чем теперешняя молодежь, впрочем, эту фразу говорят отцы и деды своим детям и внукам всех поколений. Но так ли это на самом деле, – знает один Господь. Я был влюблен в Нинку Новикову из соседней женской школы. Девчонка была очень спортивная, подвижная и, пожалуй, не столько красивая, сколько знавшая себе цену. Мальчишек вокруг нее крутилось навалом, и на меня она обращала внимание не более, чем на всех остальных. Основным моим соперником был очень спортивный паренек, тоже из школы моего района, прекрасный волейболист и баскетболист Борька Гутман. Нинка тоже исповедовала эти два вида спорта, и на мое плавание, бокс и стрельбу из пистолета ей было ровным счетом наплевать. Отношения у нас с Борькой были сугубо джентльменские. Ни один из нас «не перебегал» другому дорогу. В конце концов мы оба узнали, что наша любимая выбрала себе какого–то третьего, и обе сердечные раны слились в большую одну, закрепив нашу «мужскую» дружбу. После школы мы уже практически не виделись. Так, однажды, где–то на гастролях, Борька, увидев афишу, заскочил ко мне за кулисы. Говорить особенно было не о чем. Перекинулись: - Как ты? - А ты? - А помнишь Нинку? - Еще бы! – И разбежались. Прошло лет двадцать пять, а может быть и больше, и я случайно на улице встретил Борьку. Он с трудом брёл, тяжело и натужно дышал. Да и глаза у него были какие–то, не прежнего моего жизнерадостного дружка -- блекло– грустные. Обнялись, перекинулись несколькими словами. Оказалось, что Борька перенес три тяжелейших инфаркта, вставил шунты в сердце и ему удалили по раку щитовидную железу. Живет он на даче, практически на иждивении сына, да и не живет, а, скорее, доживает. Я в это время уже выехал на постоянное житие в Германию. В Питере у меня оставалась практически бесхозная, неуправляемая фирма, так как очередного директора пришлось уволить по нестыковке его, в недавнем прошлом военного характера, с сугубо штатским мировоззрением коренных сотрудников моей фирмы. Уволился предыдущий директор буквально пару дней назад, а через неделю я, кровь из носу, должен был отбыть самолетом на «ридну неметчину». И тут у меня, видать от безвыходности, мелькнула шальная мысль, а не поставить ли временно, в прошлом очень даже энергичного Борьку, вместо предыдущего генерала, кстати тоже Бориса, хотя бы на пару месяцев, до моего следующего приезда в Россию, а там будет время, - разберусь, что к чему. Уговаривать мне пришлось его долго, – не верил он в свои нынешние четверть силы, но посидеть два–четыре часа в день за моим хозяйским столом временным директором и попробовать реализовать мои распоряжения, переданные ему по телефону, со скрипом, но по былой дружбе, согласился. И вот тут–то произошла метаморфоза. Полный инвалид, забытый всеми, потерявший веру в себя, в людей, в самою жизнь, вдруг ожил, почувствовав себя востребованным. Этому еще и содействовала совершенно волшебная, кристально чистая, насыщенная ионами серебра вода – главный продукт, выпускаемый в то время моей фирмой. Вначале Боря сидел по 3 часа в день, через две недели уже часов по шесть. К моему приезду, то есть через два месяца, он уже на час два пересиживал рабочий день. К сожалению, больное сердце и изношенный организм взяли свое Боря сник, и через полтора года мы проводили его обратно на пенсию. При нем прогресс фирмы и темпы работы несколько снизились, и я долго не мог понять, где же таятся корни и причины этого спада. Однажды мне в какой–то газете попалась очень любопытная статья, видать, толкового психолога. Он на основе многолетних наблюдений и обмена опытом с коллегами пришел к выводу, что один оптимист на монолитном предприятии может высоко поднять фирму с нуля, но в равной мере один пессимист – нытик может опустить ее к тому же нулю. Увы, но мой школьный друг был врожденный Фома – неверующий… К сожалению ему уже не доведется прочесть эти воспоминания, но я абсолютно уверен, что он не поверил бы моим словам., хотя я с искренней любовью пишу эти строки о нем. --------------------------------+-----------------------------------------Итак с Нинкой Новиковой в сердце я прожил до окончания школы лишь в сладких грезах, а романы, романы, романы шли своим чередом. Запомнился, пожалуй, только один и очень смешной. Дело было еще в седьмом классе. Как-то дурачась, мы с Володькой Ривиным, это, который «Ще», позвонили домой известной певице Мариинского театра - Мшанкой, так как от кого– то узнали, что у нее есть симпатяга дочь нашего возраста и зовут ее Галка. Набрав номер, Володька пискливым, почти девчачьим голосом позвал Галю. И когда та подошла, тем же голоском спросил, куда она так надолго пропала и почему давно не звонит. Галка приняла Вовку за какую–то свою подружку, кажется, Ирку, и эти исповедальные «девичьи» беседы продолжались три года. Мы выдумывали этой Ирке невероятные романы с артистами, певцами, боксерами и даже бандитами. Галка слушала, млела, ахала и охала и «кололась» на свои влюбленности, которые, конечно, не шли с Иркиными ни в какое сравнение. С годами у Володьки произошла возрастная мутация голосовых связок, и в его имитации все чаще и чаще проскакивали басовитые нотки. Однако, увлеченная невероятными похождениями подружки Галка, которую домашние называли Лялькой, ничего не замечала. Она жила в мире наших грез. В десятом классе мы, наконец, раскрыли этот обман. Лялька была потрясена, но не отказалась с нами встретиться. Любопытство взяло верх. Я не помню, почему ей не пришелся высокий и ладный Володька, скорее всего, он сам испугался этой встречи, так как в то время был еще довольно скромным и стеснительным юношей. В неуемный секс – разнос он пустился года три спустя. Короче, Ляльке приглянулся я, и у нас начался очень странный роман. На этот раз провидению было угодно покуражиться надо мной. Я где- то чем–то сильно траванулся, и так как серьезно лечиться не было времени, довел себя до дизентерии. Лялька пылала страстью и звонила сама ежедневно. Душа, сердце и мое полное сил и плотских желаний, ладно сложенное, тренированное тело молодого самца тоже рвались к ней, но, увы, мой предатель – желудок, вступивший в конфронтацию со всеми остальными внутренними и внешними органами, взяв себе в союзники глупую, не задающую лишних вопросов мозгу задницу, не отпускал меня от унитаза более чем на полчаса. Естественно, я не мог раскрыть любимой девушке истинную причину моего нежелания встретиться с ней, и выдумывал самые невероятные причины моего вынужденного сидения дома. В конце концов я разведал пару маршрутов по паркам и кафе, где были вожделенные туалеты, и свидания продолжились. Домой ко мне Лялька заходить наотрез отказывалась, а целоваться даже на парковой скамейке в те годы считалось крайне неприличным. Лялька же была девушка честная и «из хорошей семьи». Долго такая странная любовь, конечно, продолжаться не могла, и у Ляльки появился какой–то новый друг, красавец с экзотическим именем Гастон. На том мы и расстались, оставшись друзьями. В итоге она вышла замуж за блистательного артиста Горьковского театра Олега Бассилашвили, и много лет работает в музыкальной редакции телевидения. История с дизентерией повторилась у меня еще раз в студенческие годы. На этот раз я попал в инфекционные «Боткинские бараки» и пролежал там месяца два. Это была очень веселая эпопея, и о ней я постараюсь поговорить так же весело в студенческом разделе. Школа как–то плохо сохранилась в моей памяти, хотя, как мне кажется, жил я тогда очень интересно. Всплывают еще занятия боксом и, конечно, школьные капустники, с которых и началась моя дальнейшая студенческая, а затем и профессиональная карьера эстрадного писателя, артиста, позже драматурга, а затем и прозаика. Сначала несколько слов о боксе, а вернее о моем замечательном тренере Александре Фесенко. У мамы была очень симпатичная приятельница балерина Малого Оперного театра. Ее муж, атлетически сложенный, высокий мощный красавец до войны был чемпионом страны по боксу в полутяжелом весе. Легенда гласила, что он не раз боксировал с самим Королевым, тогдашним непобедимым чемпионом страны, тяжеловесом, призером многих международных чемпионатов, и что в товарищеских поединках дрались они на равных. В войну дядя Саша, как я его тогда называл, потерял ногу и в послевоенные годы тренировал молодежь. Передвигался он с помощью двух легких костылей, с креплением чуть выше локтя и так быстро, что нормальным двуногим приходилось за ним бежать. Он легко перепрыгивал двухметровой ширины канавы и взбегал без остановки на восьмой этаж. Дядя Саша был необыкновенно хорош собой - типичный голливудский супермен, и женщины сходили по нему с ума, что, естественно, приводило в отчаяние его жену, тетю Лялю. Во время тренировочных занятий он частенько сам входил в раж, бросал костыли и показывал нырки, уклоны и удары, чрезвычайно легко и ловко прыгая на одной ноге. Однажды мы с мамой засиделись допоздна у тети Ляли в гостях. Послевоенное время было неспокойное, и дядя Саша пошел проводить нас до дому. Жили они от нас недалеко, и мы пошли пешком. У самого дома два здоровеньких парня загородили проход в дворовую арку и с недвусмысленными ухмылочками ожидали нас, засунув руки в карманы брюк. То, что случилось дальше, я запомнил на всю жизнь, ибо такого я не видел больше никогда, даже в американских боевиках. Дядя Саша остановил нас с мамой, подошел к парням и не спеша снял с рук палки костылей. – Мальчики не возьмите в труд, подержите ходули, уж больно руки затекли у инвалида. – Опешившие от неожиданности ребята, нехотя вынув из карманов руки, взяли каждый по костылю и тут же от двух коротких страшных прямых ударов в челюсть, без звука легли у его ног. Дядя Саша легко нагнулся, поднял костыли и, не взглянув на поверженных, пошел к нашей парадной. Что с ними стало дальше я не знаю, но на следующей неделе мама отвела меня в Сашину спортивную школу, и я прозанимался у него два года. Через несколько лет дядя Саша скончался от обширного инфаркта, но не сомневаюсь, что в сердцах его учеников и любивших его многочисленных женщин он остался навсегда. Мне же его уроки многократно пригодились в мои молодые годы, -- тяжелые послевоенные времена. ------------------------------------------+----------------------------------Любовь к эстраде привил мне великий комический актер еще до военной поры - Хенкин. Впервые я попал на его концерт году в 1943, в Челябинске, в эвакуации. Концерт проходил в заводском клубе, зрителей было вдвое больше, чем воздуха в зале, и на бедного артиста было жалко смотреть. Хенкин был уже в хороших годах. Полный, сильно облысевший, он просто исходил от града катящегося с него пота. Играл он свои очень злободневные для военных времен пародии и скетчи блистательно, с колоссальным темпераментом и напором. Зрительный зал стонал и выл от восторга. Я так хохотал, что штаны у меня действительно были мокрыми. Когда, приклеив усики и зачесав челку на бок, он начал пародировать Гитлера, сидящая рядом со мной толстая тетка, вдруг дико взвизгнула и с криком: - Ой, девчата, я, кажись, обоссалась, бросилась вон из зала. Больше мне никогда не случилось видеть этого гиганта эстрады. Я с жадностью расспрашивал о нем артистов, его современников - Петра Лукича Муравского, Михаила Наумовича Гаркави, Германа Тимофеевича Орлова, Бена Николаевича Бенцианова, но, как ни странно, в эстрадных кругах о нем не ходило никаких актерских легенд и баек, в отличие от двух первых титанов, с которых я начал это предложение, и человеческий образ этого гиганта эстрады так и остался для меня навсегда неразгаданной загадкой. Вторым артистом, закрепившим во мне тягу к смешному, был Борис Иоффе, рано ушедший из жизни и не получивший должного по степени таланта признания. Впервые я увидел его на вечере в нашей школе. Он еще не закончил Ленинградский Строительный Институт, но всем, включая его преподавателей, было абсолютно ясно, что это удивительное эстрадное дарование, по получении диплома инженера–строителя, никогда не возьмет в руки ни карандаша, ни мастерка. Боря делал музыкальные пародии на популярных артистов кино и театра, но делал это с таким блеском и обаянием, что равному ему исполнителя, разве что кроме Аркадия Райкина, в стране не было. Он женился на своей аккомпаниаторше, впоследствии ставшей неплохим композитором и автором исполнителем своих песен, Галке Сарачан - моей любимой подружке. Она до конца боролась за Борину жизнь и свято сохранила светлую память о нем. От него она родила прекрасного, очень талантливого сына, который вначале искрометно пошел по эстрадным стопам родителя, а сейчас один из лучших театральных режиссеров Питера. Жаль только, что мальчик не сохранил фамилию отца. Следующим мужем Галки стал великолепный музыкант, славный парень, великий хохмач и анекдотчик Марик Бек. С его легкой шальной руки я впервые имел ошеломляющий успех на эстраде и попал в качестве автора – исполнителя в самый популярный вокально–инструментальный ансамбль страны шестидесятых–семидесятых годов -- «Поющие гитары». Но это уже другая и, по – моему, очень забавная новелла. Итак, зараженный бациллой эстрады, я понемногу, в ущерб спорту, начал заниматься школьными «капустниками». Капустник, - это сатирический спектакль на местные темы, в данном случае – школьные. Тексты в основном писал Володька «Ще», я же был «главным артистом». Надо заметить, что по собственной критической оценке, особыми актерскими способностями я не отличался и значительно позже, даже в те времена, когда уже получил самую высшую актерскую категорию, стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады, получил диплом «Мастера – чтеца» и играл собственный концерт в два отделения. В те же школьные времена, а затем и в студенческие годы я в актерской профессии был даже не дилетантом, а, скорее, бездарью. Однако неукротимый темперамент, сумасшедший напор и страстное желание рассмешить зрителя, как это делал мой любимый Боря Иоффе, приносили некоторый успех. Брат мой Фел, который учился в другой школе и был на три с половиной года младше меня, во всем копируя старшего брата, также заразился «капустной болезнью» и прошел у себя в школе тот же путь. В институт я пришел уже, будучи специалистом по этой части. На мой первый, первокурсный спектакль - капустник было не попасть. Учителей своих я помню, но особо теплых чувств сегодняшние воспоминания о них у меня не вызывают. Да и по– настоящему интересных личностей среди них, очевидно, и не было. Ну, разве что, тугие «женские прелести» молодой исторички. -----------------------------------------+------------------------------------Полно парадоксов таится в природе, И ясно один их них видится мне: Где сразу пекутся о целом народе, Там каждый отдельно – в кромешном говне И Губерман. Я был в десятом классе, когда в 1953 году умер Великий Вождь Всех Народов, Отец Всего Народа Страны Советов- Иосиф Виссарионович Сталин. День смерти этого Великого Палача Всех Времен и Народов был для меня, да практически и всех учеников нашей школы, самым трагическим днем нашей жизни. Вот уж такие мы тогда были все недоумки. Казалось бы, у меня на глазах отправили в лагеря двух самых близких школьных друзей. Какие они и их родители были «враги народа»? Да я и тех и других знал, как облупленных. Не было более преданного Советской Власти и лично Вождю человека, чем моя дура - бабка Муся. Так за что же и она оказалась в обойме предателей? У мамы погибли в лагерях два изумительных брата: Феликс – инженер по танкам и Лёлик – авиаконструктор. Их забрали в 37-ом только потому, что обоих на три месяца, в период учебы, страна отправляла на практику в Европу. Я все это знал, знал и многое другое, но забитый в меня «Системой Извергов Ленина – Сталина» ген безмозглого мудака -, а вернее зомби, оказался куда сильнее. Единственным умным и искренним человеком в семье была пожилая домработница - бабка Варя. Она прошла коллективизацию и раскулачивание в родной деревне на Смоленщине, и Сталина иначе как «блюдок» ( сокращенное от «ублюдок») не называла. – «Этот твой блюдок , -- говорила она, прослышав по радио о каком– нибудь очередном «вредителе» моему шибко партейному отцу (царство ему небесное), - опять какое–то расстрельное убийство сотворил. Чтобы ему в говне утонуть, собаке бешеной!». Отец багровел, бросал на нее испепеляющий взгляд Корчагинского коммуниста, ходил желваками, но молчал, как Лазо в топке паровоза, ибо знал, что эта простая беспартийная малограмотная старуха возьмет над ним верх в такого рода политическом споре. Папа был человеком своего времени. Партия взрастила своего «сына» в «лучших коммунистических традициях», и он был свято верен ей до…. Но об этом - чуть позже. Мальчик из очень простой, но не «местечковой» еврейской семьи, после школы сразу пошел во флот. Два года служил на корабле в Кронштадте и дослужился до боцмана. До старости был ладно сложен, роста среднего, лицом хорош, физически очень вынослив и крепок. По мужскому фамильному «гену» имел необычайной силы руки, так же, как его прадед, дед и отец. Имел замечательную золото-рыжую шевелюру и феноменальный по мощи, красивого тембра рокочущий бас - профундо, который, как я подозреваю, и был главным залогом в его достаточно удачной трудовой карьере. По гороскопу и по жизни – лидер и трибун. Громовыми раскатами мощнейших голосовых связок бил по «трудовому народу» (так он всю жизнь называл своих подчиненных) «задачами партии», за что и был любим высшим партийным руководством. Был прекрасным «советским организатором» и до глупости честным коммунистом. Имел свои принципы и свято следовал им. Так, например, терпеть не мог лизать руководству задницу, если это не шло на пользу «строительства коммунистического общества». За что его неоднократно наказывали. Мог выехать на северную стройку, в сорокаградусный мороз собрать «народ» на короткий митинг и сутками, работая наравне с ними выполнить самый нереальный, с точки зрения нормального человека, план. В 1962 году, будучи генеральным директором Финского строительства гидростанции на реке Тулома, месте теплом, престижном и материально выгодном, по тем сложным временам, отказался «из принципиальных соображений» сопровождать на охоту приехавшего на стройку Секретаря Мурманского Обкома Партии. Этот «вольный пассаж» стоил ему дорого. Уже через неделю его давний, еще довоенный друг Петр Непорожний, в то время министр энергетики, снял его с «волчьим билетом» с этой «жирной» должности и определил старшим инженером в трест, который он в свое время создал и которым много лет руководил до Финляндии. Столь невероятно резкое понижение в должности удовлетворило оскорбленного до глубины «партийной души» Партейного Мурманского Патриарха и сохранило отцу самое дорогое в его жизни – красный партийный билет. Партийная, а скорее человеческая честность отца граничила с глупостью. Занимая должности, на которых семья могла как сыр в масле кататься, он ни разу на моей памяти не воспользовался служебным положением и не взял с работы ни гвоздя, ни незаконного рубля. Смерть Сталина принял тяжело. Он был типичным системным ортодоксом- манкуртом и, считая Вождя безукоризненным руководителем страны, верил всегда и всему, что тот говорил. На тетю Варю орал как сумасшедший и после каждой ее хулы в адрес родного, любимого, единственного и неповторимого – грозился выгнать назад в ее замуханную деревню. Хрущева принял и тоже поверил во все его байки про Вождя Народов на ХХ-ом съезде Партии. Считал, что Сталин в 1937 – 1938 годах правильно убрал всю военную верхушку Красной Армии: Дыбенко, Якира, Тухачевского, Блюхера, Уборевича, Путну, Алксниса и прочих, и не мог простить Хрущеву, что тот, дабы оправдать себя в глазах страны после обличения «культа личности», попытался обелить этих обожравшихся властью бездарных горе – полководцев, бывших кровавых чекистов и свалить на Сталина их вину за развал Армии накануне войны. Мне жаль, что перед смертью отец не прочел книгу Виктора Суворова «Очищение». В ней поднята именно эта, так взволновавшая в свое время отца тема и, если говорить честно, Суворов своими достаточно обоснованными доводами и меня так же в этом убедил. В годы «Ежовщины» чекисты, бравшие всех подряд, и особенно евреев, для принудительной сдачи золота на нужды поднимающейся из руин страны, забрали и моего деда по отцу Израиля Вениаминовича. Дело происходило в Ташкенте. Дед Израиль по достатку был ближе к нищим, чем к богатым. Худенький, небольшого росточка он отличался удивительной физической силой рук. Свободно разгибал подковы и как Петр Великий гнул пятаки тремя пальцами, «в кукиш». Был человеком тихим, скромным и зарабатывал чем придется, что–то грузил, что– то продавал, кому–то помогал. Я почти никогда не слышал его голоса, хотя был его самым любимым внуком. Он очень гордился моими певческими успехами и всегда сидел в первом ряду на дворовых концертах. Деда посадили в тесный подвал, в котором находилось еще десятка два таких же несчастных. Кормили их селедкой без хлеба и не давали воды. Дважды в день выволакивали на допрос. Били резиновыми палками и очень вежливо спрашивали, - не вспомнил ли он, где лежит запрятанное от трудового народа золотишко. Люди держались максимум неделю. Потом либо отдавали все , что есть, либо умирали в страшных муках от жажды. На счастье деда, на четвертый день его заключения, в Ташкент из Кронштадта приехал в отпуск сын-морячок и с ним двое его друзей, таких же морячков, которых дед пригласил к себе погостить. Узнав от ревущей матери о случившемся, ребята взяли свои революционные маузеры, купили на черном рынке гранату и в тельняшках, бушлатах и бескозырках с золотой надписью «Смерть врагам революции» прорвались к начальнику ЧК города, в подвале у которого находился дед. Отец – боцман корабля, с тем же революционным именем, что красовалось на ленточках бескозырок его и его корешей поставил ребят у входа в кабинет начальника и с гранатой в одной руке и маузером в другой без стука вошел внутрь, сел на стул, положил руку с гранатой перед хозяином кабинета и выдернул чеку. Узбек - начальник чуть не наложил в штаны от ужаса и тут же велел привести деда. Два дюжих чекиста волоком втащили в кабинет жалкие остатки того, что еще неделю назад было дедом Израилем. Существо это, с залитым запекшейся кровью лицом, беззвучно шевеля губами, очевидно, что–то пыталось пролепетать, но вместо звуков из запекшихся губ, пузырясь, шла кровавая пена. Глаза его бессмысленно блуждали по комнате, родного любимого сына он не узнал. Папа по натуре был человек взрывной, и его могучий рокочущий бас, бушлат, тельник и грозная надпись на околышке бескозырки плюс маузер и граната без чеки сделали свое дело. Деда взяли на руки матросы и вынесли из ЧК. Сзади рыкающим басом, поливая всех и вся многоэтажным боцманским матом, шел с гранатой в одной руке и маузером в другой отец, а шествие замыкала огромная ватага дворовых пацанов, для которых участие в таком спектакле было высшей жизненной радостью. На следующий день к дому деда на грузовике приехала команда бойцов ЧК во главе с пришедшим в себя и горящим желанием немедленного отмщения главным начальником. Отец был смышленым пареньком и, конечно, предвидел такой исход дела. Он накануне отправил с Главпочты Ташкента телеграмму в Кронштадт примерно такого содержания: «Всем, всем, всем военным морякам Красного Кронштадта! Братки, в ЧК города Ташкента, за который мы с вами проливали нашу революционную кровь, засела контрреволюционная сволочь, которая убивает исподтишка нашу братву, наших отцов и дедов! Если не отобьемся, отправляйте дивизию на помощь. Главная контрреволюционная сволочь начальник здешнего ЧК Усланов. Сигнал дадут наши люди. С ревприветом боцман линкора «Смерть врагам революции» Яков Сквирский». С той же гранатой и маузером отец вышел к грузовику и, смело подойдя к ехидно ощерившемуся начальнику, небрежно вручил ему копию текста телеграммы, которая была отправлена, в общем – то, «на деревню дедушке». Рассчитал он правильно, малограмотный узбек – начальник, прочитав этот ошеломляющий «революционный трактат – призыв», обалдел от страшного предчувствия возможной беды. В конце концов, ему было глубоко наплевать на этого сошедшего с ума старика – еврея, с которого-то взять было наверняка нечего. А этот вооруженный до зубов боцман со своими матросами пусть себе катится ко всем шайтанам в свой Кронштадт и будь он там проклят во веки веков. Машина отправилась восвояси, и деда Израиля больше не трогали. История эта прогремела на весь Ташкент. Слава отца была на уровне ревхулигана Котовского. На него приходили поглядеть толпы перепуганных евреев с просьбой заступиться и за их родных, погибающих в том же подвале, однако еще раз подобный номер уже бы не прошел, и помочь этим несчастным, ни в чем не повинным людям, папа уже не мог. После флота он поступил заочно в Ленинградский Электротехнический Институт, по окончании которого его направили в родной Узбекистан на строительство Чирчикской ГЭС, куда он, захватив из Ташкента мою маму и отбыл. Там и родились мы с братом Фелом. Затем отца определили в бывшее финское Энсо, с которого я начал описание своей детской поры, и в итоге, в 1944 мы вновь попали в Ленинград, где и прожили - он до иммиграции с новой женой Омой в Израиль, а я с уже не молодой подругой Инной, в Германию, где и сел за эти воспоминания. --------------------------------------------------+-------------------------------------Мужик тугим узлом совьется, Но если пламя в нем клокочет – Всегда от женщины добьется Того, что женщина захочет. И. Губерман. Со школьными годами связано еще одно, если и не очень интересное, то в достаточной мере знаменательное для каждого юноши событие, – в десятом классе я стал мужчиной. Я уже говорил, что нравственные устои послевоенных девушек в сравнении с нынешними были куда, как выше. Мы много танцевали, играли в знаменитую «бутылочку» и в «кис, кис– мяу, мяу». Сейчас я даже не помню, в чем заключалась эта эротическая по тем временам игра, в памяти осталось лишь ее название. Кое-кто добирался до груди своей подружки, а некоторые даже побывали и в трусиках, но девственность до брака или, в крайнем случае, до институтской поры, нашими дамами строго хранилась. Да и квартирный вопрос был большим тормозом для настоящих свиданий, процентов 90 ребят жили в огромных коммуналках, в которых обязательно водились любопытные, всевидящие старухи, от наметанного сучьего взгляда которых ничего не скроешь. Правда, у меня была трехкомнатная отдельная квартира, но зато в придачу к ней была придана, вечно торчащая на кухне, старая как сам мир, ворчливая зануда домработница тетя Варя. Моя мудрая мама понимала, что детям после шестнадцати надо время от времени разминаться на эротическом фронте, и тем самым гармонично развивать свою сексуальную сферу, и в праздничные дни она уводила отца в какие – нибудь «долгие» гости почти до утра. Мы собирались пораньше, покупали кучу бутылок замечательных полусухих грузинских и сладких массандровских вин, чистили перышки, и пока родичи готовились к уходу, чинно усаживались за стол без спиртного - мальчики с одной стороны, чопорные девочки с поджатыми губками, - напротив. Вина тех времен я не забуду до гробовой доски: Мускаты: Розовый, Красный камень, Белый, Прасковейский, Массандровский. Аромат был такой… -- .Шанель № 5! А полусухие грузинские! Ахмета, Твиши, Киндзмараули, Тетра…Они есть и сейчас, но даже за огромные деньги вам продадут суррогат. Во время преступной Горбачевской антиалкогольной бессмыслицы в грузинских селах тех же названий, что и вина, была под корень вырублена драгоценная, не имеющая себе в мире равных, виноградная лоза, и для восстановления былых виноградников пройдет еще не один десяток лет. Не знаю, на чем настаивают разбавленный спирт сейчас, но к тем замечательно вкусным напиткам нынешние - не имеют никакого отношения. В конце девятого класса пришла мода на коктейли, благо их было из чего мешать. Я увлекся этим своеобразным искусством со всей присущей мне изобретательностью и энергией. Благо, что девчонок напоить вином и даже наливками было сложно, им мамы не разрешали пить много вина, а наливки были для них крепковаты. Коктейли же были вкусны, красивы, ароматны и казались совсем слабенькими на вкус, однако адская смесь шампанского с коньяком, практически обязательными классическими компонентами каждого коктейля, валили с ног хоть кого. На наших вечеринках всегда присутствовал и мой младший братец Фел. Целоваться ему было еще рановато и ему поручалось ответственейшее дело, - он был главным (правда, и единственным ) осветителем. Он по команде тушил свет. Фел очень гордился должностью и доверием друзей старшего брата, который в то время был для него эталоном для подражания. Он был неизменным и самым активным моим болельщиком на соревнованиях по плаванью, непременно сидел в первом ряду у самых стартовых тумбочек, ему доставались все стартовые брызги, и к концу заплывов он был мокрым с головы до ног. Мокрым, но бесконечно гордым и счастливым, так как брат почти всегда приходил к финишу первым. Мама несколько лет подряд, начиная с седьмого класса, забирала нас с Фелом и еще троих – четверых моих школьных друзей и увозила всю команду на пару месяцев в Анапу. Питание и жилье обходилось такой «семье» значительно дешевле, да и отдых проходил много веселее. В Анапе, впрочем, как и во всей стране, в те годы было неспокойно. Местная шпана не ладила с приезжими курортниками, и на танцы было лучше не ходить, даже нашей дружной компанией. Я к тому времени уже боксировал у дяди Саши Фесенко и дрался совсем неплохо. Остальные мальчишки тоже не были обижены силой и ростом, так что постоять за себя в городе и на пляже мы могли. Каждый год в Анапе стартовала Азово – Кубано – Черноморская эстафета. Это были массовые морские заплывы на 15 и 25 километров. Число участников, обычно переваливало за 200 человек. До финиша, если море было спокойным, обычно доплывали 5–10 пловцов. Их, чуть живых, вытаскивали на борт сопровождающего рыбацкого сейнера, укладывали рядком на горячую металлическую палубу. Заливали в рот граммов по сто спирта с соленым огурцом, и через два часа сдавали родственникам и друзьям под тот же оркестр их безжизненные тела. Вместо номерка вытрезвителя к телу прилагали благодарственную грамоту участника заплыва и пожелание принять участие в следующем году в таком же. Призеров эстафеты всегда встречала толпа болельщиков, и так как все они, как правило, были жителями Анапы или пловцами из близлежащих Новороссийска и Геленджика, их имена знали все наизусть, и все они были героями местного масштаба. Я был пловцом – спринтером, и самой главной и привычной мерой для меня была олимпийская дистанция - 200 метров брассом. На тренировках более двух километров мы никогда не проплывали, и я плохо представлял себе, что такое стайерская, многокилометровая дистанция по морю. Ребята меня по первости отговаривали, но я видел, как им хочется, чтобы я утер нос этим местным. Мама не возражала. Она знала, что за пловцами идут лодки сопровождения, что им на дистанции дают выпить горячего какао и забирают на борт одного из сопровождающих сейнеров тех, кто окончательно выдохся. Ей тоже хотелось видеть сына в числе призеров, и я записался в список желающих принять участие. Нас выстроили на пирсе, дали каждому по горсти вазелина намазаться, чтобы не замерзли. Скомандовали: на старт, марш, и мы поплыли за направляющим катером. Брасс самый медленный и неэкономичный стиль плаванья. Он хорош для транспортировки плотика и соревнований в бассейне. Для стайерских заплывов он мало пригоден, ибо ко всем перечисленным недостаткам даже при самом легком волнении прибавляется еще один и очень существенный, – встречная волна бьет в лицо и сбивает дыхание. Морским стайером должен быть кролист, или, как их сейчас называют, – вольник. Кроль экономичен и дышит пловец в бок, под руку, которая защищает его от водяных брызг. Сугубо не морской житель, я об этом не знал. Стайеры плывут неспешно, экономят силы. Я сразу же пристроился в ноги спокойно плывущему вольнику и вместе с ним, практически без сознания, доплыл до пятнадцатикилометрового финиша. Не знаю, поплыл бы я дальше, скорее всего через пару тройку километров я бы просто отдал концы, но на мое счастье поднялся ветер, и на этом заплыв закончился. Если бы мой буксир – кролист, после поднятия нас на борт мог бы хоть чуть – чуть двигаться, он превратил бы мою мордочку лица в кусок фаршированной рыбы. Дело в том, что пловец идущий у тебя в ногах, время от времени задевает их руками. Это необычайно раздражает тебя и треплет нервы, на что тратится большая доля психической энергии. Плывущему сзади двигаться легче, так как ему не надо отвлекаться на сверку правильности направления движения, и тянущийся за пловцом «буксиром» водяной шлейф немного подтягивает его вперед, экономя силы. Мой бездыханный труп вместе с еще тремя победителями спустили с борта корабля на стартовый пирс и сдали на руки мамы, Фела и ребят. На следующий день я уже был в числе «героев» эстафеты, а значит «своим в доску» для местных. Теперь я мог ходить в курзал на танцы, выбирать любых девушек и даже местных красавиц, и меня провожали уважительными взглядами. Правда, на следующий год мама сняла жилье в доме, где жила семья главного вожака анапских хулиганов. Фамилия хозяина дома и отца предводителя местной шпаны была – Бублик. И мне уже не надо было снова корячиться в эстафете, чтобы меня вновь начали узнавать подросшие за год новички - разбойнички на танцах, любому из нас достаточно было назвать фамилию Витьки Бублика и полная неприкосновенность была обеспечена. Итак, возвращаюсь к теме «потери моей невинности». Я был неплохо сложен, хорошо плавал, и было, очевидно, во мне молодом еще что–то, мною непознанное, что привлекло сердце, или какое– то иное чувство двадцатипятилетней привлекательной замужней женщины, воспитательницы пионерского лагеря, находящегося в пяти километрах от Анапы. Она, не стесняясь, сама подошла ко мне на пляже и попросила поучить ее плаванию. Уже через полчаса занятий она назначила мне вечернее свидание у ворот лагеря и убежала к своим воспитанникам. Днем ко мне привязался какой–то пьяный антисемит, ему очень не понравился мой жидовский нос. Я мужественно терпел его инсинуации до того момента, когда он сказал, что узнает евреев по запаху, так как от них, также как и от негритосов, воняет за версту. Бил я его недолго, но со знанием дела и с большим удовольствием. В итоге он покинул поле справедливого, с моей точки зрения, суда с носом, который еще долго не должен был воспринимать различные запахи, связанные с некоторыми особенностями нацменьшинств, а я с удовлетворенным национальным самолюбием и пачкой папирос «Беломорканал», оставленной мне в качестве трофея на месте ристалища. Сигареты я сунул в задний карман спортивных штанов, чтобы дома отдать курящей по пачке в день маме, но отдать забыл, так как до вечера пребывал в странном волнении ожидания свидания. Свидание было назначено на десять часов вечера, час, когда должны были уснуть славные лагерные пионеры. В половине десятого я простился с горящими от нетерпения услышать от меня, «что было?» и «как это?» ребятами и тихонечко, чтобы не заметила мама, выбрался из дома, прочно встав на скользкую «тропу любви». На юге ночь рано вступает в свои права. Штормило. Тяжелые упитанные облака неспешно двигались в сторону кавказского хребта, надолго закрывая и без того узенькую полосочку совсем еще юного месяца. Лагерь находился в пяти–шести километрах от Анапы, вблизи поселка с названием Бемлюк, и самый короткий путь к нему лежал по берегу моря. Это была узкая тропинка, протоптанная в зарослях фиолетовой колючки, любимого блюда кораблей пустыни - верблюдов. Даже светлым днем пройти по ней не разодрав штаны было непростым делом, пробраться же ночью без луны и фонарика… Но я шел. Шел напролом, то и дело спотыкаясь, в кровь раздирая ноги и единственные выходные брюки, руки и даже лицо. Я уже не принадлежал себе. Мой разум направляли два гена: ген еще неизведанной и оттого неутоленной страсти и ген вечного необузданного человеческого любопытства. Когда, беря интервью, журналисты задают мне традиционно шаблонный вопрос: - какое же главное чувство движет человеком в этом мире? – я без колебания отвечаю: - любопытство. Да и посудите сами. Даже в конце жизни, когда мы абсолютно твердо знаем, что впереди нас уже ничего приличного не ждет, секс, сумасшедшая любовь, признание современников, аплодисменты, – все кануло в лету, осталось только постепенное и неуклонное забвение имени и трудов, прогрессирующие в геометрической прогрессии недуги, пенсионная нищета, скрытое, хотя и далеко не всегда, раздражение детей, для которых старики обуза, и многое другое в той же угасающей ниточки жизни… Однако мы не сдаемся и только потому, что неуемный, неугомонный ген любопытства – король генов, зудит и зудит в заднице: - «Интересно, а что же будет завтра со страной, с детьми и внуками, с погодой, успехами медицины, Путиным, инфляцией, курсом доллара, концом света….». И это применительно к моему нынешнему возрасту. А тогда?! Тогда это был неукрощенный конь со всадником, по имени – похоть! Голодный, полный страсти конь, которого свело с ума призывное ржание ждущей его текущей кобылицы! Брызги бурлящего моря, долетающие до меня, не охлаждали пыла, а наоборот, взбадривали и заставляли не замечать трудности пути. Я представлял себе, как пламенно и красиво произойдет это свидание. Пытался вспомнить, как это было у классиков русской и мировой литературы, но кроме Пушкинской «Гаврилиады», Лермонтовского «Гошпиталя, «Петергофского праздника», да Барковского «Луки Мудищева» ничего путного в голову не приходило. Шальные строчки «…и куст ракиты мирно склонился над четой – лежит на бабе наш герой», пожалуй, были где–то близки моему режиссерскому замыслу, но меня почему–то больше тянуло на: «Я вас люблю, чего же боле – е…». Очевидно, сказывались издержки интеллигентного маминого воспитания. Наконец тропинка нырнула куда–то в непроглядную темноту, а я оказался прямиком у освещенных тусклой лампочкой ворот пионерлагеря. Местность была на редкость неприглядная. Голая, выжженная до глубоких трещин, жесткая как камень, поросшая колючками земля, покосившиеся ворота с погнутой и простреленной из дробовика ржавой железной вывеской, висевшей на одном гвозде и издававшей противный стонущий звук при каждом порыве ветра, забор, с выдернутыми через одну штакетинами. Окна давно не- крашенных деревянных бараков с громким названием - корпуса были темны и светились только в небольшом отдельно стоящем домике, в котором, наверное, жил директор этого пионерского ГУЛАГа. Я огляделся. Картина вселила в меня некоторое уныние и частично приглушила кобелиный зуд. Ложиться с любимой было некуда. Я начал судорожно вспоминать иллюстрации из какой – то восточной книги, где были приведены фотографии сексуальных поз партнеров, помещенных тысячи лет назад на стенах знаменитого индусского храма. Позы для «положения стоя» были какие–то малоудобные, и для того, чтобы не свалиться я начал их репетировать, прислонившись к столбу ворот. -Чем это ты занимаешься? – раздался из темноты женский голос, - такое впечатление, что она уже ушла, а ты еще продолжаешь ее трахать. Так обычно делают кобели, когда из-под них вылезает сучка. – Последовавший за этими словами звонкий смех вогнал меня в ступор, и я застыл в последней нелепой позе, сгорая от стыда и собственного идиотизма. Ведь Она (с испугу я забыл ее имя) наверняка сейчас думает, что я - либо сексманьяк, либо половой гигант, который, как бешенный конь ни минуты не может устоять на месте, либо просто псих. Я себе представил, как эта генеральная репетиция должна была выглядеть со стороны и понял, что обречен и надо без оглядки бежать домой. Однако, Она вышла на свет и на лице ее играла вполне доброжелательная улыбка. - У меня на все про все не более тридцати минут, в половине одиннадцатого наша старая карга директриса делает обход палат, и я, как штык и хорошая девочка, должна быть на месте. На, быстренько стели одеяло, только давай отойдем подальше от света. С этими словами она бросила мне тоненькое, вытертое почти до дыр байковое одеяльце и быстрым деловым шагом пошла дальше вдоль забора по пропавшей в темноте тропинке. Я с одеялом в руках поплелся за ней. Честно говоря, мне уже ничего не хотелось. – Может смыться домой? – Мелькнула у меня шальная мысль. Но додумать этот вопрос до конца мне не удалось, так как я с разбега налетел на Нее. - Ну ты и прешь, как танк, - Она засмеялась, дернула из моих рук одеяло и мгновенно расстелила его где–то в темноте. По скорости и точности движений моей подруги я понял, что занятие это для нее привычное, и место это уже утрамбовывалось такими же как и я неоднократно. – Между прочим, мог бы тоже захватить пледик из дома, земля уже остыла, и мне не хватает только прихватить воспаление легких, - прощебетала она и нащупав шею в кромешном мраке, обхватила руками, чмокая меня в лицо. Острый запах чеснока совершенно непроизвольно заставил меня отвернуть голову в сторону. Она, громко хохотнув и поджав ноги, повисла на мне. - Что не терпишь чесночек? Ну и дурак, это витамины и фитанциды. Они отлично отбивают запахи спиртного. Если наша карга учует алкоголь, а нюх у нее, как у охотничьей собаки, пиши пропало, рюкзак на плечи и первым паровозом назад, в столицу. А ты чего стоишь? Сбрасывай амуницию, время- то не стоит в отличии… - и она опять расхохоталась. А поцеловать меня тебе все равно придется, я без поцелуя трахаться не могу, - и почему-то липкие, холодные губы, насыщенные двумя вышеперечисленными ароматами, закрыли наглухо мой рот, а маленький верткий и сильный как ящерка язычок, разжав мои зубы, забрался чуть ли не в гортань. Это было малоприятно, но терпимо. Затем она профессионально подсекла ногами мои подколенки, и мы оба рухнули на твердую землю, сдобренную вытертой одеяльной байкой. Я довольно сильно отбил себе ягодицы, но моя многоопытная учителка не дала мне времени инстинктивно почесать ушибленные места. Она, как хороший ковбой из американского боевика, ловко вскочила на меня сверху, и ее маленькие крепкие ручки быстро начали стаскивать с меня рубашку и спортивные штаны на резинке. И тут меня прошибло холодным потом. Дело в том, что картину своего первого падения я рисовал совсем в иных тонах и красках. Я, почему–то, представлял себе уютную девичью светелку с черным ходом для появления и отхода любимого, где-нибудь в маленьком домике для педсостава, на отшибе территории лагеря. Славная кроватка, с жестким пружинным матрасом и со сбитыми, вышитыми маленькими белыми ручками моей будущей любимой красивыми подушечками. Она встречает меня теплым, нежным ароматным поцелуем, и мы долго-долго стоим обнявшись. Потом я медленно расстегиваю ее тончайшую батистовую кофточку, и обняв, расстегиваю пуговички или крючочки на лифчике. Она сама спускает на пол короткую юбочку на резинке и, переступая ее, за руки уводит меня к кровати. – А теперь я, - нежным, полным страсти шепотом говорит она и снимает с меня сначала рубашку, потом спортивные бумажного трикотажа штаны, и я гордо предстаю перед ней в роскошной борцовке (нечто типа женского купального костюма ) с эмблемой сборной страны, тесно облегающей мою ладную фигуру. - Милый, - говорит она нежно, - как ты изумительно сложен. - Худо–бедно, но все же чемпион Ленинграда по плаванью – гордо, но небрежно бросаю я и сбрасываю с себя борцовку. – Дальше мое воображение начинало давать сбои, потому что в этот момент бурная волна крови, до предела насыщенная мощным вспрыском адреналина, ударяла мне в голову, застилала глаза и я отключался…На эту тему есть великолепный анекдот: Карлик приходит к врачу на профилактический осмотр, раздевается, и доктор ахает, увидя его не по росту мощное «хозяйство». – Боже мой, - говорит доктор, - я себе представляю, как вас боготворят женщины! - Увы, доктор, но нет. - Почему? – удивленно спрашивает врач. - Видите ли, доктор, когда я сильно возбуждаюсь, кровь отливает от головы и приливает «к нему», я тут же теряю сознание и падаю в обморок. Итак, лежа на холодной каменной земле, я вспомнил про надетую борцовку. Конечно, можно было подняться и снять ее, но моя спешащая на обход наездница, нетерпеливо шаря по телу, никак не могла понять, что это за штука на мне надета и как от нее избавиться. - Ты что напялил на себя бабский купальник? – в ее голосе сквозило невероятное удивление. – Ты что, может быть, вообще, из этих, которые мужик с мужиком?… В то время слова - голубой и гомосексуалист еще не были в обычном обиходе. Педерастия, вообще, считалась делом уголовным, и за приверженность к ней сажали в лагерь строгого режима лет на десять. Так попал на Колыму знаменитый певец Козин, у которого спустя много лет я побывал в гостях. Я начал лепетать ей что–то нечленораздельное, но она меня уже не слушала. - Ничего, ничего, никуда ты, голубчик, от Женечки не денешься, и не из таких мест доставали…Бормотала она, вытаскивая мой несчастный девственный орган откуда–то сбоку и садясь на него. Адская боль защемленных тугой тканью борцовки яичек, заставила меня застонать. - Ну вот и отлично, самозабвенно работая надомной всем телом, простонала нашедшая свое Женечка. Отлично! Отлично! Скоро и тебе будет хорошо. Честно говоря, я не чувствовал ничего кроме боли в мошонке, потому что врезавшийся в «ствол» край борцовки действовал на половую чувствительность ,как укол анестезином. Единственно, что меня радовало, - мой «боец» не сдался и, несмотря на тяжелейшие условия «боя», держался насмерть. Вдруг горячая волна смерчем прошла по моему телу, оно непроизвольно вздрогнуло и я закричал …, но не от страстного оргазма, а от дикой боли. Проклятая борцовка пережала канал, и бурный поток семени молодого сильного самца, впервые направленный в богом данное ему, законное место, а не в какую–то пустоту, разом был остановлен искусственно перекрытым краном края борцовки, причинив своему творцу адскую муку. Женька, приняв мой дикий болевой вопль за скоротечный, но могучий естественный финал любви, со скоростью пули слетела с меня и как заяц начала прыгать вокруг ложа любви, выкрикивая шипящим шепотом: - Ты что, совсем, что ли?… Ты что, хочешь, чтобы я своему морячку подарочек в подоле принесла? Дура, связалась с младенцем… Я медленно встал, поправил борцовку, поднял, пошарив по земле, рубаху и штаны и, не проронив ни слова, медленно поплелся обратно по тропинке. Пах ныл. Семя, вошедшее обратно в тело, как–то сильно ослабило и утяжелило его. Голова гудела как огромный пустой котел. Жить больше не хотелось. Мимо меня, зажав одеяло подмышкой, не повернув головы в мою сторону пробежала Женька. Ущербный месяц наконец–то выбрался на свободу и тускло осветил огромные, лениво – тяжелые, грязные от мелкого песка валы, остервенело нападающие на пологий берег. Ветер завывал, как в пушкинских бесах. На моем пути встретился мостик через небольшую речку Анапку. Море нагнало в устье много воды, и она в мрачном свете лунного младенца казалась полноводной. - А не утопиться ли мне? – вдруг громко сказал мой внутренний голос. – Стоит ли жить в мире, в котором кругом один обман. Ты столько читал об этом грандиозном человеческом акте любви. Столько мечтал о страстных объятиях горячей и нежной любимой женщины. Так обожествлял ее безмерно желанное тело. И каков итог?! Неужели это и есть то самое, ради чего столько великих драм перенесло человечество. Значит, кто писали об этом, все об «этом» врали и врут?! Тогда чего стоит эта жизнь во лжи?! Я взглянул на черное рябое зеркало воды и меня неудержимо потянуло вниз. - Эта девочка ни в чем не виновата, - подумал я. – Она просто привыкла к обману, а может быть, ищет свою половинку? Тогда, может быть, и у меня она где–то есть эта половинка, и мне просто нужно поискать ее? Не спешить со скоротечными выводами, а просто обождать какое–то время и начать пробовать, пробовать, искать и искать! Я оторвал взгляд от воды, оделся и двинулся по тропе, дрожа от холодных брызг и сильных порывов промозглого влажного морского ветра. Тяжелые старые опытные тучи опять одолели еще неокрепшего пацана-месяца, и мир погрузился в непроглядную тьму. Нащупывая ногой дорожку, я медленно и осторожно двигался к дому. Вдруг впереди по курсу зажегся красноватый огонек. Загорелся и через секунду погас. Однако секунд через пятнадцать уже ярче и ближе вспыхнул вновь и вновь погас. - Что бы это могло быть? - со страхом подумал я. – Глаз кривого волка? А может быть рыси или какой–нибудь Баскервильско-Анапской собаки?. – Спина стала влажной, по ней забегали мерзкие мурашки величиной с хорошего таракана. Рука инстинктивно полезла в задний карман штанов, но обнаружила там лишь пачку папирос, взятую в качестве трофея в честном дневном бою со жлобом-антисемитом. - Надо искать камень, - подумал я, и, наклонившись, стал шарить рукой у края тропы. Камней не было, но колючки больно впились в кожу руки. Огонек приближался, включаясь и выключаясь через те же интервалы. Мне стало ясно, что это не зверь. Но кто тогда? Я остановился и сделал пару шагов в сторону моря. - В крайнем случае прыгну в воду, - подумалось мне. И не в таких бурунах плавал. Тут главное проскочить первую накатную волну. Еще через несколько минут я явственно уловил тяжелые, но явно человеческие шаги. Огонек, вспыхивая, начал освещать лицо, но какое–то очень странное лицо. Жесткие тени от носа и глаз, четкий обрис подбородка и огромный черный рот с опущенными уголками непомерно толстых губ. Еще несколько томительных минут, и так напугавшее меня чудовище оказалось грузным пожилым усатым рыбаком, с папиросой во рту. И вдруг, когда он поравнялся со мной, какой–то совсем чужой, почти писклявый голос вырвался из моей глотки и попросил прикурить. Старик остановился и подождал, пока я неверной рукой вытащил пачку «Беломора», неумело разорвал ее совсем с другой стороны и слегка подрагивающей рукой так же неумело прикурил от его чинарика. Идти стало куда веселее. Я закончил первую «беломорину» и прикурил от нее вторую, затем третью и так до восьмой. Голова кружилась, во рту образовалась какая–то помойка. Веселье первых затяжек прошло. Я дошел до забора нашего дома, облокотился о перекладину, и у меня началась неудержимая рвота до желчи. Я, качаясь как пьяный, подошел к колонке на соседней улице, умыл лицо, прополоскал рот и горло, выпил несколько глотков воды и, не отвечая на полные зависти жадные глаза ребят, повалился на кровать и очнулся только к завтраку. Ребятам я сказал, что она заболела и не смогла прийти. Они, конечно, не поверили мне, но больше тактично не приставали. На следующий день мама потеряла на пляже любимую ушную серьгу, я нашел ее в песке и, отдавая, обозвал растеряхой. - Ты вчера потерял нечто большее, чем моя серьга, спокойно ответила она и пошла к морю полоскать купальник. Как ни странно, но я быстро забыл мой первый, не очень удачный заход в мир настоящего мужчины и вся эта история уже не казалась мне такой грустной. Следующая женщина, моя соседка по лестнице и друг семьи, была старше меня лет на двадцать. Она была необыкновенно хороша лицом и телом, умна и добра, к тому же обладала поразительным тактом, с одной стороны, и необычайным сексуальным зарядом, - с другой. У нее были какие– то неприятности с мужем, туберкулезником, человеком малообщительным, желчным, физически слабым. Она очень вовремя и очень умело взялась за мое сексуальное воспитание, которое продолжалось несколько лет подряд и, по- моему, выковала из меня вполне приличного бойца. Я на всю жизнь сохранил тепло к ней, и мои последующие любимые женщины должны были бы ей тоже быть благодарны за преподанные мне уроки. -------------------------------------+---------------------------------------Сегодня утром я с сожалением закончил читать прелестную книгу сына последнего мужа Лили Брик - Владимира Катаняна о Маяковском и его любви к тете Лиле, - так называли ее в нашем доме. Один из замученных в ГУЛАГе братьев мамы, Феликс талантливый авиаконструктор, умница, обаятельный человек, гигант двухметрового роста, - был женат на сестре известной переводчицы Риты Райт - Люсе. Рита была близкой подругой Маяковского и обоих Бриков. Маленького росточка, непривлекательной внешности Рита была необычайно одарена природой. Я думаю, что лучшего переводчика с английского Россия не знала. Именно благодаря ей мы зачитывались «Сагой о Форсайтах» Драйзера и «Над пропастью во ржи» Селинджера. После гибели в ГУЛАГе Феликса Люся впала в глубокую затяжную шизофрению, и ее сына Сашу усыновила Рита, дав ему фамилию мужа, начальника Ленинградского училища подводников адмирала Ковалева. В шестнадцать лет Саша, стройный, красивый в отца, интеллигентный, очень начитанный мальчик уговорил приемного отца и Риту и ушел на фронт юнгой на торпедный катер. На войне нет более опасной профессии, чем танкист, пилот штурмовика и моряк торпедоносца. По неофициальной статистике торпедоносец в среднем жил двенадцать боев, а танк четырнадцать. В пятом бою катер Саши удачно торпедировал немецкий транспорт и уходя от цели, получил пробоину осколком в масляном радиаторе. Надо было выбрать: или смерть корабля и товарищей, или собственная страшная смерть. Советоваться было не с кем, да и некогда. Саша на палубе был один, кипящее масло хлестало струей, и выбор решали секунды. Мальчик не раздумывая, закрыл пробоину собой, успев до гибели накрепко привязаться канатом к радиатору, чтобы и мертвым остаться «пробкой жизни» для экипажа. Александр Матросов, закрыв телом амбразуру с пулеметом, погиб мгновенно (хотя недавно прочел, что история этого подвига практически полностью выдумана военным корреспондентом. На самом деле Матросов закрыл своим телом вентиляционное отверстие дзота. Немцы затащили его внутрь и там застрелили. Но этой временной паузой воспользовались наши солдаты и бросили в амбразуру гранату). Родина справедливо и с благодарностью увековечила память героя. Саша совершенно сознательно и добровольно медленно сварил себя в кипящем масле , - это была самая страшная пытка средневековой инквизиции, недаром ее так полюбил в свое царствование тогдашний Главный Зверюга России и любимый учитель Сталина – Иван Грозный. Родина оценила подвиг сына «врага народа» скромным офицерским орденом Красной Звезды. Да еще плакатиком в Ленинградском Морском Музее. Через несколько лет после войны плакатик сняли. Саша погиб в Шведских фиордах и, насколько мне известно, благодарные шведы назвали его именем улицу своего близлежащего городка и школу. Его имя упоминает писатель Кунин в своей книге : « Микки и Альфред». Пацанами они дружили и жили в одном дворе. С Куниным у меня произошел глупый и принеприянейший эпизод в жизни, о нем я вкратце расскажу в конце своей книги. В школьные годы тетя Рита, часто приезжала к нам в Ленинград, а как–то в Москве повела нас к тете Лиле Брик. Эта строгая, как мне показалось, и очень властная женщина произвела на меня неизгладимое впечатление. От нее веяло такой нравственной чистотой, добротой и обаянием, что память о моем детском впечатлении от этой встречи я сохранил на всю жизнь. Маяковский дружил с Феликсом и часто бывал в доме моей мамы. В Вильнюсе он часто приходил к ним со своим приятелем Марком Шагалом. Однажды они пришли в гости, как раз в мамин день рождения. Пятилетняя мама принесла свой альбом и попросила Шагала нарисовать ее портрет. Художник снял с ее пальчика колечко с небольшим бриллиантиком, подаренное в этот день дедом Соломоном, подошел к застекленной двери гостиной, одним росчерком выгравировал на стекле мамин профиль, поставил дату и размашисто подписал - Марк Шагал. Потом потрепал мамину головку и сказал, - Этот портрет будет жить вечно, как пирамида Хеопса. Мама рассказала мне эту историю в 1975 году. Их старая квартира находилась в Вильнюсе, бывшем Вильно. В Литве я в то время делал в Водоканале свою очередную машину для прочистки канализационных коллекторов ракетами, - изобретение, которое кормило меня лет двадцать пять, и играл авторские концерты в зале Вильнюсской Филармонии. Я начал уговаривать маму попытаться найти их старый дом и разведать, не сохранился ли этот драгоценный раритет. Оказалось, что не только ее портрет остался в квартире, но, убегая от немцев в 1916 году, дед в спешке замуровал килограммов десять столового серебра в дымоходе старой изразцовой печи в детской комнате. Удивительно, как пятилетняя девочка запомнила адрес дома, который покинула почти шестьдесят лет назад. Мы довольно скоро отыскали и улицу, и дом, и квартиру, но увы, судьбе было угодно распорядиться с кладом по–своему. В доме лет тридцать назад поселилось районное отделение милиции. Мы зашли внутрь, но здание оказалось полностью перепланировано и, по существу, остались лишь стены старой постройки. Я зашел к начальнику отделения, он слышал мою фамилию, так как концерты в городе я играл постоянно уже в течении нескольких лет. Тексты по тем временам были острыми, особенно для Литвы, в которой с сатирой было очень строго, и проходили мои концерты с большим успехом. История позабавила его, но о столовом серебре и рисунке Шагала он ничего не слышал. Он вместе с нами обошел весь второй этаж, где и была квартира, но мама не узнала помещения да и изразцовой той печи тоже уже не было. Не сохранилась и дверь. Скорее всего, при реконструкции серебряный клад реквизировали рабочие. Так что первая попытка стать миллионерами нашей семье не удалась. О второй попытке я расскажу уже в конце записок. -----------------------------------------------+--------------------------------------Евреев от убогих до великих Люблю не дрессированных, а диких. И. Губерман. Теперь немного о моем мудром деде Соломоне. Родился он в бедной еврейской семье в Вильно и был последним, восемнадцатым ребенком. Судьбу его братьев и сестер я не знаю и никогда ничего не слышал о его семье. Когда ему исполнилось двенадцать лет, а к этому времени он закончил четыре класса хедера – еврейской школы при синагоге, отец купил ему новые ботинки, дал на дорогу мешочек с едой на неделю и отправил куда глаза глядят. Глаза привели его в Варшаву, и он устроился в ресторан хлеборезчиком. До конца своей жизни дед с поразительной одинаковостью тонко и красиво резал хлеб и прекрасно точил кухонные ножи. В шестнадцать лет он сменил работу и устроился вырубщиком стелек на большую обувную фабрику. Через два года он купил эту фабрику на паях со своим другом и сменщиком. А еще через три года женился на вдове своего бывшего хозяина, владельца фабрики, с которой прожил пятнадцать лет и прижил мою маму. У жены, которая была старше его, было двое детей от прежнего мужа: Феликс и Лелик, о которых я уже говорил. Бабушка Мария, по рассказам моей мамы и фотографиям, была женщиной замечательной и необычайно волевой. Она трагически погибла, когда маме исполнилось двенадцать лет. В дом ночью залезли воры. Дед был где–то в отъезде, и в доме была только Мария и дети. Бабушка заметила грабителей и, открыв окно, начала звать на помощь. Тогда один из бандитов выстрелил. Пуля прошла через обе глазницы и переносицу. Бабушка ослепла. По возвращении деда она позвала его к себе и сказала: - «Соломон я не буду жить слепой. Если ты любишь меня, принеси яд». Дед, безумно любивший ее, категорически отказался выполнить страшную просьбу. Он приставил к бабушке трех сиделок, и они должны были постоянно находиться при ней, не спуская глаз. Бабушка перестала общаться с ним, по очереди пригласила к себе детей, дала каждому материнский наказ и попрощалась с ними. Во время обеда она попросила одну из сиделок принести ей что–то со двора, и когда та вышла, она оттянула повязку с глаз и насыпала в каждую рануглазницу соль. Сутки она терпела эту невыносимую боль, не произнеся ни звука. Еще через двое она в страшных мучениях умерла от сепсиса. Дед был в трансе. Больше месяца он ни с кем не разговаривал. Он и так–то от природы был не из болтливых, но с той поры всю жизнь из него надо было клещами тянуть слова. Отец называл его – дед – молчун. Сейчас, вспоминая историю мученической смерти бабушки Марии, я начинаю понимать, откуда у Саши Ковалева, ее внука от старшего сына Феликса, была эта невероятная воля. Их ужасные предсмертные муки, ради спокойной жизни дорогих их сердцу людей – величайший человеческий подвиг, вполне сравнимый с муками Спасителя. Церковь, если бы они были крещеными, «не упала бы с коня», причислив обоих к лику святых. Они стоили того! Не знаю, как погибли мои дядья в Сталинских лагерях, но не сомневаюсь, что бабушке Марии не было бы срамно за поведение, выдержку и стойкость своих любимых сыновей в последние мгновения их оборванных большевиками жизней. Моя замечательная мама тоже унаследовала этот семейный ген самопожертвования. Она не захотела быть обузой мужу и детям, тяжело заболев в старости, и покончила собой перерезав вены рук в больнице. Правда, иногда деда Соломона, вдруг, как бы прорывало, и тогда он безумно интересно мог говорить более часа подряд. Мне несколько раз в жизни удалось попасть в такие вот словесные прорывы, и из них я и узнал то немногое, чем хочу поделиться . История с приобретением фабрики, на первый взгляд, была удивительна проста, а тем и гениальна. --------------------------------------------+-------------------------------Евреи знали униженье под игом тьмы поработителей, но потерпевши поражение, переживали победителей. И. Губерман. На складе фабрики за десятки лет скопилось несколько десятков тонн обрезков после вырубки кожаных стелек и подметок. Дед, любивший хорошо одеваться, обратил внимание на то, что в парижской моде начинает появляться тяга к наборным кожаным каблукам. Хозяин фабрики, человек обремененный семейными и фабричными заботами, пока не заметил этой тенденции, и дед воспользовался ситуацией. Фабрика работала по старинке, и ее продукция не была конкурентом, бурно набиравшему темп петербургскому «Скороходу». На замену старого оборудования нужны были большие деньги, которые владелец собирал по крохам откуда возможно, и дед предложил ему продать, причем за гроши, это лежавшее мертвым грузом, никому не нужное кожаное добро. Обрезки и две вырубочные машины они с напарником, тоже молодым смышленым еврейским пареньком, взяли в кредит на год. Аванс внес отец напарника. Через два месяца фабрика перешла на наборные каблуки, заготовки для которых она покупала за приличную цену у молодых коммерсантов «Соломон и Ко». Еще через год фабрика обанкротилась, благодаря усилиям того же «Скорохода», и молодые компаньоны выкупили ее в кредит. Хозяин был смертельно болен чахоткой и не перенес потери. Молодой вдове с двумя маленькими детьми он оставил мизерное состояние, и предложение о браке, сделанное перспективным, очень симпатичным молодым новым хозяином, пришлось ее пошатнувшемуся бюджету, а как оказалось позднее, и сердцу как нельзя кстати. Во время Первой Мировой войны, когда немцы подошли к Варшаве (в этом городе родилась мама), дед погрузил оборудование фабрики в поезд и отправился в Россию. Однако по дороге состав попал в руки немцев, и дед оказался в лагере для военнопленных. В 1916 году он бежал и в арестантской пижаме сошел с товарняка на Савеловском вокзале Москвы, откуда и был сопровожден городовыми в кутузку. Я не знаю, чем он взял начальника вокзальной полиции, но ровно через неделю тот, на правах лучшего друга сидел с ним за ломберным столиком в дедовской новой собственной восьмикомнатной квартире на Кузнецком Мосту и проигрывал последние деньги в двадцать одно, которым дед в совершенстве овладел за время отсидки в лагере. Гордостью деда была даже не сама по себе квартира в самом престижном районе Москвы, а белый рояль, марки «Стейнвей», на котором, по слухам, в свое время играл сам великий Антон Рубинштейн. Я не поверил бы в эту невероятную историю даже такому честнейшему человеку, каким был дед, но мне подтвердили ее мама и Муся, которые больше года жили с ним в Москве. Москва и революция не легли деду на сердце, и он перебрался с детьми и новой женой, «большой советской детской писательницей», в Среднюю Азию. Там он организовал первый в Союзе колхоз – миллионер из бухарских евреев. Сам факт организации колхоза - миллионера в те времена – явление выдающееся, но то, что он состоял из бухарских евреев – факт значительно более невероятный, чем даже история с московским белым роялем … А уникальность этого предприятия заключалась в том, что до той поры никому и никогда не удавалось заставить работать на земле эту очень своеобразную народность. Я вообще не знаю, какое отношение «бухарцы» имеют к евреям? Говорят на узбекском языке, обычаи, скорее, узбекские, чем еврейские. Религия - не поймешь какая, ну, разве что не работают с вечера пятницы до понедельника. Основная отличительная черта этого этнического образования – полное отвращение к активному физическому труду, даже с минимальной затратой энергии. Они испокон веков торговали пареной айвой на улицах и кое-как чистили клиентам пыльную обувь. Однако волшебник Соломон смог найти тот самый папакарловский золотой ключик к их ленивому менталитету, и колхоз цвел и пах свежевяленными сухофруктами и дефицитными овощами. Во время войны дед, как я уже говорил, снабжал Россию сухофруктами из Узбекистана, сам оставаясь тем же самым честным нищим, каковым был во все времена советской власти. В 1949 году его посадили «на всякий случай», как в те времена водилось, по доносу его зама, который излишней честностью не был болен, и очень хотел сесть на теплое для истинного ворюги место деда, при условии, что того запрячут далеко, а главное, надолго. Дед отсидел около года, привел бухгалтерию тюрьмы в идеальный порядок, наладив в зоне выпуск кирзовых сапог для армии и дамских туфель - лодочек из той же кирзы, но на ультрамодных наборных толстых и высоких каблуках и был отправлен на свободное поселение, в когда–то родной Вильнюс. Там он благополучно дожил до восьмидесяти пяти лет, так ни разу за всю свою достаточно длинную жизнь и не успев заболеть, работая до последнего дня сторожем на местной электростанции. Как–то ночью он разбудил Мусю и попросил ее протанцевать с ним танго. Муся, за полсотни лет привыкшая к его чудачествам, вытащила с антресолей патефон образца 1919 года, и смахнув пыль поставила пластинку с танго: «Счастье мое, я нашел в нашей жизни с тобой…». Дед кряхтя поднялся с постели, налил себе рюмочку водки, а Мусе бокальчик красного вина, сделал несколько заковыристых па , как когда–то в молодости, поцеловал жену и, попросив ее подогреть ему стакан молока, снова лег в постель. Когда Муся вернулась к нему со стаканом, он был уже в гостях у своего еврейского бога, а умиротворенная улыбка на его устах говорила о том, что покинул он этот мир с теплым чувством и благодарностью, если не за все, то, по крайней мере, за многое!… --------------------------------------------+ ----------------------Если и есть во мне что–то не совсем ординарное, то это только от деда Соломона, и, встретившись, бог даст, с ним в том, лучшем из миров – я с нежностью и глубочайшей благодарностью низко поклонюсь ему в ноги и крепко расцелую за это. Вчера мне позвонил приятель и сказал, что попробует издать наш с Володей Синакевичем сборник эстрадных фельетонов, монологов и миниатюр. Это будет нечто ностальгическое по прежним, постсоветским временам. Ведь что такое юмор? Как можно рассмешить человека? Есть много классических приемов, описанных в учебных пособиях по природе юмора и сатиры. Ну, например, антитеза: - Она была чудовищно некрасива, но зато у нее была огромная сизая бородавка на правой ноздре. Или такой анекдот: Граф Бобби и Барон Муки выходят из казино, где они изрядно продулись: Барон в одних кальсонах, граф - даже без них, прикрывает мужские достоинства газеткой… -Я восхищаюсь вами, барон, говорит голозадый граф Бобби. – Вы всегда точно рассчитываете, когда надо прекратить ставки и выйти из – за стола. Или: - Парикмахер, дважды сильно порезав клиента, чтобы как–то смягчить ситуацию, затевает с ним разговор: - Вы у нас раньше бывали? - Не, дорогой --руку я потерял на войне… Два лучших способа применительно к той же классике, это либо говорить запрещенную правду, - это будет смех сквозь страх, либо, повернувшись спиной к зрительному залу, быстро нагнуться и обнажить задницу... В наше с Володей время, когда гланды вырезались через задний проход, потому что рта открыть было нельзя, мы только тем и занимались, что хотя бы намеками пытались протащить вместе с актером до замордованного, запуганного до полусмерти зрителя через одиннадцать цензоров, малюсенькую толику этой чуть живой правды. И если это удавалось, зрительской благодарности не было конца. Райкин это умел делать виртуозно. Он находил удивительные слова и буквосочетания и умел так расставлять интонации и акценты в казалось бы в ничего крамольного не содержащихся текстах, что зал, замирая, тихо погибал от хохота. Сегодняшним писателям - сатирикам, куда как легче. Сегодня правдолюбец Миша Задорнов, получивший царскую квартиру в охраняемой спецназом парадной президента из его же рук и берущий десятигодичную зарплату среднего инженера за один концерт, «смело и архирешительно» мешает своего благодетеля и кормильца на сцене и по «телеку» с дерьмом, прекрасно зная, что ему ничего за это не будет. Он, с молчаливого согласия власть имущей элиты, приоткрывает крышечку от чайника, чтобы выпустить пар из застоявшихся от безысходности черепов обывателей, дабы внушить им, что нынешняя власть, читай бывшая партократия, - это–то и есть настоящая буржуазная демократия. Его хорошо оплачиваемая работа «искреннего до мозга костей правдолюбца» имеет только одну сверхзадачу: - любым способом, выпустив пар справедливого недовольства низов, упрочить воровскую, лишенную всяких моральных барьеров власть чиновничьей верхушки. Хотя по текстам, вроде бы, получается все как раз наоборот. Делает он свое заказное дело талантливо и, с их точки зрения, - честно, отрабатывая вложенные в него средства и неприкосновенность, и от этого мне еще более стыдно за него. Попробовал бы он хоть толику из этой неиссякаемой обличительной оргии недорогих и хоженых на эстраде приемчиков и угроз - аж туда, на самый верх, - вякнуть даже просто у себя дома, за закрытыми дверями, в те, … нашенские времена!!!…Тогда, в самом начале своей писательской карьеры, он начинал с блеющего, беззубого фельетончика про отцепленный вагончик поезда, в котором спал «человек рассеянный, с улицы Бассеиной»… На большее обличение «правды о советской действительности» в те годы смелости у него, увы, не хватало! А потому, дальше Жени Петросяна он и не пошел. А на Аркадия Исааковича Райкина смотрел лишь из зрительного зала, если по блату мог достать билет. Вся беда судьбы сборника, который мне, может быть, придется составить, заключается в том, что молодому зрителю наши, таким трудом протянутые на свет обличения той рабской жизни, покажутся детскими анекдотами про «Вовочку», да, пожалуй, сейчас и эти - куда как острее, а мое поколение обо всем, что было, - уже давно позабыло. Им уже кажется, что мясо, рыба, колбаса, телевизоры, западные стиральные машины, да и заодно с ними Задорновы - были в стране всегда. Память людская на зло – удивительно скоропреходящая штука! Хотя, может быть, это и хорошо?... На днях моя приятельница в Германии рассказала жуткую историю, свидетельницей которой была сама. В городке Гиссен мэрия решила найти нескольких советских граждан, угнанных немцами в Германию во время войны и рабски батрачащих в плену у жителей этого городка. Горожане собрали достаточно большие средства, во искупление вины своих отцов и дедов. Самым трудным делом оказался поиск тех, ради которых и затевалась вся эта замечательная кампания, но нескольких древних старушек и чуть живых старичков, в основном жителей украинских и белорусских местечек, все же нашли. Купили жители Гиссена им телевизоры, стиральные машины и, в порыве сентиментальных чувств, даже несколько автомобилей, естественно, в плюс к немалым суммам в марках. Весь городок несколько месяцев жил огромным чувством праведного раскаяния. И вот, наконец, этот волнующий день настал. С бывшими батраками приехало и молодое поколение, которых значительно больше былой восстановленной справедливости, волновали щедрые дары и деньги бывших проклятых фашистов и жестоких эксплуататоров их родичей. Не буду останавливаться на том, как вели себя там эти абсолютно современные российские бритоголовые накаченные молодцы, упаковывая в прекрасных дорогих гостиничных номерах несметные дары и хватающие друг дружку за грудки при дележе подарков. Дело в старичках. Когда мэр, вытирая слезы, всенародно попросил у дорогих ныне гостей прощения за их страдания в те далекие годы рабского плена, одна из старушек упала на колени, и начала целовать ему руки. У несчастного главы города отпала челюсть, и его долго приводили в чувство. Мы, россияне, а теперь, скорее, просто славяне зла не помним и долго в памяти не держим…Неизвестно, правда, где этой бабульке больше досталось: в немецком плену или по возвращении в своем нищем колхозе, да еще после проверочных бесед с представителями НКВД, но это уже арии из совсем другой оперы. ------------------------------------------+------------------------------------------Я Россию часто вспоминаю, Думая о давнем дорогом, Я другой такой страны не знаю, Где так вольно, смирно и кругом. И. Губерман. Вспоминаю историю связанную с Райкинским монологом «День счастья». Он стоял в его репертуаре более десяти лет и был «гвоздевым» монологом в нашем с Володей спектакле «Древо жизни». Монолог этот я приведу ниже. Он тоже ложится в тему о короткой народной памяти на нищету, бесправие и прочие тяготы жизни. Замечателен он тем, что совершенно неожиданно явился, эдаким эпохальным ключом, в переходе страны от застойного болота, руководимого полутрупом Брежнева к развальному перестроечному периоду болтуна Горбачева. Но сначала о короткой народной памяти…Осенью 2001 года в петербургском Театре Эстрады праздновался 90-летний юбилей со дня рождения Аркадия Райкина. Поскольку авторов театра Райкина в Питере осталось всего трое: Ким Рыжов, я и Сеня Альтов, дирекция Театра Эстрады попросила меня открыть торжественный вечер памяти великого юбиляра самым острым монологом, из самого громкого спектакля того времени. Поверьте на слово, что исполнял я его всегда, да и на этом вечере -неплохо. Во всяком случае две старушки - билетерши, еще служившие в театре в те мои гастрольные времена, прибежали после выступления за кулисы со слезами счастья, благодарности и всхлипами воспоминаний. В зале, в основном, сидели люди среднего и пожилого возраста. Для молодежи имя величайшего комика страны, увы, уже ничего не говорило. Да, они слушали меня внимательно и, пожалуй, с неподдельным с интересом, но сегодня страсти героя этого трагикомического памфлета из далекого прошлого их родителей были им малопонятны, и не трогали сердца. Сегодня они жили в мире совсем других забот, в мире нехватки денег, а не дефицита продуктов и сервиса. И если этому сборнику будет все же суждено увидеть свет, для читателя - это скорее книжка историческая, чем юмористическая. ----------------------------------------+---------------------------Всю Россию вверг еврей В мерзость и неразбериху; Вот как может воробей Изнасиловать слониху. И. Губерман. Итак, каким же был этот опус: «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» Я человек простой, фигурно не умею… Скажу так!…Щастье это когда всюду чтоб…Вот нельзя, чтоб тут у- у – у -!…А вот тут, как говорится, и в помине…Надо, как говорится, и дома чтобы было, а на работе тоже, как говорится немного, но тоже положи…А когда дома гора…Сберкнижки на тумбочке,…а вот тут слева один из этих клапанов, как говорится не в такт стучит, это уже не щастье… Вот у его, к примеру, зуб болит, он и щастлив, когда выдернет! Ан нет, зуб – то ныть перестал, ему уже и квартеру подавай!.. Он, женимшись, квартирку–то получил от работы, щастлив, а она, стерва, его с ей и выгнала, с квартеры-то,…знал штоб, а он ей ее оставил, дурак, квартеру–то …благородно штоб. Таперича опять, несшастный, без ее… без квартеры. Опять квартиру заимел – щастливый! Но месячишко прошел, он уже и думать забыл про это. Его, друга, забота мучит: чтоб сей момент стоял бы вот здеся…Раньше-то обходился, а таперяча, чтоб сей момент бы поставили вот тут, рядом с кроватью – телефон… Щастье – это не обязательно много штоб, можно и мало, но того, что человеку не хватает. Вот в моей жизни был один день полного щастья. Я людям рассказываю, а мне говорят – врешь – не может быть в нашей стране с человеком такое. А со мной было! Со мной было! Было такое со мной. Один день, но было! Пошел я как–то в гастроном за «Белым мором». Беру я, это, две пачки «Белого мору», - «Белый мор» – папиросы так называются. Смотрю, а за прилавком торчит яшшик, а в яшшике-то банки: - печень трески называются. Я даже и глядеть не хочу в тую сторону. Потому, как не дурак, понимаю, что это для своех, для внутреннего употребления, как говорится. Не-е-т!…Гляжу народ, можно сказать посторонней,… с улицы,… и прет и прет, и становится в черед!… Я тоже тихонечко встал. Стою себе тихо, дрожу, не ликую, сдерживаю воображение потому, что понимаю: сейчас продавщица заорет: - касса, печень не выбивать, чтоб!. Нет не заорала. Я стою, дрожу, стою - дрожу. Думаю: сейчас кассирша кассу щетами прикроет наглухо, как в танке, а ей - стерве приспичило деньги пересчитывать и все!… Н-е-т! Проскочил кассу. Стою к продавцу, держу чек в мокром, от счастья потном кулаке, но не ликую, сдерживаю воображение потому, как знаю, сейчас из задних рядов какая– нибудь старушенца заверещит : - В одне руки по одной банке, чтоб! Короче, – десять банок по государственной цене в прованском масле!…. Вышел, от счастья сам не свой, все кружится. Думаю: бабе – то своей , жене, значит, позвонить бы. Семейным счастьем таким поделиться. Все, как ни говори, родной, близкий человек. Поди двадцать восемь лет бок об бок живем, - собачимся. А тут - на тебе, - у самого магазина автомат стоит. Но, правда, подозрительный такой, - все стекла в ем целы. Ну я все же не совсем мешком шибанутый, соображаю еще кое – что. Думаю, трубочка–то, наверняка, тю-тю - срезанная… Н е е т! Подхожу ближе – висит!… А у меня в кармане двушка–то всего одна, да и та гнутая. Сейчас, думаю, он ее, гад, сожрет и пойдет себе дальше пикать. А где ты в городе найдешь эту – то проклятую двушку? Народ - то бегом бежит, спешит. Как же? Ему ведь надо то, да се, да еще между делом быстренько «пять в четыре» заделать. Разве кого с такой скорости – то затормозишь? А подойди к продавцу или кассиру, попроси товарищей обменять? Так ведь обложат же и дальше по своему торговому сервису с разбегу пошлют. А тут навстречу мне шкандыбачит старушенция – в две кривые ноги, и в две прямые палки. Я ее под уздцы хвать, за ворот, значит. Бабуля, говорю, будь человеком, дай двушечку негнутую. Человеку домой жене своей позвонить, счастьем семейным поделиться! Она говорит: - Родной, хуч ты меня убей, но этого не могу! У меня их для всякого крайнего случая всего три в штанготках подвернуты. Одна – это ежели, что с сердцем случится, так неотложку позвать. Другая – ежели какие дурные фулиганы вдруг набегут, – насильничать будут, – так в милицию собчить. Третья, – дочке позвонить, сказать, что увсе, слава богу, благополучно закончилось. И до чего мне противно все это стало И такая вдруг злоба во мне взыграла! Взял я эту авоську с дефицитными банками, раскрутил ее пошибче, да как по ентому сучьему автомату шарахну! Так он не только, гад, сразу соединился, - он со страху еще в запас семь двушек выплюнул! Верите, я от счастья просто ошалел весь ! Ведь это же надо, чтобы человеку ни за што, ни про што, перла такая везуха! Стою я в этой будке весь взопревший от счастья. Со лбу текет. Глаза едучим потом застилает. Муха на лоб села, а согнать–то нечем. Ручонки – то мои, счастливые, под драгоценными банками заняты. И одна только мысль в башке зудит, как комар: - Водички бы напиться! Водички! Да уж и не холодная, мокрая была бы. Вытираю я лоб локтем пинджака и глядь, а за углом задняя часть железной бочки торчит. И зад – то сам по себе у ей желтенький, а на боку черная буковка « К» виднеется. Ну я же не дурень. Соображаю, значить бочка с квасом! Но зад – то у ей видать, а очередь – то, что стоит с передка, она вся за углом загнутая. Иду я к этой бочке, но не ликую, сдерживаю воображение. - Пуста бочка, пуста. – говорю сам себе, - или очередь, как в аэрофлоте летом, перед отпуском. Захожу за угол – мать честная! А там всего – то сорок семь человек и только тридцать восемь из них - вот с такими бидонами! Стою я в этой очередишке, но не ликую, сдерживаю воображение. Сейчас, думаю, у ей шланг лопнет, нечем будет кружки мыть, и все – кончилося народно удовольствие! Короче, всего – то через полтора часа квасу холодного до пупа напился. И так мне хорошо – то стало, так хорошо, аж худо… Я себе в полуклинику то и пополз. Тащуся я полуклинику, а сам себе говорю: ну гады, если еще сразу и карточку мою отыщут, – в Бога поверю! Не бойтесь атеисты - Бога нет! Сорок минут все бумажки ворошили. В корзинку под стол даже лазили, - не нашли. Сгинула, видать, моя карточка к чертям собачьим в самое пекло! Я стою дрожу, стою - дрожу. Думаю сщас это молодая подальше пошлет… Сщас эта пожилая крутым словом обложит… Нет! Не обложила! Нову карточку выписала! Я людям рассказываю эту историю, а мне говорят – врешь! Не может быть у нас в стране с простым человеком такого! А уж про полуклинику, Васек, ты, вообще, уже окончательно заврался! А со мною это было, было это все со мной! И вот я думаю, што ежели все это щастье, которое выпало в один день на мою долю, да разделить равномерно бы, да на цельный год, а в году – то 365дней, вот где оно настоящее - то человеческо щастье–то было бы! Ведь человеку для полного-то счастья - так мало надо. А теперь вторая история – так сказать, забавный эпизод на срезе двух советских эпох. Не помню год и не помню номер того Съезда Коммунистической партии, но это был точно последний коммунистический шабаш в правлении и жизни Брежнева. После закрытия этого политического и, как всегда, блестяще срежиссированного театрального представления обычно для его делегатов давался большой эстрадный праздничный концерт во славу социалистического рая. Выступали в нем и ведущие сатирики эстрады, и оным, иной раз, даже не возбранялась «едкая сатира», ну, скажем, на уровне: – «А в отдельных магазинах - нет отдельной колбасы!!!» Зал, состоящий из купленных благами разной степени «народных избранников», бешено аплодировал героям – правдоборцам, не побоявшимся вынести на суд всей страны и ее доблестного политбюро столь смело изобличающие наши недостатки остроумные куплеты. На этот раз на торжественный концерт был приглашен сам Аркадий Исаакович! Не знаю, кто просматривал его материал, но уверен, что мало ему потом не было! Райкин прочел «День счастья»! По окончании выступления в зале раздалось несколько жидких хлопков «с оглядкой». Ведущий, даже не вызвав артиста на поклон, быстренько, почти скороговоркой, объявил выступление хора имени Пятницкого. На следующий день делегаты съезда все, как один в едином порыве от всей души, объятые справедливым негодованием, направили в адрес дорогого Леонида Ильича кровью сердца написанную петицию, в которой на чисто русском языке было изложено приблизительно следующее: «Наш дорогой, несравненный, горячо любимый, доблестный, неповторимый, и т. д….В то время, когда вся наша великая страна утопает в благоденствии, сытости и роскоши и т. д…И тем ни менее, кое-где, неизвестно откуда, но находятся отщепенцы сионистского толка, которые, несмотря на и т.д… И не видя, наших достижений и т. д…. Некоторые рады оклеветать и т.д…Но мы не сомневаемся, что наш сознательный народ, идущий под руководством дорогого, любимого, неповторимого и т.д... Никогда не допустим и т. д…. Никому не позволим….и. т.д…..Никогда не свернем с пути, указанного нам дорогим, горячо любимым и т.д… И пусть не думают некоторые и не надеются, что и т.д… Заверяем Вас, дорогой, и т. д…» Организатором этого крика души и сердца, по слухам, был Первый Секретарь Обкома Партии Запорожья. Именно того самого города, где как раз и в это самое времечко проходили наши гастроли с Альфредом Тальковским - моим напарником и дружком. Фредик был исполнителем бардовских песен, сам немного писал стихи и неплохую музыку к ним. Обладал великолепной внешностью, приятным тембром голоса и был великим мастером своего жанра. Женская половина зала всегда принадлежала ему и только ему, а с мужской - приходилось бороться мне, правда, не один на один. Мы с Фредом придумали некий, до нас неиспользуемый на эстраде жанр: - лирико – сатирический монолог с песенной поддержкой. Зрителю это очень импонировало, и мы с достаточным успехом лет восемь утюжили лучшие площадки необозримой державы. Но об этом я расскажу позже в разделе: «Моя жизнь с эстрадой», а пока вернусь к заклейменному делегатами съезда монологу. Съездовский концерт транслировали все средства советских СМИ и, уж обязательно, центральное телевидение .Я в этот самый момент сидел с рюмкой коньяка в мягком кожаном кресле директорского кабинета зала Филармонии, где проходил наш очередной концерт и кайфовал, слушая свой монолог в исполнении нашего эстрадного гения. Если бы не армянский «Отборный» за 4 рубля 12 копеек, мы с директором, наверняка, обратили бы внимание на «жидковатость» реакции зажравшегося партийного зала, но ароматные пары дефицитно - качественного алкогольного продукта отменно сделали свое прямое но, на этот раз, увы, недоброе дело, и этот, исключительной важности момент ускользнул из нашего с директором внимания… На следующий день всемогущий Первый Обкомовский Секретарь вернулся в родные пенаты, и то ли его холуи доложили обо мне, то ли он увидел на моей афише отныне ненавистное ему имя Райкина, но вечером «Хозяин» без предупреждения приехал на концерт и, к своему великому удивлению и гневу, прослушал из моих уст то самое «вопиющее безобразие», о котором он только что!… И, которое они все вместе!… В едином порыве!… И дорогой Леонид Ильич!… И лично!… Билетерши филармонии на следующий день нам рассказали, что на выходе из зрительного зала - «Хозяина» аж качало от ярости. Садясь в машину, он со всей силы пнул ногой случайно подвернувшуюся, ничем не обидевшую КПСС, собаку и процедил сквозь зубы, что то же самое он завтра сделает с этим пархатым еврейчиком, сиречь со мною, и с несчастным, ни в чем неповинном, равно как и та собака, директором филармонии. Наше, по всему видать, дохлое дело усугублялось еще и тем, что в насквозь промышленном украинском Запорожье с практически полностью русским населением много лет назад был негласно установлен режим «закрытого города», а потому иностранным гастролерам, а также, всяким там российским сатирикам и юмористам въезд в него был категорически запрещен. Директор же филармонии, грубейшим образом нарушивший этот подпольный, но священный приказ обкома, не только по совершенно непонятным партийной власти причинам пригласил одного из оных, но после первых трех спектаклей с переполненными залами и длиннющими очередями в кассу продлил количество концертов с 6 до 36 штук! Следующим утром нас с Фредиком разбудил ранний телефонный звонок в номере. Голос директора филармонии звучал так, будто он попал в большую компанию голубых и оказался там единственной «девочкой» с аппетитной попкой. - Яковлевич, - простонал он, - выходите на улицу…. Вас ждет САМ… - Где? - пробормотал я, еще плохо соображая, кто такой этот САМ . - В своем обкомовском кабинете. - В такую рань? – удивился я, еще не понимая всего ужаса надвигающегося на меня урагана… - А почему только меня? - Меня он только что употреблял во все места не менее часа, – простонала трубка. - Так может по пути заскочим в дежурную аптеку мне за вазелинчиком? – безмятежно, еще не совсем проснувшись, попытался пошутить я. - Яковлевич, ты себе плохо представляешь, куда мы вляпались… - голосом мертвеца ответил мне телефон. – Одевай штаны, я жду тебя внизу. - Что – нибудь случилось? – не просыпаясь, пробурчал Фред. - Да так, ничего особенного, - уже без прежней бравады в голосе, путаясь ногами в джинсах, ответил я, - просто сегодня мне, очевидно, придется на парочку часов сменить сексуальную ориентацию. - А, что может быть, это даже интересно для разнообразия… А ты там за кого будешь выступать? - За девочку. - Это интереснее вдвойне… Придешь, поделишься впечатлениями…-пробормотал Фред и вновь отключился. Картинка, которую я узрел, открыв дверцу потрепанной директорской «Волги», не добавила мне ни капли оптимизма. На заднем сидении полулежал смертельно бледный, незнакомый мне человек, ни в коей мере не походивший на покинутого мною вчера после концерта жизнелюбивого и хлебосольного бодрячка директора. Мне была известна история его «перехода» из кабинета секретаря горкома по идеологии в кресло руководителя заштатной городской филармонии. Его «подкараулил» на длинноногой красотке секретарше, застукал и сдал «хозяину», тоже имевшему виды на этот «цветочек», начальник отдела пропаганды и агитации, получивший в благодарность за «подлянку» еще тепленькое место бывшего шефа. «Хозяин», однако, несмотря на свою, практически неограниченную власть в подвластной ему вотчине, почему–то так и не смог «вплотную», пробиться к прелестям очаровательной не им соблазненной. То ли нахамил ей ненароком, то ли имел уж больно мерзкую рожу, а, может быть, у провинившихся ив действительности был настоящий сердечный большой роман, но фактик такой - имел место. Хозяин затаился, и ему нужен был лишь предлог, чтобы окончательно стереть более удачливого соперника «с партийного лица города». А я, того не ведая и питая самые теплые чувства к отличному директору и хорошему человеку, своим дурацким монологом утопил его, и на этот раз, кажется, окончательно. Мы молча доехали до огромного здания обкома, «славного» тем, что во время его постройки упавшие строительные леса насмерть задавили несколько женщин – штукатуров. Я крепко пожал его ледяные пальцы и, буркнув что–то бравурно – утешительное, бодрым шагом свободного, прекрасно владеющего своими чувствами человека направился к главному вестибюлю. - Какого дьявола мне волноваться, - билась в башке утешительная мысль. – В конце концов, кто он мне этот «хозяин» переферийного украинского городка? Я - известный писатель – сатирик, наверняка стою в пятерке, если не в тройке ведущих юмористов страны. Райкин получил за наш спектакль «Ленинскую премию», значит, текст его одобрен самой партийной верхушкой, а не просто пропущен цензурой. В Министерстве Культуры СССР правят эстрадой мои друзья, которые какому – то областному украинскому придурку в обиду меня не дадут. Я, Лауреат Всесоюзных Конкурсов Драматургов и Артистов эстрады, имею самую высокую актерскую категорию и право на сольный концерт в двух отделениях. На гастролях мои залы всегда полны зрителей. Ну что мне может грозить? Да и, вообще, я «неприкасаемый», у меня же в загашнике есть визитка корреспондента «Крокодила», которой как огня боятся партийные крысы покруче этого заштатного парткретина! Так, взбадривая себя, я вошел в огромный парадный подъезд и сразу же попал в объятия высокого стройного красавца с просветленным плакатным лицом бывшего комсомольского вожака районного розлива. - Уважаемый Вениамин Яковлевич, как я рад видеть Вас нашим гостем! – Лицо его лучилось неподдельным счастьем. Такие лица были только у прежних комсомольцев в момент рапорта родной Коммунистической партии о своих замечательных достижениях. – Я, с Вашего позволения, заведую отделом пропаганды и агитации в этом замечательном заведении, и зовут меня Леонид Ильич, не правда ли, восхитительное совпадение имен устроили мне мои папаша с мамашей! - Надеюсь, Вы позволите не прибавлять к вашему замечательному имени приставочку - «дорогой»? – в тон ему пошутил я. - Оставьте ее для обращения к нашему уважаемому шефу, которого величают Гавриил Опанасьевич, и который с нетерпением ждет свидания с Вами. - Ну, так уж прямо и с нетерпением, - сыронизировал я. - Поверьте, уважаемый Вениамин Яковлевич, что все обстоит именно так. Он сегодня пришел на службу в шесть утра и накануне вечером вызвал и меня на то же время. - Тогда мне все более менее понятно, он решил сегодня выспаться на мне. – Наредкость остроумно сбалагурил я Так, обмениваясь легкими шуточками, мы вошли в скромно, но дорого обставленную большую приемную. «Пропагандист» бесшумно отворил толстую дубовую дверь кабинета с фамилией шефа на золоченой табличке и, слегка подтолкнув ладошкой в спину, поставил меня с другой ее стороны, на ковровую дорожку огромного зала. Таких гигантских кабинетов я не видел даже у членов политбюро ЦК КПСС на Старой площади в Москве, куда значительно позже привела меня моя переменчивая судьба ученого - изобретателя, в годы становления нашей молодой воровской ельцинской псевдодемократии. Справа от дорожки, ведущей к столу шефа, стоял длиннющий стол с полусотней стульев. Длина и ширина ковровой ленты, пожалуй, точно равнялась размерам ее водяной однофамилицы из двадцатипятиметрового спортивного бассейна. В конце зала на возвышении стоял громадный дубовый стол, и на его пустой, сверкающей полировкой, поверхности лежала на загорелых огромных натруженных руках плугаря - пахаря большая бритая голова, очень похожая на свиную – хрущевскую из позолоченного камня. Ту самую, что возлежит на надгробном памятнике работы Эрнста Неизвестного, на Новодевичьем кладбище. Голова молчала, уставившись на меня чуть приоткрытыми свиными глазками с редкими толстыми ресничками. Я, было, бодро и решительно зашагал к ней навстречу, однако уже с первых шагов моя походка начала терять строевую упругость, и в ногах появилась странная до боли знакомая вялость. Так, примерно, чувствуешь себя, когда темным вечером один или с девушкой приближаешься к компашке подвыпивших хулиганов, стоящих на твоем пути, а улица пуста. Яркие солнечные лучи, бликуя на зеркальной поверхности стола, мешали мне со столь значительного расстояния хорошо разглядеть лицевую поверхность высокопоставленной «болванки», но мне явственно чудился выступающий вперед, готовый к грозному хрюку, розовый пятачек с двумя дырочками. В метрах пяти до «головы» я почувствовал противненькое подташнивание. Ноги, почему–то, стали ватными. И глубоко заложенное еще до зачатия омерзительное рабское чувство, которое бессознательно, буквально на уровне инстинкта, превращает нормального человека в кусок дерьма в предчувствии стоящей совсем рядом хамской, ненаказуемой, лишенной всех моральных барьеров власти, подступило к горлу и расслабило коленки. Я остановился в полутора метрах от «трона» и, опустив голову как провинившийся щенок, вперился в пол в ожидания хозяйского окрика. - Кто тебе позволил в моем городе, да еще и при всем честном народе произносить через микрофон эти сионистские гадости. Это тебе не твой Ленинхрад со своим Исакычем. Это город знатных и передовых русских и вкраинских рабочих – Запорижье! Понял! Рык кабана не застал меня врасплох, он был ожидаемым. И вот тут, буквально в секунду, с меня как будто кто–то стряхнул тяжелые липкие путы. За свою непростую жизнь в этом удивительном государстве я привык к командному хамству. На этом, собственно, и держалась столько десятилетий после постыдного октября, да и за сотни лет до него, великая несокрушимая Россия. И безграничное право князя и его наместников, и крепостное право, и двадцатипятилетняя солдатчина, да и весь коммунистический демократический централизм: - подчинение бесправного, рабского большинства номенклатурному меньшинству. Россия исконно была воспитана на раболепном страхе перед всем вышестоящим и внедряла этот постулат во все завоеванные ею страны. Внутренний цензор сидел, да и сейчас еще сидит в каждом из нас. Сидит, ибо сегодняшняя неуверенность - «в свободе завтрашнего дня» даже значительно больше уверенности в том, что «завтра может быть только еще хуже!» Я сделал глубокий вдох, высоко задрал подбородок и громко выдохнул: - Кто вам позволил затыкать рот советскому писателю в городе свободных русских и украинских рабочих! Кто вам дал право запрещать мне читать свои монологи и фельетоны, которые я читаю повсеместно во всей моей великой стране. Скорее всего, я произнес это как–то иначе, сейчас уже и не вспомню, но смысл и тональность неожиданного даже для меня самого ответа - были именно такими. На какой–то миг мне показалось, что враз перестали гудеть самолеты, остановились трамваи, троллейбусы и автомашины. Замерли дети и взрослые. Сдохли мухи, мошки и комары. Тишина вокруг воцарилась такая, что казалось - сейчас полопаются стекла в окнах и лопнут барабанные перепонки в моих ушах Я четко развернулся на 180 градусов и, легко пружиня в миг разогнувшимися, ставшими вдруг легкими и послушными коленями, вышел в приемную. - Ну что, нашли общий язык с шефом? – пытливо разглядывая какого – то нового меня весело спросил пропагандист хренов. - А разве может быть иначе, - так же веселясь ответил я. - Ну и славненько, ну и славненько. – пропел он и, дружеским жестом положив руку на плечо, повел меня к выходу. – Машиночки Вашей, к сожалению, нет, филармоническая повезла директора в больницу. Что–то видать у него с сердечком не в порядке. Работает много. Много работает. Пора, пожалуй, ему и отдохнуть трудяге на заслуженной пенсии. А вы, наш дорогой, так уж по – простому, по - рабоче – крестьянскому, сядете за углом в автобусик, и он в самом лучшем виде прямехонько доставит вас к гостиничке. Мелочишка - то у вас есть? А то возьмите у меня рублик, чай не обеднею. Увидимся, - разочтетесь. Я душевно поблагодарил его и совершенно опустошенный поплелся пешком в гостиницу, так как и в самом деле, в спешке, денег с собой не захватил. Веселое настроение испарилось так же быстро, как и пришло. Во рту пересохло, язык стал невероятно большим и шершавым, как у коровы. Меня слегка знобило, хотя на улице было тепло. Фред уже поднялся и ждал меня. Любопытство - не порок, а удел любознательных. - Ну и как, мадам? Вазелинчик пригодился? - Нет, я оставил его тебе и, кажется, правильно сделал, что не выбросил. - А я - то тут причем? – заволновался партнер. – Я пою залитованные песенки о большой любви, о нежности, о верности долгу, о вечной дружбе и даже иногда о патриотизме. Так что ты мне дело не шей. Я человек проверенный, наш! Сугубо советский. - Ну вот тебе и подтверждение постулата о совковом страхе, отметил я про себя. – Он на тысячу процентов знает, что ни в чем не провинился перед властями, но на всякий случай дрейфит. - А кто же тогда, по-твоему, я? Враг народа? - У великого советского народа есть только три врага – его извечная трусость перед власть имущими, безразличие ко всему, кроме петуха, который пытается клюнуть его в его же личную задницу и глубоко сидящий в генах антисемитизм А ты просто обыкновенный человек – мудак, и я еще знаю одного такого же, правда только по литературным источникам. Но, в отличие от тебя, голожопого засранца, он был хоть как–то защищен очень дырявыми и ржавыми, но все же железными латами, вооружен копьем и ездил на старом мерине. Я как–то встретил его около ветряных мельниц, он велел тебе кланяться. - Фредик, ты гений! Позволь, я поцелую тебя братским поцелуем единомышленника в лоб. Ты давно не доставлял мне такого удовольствия! Я действительно дегенерат и признаю это. Однако на зло тебе, мельница, правда на этот раз в образе здоровенного партийного борова, сегодня меня не одолела. Я не позволил ему вытереть об меня ноги или использовать как туалетную бумажку. Я ему…. Фредик слегка побледнел и осел на кровать. – Ты что, ему нахамил? - Ну, зачем так сразу – нахамил! Я просто встречно пресек его мерзкое хамство… - В моем голосе уже не слышалось звона стали… - Значит, встречно... Понятно. Брось-ка мне мой чемоданчик из шкафа. Надо собирать вещички и мотать, как можно скорее из этой, богом проклятой, ридной Вкраины. Телефонный звонок прервал наш бессмысленный спор. - Вениамин Яковлевич, - ласково проворковала трубка голосом мини Леонида Ильича. – Как там у вас нынче с продуктами? - Давайте-ка уточним – это у кого - у нас? У нас в стране, у нас в городе, у вас в городе или в холодильнике нашего номера? - В моем голосе он не услыхал ответных ласковых нот. - Давайте-ка остановимся на последнем. - Торичеллиева пустота, если помните такой термин из школьной физики. - Конечно, помню, я, между прочем, окончил школу с медалью, а физмат университета - с красным дипломом. Этот вопросик, я думаю, мы способны решить, а я, с Вашего разрешеньица, забегу после концертика к Вам за кулисочки, дабы отметить очередной ошеломляющий успех выдающегося сатирика бутылочкой хорошего коньячка из обкомовского буфетика. До встречи. Кстати, Вы совершенно очаровали нашего шефа, он шлет Вам пламенный привет. - Так уж прямо и пламенный? - Не сомневайтесь, так уж и прямо! Я тихонечко положил трубку и, волоча ноги, поплелся в ванную поглядеть в зеркало на выражение своей сильно опавшей рожи. - Ну что, рыцарь? Полный писец? – В голосе друга звучало унылое торжество. - Включи холодильничек и приготовься к легкому фуршетику после концерта в компании Леонида Ильича. - Какого?.. Не уж то - Нашего Дорогого?… - (Вы можете представить выражение его лица?) - Нет, сугубо местной партийной расфасовки, но не менее «дорогого» в нашем сегодняшнем положении. Учись у талантливых умных и смелых, мой товарищ по цеху, и ты будешь так же как и он - непобедим! Итак, директор лежал с инфарктом в обкомовской больнице, мы же с полным комфортом, с холодильником, полным даровых продуктов из обкомовской столовой, с большим успехом играли положенные нам по договору концерты. «Пропагандист» трогательно заботился о нашем здоровье, а за кулисами дежурил врач, холя и лелея мои непрофессиональные голосовые связки. Нас возили на книжные базы и затаривали на базах дефицитным барахлом. Прошла замечательная неделя. Концерты шли на УРА. Свободные билетики просили за пару улиц до зала филармонии. Мои непрофессиональные связки не выдерживали трехкратной дневной нагрузки, несмотря на полоскания травками, смазки спреями и укрепления их стойкости выдержанным коньяком. Горизонты были чисты . Цветы стояли даже в коридоре гостиницы. И вдруг неожиданно из Росконцерта прибыла телеграмма, в которой меня очень вежливо просил заскочить к нему на денек по дороге из гастролей худрук всей Российской эстрады, милейший человек и очень талантливый режиссер Василий Познанский. В телеграмме был указан и забронированный номер в гостинице «Россия». Фред, улетавший на следующий день в Питер проводил меня до аэропорта и легким намеком попросил передать Васе, что он тоже его очень любит и готов, по первому зову, поиграть со мною концерты в столице. «Пропагандист» нежно обнял меня у трапа, прямо до которого подвезла меня обкомовская Волга самого «хозяина», по – дружески облобызал и, чуть было не пустив слезу, передал бутылку самого дорогого коньяка, какой только водился в обкомовском буфете в подарок от «САМОГО»! В Москве, положив чемодан в номере и перекусив в гостиничном буфете, гордый вызовом и расположением высокого росконцертовского начальства (знают, помнят и ценят, паразиты), я радостно вошел в кабинет худрука и чуть было не упал, услышав вместо приветствия: - Веня, какой же ты мудила! С кем же ты решил играть «в честь и достоинство», несчастный Донкихот! На, читай, шизик! – И Вася протянул мене листок с красивой «шапкой». На бланке Запорожского Обкома КПСС за личной подписью Первого Секретаря была начертана страшного содержания кляузная «телега». В те времена на такой можно было бы отъехать очень далеко и надолго в очень насыщенные впечатлениями «сибирские гастроли». Наверху бланка личной рукой главного идеолога по культуре ЦК КПСС товарища ШАУРО было начертано: - «Разобраться тщательно, принять срочные строгие меры, сообщить о принятом решении.» И высокопоставленная подпись… Мои друзья из Минкультуры приложили максимум усилий, чтобы вытащить меня из этой задницы. Из всех филармоний, где я работал, и из ВААПа мне были даны такие восторженные характеристики, что дальше уже можно было бы и не жить. Татарская филармония, директором которой был мой замечательный друг и прекрасный бард Марат Татзетдинов, отмечая мои заслуги в деле воспитания советской молодежи выдвинула меня аж на «Премию Ленинского Комсомола»! Однако больше года я работал тихохонько, подпольно, по глубоким провинциальным дырам, и на «ридну Вкраину» уже больше не вылезал никогда! Дорогой и горячо любимый Леонид Ильич, наконец, отдал богу душу. Вслед за ним один за другим помчались в ад непоколебимые атеисты , дряхлые человеческие недоделаши- его верные соратники по партии. Новый Генсек Михаил Горбачев, не совладав с собой, выдал торжествующую улыбку вместо слезы при первом стуке горсти земли о крышку гроба дорогого товарища Черненко. Но вот прошел следующий (уже не помню и какой съезд КПСС), первый съезд в правлении Михаила Сергеевича. И заключительный, торжественный, послесъездовский концерт вновь открыл Народный Артист СССР, Герой Соцтруда Аркадий Исаакович Райкин. И открыл его тем же опальным монологом «День счастья», как бы символизируя этим начало новой демократической эпохи. --------------------------------------------+ -----------------------------Есть люди—как бутылки: в разговоре Светло играет бликами стекло, Но пробку ненароком откупорил— И сразу же зловонье потекло. И. Губерман. Ну и коли этот раздел воспоминаний пошел в русле: «моя непростая жизнь с эстрадой», расскажу историю рождения «того самого Студента Калинарного техникума», который сделал звезду из Гены Хазанова, породил в стране десятки его авторов продолжателей образа и просто плагиаторов и, что главное, - впервые на подмостки Советской Эстрады легально вывел «недоделанного еврея – дурака»! Когда Хазанова в многочисленных интервью спрашивают: кто же автор «Калинара», он обычно старается обойти этот трудный для него вопрос и каждый раз выдавливает из себя нечто невнятное и, как правило, разное. То это Аркадий Арканов, то, вообще, какой– то «неизвестный солдат». В последнем интервью он «подарил» его славным студентам города Харькова, сделав произведением «народного творчества». Так почему же такой разнобой? Где же зарыта «та самая собачонка»? Попробую раскрыть «страшную тайну» и чуть приподнять занавесочку над рождением этого «всенародного шедевра» середины 70 –х годов, к процессу которого мы с моим замечательным соавтором Володей Синакевичем имеем самое непосредственное отношение. А было так: В 1953 году, будучи студентом первого курса Ленинградского Технологического Института Холодильной промышленности, я написал и поставил «Капустник» (студенческий спектакль на местные темы), который шел с огромным успехом. Попасть в зал можно было только пройдя кордон из местных дружинников и милиционеров. И дело было не в блестящих, смелых, подрывающих фундаментальные, незыблемые как сам «первый коммунистический рейх», Марксистко – Ленинские основы в текстах. И не в блестящей сценической постановке с новыми, «нехоженными» доныне режиссерскими решениями, а в тогдашней моде на «представления» подобного рода. В те годы просыпалось то поколение, которое много позже стали величать «шестидесятниками». Только что «отгремел» на всю студенческую страну действительно блестящий капустник Ленинградского Электротехнического Института – «ВЕСНА В ЛЭТИ». Чуть позже он дал советскому искусству композитора Александа Колкера и знаменитую тройку драматургов, авторов пяти спектаклей Театра А.Райкина – Мишу Гиндина, Генриха Рябкина и Кима Рыжова. Питерское студенчество ломало двери и собственные кости, пытаясь попасть на капустник Кораблестроительного института – «НА ЛОЦМАНСКОЙ 3» братьев Миши и Эрика Серебряниковых, очень талантливых ребят. Огромным успехом пользовался в городе и на выездных гастролях, пожалуй, лучший по текстам и драматургии капустник Политехнического института – «ЛИПОВЫЙ СОК», Владимира Синакевича, Жени Заруцкого и Арсения Березина. Как – то ребята из «политеха» пришли на мой капустник, и мы очень подружились. В их капустнике был очень симпатичный фельетон – «СТУДЕНТЫ АГИТАТОРЫ». Суть его заключалась в том, что в школу приходят студенты разных техникумов, институтов и молодой рабочий и агитируют несмышленых школяров поступать только к ним. Фельетон пользовался сногсшибательным успехом и его блестяще исполнял Володя Синакевич. Испросив разрешения ребят, я тоже в своем капустнике сделал аналогичный фельетон из трех студентов. Одним из них и, по-моему, самым слабым по тексту был «Студент калинарного техникума». Несколько позднее мы с Володей объединили наших «студентов», и оба читали этот фельетон на «левых» концертах в ленинградских вузах. После окончания института мы с ним вдвоем начали профессионально работать на эстраде в качестве эстрадных драматургов, и эта творческая дружба с небольшими перерывами длилась два с лишним десятка лет. В 1961 году «Студентов - агитаторов» купил артист Ленкоцерта Яков Киперман и залитовал его в Авторских правах ( ВААПе) на свое имя, правда, с нашего согласия. Мы в то время были еще «щенятами» и были счастливы, что наш фельетон звучит на эстраде из уст профессионального артиста. Через год нас «заметил» и стал активно с нами сотрудничать очень известный в то время артист Геннадий Дудник. Мы написали ему сценарий спектакля «ЧЕРТ НЕ ШУТИТ», в которую вошел этот фельетон, и читал он его действительно блестяще. С его легкой руки «Студенты» разлетелись по всем вузам городов, в которых он гастролировал, а это была практически вся страна. Фельетон «обрастал» новыми персонажами. «Старых персонажей», поскольку тексты записывались после концерта по памяти, коверкали, как могли! Актеры редко называют или пишут в афишах фамилии своих авторов, и зритель, в подавляющем большинстве, уверен, что «это артист такой остроумный» и все придумал сам. Таким образом, лет эдак через десять, фельетон действительно стал частицей студенческого «народного творчества». Его исполняли на капустниках практически во всех институтах, десятки артистов разговорного жанра на эстраде, и, обычно, каждый их них, заполняя «рапортичку» (отчет в «Авторские права» для начисления авторского гонорара за исполнение такого – то текста), ставил против этого фельетона свою фамилию, назвав его «как на ум взбредет». В1974 году в Подмосковном пансионате «Союза композиторов» состоялся первый за 57 лет Советской власти семинар драматургов эстрады. В то время нас обзывали собачьей кличкой - «эстрадные авторы». Слово «драматург» было слишком высоко для «жалкого эстрадного жанра». Вел семинар замечательный писатель – сатирик, чудесный человек Александр Хазин. Тот самый Хазин, которого в 1946 году в компании с Анной Ахматовой и Михаилом Зощенко «проклял» как махрового антисоветчика цекашное мурло от культуры и идеологии, жирная свинья и друг Вождя Народов - - товарищ Жданов. Семинар был очень представительный. На нем были представлены все известные, и сегодня уже многие забытые писатели – сатирики, включая молодого, но подающего надежды Мишу Жванецкого. О нем я в дальнейшем напишу отдельно. Хазин, шутя, назвал это разномастное и разномыслящее сборище , достаточно завистливое и неискреннее – «клубком целующихся змей». Каждый день к нам приезжали десятки артистов – разговорников в надежде отхватить «свеженький» текст прямо из рук автора. Однажды ко мне подошел худенький длинноносый мальчик и робко сказал, что он читает наш с Володей фельетон «Студенты – агитаторы». Я попросил его прочесть пару персонажей, но он робко отказался, сославшись на то, что стесняется присутствия автора. За ним, с клубочком шерстяных ниток в руках и кусочком вязанной ткани на спицах, также робея, стояла хорошенькая девочка по имени Злата. Как выяснилось позже - его жена. Гена, как и все остальные попросил какой–нибудь новый текст. Я обещал подумать, и на этом мы расстались. В этом же году на Пятом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады Хазанов занял первое место, читая наших «Студентов». С ним высший пьедестал разделила никому до селе неизвестная девочка (впрочем также, как и Хазанов) Клара Новикова - артистка Укрконцерта, вышедшая на «ристалище» с моим фельетоном «Мечты, мечты». О Кларе я постараюсь написать отдельную главу, так как позже я с ней проработал еще несколько замечательных плодотворных лет. Клара оказалась на редкость честным актером (что в этой среде случается нечасто) и благодарным человеком (качество, которое за редчайшим исключением полностью отсутствует у артистов эстрады), и в своей биографической книге «Моя биография» посвятила несколько теплых страниц своему первому автору, выведшему ее на «звездный путь», а так же и сам текст этого , ставшим знаменитым, первого фельетона. Прошло 3 года. Хазанов триумфально гастролировал по стране с «Калинарным техникумом», единственным персонажем из фельетона «Студенты – агитаторы», который после конкурса артистов эстрады цензура допустила на телевизионный концерт лауреатов. Концертные залы и дворцы спорта гремели, сотрясались от шквала аплодисментов. Центральное телевидение хоть раз в месяц, но с редкой для него регулярностью выпускало на экран «недоделаша – дурачка» с ярко выраженным пятым параграфом на носу в назидание остальным гражданам этой национальности и на радость широким антисемитским кругам товарищей нееврейского происхождения. Без этого персонажа не мыслился ни один праздничный или правительственный концерт! Причем 99,5 % зрителей не понимало, в чем же секрет такой милой сердцу притягательности этого образа. Предполагаю, что на этого «недоноска» резонировали «гены антисемитизма», прочно заложенные в мировом человечестве еще со времен порабощения евреев Вечным Римом! Концерты шли. Слава «кулинара) – Хазанова» почти сравнялась с гением Райкина. Анекдоты о « Калинаре» заполонили страну. Однако наши авторские гонорары от концертных отчислений на удивление росли непропорционально медленно. Хотя, по нашим самым скромным подсчетам, за этот период времени мы давно должны были бы стать очень даже состоятельными людьми. Однажды кто–то из друзей принес мне пластинку с записью «Кулинара» в исполнении Гены. Автором текста числился Аркадий Арканов. Я заехал в ВААП и нашел в карточке Арканова, который в то время работал в отделе юмора журнала «Юность» и писал фельетоны под псевдонимом Галка Галкина, полный текст нашего фельетона, зарегистрированного, как раз три года тому назад! Я взял текст, подчеркнул 32 слова, принадлежащих автору плагиата (это была очень простенькая «шапка» к монологам, буквально несколько общих вступительных фраз), и поехал в Москву «за правдой». Арканова (настоящая его фамилия Штейнбок) очень смутило и расстроило мое появление. Монолог очень был уж известен в стране. Помню такой анекдот: Вдрызг пьяного бомжа спрашивают в вытрезвителе. - Фамилия? - Не – е…Не помню… - Имя? - Не – е… Не помню… - Сколько лет? - Не – е…Не помню… - Кто учится в калинарном техникуме? - Кто, кто…Хазанов! Да и незаконно полученные им гонорары видать были достаточно велики. Скандал мог сильно повредить его «взлетной» в то время репутации. Он мне начал невнятно лепетать, что Хазанов, мол, ввел его в заблуждение. Убедил его, что монологи не имеют автора и сложены из студенческих анекдотов. Что нуждаются просто в «обвязке» и руке мастера. Что он с удовольствием вернет гонорар за проданный Москонцерту текст и даже добавит немного из своих денег. Что «авторских» он получил за эти годы копейки, и, очевидно, Гена как-то изловчился сам получать от них большую часть. Но каким образом этот поганец это делает – он не в курсе…. Он тут же достал из бумажника 187 рублей из 200, то есть 98% полученных им в качестве гонорара (это за минусом тех 32 слов, которые принадлежали в фельетоне его личному перу мастера), и мы мирно разошлись. Конечно, пропавших авторских было жаль, но значительно большую тоску наводила на нас его фамилия среди авторах фельетона, оставшаяся в ВААПе вместе с моей и Володиной, но убрать ее можно было только скандальным судом, чего делать мы не стали. Хазанов перед нами не извинился, уже слишком велик был к этому времени! Более того, начал пачкать наши имена на концертах. Ну, что поделаешь? Бессовестные гены у Гены не нам, видать, было переделывать! Может быть, именно поэтому наш материал и столь блестяще вылепленный им из него образ бесхребетного слабоумного ничтожества так удивительно точно лег на его актерскую и человеческую фактуру… Через несколько лет Лион Измайлов и Семен Альтов продолжили с ним этот образ, написав неплохие монологи следующих деяний этого «недоноска». Нашего разрешения они не испросили, а на своих концертах называли, да и называют себя до сих пор - авторами «Студента калинарного техникума», почему-то «забывая» при этом добавить, что придумали и запустили в полет этот образ совсем другие писатели. Я уже говорил, что авторов – плагиаторов у монолога и фельетона в целом было множество, мы насчитали более двадцати. В их число попал даже такой ныне известный писатель и киносценарист, а в то время малоизвестный писатель–юморист, как Аркадий Инин. В начале семидесятых годов по Черному морю плавали роскошные круизные паромы финской постройки. Билеты на семидневный круиз Одесса – Батуми – Одесса стоили какие–то огромные для нормального советского человека деньги. Для развлечения нуворишей, которые могли себе позволить это путешествие, пароходство приглашало на весь рейс за приличную кормежку «до отвала и бесплатную каюту) артистов эстрады и авторов – исполнителей юморесок. Мы с Володей Синакевичем в течение нескольких лет плавали по месяцу в год в этих круизах, играли свой авторский вечер, а в остальное время писали программы для Аркадия Райкина и пьесы для драмтеатров. Однажды на стоянке в Новороссийском порту в надежде выклянчить «свеженький материальчик» и просто потрепаться ко мне забежали актеры с такого же соседнего встречного парохода В разговоре выяснилось, что у них на корабле плавает московский автор Аркадий Инин. На своем концерте он читает фельетон «Студенты - агитаторы», выдавая себя за его автора. С Аркадием мы лично знакомы не были и не знали в лицо друг друга. Фамилии наши он, конечно, прекрасно знал, ибо в то время мы наверняка входили в тройку – пятерку ведущих писателей – сатириков страны. Я попросил ребят протащить меня на их корабль и познакомить, как бы невзначай, с Аркадием не называя моей фамилии. Встреча состоялась в баре за пивом с таранькой. Ребята выдали меня за артиста – разговорника из Новороссийской филармонии, и я сказался большим поклонником его авторского дарования. Мы отлично посидели, славно поболтали и в ходе беседы я попросил его прочесть пару персонажей из очень любимого мною его фельетона о «Студентах». Инин не стал ломаться и довольно профессионально прочел «Медичку» и «Спортсмена». Я поблагодарил его. Мы тепло простились, и на посошок я ему назвал свою фамилию. Он очень смутился. Просил извинить его, что я и сделал. По жизни мы больше с ним не встречались. Я с удовольствием смотрел фильмы, поставленные по его талантливым сценариям, и потом всегда с теплотой вспоминал об этой смешной встрече. Недавно мой большой друг, в прошлом знаменитый советский капитан, добрый десяток лет водивший флагман черноморского флота «Адмирал Нахимов» (бездарно утопленный его преемником капитаном Марковым), был на творческом вечере Инина и передал от меня привет. Аркадий улыбнулся и попросил его привезти мне в Германию свою последнюю книгу, снабдив ее теплой дарственной надписью. Мне было приятно еще раз вспомнить о нем. ----------------------------------------+---------------------------Если жизнь излишне деловая, Функция слабеет половая. И. Губерман. Возвращаюсь к годам светлой юности, а юность – это, в первую очередь, пылкая пора влюбленности. Как ни крути, а гены и гормоны берут свое. Надо сказать, что как ни странно, но в этом отношении я отличался достаточно редким для своего любвеобильного и бесшабашного характера постоянством. В девятом классе я влюбился в девочку из техникума – Галку Герасименко, красивую и очень неглупую девчонку. Она была из семьи военного. Родители ее жили далеко за городом, а она в общежитии. Большую часть свободного от занятий времени Галка проводила в нашей семье, то есть практически жила у нас, на правах будущей невесты и жены. Мои родичи ее очень полюбили, и наша дальнейшая совместная судьба ни у кого не вызывала сомнений. Воспитанная в строгих семейных традициях, она стойко держала меня на несколько сантиметровой дистанции, хотя мы оба буквально умирали от дикого желания близости. Роман закончился внезапно, сразу же после окончания мною десятилетки и в моей дальнейшей судьбе сыграл достаточно трагическую роль. Галка вдруг до беспамятства влюбилась в моего школьного товарища, красивого спортивного парня, блестящего баскетболиста. Не знаю, встречались ли они тайком за моей спиной, но однажды, придя домой, я нашел на столе записку, в которой Галка просила у меня прощения за «все» и сообщала, что уехала в другой город заканчивать учебу в аналогичном техникуме. Я очень тяжело перенес измену любимой и переживал год, не встречаясь больше ни с кем. В начале второго курса института, когда написанный мною капустник (студенческий сатирический спектакль на институтские темы) гремел по городу, и на каждое представление дирекция приглашала для охраны входа в зал милицию, в помощь местным дружинникам, на спектакле я случайно, как это обычно всегда и бывает, встретил очень симпатичную девушку, студентку торгового института. В отличии от большинства поклонников и поклонниц, она очень скептически отозвалась о моих писательских и, особенно, актерских способностях, чем жутко разозлив меня, невольно заставила обратить на себя более пристальное внимание. Звали ее Белкой, и она в самом деле чем-то сильно смахивала на этого очаровательного пушистого и грациозного зверька. Через два месяца мы отпраздновали шумную студенческую свадьбу на сто двадцать человек, и я переехал к ней в квартиру на Конюшенной площади. Моя мама была не против нашего брака, она как человек разумный, справедливо считала, что семья заставит меня несколько отвлечься от чрезмерных занятий спортом и сумасшедшего увлечения эстрадой, и заставит обратить большее внимание на получение основной инженерной специальности. Папа же был прост, как правда. Он внимательно выслушал все мои доводы «за» и спокойно ответил: - Я надеюсь, что приняв столь важное для каждого мужчины решение, ты уже нашел способ, как прокормить свою новую семью? - В этом ты можешь не сомневаться, - гордо ответил я, и собрав свой нехитрый бельевой скарб, с грустью и некоторой долей отчаяния покинул дом детства. А поводов для отчаяния было более чем достаточно. Отец Белки, крупный, но, увы, честный деятель торговли умер несколько лет назад, оставив в наследство дочери редкую зануду мать, которая в момент нашей женитьбы пребывала в реабилитационном состоянии после третьего обширного инфаркта и нуждалась в постоянном уходе, внимании и визитах частных эскулапов. Когда я впервые вошел в дом моей будущей жены, меня вначале охватило некоторое изумление, а затем оторопь и тихая грусть. В трехкомнатной квартире из былой мебели остался лишь старый обшарпанный обеденный стол, да две кровати, на одной из которых и возлежала моя будущая теща. Очевидно, мебель была продана достаточно давно, так как кроме жидкого чая с остатками сахара и серой булки, из еды в доме не было ничего. Я сделал вид, что все именно так и должно быть и вежливо похвалил вкус булки и сладость чая. - Говорят, Ваш папа большой начальник и много зарабатывает, - в наглую, глядя мне в глаза, невинным голоском юной и скромной девственницы – дурочки из пансиона благородных девиц спросила теща. - Вроде да… - не очень внятно проблеял я. - Ну и славно, -- удовлетворенно кивнула мамаша, хоть будет на что пить и есть после вашей свадьбы. - Мамочка, с чего ты решила, что мы собираемся сочетаться? Веня еще студент второго курса, да мне еще два года до диплома. - А с того, что если не выйдешь замуж через месяц за кормильца - подохнем с голода, как мухи на окне, вот тебе и весь твой диплом. Взрослая, а такая дура…Иж ты, Веня всего на втором курсе…Руки и ноги у него, надеюсь, впорядке…Как и все остальное… Я вышел из дома оглушенный. Чем я мог помочь этим несчастным женщинам? До этого момента мысль о столь ранней женитьбе просто не могла прийти мне в голову. Да и Белка, наверняка, понимала, что толка от такого мужа, как от козла кислого молока. Что я умел делать, дабы обеспечить прожиточный минимум семьи из трех человек? Что я из себя представлял, вообще, на тот момент: - Крепко сложенный молодой кобель, спортсмен, хороший пловец, неплохой боксер, отличный стрелок, очень начинающий писатель – сатирик студенческого разлива, активный комсомолец и очень средней успеваемости студент. Да, вот, пожалуй, и все! Но к мужу - как единственному кормильцу семьи - все это, ровным счетом, не имело ни какого отношения. Я стоял под тусклым фонарем на улице революционера Желябова. Валил густой пушистый снег, транспорт уже закончил работу, и мне предстояло добрый час тащиться до отчего дома по темному городу, что в те времена было совсем небезопасно. Пальтишко на мне было короткое, демисезонное, из перелицованного папиного, на рыбьем меху, а мороз крепчал. Мысли, одна отчаянней другой, в бешенном темпе, наперегонки, носились в моей, распухшей от напряга башке, и именно это обстоятельство не давало мне превратиться в ледяной монумент: – дурная голова - телу отдых не дает. Я не сомневался, что с мамой я договорюсь, но, папаша… Конечно Белка права, какой я к черту муж? Да и вопроса о женитьбе, вообще, не стояло в нашей постельно-дружеской тематике. Белка была очень остроумной, веселой, симпатичной, компанейской, но на редкость непрактичной и неприспособленной к самостоятельной жизни девчонкой. Оставалось лишь поражаться, как они с матерью продержались на этом свете столько времени после смерти отца. Фред (мой напарник по эстраде в зрелые годы), вне всякого сомнения, был прав, - идиотское донкихотство сидело у меня в крови. Ведь мысль о женитьбе пришла мне в голову сразу же, как только я вошел в их нищий дом. - Две женщины почти умирают от голода, и кроме как от тебя им неоткуда ожидать помощи! Эта мысль в течение всего вечера не давала мне покоя. Да, маман у нее препротивная дама, но я что–то не слышал, чтобы кто – нибудь из моих знакомых женатых мужиков без памяти любил свою тещу. В лучшем случае этих мегер терпели. И, к тому же, ну сколько нормальный человек может перенести инфарктов?… В конце концов, все мы не вечны в этом лучшем из миров… А вдвоем, все же будет полегче… Да простит меня она, надеюсь, пребывая в раю у Господа, за те греховные мысли. Теща, царство ей небесное пережила наш трехгодичный брак, и потом еще много лет «радовала» следующего зятя - таксиста Сеню. Белка была человеком хорошим, и, возможно, была неплохой женой, но мне не удалось этого узнать. Утром, едва перехватив что–то бутербродное, мы мчались в свои институты. После занятий Белка мчалась домой и обихаживала мать. Я, поконтовавшись три– четыре часа в комитете комсомола, мчался на «Бадаевские склады» или транспортное хозяйство отца, где подрабатывал грузчиком, а затем снова галопом в институт на секцию борьбы или в самодеятельность. Дома я появлялся ближе к ночи и замертво валился в койку до утра выжатым как лимон импотентом. Первые пару месяцев Белка пыталась как–то общаться с этим полутрупом от комсомола, спорта и искусства, пытаясь восстановить мою былую сексуальную мощь но потом плюнула и ушла в собственную жизнь, в которой со временем всплыл таксомоторный и по всему видать очень надежный мужчина Сеня. На третьем году нашей «совместной» жизни в город вернулась моя юношеская любовь – Галка - несчастная и немножечко от кого– то беременная. Я как ошпаренный примчался к ней на свидание. Стоял на коленях, целовал руки и давал страшные клятвы на вечные темы любви и преданности. Галка молча слушала меня, гладила рукой по голове, из ее огромных серых глаз катились слезы, хрустальные слезы любви к какому–то подлецу Полякову, который так бесстыдно соблазнил ее и бросил... Ох, как я любил ее в те минуты и как ненавидел её подлого «совратителя»! Я наскреб денег на подпольный аборт. Таскал дефицитные передачи в больницу, куда она попала на третий день после стола акушера. Она благодарно глядела на меня теми же серыми яблоками в опушке длинных черных ресниц. Гладила по курчавой голове, вздыхая, роняла мне на темечко те же жидкие хрустальные подвески и мечтала о возвращении подлого Полякова в свои жаркие объятья. Она дождалась его. Ненадолго вышла за него замуж. Потом без памяти влюбилась в партнера Павла Васильевича Рудакова - высоченного красавца и дубового артиста Славку Лаврова, с котором прожила много лет и очень сомневаюсь, что счастливо. Белка что–то почувствовала, и мы очень мило, по– человечески поговорив, разошлись друзьями. Лет через тридцать пять ко мне после концерта в санатории «Сестрорецкий Курорт» подошла маленькая полненькая пожилая женщина. Я с трудом догадался, что это очень повзрослевшая Белка. Она сказала мне какие–то достаточно теплые слова по поводу выступления. Поведала, что по-прежнему живет с Сеней и, что он по–прежнему водитель такси. Что она давно уже счастливая бабушка и собирается переезжать в «землю обетованную». Сама она сделала сногсшибательную карьеру и много лет была генеральным директором «Коопторга» в Ленинграде. Должность эта очень «хлебная», но столь же и опасная. И я был искренне рад, что она во4 время решила поменять жирный, но очень опасный торговый советский бутерброд с икрой на фруктовую спокойную жизнь в жарком еврейском гармидоре . Увы, но сегодня бы ей я , может быть, этого и не посоветовал… --------------------------------------+-----------------------------Готов я без утайки и кокетства Признаться даже Страшному Суду, Что баб любил с мальчишества до детства, В которое по старости впаду. И .Губерман. Вернемся назад к окончанию школы. К моему удивлению, я получил аттестат без троек. Правда, пятерками там тоже не пахло, но твердый хорошист – это тоже звучит неплохо. Призвания ко времени этой замечательной даты у меня не прорезалось. Стать малооплачиваемым инженером желания не было никакого, и я, решив стать тренером по плаванию (единственное дело, которое я делал хорошо), собрался идти в Институт Физической Культуры. В восьмом классе к нам пришел новенький. Звали его Алексеем. Его папа и дед были известными учеными – химиками. Папа, Борис Александрович Порай – Кошиц – профессор Технологического института, дед академик-химик. Жили они (по тем временам) в роскошной большой квартире рядом со мной на улице Пестеля. Лешку посадили с Володькой Ривиным, и так как у обоих были хорошо откормленные задницы, кликуху им дали очень колоритную и одну на двоих – «жопа». Ну, а врозь каждый был «полужопием». Оба были почти отличниками, оба «гогочки», девочками до десятого класса не интересовались. И поэтому, когда в середине десятого они на пару вдруг ударились в отчаянный кобелизм, мы - близкие друзья, да и весь класс обалдели от удивления. По началу думали – пройдет! Перебесятся. Однако прошло уже более пятидесяти лет, а порох в дряблых мошонках обоих все еще горит. Про Володьку я уже писал, а Лешка быстро стал профессором в той же Техноложке, что и дед с отцом и откололся от школьного коллектива. За эти полвека я его несколько раз случайно встречал, и каждый раз он был с новой, очень молоденькой студенткой, - молодой, бодрый, полный сексуальной силы. А тут, совсем недавно будучи в Питере я листал очень старую записную книжку и споткнулся о его номер телефона. Автоматически набрал, понимая, что это уже цифры из далекого далека и вдруг ответил совсем молоденький девичий голосок. - Это квартира Порай – Кошица, - на всякий случай спросил я, понимая, что ошибся. - Да. Вам Лешика? - Да хотелось бы, промямлил я, соображая, кто это мог бы быть - дочь , внучка или правнучка? - Лешик, милый, подойди, тебя какой-то приятный баритончик просит. Узнал он меня сразу. Перекинулись какими-то дежурными фразами. Оба понимали, что говорить–то, в общем, не о чем, давно уже стали чужими малознакомыми людьми. - А ты что сейчас делаешь, старина? – спросил он меня на прощанье, - а то заскакивай, у меня тут две премиленькие девчушки сидят скучают. А? Поболтаем, вспомним вчетвером старину? Вспоминать старину мне как–то не хотелось, да и староват я уже стал для подобных воспоминаний. Но искренне порадовался за бывшего дружка – большевики умирают, но не сдаются. Отец Лешки был человеком замечательным. Высокий, крепко сложенный, с породистым лицом и прекрасной открытой улыбкой. Ходил он чуть прихрамывая, на протезе стопы, но это только придавало ему какой–то дополнительный шарм в глазах прекрасного пола, который он обожал, и который, в свою очередь, платил ему тем же. Где–то в начале семидесятых годов я был на гастролях в Ростове, и мой друг - главный врач ростовского спортивного диспансера, лучшей клиники города, «большой человек» в своих кругах, пригласил меня на юбилейный выпуск своего факультета, где был и его сокурсник профессор Святослав Федоров. Знаменитый глазник произвел на меня неизгладимое впечатление. Он чем–то был неуловимо схож с лешкиным отцом, и даже так же как и тот чуть – чуть прихрамывал. Он оказался большим поклонником Райкина, мы подружились в застолье и даже выпили на брудершафт. На следующий день нас повезли купаться на Дон. Зная, что Святослав Николаевич любитель лошадей, ему привели роскошную казачью кобылу, серую в яблоках как в песне у Розенбаума. Он лихо оседлал ее и, красиво сделав несколько кругов, легко спрыгнул, сбросил одежду, отстегнул небольшой протез (тоже на стопу) и в стойке на руках вошел в воду. Женщины, в основном бывшие сокурсницы, не сводили с него горящих восторгом глаз, и я еще раз вспомнил глаза студенток Бориса Александровича, а мне не раз приходилось бывать у него на кафедре. Среди его многочисленных изобретений был препарат для снижения давления при гипертонии – дибазол. Это лекарство помимо своего основного действия обладает еще одним любопытным качеством. При приеме очень маленькой дозы, буквально крупинки – резко возрастает выносливость организма, то есть у уставшего человека открывается, как бы второе дыхание. Это побочное качество препарата особенно ценно для любителей дальних походов и охотников. Среди Лешкиных друзей я был единственным профессиональным спортсменом, и Борис Александрович выбрал меня в качестве подопытной крысы. Я честно отрабатывал на себе дибазольные прибамбасы и мы дружили. Наши пловчихи в бассейне всегда сбегались поглядеть на эксперименты профессора, но я помню выражение их лиц и глаза, которыми они ели не меня – героя опытов, а его. Такими же в те часы на Дону были глаза однокурсниц Святослава Николаевича. -------------------------------------------+------------------------- Итак вернемся к моему выбору профессии после окончания десятилетки. Тяги к техническим наукам я не испытывал. К языкам и математике тоже. Пожалуй больше всего меня в то время занимал спорт. Мама отнеслась к будущей спортивной специальности со свойственной ей спокойной мудростью – чем бы дитя не тешилось, лишь бы платили деньги. В конце концов спортивные тренеры и судьи живут совсем неплохо. Круглый год на свежем воздухе. Сборы на югах. В команде всегда есть повар, да и продукты – сплошь дефициты. Конечно, если бы не пятый параграф можно было бы выбиться и в большие спортивные начальники и поездить по «зарубежам», но от судьбы и коммунистов никуда не уйдешь. Папа, лежа на диване, выслушал ее рассуждения, сплюнул в бумажный кулек, который всегда лежал под тем местом, где он положил или посадил свое тело, и молча повернулся к нам задом. Вовка Ривин шел в Академию Художеств, он неплохо рисовал. Второе «полужопие» – конечно, к папе в Техноложку. И поскольку мне все было «до фонаря», Лешка уговорил пойти на конкурсные экзамены с ним. Проходной бал был высоким, и надежды на попадание у меня было немного. «Химический заход» закончился необычайно быстро. Первым был письменный русский и литература. Рядом со мной села махонькая, худенькая рыжая девчушка. Она ужасно нервничала, не могла пристроить руки, нервно дергалась и тихонечко ойкала, когда экзаменаторша начала писать на доске темы сочинений. Темы были знакомы и я, пожалуй, на первом туре мог бы и проскочить, если бы не наделал кучи грамматических ошибок, на что был большой мастак. Однако, когда на последней теме была поставлена жирная меловая точка, моя пичужка громко охнула и отключилась. Я оживил ее, ущипнув за костлявую безмясную ягодичку, и тут впервые увидел ее лицо. Это была небольшая масочка кукольной Мальвины из труппы Карабаса Барабасывича. С огромными, совсем не настоящими, близорукими глазами на лице состоящем из одной огромной рыжей веснушки с разбросанными здесь и там крохотными канапушками белой кожи. Шестьдесят лет прошло с тех пор, а я как сейчас помню эти полные ужаса и слез глаза. - Ты чо? Двинулась, что – ли? Или просто больная? - Он убьет меня, если вернусь, -- пропищала она. - Кто убьет – то ? – не понял я . - Отчим. Так и сказал… - А ты сама – то откуда? - Из Челябинска. Я вспомнил войну, эвакуацию в Челябинск. Нашу корову Машку в теплушке и кабанчика Ваську, и написал ей вполне приличное сочинение на тему: «Образ дорогого товарища Иосифа Виссарионовича Сталина в стихах и прозе советских поэтов и писателей». Себе же настрочить не успел. Идти к Борису Александровичу и клянчить пересдачу с другой группой не хотелось, и, выйдя из аудитории, я прямиком направился в Институт Физической Культуры имени товарища Лесгафта. Кем он был - этот товарищ? Какое отношение имел к физкультуре и спорту, я не имею понятия и по сей день. И ничего, прожил жизнь. Смог кое-что полезного сделать в ней себе и людям, и на том слава Богу. Дорожка к этому «товарищу» шла прямиком через улицу господина Ломоносова, на которой много лет стоял Холодильный Институт, бывшее Коммерческое училище. У парадных дверей толпилась озабоченная мужская абитуриентская братия и отдельными стайками весело и звонко щебетали симпатичные голоногие, по–весеннему хорошенькие девчонки. Мое место тут, - почему–то чиркнуло в голове. Я подошел к пареньку уже бывало-студенческого разлива, важно отвечавшего на робко задаваемые вопросы салаг, вроде меня, и спросил берут ли в институт спортсменов. Пацан, - сказал он хихикнув, - первое и настоящее название нашей конторы: - «Спортивно - музыкально - танцевальный институт, с легким холодильным уклоном». Усек? Так что, если мышца задавливает мозг – чеши прямиком на спорт кафедру к Никфеду и завтра будешь студентом. А кто он такой - этот Никфед? – сдуру спросил я. Парень оглянулся, да так робко, как будто этот самый страшилище Никфед мог стоять у него за спиной. - Николай Федорович, прости не знаю фамилии, произнес он с чувством глубокого уважения, – заведующий кафедрой физвоспитания и почти главный человек в нашем институте – понял!? - Ага, весело ответил я, и бодро пошел искать этого столь уважаемого спортглаваря. Кафедра располагалась в самом центре второго, элитного этажа института. Я робко постучал в дверь и, приоткрыв ее, робко спросил – Можно? - Можно, только осторожно, - ответил мне сидящий за столом небольшой седой усатый человечек . - Я бы хотел подать документы в ваш институт, голосом почему–то начисто лишенном решимости прогундосил я. - А что можешь? – в тембре голоса я не обнаружил большого интереса к своей персоне . Я достал чемпионские дипломы и квалификационные билеты первых разрядов по плаванью и стрельбе из пистолета. Он нехотя взял их и не глядя бросил на стол. Затем привстал и ловко сморкнулся, зажимая поочередно пальцем по одной ноздре, точно попав в центр корзинки для бумаг, стоящей в полутора метрах от него. Затем очень интеллигентно, двумя пальцами и оттопырив мизинец, достал из нагрудного кармана маленький белый очень чистый и отглаженный, расшитый кружавчиками платочек, и аккуратно приложив его поочередно к каждой ноздре взглянул на меня. Затем, спрятав платочек он довольный произведенным эффектом, вновь занял прежнее место за столом. - Документы оставь. Если есть аттестат, - принесешь позже, когда выиграешь городское первенство первых курсов по плаванью. Наша вода в бассейне на улице Правды три раза в неделю по утрам. Начало в семь тридцать. Опаздывать не рекомендую. На экзамены не ходи. Наше дело, как говорил товарищ Сталин, – «учиться побеждать!» Иди. Я ушел. Через две недели выиграл первенство вузов города, и на следующий же день, получив студенческий билет учащегося механического факультета Холодильного института, уехал догонять свою группу в колхоз на уборку картофеля. ------------------------------------------------+-------------------------Слой человека в нас чуть – чуть Наслоен зыбко и тревожно; Легко в скотину нас вернуть, Поднять обратно очень сложно. И. Губерман. Несколько слов о моей любви неразделенной к «вождю всех времен и народов». 8 марта 1953 года «гений почил в бозе». Пять дней до официального сообщения о смерти все стадоподобное население Великой Державы, а к этому почетному званию можно и сейчас отнести абсолютное большинство граждан страны, тихо умирало в горестном ожидании… Я не составлял исключения из этого «забитого овечьего стада» и «в час официальной объявы», не стесняясь искренних слез, завыл в голос вместе со всем классом, со всей школой, со всей оболганной, ограбленной, оплеванной, оболваненной «мелихой» (страной). Выл я долго. Выл и размышлял: - А не утопиться ли мне! Все равно жизнь нашего народа без гения вождя обречена! - Так думал и весь класс, и вся школа, и почти вся мудацкая коммунистическая Родина! Но совсем не так думала наша старушка – домработница тетя Варя, простая малограмотная колхозница – пенсионерка, которая жила у нас третий год на птичьих правах, без прописки и паспорта. Краснокожую паспортину ей, на всякий случай, при отбытии в город на заработки не выдал председатель колхоза, - товарищ Хрящ Сидор Моисеевич, «чтоб он скотина скозився,да и сдох с копыт, мать его ети !» (личная постоянно действующая и неотъемлемая приставка нашей золотой тети Вари к ФИО товарища председателя колохоза)! Хотя по закону дать этот документ пенсионерке этот «шмырь болотный» был обязан. Надо сказать, что свой «серпастый и молоткастый» она и в глаза – то толком не видела. Их за всю ее горемычную (читай, счастливую) жизнь было у нее три: «первый сразу же после вручения отдали моейному отцу, я только крест наложила по неграмотности. А это было еще при батюшке царе Николае Александровиче. Второй уже опосля этой заварухи, что случилась в семнадцатом годе. А ужо третий - совсем опосля, это когда немец из нашей деревни насовсем ушел. И в этим и креста черкануть не дали. Хрящ Сидор Моисеич (мать его… и т. д.) сам в город до начальства ездючи, его заполучил, сам крест изобразил собственной рукой, да и в железный шкап в конторе под замок его и замастрячил на вечные времена, да чтоб ему скотине скозитца, да издохнуть совсем с копыт, мать его ети!» Товарища же Сталина И. В., добрейшая и честнейшая тетя Варя не просто не любила, она его - «убивца, - душой всей терпеть не могла». А на вопрос – Почему? – отвечала просто: - Антихрист он на все времена! Был, есть и будет. Прости, Господи, меня грешную. Тетя Варя перенесла голод в тридцатые годы на Украине. Похоронила мужа, да троих детей малых. А в самой-то, неизвестно на чем выдюжившей в те годы - было тогда чистого весу двадцать пять кило! И хоть неграмотной была, а все уразумела. Нутром чистым крестьянским, незамутненным лозунгами на красных тряпках поняла, кто всю кровушку из ее семьи высосал. Да и не только осознала КТО ОН ЕСТЬ враг народу истинный, но и зачем ЭТО сделал, КРОВОПИВЕЦ, сообразила неграмотная: - Антихрист завсегда кровь людскую сосет, когда властью своей поганой утверждается! Неграмотная бабка сообразила, а мой папочка - инженер с высшим образованием, стойкий большевик, преданный (до отъезда в Израиль) и несгибаемый коммунист - ленинец, руководитель крупного союзного треста, - ни хрена не мог, а может быть не хотел (или боялся) понять и растил такими же долбае..ами двух своих сыновей. А, впрочем, может быть я и зря это его? Таким уж его еврейского пацана, жившего за «чертой оседлости», познавшего «радости» погромов взрастила это долбанная советская «мелиха». Он, еще будучи недоразвитым малолеткой должен, был ее защищать, сам не зная от кого, но под руководством горластых, а от того казавшимися умными дядек с маузерами в руках, а иной раз и на конях, да с тачанкой при пулемете «Максим»!… Между прочим, Валерка Вознесенский, когда его папочка был еще министром просвещения, а родной дядя вторым человеком в государстве и личным другом Вождя, и дом жил «полной коммунистической чашей», был праведным пионером и верным заветам партии комсомольцем. И совсем неизвестно, какими бы сложились его убеждения, если бы «его величество товарищ петух» лично не клюнул все их семейство в благополучные «задницы»!А его бы, как сына врага народа, вместе с матерью не сослали на далекую Колыму. Ну, правда, там–то он очень быстро «созрел» и мгновенно сменил политическую ориентацию на прямо противоположную. И теперь его врагами стала наша «благополучная» семья во главе с папой коммунистом, которая рискуя не меньше (если не больше) чем он, прятала его у себя дома, вплоть до его ареста, который, слава Богу, произошел в его (а не в нашей квартире), куда он забежал на несколько минут сменить белье. Думаю, что мама моя в отношении к Отцу Народов была скорее больше солидарна с тетей Варей, чем с отцом, но женщиной она была мудрой и понимала, где мы живем и кому надо всей семьей «официально подвывать». Все это я рассказываю к тому, что сочинение о Сталине, которое я написал на экзамене в Техноложке этой запуганной отчимом пичужке, было писано с душой и внутренним трепетом благодарности Вождю за «наше глупое счастливое детство…», а иначе тогда, ведь, и быть не могло! Итак, получив «студбилет», я на перекладных отправился догонять свою группу в какой–то богом забытый замуханный колхоз. Картинка, прямо скажем, мне представилась не самая красивая. Ребята и девочки жили в двух разных бараках, грязных, воняющих навозом, наскоро вычищенными ленивыми колхозниками бывшими коровниками. Спали на старой слежавшейся, оставшейся после студентов с прошлого года соломе, полной блох и каких–то других, неведанных горожанам, зверски кусачих тварей. Кормили дважды в день, в основном кислыми щами «на очень костлявом» бульоне. Девочкам давали в день по стакану подкисшего молока. Правда, тяжелого сыроватого ржаного деревенского хлеба было вдоволь, но в сочетании с кислыми щами или кислой тушеной капустой это была взрывоопасная смесь. Шли непрерывные моросящие питерские дожди. Отопления в бараках, естественно, не было, и утром все надевали не просохшую за ночь одежду. Ребята ворчали, но тихонько про себя, «в тряпочку». Перед отъездом ретивый начальник институтского отдела кадров не поленился провести с каждым студентом в отдельности «доверительную», по - отцовски теплую беседу, в которой он вкратце обрисовал временные трудности, в которых сейчас после смерти дорогого И. В. С. находится любимая Родина. И что долг каждого комсомольца, каждого студента еще теснее сплотиться вокруг родной коммунистической партии и всеми силами, не взирая на временные трудности и т. д.… По окончании беседы, он очень просил каждого присматривать за остальными своими товарищами и если, что… то немедленно … и только ему лично…и лучше в письменном виде …и хорошо бы телеграммой…можно иносказательно…расходы по телеграмме институт выплатит немедленно по приезду. Система наушничества в мелихе была прекрасно отработана с детсадовских времен, и поэтому каждый …так…, на всякий случай…, помалкивал и так,…а вдруг какие-нибудь «сведения» понадобятся в ответ на чужой донос «друга»… и запоминал всякого рода «мелочи», допущенные или в сердцах оброненные товарищем… Мне повезло. В группе геологов, которые тоже жили вместе с ребятами, но еду готовили себе сами, вернее питались тушенкой, запивая ее неразбавленным спиртом, законно положенным им «для промывки теодолита», заболел рабочий, который и таскал этот самый теодолит. Им срочно нужно было его кем-то заменить, и они обменяли меня у нашего старшего на бутылку «очистной жидкости для линз» и пару банок сгущенки. Работали мы от зари до зари. Теодолит на деревянной треноге и двухметровая планка из сырой доски, для удобства переноски сложенные воедино, были чертовски тяжелы и уматывался я за день зверски. «Пивец» я был с непривычки слабоватый и ста граммов спирта с банкой тушенки мне с лихвой хватало, чтобы замертво свалиться на грязную солому до утра. За молоком надо было ездить на дальнюю ферму самим, и девчонкам через день давали лошадь с телегой. Править никто из них не умел, и в один прекрасный день на заартачившуюся на переезде резвую кобылку налетел поезд. Девочка, к счастью, осталась невредима, но лошадь разорвало пополам. Ребята были в шоке, но бунтовать боялись. Я об этом событии узнал уже после вечерней «промывки собственных линз», когда и мне и остальным геологам уже все было до фонаря. Проснулся я от жуткого гомона и громкой нецензурной брани. Это разбираться с происшествием приехал сам председатель колхоза. Ребята пытались предъявить ему вполне законные претензии по неустроенности быта, но он был сильно «выпимши» и слушал только себя – любимого начальника. Я, спросонья еще плохо соображая, что происходит, тоже достаточно громко попытался высказать свое личное мнение по разбираемому вопросу, но подвел вестибулярный аппарат и, не удержавшись на ногах, я опять свалился на солому. Естественно раздался смех, а поддавший не менее моего председатель, так, между прочим, заметил, что если некоторые товарищи еврейской национальности не умеют пить, то пусть лучше крепче закусывают. Мне эта реплика, почему – то сразу не понравилась, причем настолько, что я мгновенно почти протрезвел. Шефа поддержал его водитель, добавив, что мол некоторые сопливые жидята, если им дать вырасти, начинают травить великий русский народ, намекая на только что прошедшее «дело врачей - отравителей». А вот эта фраза показалась мне уже совсем лишней. Я, пошатываясь, дошел до него и, не размахиваясь, врезал в скулу. Этому удару мог бы позавидовать сам непобедимый Джо Луис. Я, что называется, - попал… Водитель как подкошенный свалился без сознания на пол и практически не пришел в себя до утра. Как оказалось позже, я сломал ему основание челюсти. Эту ночь председатель был вынужден переспать с блохами и клопами в нашем невыносимо вонючем бараке, вкусив сполна все его прелести. Через день за мной приехала институтская машина, лично с самим парторгом и увезла в город. Партбюро и райком комсомола решили на базе моего безнравственного поступка сляпать «показательное дело», дабы впредь «подобным личностям не повадно было». Дело передали на комсомольскую конференцию института – по уставу это высший комсомольский орган, его решения окончательны и пересмотру не подлежат!. На предварительной сходке руководящего состава вуза и райкома, хулигана решено было исключить из комсомола и института и передать дело в судебные органы. В то время институтским председателем комитета комсомола был замечательный парень, «железный кореец», с фамилией Ким. Он был членом корейской компартии, воевал и заслуженно имел в райкоме и институте непререкаемый авторитет. В комитет комсомола он подстать себе, подобрал таких же смелых и порядочных ребят старшекурсников. Ким детально разобрался в существе вопроса. Побывал в колхозе, беседовал с ребятами, все усек и повернул мое дело совсем в другую плоскость. Берия, пытаясь захватить власть в стране и сесть на место Сталина, решил показать себя либералом – демократом и ярым борцом за национальное равноправие всех малых народов. «Еврейское дело врачей» по его указанию было тихонечко спущено на тормозах, и партийная пресса достаточно ясно давала народу понять, что «кампания врачей - вредителей» была ошибочной. А, вернее, неправильно понята и извращена отдельными парт аппаратчиками - перестраховщиками на местах. За что эти товарищи должны будут получить серьезные партийные взыскания, вплоть до перевода на другие должности. Таким образом, на несколько жалких месяцев евреи обрели статус невиновно – обиженной нации. Более того, кое кому из членов политбюро ЦК КПСС, как оказалось позже, даже было стыдно за эту несанкционированную правительством и партией кампанию, неизвестно как и почему раздутую прессой! Кампанией, бросающую тень и ущемляющую честь и достоинство этого, хоть и малого, но абсолютно полноправного в СССР, очень трудолюбивого и, вообще, славного народа! В некоторых публикациях журналисты дошли аж до того, что почти открыто признавали «случайно попавшего» в автомобильную катастрофу Михоэлса талантливым артистом и режиссером, а западного ученого Эйнштейна «неплохим математиком, кое что сделавшего в мировой науке»! Принципиальный и честный умница Ким в полной мере использовал эту удачно сложившуюся для меня ситуацию. Гневно обличив ярого антисемита, хулигана и антисоветчика, с явно фашистским уклоном - шофера председателя колхоза, он представил меня в качестве замечательного спортсмена, много лет приносящего славу нашему институту и славному городу. Как патриота-первокурсника, который неделю назад, сдав на хорошо и отлично сложнейшие вступительные экзамены из последних сил пошел защищать и с честью защитил интересы уже ставшего ему родным института на прошедших соревнованиях по плаванью! Он ювелирно вылепил из меня образ ни в чем не повинного парня, который в силу на редкость неудачно сложившихся обстоятельств попал в сложную ситуацию с явной антисоветской политической подоплекой! И, что особенно важно, – он при этом не струсил! Не растерялся! Не распустил сопли, как это могли бы сделать многие на его месте! А четко и принципиально разобравшись в создавшейся обстановке, героически встал на защиту своей нации и дал решительный отпор негодяю, покусившемуся на ее честь и свободу! Он призвал всех комсомольцев института гордиться моим поступком, безусловно достойным подражания и выдвинул мою кандидатуру в члены институтского комитета комсомола. - Именно такие люди сегодня, как никогда, нужны нашему комсомолу! Именно с такими сильными и волевыми ребятами мы перевернем погрязший в грязи национальной розни, пьянстве и разврате, неуклонно двигающийся к фашизму капиталистический мир и построим новое, сильное, чистое и честное демократическое общество. Я бы очень хотел, - сказал Ким в заключение, - чтобы именно такой парень, как Вениамин занял это место после моего ухода с поста секретаря комитета. Сразу же после своего выступления - грому и молнии подобного, - не дав опомниться райкомовским и партийным функционерам, Ким, пользуясь правом председателя конференции, поочередно дал слово своим соратникам по идеям и духу – членам комитета, ребятам очень толковым, с прекрасно подвешенными языками. Студенческий зал выл от восторга. Никто не мог ожидать такого поворота дела. И ошалевшие даже от столь слабого пучка света свободы, так нежданно вырвавшегося из тонюсенькой трещинки в непробиваемом, не имеющем никаких моральных барьеров, лживом коммунистическом броневом монолите, студенты буквально пошли в разнос и остановить их было почти невозможно. Парторга, попытавшегося проблеять что–то против, – «оголтело» освистали. То же случилось и с райкомовскими шавками. Короче, «бунт на корабле» удался. Конференция практически единогласно избрала меня членом комитета комсомола института. И я, вместо отсидки в тюремной камере, в мгновение ока стал народным героем и крупным комсомольским деятелем институтского масштаба. Мудрая народная пословица гласит: - «От сумы и от тюрьмы не уйдешь далеко»… И народ, как всегда, оказался прав. Через четыре года партия отыгралась на мне сполна, и во всей красе показала настоящую тюремную «кузькину мать»!. Но об этом чуток попозжее… С Никфедом мне пришлось поссориться, хоть и не хотелось очень… В комитете комсомола я получил сектор самодеятельности. И, бросив спорт, со всей присущей мне сумасшедшей энергией, влюбленностью в новое интересное дело и безмерным честолюбием, с головой и ногами окунулся в «самодеятельное искусство». О первом «капустнике», который прошел с бешенным успехом я уже писал. Второго - институт ждал, как евреи – мессию, и я постарался не обмануть ожидания ребят. Надо сказать, что в институте в то время была прорва очень талантливых в моем деле студентов. Второй капустник я писал с отцом Миши Боярского – Сергеем. Он же и режиссировал этот спектакль. Режиссером первого был прекрасный актер Театра комедии им.Акимова - Лева Мелиндер. Сергей Боярский был одним из ведущих артистов Театра им. Комиссаржевской. Внешне он был очень колоритен. Орлиный нос на худощавом лице, горящие глаза, красивый, чуть сипловатый сильный голос. Он был лучшим исполнителем Дон Сезара де Базана из всех, кого мне пришлось видеть. Я сохранил о нем в сердце самую нежную память. И очень скорбел, когда его забрала , рано пришедшая бабуля -смерть. В следующем капустнике мне помогал его родной брат – Николай, тоже славный человек и не плохой артист. Миша, вне всякого сомнения, перещеголял в актерском мастерстве и славе своих старших родственников, но по чисто человеческим качествам, как мне кажется, они были значительно выше его. Хотя, кто его знает, их так не ломала звездная актерская слава… А она - злодейка свернет хоть кого…Плюс склонность к спиртному. Папа Сережа тоже ох как любил это дело… Музыкальным оформлением спектаклей ведали два очень одаренных музыканта и человека. Саша Мерлин, сейчас он тоже эмигрировал в Германию. Прекрасный композитор – мелодист. Он создавал женские квартеты, квинтеты и октеты. Девочки пели на четыре - пять голосов, что тогда делал только знаменитый на всю страну ансамбль «Дружба» Саши Броневицкого с Эдитой Пьехой. Солистам – вокалистам и танцорам, которых было множество (институт не даром держал марку – спортивно – музыкально – танцевального), аккомпанировал папа нынешнего лучшего концертмейстера России - Миши Аптекмана - Юра Аптекман. В свое время он был хорошим инженером, и в компаниях играл на рояле. 1952 год и пятый параграф поставили точку на его техническом поприще. Он год пробивался без работы, и Ким дал ему крышу и аккомпаниаторский кусок хлеба в нашем вузе, впрочем, как и еврею Саше Мерлину. Приезжая в Питер я частенько встречаюсь с Юрой и его прелестной умницей женой Машенькой, блистательным врачом эндокринологом и прекрасной исполнительницей городского романса. Не могу не вспомнить одну забавную историю. На третьем году своего «культурного правления» в институте я прослушивал первокурсников, готовя очередной концерт к какой–то дате. Певцов было человек десять и почти все они хотели петь какой–нибудь вальс: «Севастопольский», «Амурские волны», «Офицерский», и черт знает, какой еще…Последним был очень застенчивый паренек, белобрысый, немного щербатый, высокий ростом и мощью тела матерью природой не обиженный. Одет он был более чем скромно. Черная заношенная до нельзя вельветовая курточка, из которой он вырос уже годочков пять назад. Немыслимой заношенности короткие брюки, из-под которых смешно смотрелись стоптанные, огромного размера старомодные туфли. - Имя, фамилия, факультет и группа, и что будешь петь? – автоматически заучено протараторил я. - Кузнецов Валентин, – смешно ощерив в виноватой улыбке просвет между передними зубами пробасил он, хочу спеть «Офицерский вальс». - Старина, я тебя умоляю, пой, что угодно, но только не надо никаких вальсов. - А «Вдоль по Питерской», можно? – он опять смущенно улыбнулся. - Давай, - махнул я рукой и спустился со сцены в зрительный зал, поглядеть, как это «чудо морское» будет изображать подвыпившего купчика в пролетке. Аптекман спросил его, в какой тональности аккомпанировать, на что этот «здоровенный малыш» недоуменно пожал плечами и пробасил: - А играйте в точности, как на патефоне у Шаляпина. Юра улыбнулся и заиграл вступление. Ему тоже было все равно, по моему, он знал все песни и, вообще, всю музыку на белом свете . Я неоднократно слышал легенды о силе Шаляпинского баса и о том, как в резонанс его мощного голоса начинали звенеть хрустальные подвески на люстрах в зрительных залах. Слышать– слышал и сам байки об этом рассказывал, но верилось, что такое может быть, слабо. Ничего подобного, в данном случае, я, вполне естественно, ожидать не мог и поэтому, закрыв глаза, просто расслабился в кресле. Мощь звука, которая, буквально, заставила меня подскочить, пожалуй, можно было сравнить только с ураганной силы смерчем. Пронзительно запели стеклышки на огромной люстре актового зала и им начали басисто вторить стекла в окнах. Раскрыв рот, ошалевший, я зачарованно глядел на это чудо в задрипанном вельвете на сцене. Да и он, казалось, забыл, что не летит лихо в коляске запряженной бешенной тройкой вороных, да вдоль по Питерской, а поет в зале! Вместо робкого, смущенного провинциального парня из-под Полтавы, на сцене стоял уверенный в себе, сильный красивый мужик с хлыстом в одной руке и вожжами в другой. Глаза его сверкали такой ухарской удалью, что не поверить, что все, что он поет правда, – было просто невозможно. Я взмок. Я никогда не слышал и не видел ничего подобного. Второй такой же силы эмоциональный взрыв я испытал много лет спустя на премьере замечательного фильма «Приходите завтра» с великой актрисой и певицей Соколовой, и на той же песне «Вдоль по питерской». Я сразу же вспомнил Вальку Кузнецова и заново пережил ту историю. Паренек закончил и вновь превратился в прежнего деревенского увальня. - Ты где учился петь? -- спросил я его, постепенно приходя в себя, и еще не совсем отчетливо веря в то, что все это действительно произошло сейчас, и наяву. Юра Аптекман вытирал пот со лба и закатывал глаза показывая, что такого в его практике еще не было…. - А нигде… У нас патефон дома есть и пластинки разные… Валька проучился у нас в Холодилке два года. Жил в общежитии. Есть ему было нечего, и я пристроил его лаборантом на какой–то кафедре. Он играючи выиграл городской фестиваль «Белые ночи». Обалдевшие члены конкурсной комиссии, все как один, разом дали ему первое место. Потом он так же запросто выигрывал и все остальные певческие игрища, на которые выходил. Через два года он поступил в Ленинградскую консерваторию. Питался одним черным хлебом и кефиром. Пел статистом во всех оперных театрах города. Знал репертуарные партии всех опер, шедших в городе, и мог заменить любого солиста от тенора до баса, - диапазон его голоса был невероятен. Я потерял его из вида сразу же после того, как он ушел из института. О его мытарствах в театральных дебрях я узнал лет через сорок. Правда, мне часто встречались афиши оперных постановок, в которых значилась фамилия какого-то его однофамильца - тенора Валентина Кузнецова, но я и во сне представить себе не мог бы, чтобы наш Валька запел тенором. Ленинградская консерватория - великое учебное заведение, и из соловья она запросто делает воробья. Наша следующая встреча произошла в Малом Оперном театре, где он, увы, был уже не ведущим певцом, а директором. Потом он много лет директорствовал в Ленинградском цирке, где более тридцати лет главным режиссером работает мой друг с юности - Алешка Сонин. Говорят, что Валька много сделал для процветания циркового дела. Его, наверно, должны были очень любить западные менеджеры. Он как и прежде большой, невероятно обаятельный русский медведь, улыбчивый, с необычайно приятным баритонального тембра голосом в разговоре. К сожалению, мне ни разу больше не пришлось услышать, как он поет. Сейчас он крупный бизнесмен. Занимается организацией крупных выставок и авиа салонов. Говорят, успешно. Я, конечно, спросил его при первой встрече: - И все – таки, Валентин, объясни мне, как такое могло случиться, ты же пел басом? - Да очень просто, - ответил он. – Диапазон у меня был колоссальный, и я мог очень богато окрасить баритональные и теноровые партии. Вот и стал тенором. Знаю, может он и прав, но я, пожалуй, рад что не слышал его в его бытность тенором. В моих ушах до смерти будет звучать та первая басовая - «Вдоль по Питерской», и только таким, как в те наши студенческие годы я его и запомню навсегда. -------------------------------------------------------+------------------Как ни странно, но несмотря на то, что моя студенческая жизнь была очень интересна и разнообразна, если детально разложить ее по жанрам жизненных коллизий, на сегодня запомнилось не так уж и много. Попасть на наши вечера, не говоря уже о капустниках, было очень не просто. Актовый зал был человек на пятьсот, а только наших студентов, включая вечерников, - около двух тысяч. У входа всегда дежурили институтские дружинники – выкормыши Никфеда – борцы и тяжеловесы. Я тоже занимался вольной борьбой и иногда позволял себе размять на входе мышцы. Главным человеком дружины был студент по прозвищу Кроха. Он был за два метра ростом и обладал невероятной физической силой. Правда в серьезные схватки он не вступал, боялся сильно повредить коголибо из нападавших. Окончил он плохо. Кто-то из недовольной шпаны разбил ему голову трубой, сделав инвалидом на всю жизнь. На наших концертах и танцах выступали лучшие гастролеры, включая редких в те времена зарубежных. Играл оркестр утесовцев под руководством Ореста Кандата. Знаменитый «Ленинградский дикселенд» Усыскина. Мне даже удалось пригласить на танцы чехословацкий оркестр Крау Гартнера. В те годы это было событием почти невероятным, так как во - времена «железного занавеса» даже чешские гастролеры считались « крутейшей загранкой» и выступали только в самых престижных залах. Пела у нас «Дружба», и с тех пор я сорок с лишним лет дружу с ее замечательным солистом Виталием Каратаевым. Я уже не говорю о «Поющих гитарах», которые у нас на вечерах «начинали клепать» свою немеркнувшую славу. В Ленинград на трехмесячные летние гастроли ежегодно приезжал московский театр им.Станиславского. В то время там был блистательный актерский состав: Яншин, Урбанский, Женя Леонов, Майя Менглет, Левенсон, Глебов и любовь всех тогдашних студентов страны – Лилия Олимпиевна Гриценко, народная артистка СССР, родная сестра столь же блистательного Николая Гриценко. Лилия Олимпиевна редко и невыигрышно снималась в кино, отдав весь свой редкий актерский дар театру. Но мне обидно, что широкий зритель мало знает о ее удивительном певческом даре. Записей романсов в ее исполнении я в продаже не видел. Да и телевидение тех лет частыми приглашениями ее не баловало. А исполняла она романсы не просто хорошо, а, пожалуй, как никто. Короной - был городской романс. Вне всякого сомнения, Валечка Пономарева - большой мастер своего жанра, но Гриценко… Помимо обладания чудесным многооктавным голосом она была блистательной драматической актрисой, и визуальный эффект каждой её песни был неподражаем. Я уже говорил, что студенчество сходило по ней с ума, и в каждый приезд театра она минимум два, три концерта давала у нас в институте. Мы с ней очень подружились, и она устроила меня на время летних гастролей статистом в свой театр. Каждый приезд она притворно сердилась на меня и говорила, что из–за моих «противных» концертов на одном и том же зрителе, ей приходится бесконечно расширять свой репертуар. В те годы ей было немного за сорок. Ее нельзя было назвать красавицей, но она была чудо как привлекательна. Дивная кожа, огромные живые, умные глаза, стройная фигура, удивительная женственность и безграничное обаяние, ну просто «прущего» из нее актерского дарования. Она была неподражаемая Елена в «Днях Турбиных». В театр в те годы пришло много талантливой театральной молодежи. Среди них - совсем еще юная Оля Бган, героиня нашумевшего в те годы фильма «Человек родился» и Олег Шворин, необыкновенно красивый парень, высокий, голубоглазый, с мужественным открытым лицом и улыбкой киногероя из американских боевиков. Сын генерала, очень балованный удачной судьбой и самыми красивыми женщинами Москвы. Он удачно сыграл Марка в знаменитом фильме Чухрая «Летят журавли», и в театре ему тоже давали первые роли. Лилия Олимпиевна без памяти влюбилась в него, и роман закончился скоротечным и, как всем тогда казалось, счастливым браком. Обычно, если он не был занят в спектакле, Олег приезжал с ней на все наши концерты, слушал ее за кулисами, и тяжелые «скупые мужские слезы» падали с его длинных пушистых ресниц, когда она пела «романс Ларисы» из «Бесприданницы». Она тоже вся в слезах, от переполняющей ее сердце любви к нему и от чувства жалости к своей героине, каждый раз выводила его, смущающегося, за руку на сцену. Трогательно прижималась очаровательной головкой к его плечу, и несколько минут они стояли, тесно прижавшись друг к другу, почти не дыша, пока зал грохотал аплодисментами. Увы, роман их продлился не долго. Олег начал сильно «поддавать», и в подпитии вел с ней себя недостойно. К тому же по своей природе он был типичным нарциссом и альфонсом. Чухрай удивительно точно попал в точку, выбрав его на эту роль . Ему постоянно было необходимо чье–то внимание со стороны, рестораны с цыганами и безрассудное поклонение разных, лучше именитых красивых женщин. Лилия Олимпиевна долго терпела, но гордая кровь казачки все же взяла вверх, и она нашла в себе мужество уйти от него. Уйти смогла, - а вот забыть… Навсегда вычеркнуть из жизни… Увы… Она по–прежнему приезжала к нам. Привозила новые романсы. Прекрасно пела цыганские. Но «романса Ларисы» в ее репертуаре уже не было. И однажды студенческий зал, который за столько лет стал для нее почти родным, умолил, «ухлопал ее» спеть его. Многие из ее страстных почитателей, находившиеся в зале, прекрасно знали о семейной трагедии, но людские сердца так часто бывают эгоистичны и жестоки. После добрых десяти минут ора нескольких сотен молодых луженых студенческих глоток и оглушительного грохота аплодисментов она все же сдалась и слабо кивнула аккомпаниатору. Зал замер. Я не могу описать, как она «это» сделала. Как не дыша, умирая вместе с ней, слушал «это» зал. Я никогда не видел на концертах такого количества плачущих глаз, рыдающих лиц. Это было то, что принято называть «чудом полного слияния душ»! Она не закончила последнюю фразу - задушили слезы и, если бы не оперлась на крышку рояля, упала бы на сцене. Аккомпаниатор помог ей выйти за кулисы, отвел в гримуборную и уложил на кушетку. Зал молчал, ему было стыдно за проявленную бестактность. Вбежав в гримерную, я увидел ее лежащей на кушетке, лицом к стене. Нет, она не плакала, она закостенела. Ктото из зрителей принес валокордин. Я накапал его в рюмку, но пить она не стала, и глазами попросила оставить ее одну. Зал постепенно опустел, хотя не прошло и половины концерта. Никто не возмущался и не требовал обратно денег. Каждый чувствовал себя виноватым. И это персональное чувство вины каждого вылилось в мощное единое искреннее коллективное соболезнование горю великой актрисы. Удивительно, но она почувствовала это, не видя и не зная, что происходит за стеной ее комнатки, и это дало возможность ее, почти остановившемуся сердцу, вновь ожить и перебороть адскую боль разрыва. Наша дружба длилась еще несколько лет. С того вечера она совершенно подругому стала относиться к Шворину. А он никак не мог понять причины, вдруг столь изменившегося к нему отношения. Олег не был человеком тонкой организации, но ее резкое охлаждение и полное безразличие к нему больно ударяло по самолюбию нарцисса. Он даже сделал неловкую попытку вернуть ее былое чувство и расположение к себе, на что она ответила полным равнодушием. Нет, не обидным, не презрительным. Он как человек, как личность просто-напросто уже не существовал для нее. Несколько лет назад я случайно встретил его в московском ресторане ВТО. Он пришел еще сравнительно трезвым, сразу узнал меня, как ни странно, и сел за мой столик. Одет он был неряшливо и бедно. Годы и пьянство разрушили былую красоту и привлекательность. Остался только рост и манеры барина. Он сразу же попросил меня заказать большую бутылку водки – «для зачистки мозгов перед началом вечера воспоминаний и за встречу» и с ходу начал молоть какую-то чушь о нашей крепкой былой дружбе в молодости. Как ни странно, но оказалось, что память он еще не совсем пропил, и до первого стакана мыслил достаточно связно. Мы вспомнили «Дни Турбиных», совсем молодого Женю Леонова - замечательного Лариосика, заменившего в репертуаре театра практически все роли (как тогда казалось многим) неповторимого Яншина. Вспомнили мой роман с Олей Бган и взгрустнули по поводу ее раннего и такого неожиданного ухода из жизни. Помянули Женю Урбанского. Он даже вспомнил, как молодежь театра любила мою маму, и на гастролях театра в Ленинграде месяцами паслась у нас в доме. Однако после второго стакана его стало заносить. Он начал подставлять ножки пробегавшим официанткам. Громко материться. Кричать, что все нынешние артисты - собачье говно, и что он Олег Шворин еще не сказал в искусстве своего последнего, настоящего слова. Я подозвал официантку, расплатился за стол и ушел не попрощавшись. По–моему он и не заметил моего ухода. Его вдруг очень заинтересовала девушка здоровенного бритоголового дебила за соседним столиком, и он начал ее нагло клеить, не обращая никакого внимания на могучие каченные мышцы, сбитые костяшки пальцев и татуировку на руках пришедшего с ней «быка». Исход этого, так славно начавшегося вечера воспоминаний, мне был понятен, но ни интереса, ни тем более жалости к нему не вызвал .Проходя мимо вахтера я, на всякий случай, посоветовал ему вызвать пикет милиции. Тот буднично спросил, для кого? И услышав, так видать, надоевшую тут всем фамилию Олега, махнул рукой и добавил: - Этого урода все равно уже не научишь. Одно слово – пропащий… - Он тяжело вздохнул и убрал, потянувшуюся было к телефонной трубке, руку. Работа статиста в булгаковских «Днях Турбиных» была не пыльной. Во втором акте мне нужно было обрядиться в длиннополую шинельку и фуражку с кокардой, взять в руки муляж трехлинейки, образца 1893 года и, как ошпаренному, выскочить на сцену с десятком таких же обалдуев как и я, крича во всю мощь : «На Дон! На Дон, казаки, к Деникину». Делал я это с большим воодушевлением, и каждый раз очень волновался. Мне казалось, что весь зал смотрит только на меня. Я даже как–то привел на спектакль маму, и дома на полном серьезе спросил ее - хорошо ли я сыграл? Парень я был компанейский. Устраивал артистам театра (который уже считал своим) халтуры в нашем и других институтах. И наш небогатый, но хлебосольный дом всегда был открыт для любого актера. Разносолов не подавали, время было не из легких, но водка, картошка с подсолнечным маслом и селедкой всегда стояла на столе. Оба Жени – Урбанский и Леонов души не чаяли в моей маме, и после спектаклей бегом мчались к нам. Оба были нищими, вечно голодными, и обладали зверским аппетитом. Леонов мог рассмешить и мертвого, а Урбанский прекрасно рассказывал страшные истории из жизни вампиров, привидений и вурдалаков. Олечку Бган привел к нам в дом Женя Шутов, тоже очень хороший человек, рассказчик и интересный актер, часто снимавшийся в кино. Я тогда только что расстался с первой женой Белкой и подружкой Галкой, и томился уже ставшим непривычным одиночеством холостяка. Оля мне нравилась безумно. Пожалуй, корни этой влюбленности, скорее всего, находились в сфере ее тогдашней необыкновенной популярности, а не во внешней привлекательности и милости характера. Человечек она была не простой, и ухаживать за ней было делом трудным. Родилась она и прожила почти всю жизнь в московской бандитской «Вороней слободе», месте, прямо скажем, не самом аристократическом, и это наложило достаточно тяжелый отпечаток на формировании ее личности. О ее отце я не знаю ничего, мать же была больна тяжелой формой шизофрении. Ольга рассказывала, что однажды, проснувшись от кошмарного сна, она открыла глаза и с ужасом увидела стоящую над кроватью мать, с поднятым молотком в руке. Поступив в театральное училище, она тут же сбежала из дома и до окончания жила в студенческом общежитии, испытывая крайнюю нужду. Моя замечательная мама отогрела ее измученную холодом тяжелых испытаний душу и она, буквально на глазах, стала приветливее, теплее и доступнее. Она любила повторять, что в нашем доме ей так хорошо, как нигде и никогда раньше не было. Во время гастролей она считала этот дом своим и весь сезон, да и следующий за ним очередной осенний отпуск всегда жила у нас. Это особенно нравилось Жене Урбанскому. Он относился к ней как к родной сестре и радовался как мальчишка, когда видел счастливую улыбку на ее лице. Ко мне Ольга относилась так же спокойно, как и ко всем остальным мужикам, окружавшим ее. Главным манком, конечно, был наш дом и мама. Друзья завидовали мне. Дружба, а может быть даже и роман с такой знаменитой и популярной артисткой поднимал меня в их глазах на необычайную высоту. - Значит, - очевидно, думали окружающие - в Веньке что–то эдакое есть, если рядом с ним такая знаменитая женщина! В 1956 я попал в тюрьму по «политическому делу», мне грозила знаменитая статья уголовного кодекса СССР – 58 – 10. А это могли быть 10 лет лагерей без права переписки, а дальше ссылка еще годков на пять, с последующим лишением права жить в больших городах. Когда меня забрали, Оля была в Ленинграде и очень переживала. Уезжая в Москву, передала записку, в которой обещала дождаться и стать моей женой. Радости моей не было предела. Моя будущая тюремная жизнь уже казалась мне сущим пустяком, так как после нее я навсегда обретал рай с любимой и верной мне, такой удивительной женщиной! Слава богу, все окончилось достаточно благополучно, и меня через три месяца выпустили на свободу. Это отдельная и довольно интересная история, и о ней я подробнее расскажу чуть ниже. Моя мудрая мама (произнося ее имя, я всегда буду повторять именно это словосочетание), при всей своей любви и хорошем отношении к Ольге, прекрасно осознавала, что при сложности ее характера и, безусловно, глубоко заложенных в генах зачатков материнской шизофрении, ничего путного из нашего брака не получится. Понимала она так же, что говорить со мной на эту тему бессмысленно. Юношескую влюбленность и мой неукротимый максимализм - ей было не переломать. Она вызвала Олю на откровенный женский разговор и высказала ей честно и откровенно все, что ее мучило. Оля была девочкой далеко не глупой и все быстро поняла. Мне трудно сегодня сказать, какими мотивами в нашем романе она руководствовалась. Может быть, на самом деле всю историю нашей любви я придумал себе сам? На следующий же день после разговора с мамой она уехала в Москву и через две недели вышла замуж за артиста своего театра - Колю, с которым прожила до сорока лет. Я не знаю был ли счастливым этот брак, но кончина ее была трагичной - в сорок лет она покончила все счеты с этой жизнью… Недавно, после более чем сорокалетнего перерыва, я вновь увидел по телевизору тот старый фильм. Да, даже с высоты техники и продвинутости современного кинематографа - это было хорошее кино. И образ своей гордой и сильной героини Ольга вылепила прекрасно, а главное - очень достоверно, так как играла она в нем саму себя.. ----------------------------------------------------+----------------------По ходу вспомнил историю еще одного артиста театра им. Станиславского – Петра Глебова. Ему в то время было лет сорок пять. Был он строен, всегда подтянут. Настоящий мужик. В театре играл вторые - третьи роли. Обычно это были либо белые, либо красные офицеры. Выходил с нами в массовке в «Турбиных». Ничем примечателен не был. Блестящего будущего ни кто из его коллег актеров, режиссеров, да и сам–то он, наверняка, не видели. История его столь неожиданного и высоченного взлета в фильме «Тихий Дон» общеизвестна всем и прочно вошла в один ряд с самыми удивительными голливудскими легендами о звездах, некогда бывших золушками. Его случайно увидел в массовке фильма сам Шолохов, и, ткнув пальцем в живот, сказал постановщику: - вот этот и есть Григорий. С ним близко я знаком не был и более ничего интересного поведать о нем не могу. Но без Глебова, так же как без Урбанского и Леонова рассказанная мною история об этом, некогда замечательном Яншиновском театре, была бы не полной. Ну, вполне естественно, что кроме увлечения искусством я занимался и еще кое-чем в родном институте. Правда, все это было мало связано с чисто учебным программным процессом. На лекции и практические занятия, за редчайшим исключением, я не ходил. Как у комсомольского главаря у меня было «свободное посещение лекций». Был в то время такой термин и такая официальная поблажка. Преподаватели видели меня в лицо только на сцене и на экзаменах. Ну, естественно, мы обязательно раскланивались и даже жали друг другу руки, встречаясь в кабинете ректора или в преподавательском буфете. Комсомол в те времена, а особенно в нашем заведении, был после ректора и парторга – третьей властью. Я мог принять абитуриента в институт и мог с легкостью отчислить практически любого студента.. Правда, была еще одна мощная власть - Никфед, но с ним мы всегда могли найти общий язык. Частенько во время вступительных экзаменов ко мне в комитет комсомола, робея, заходил какой - нибудь рядовой преподаватель, и стесняясь, просил замолвить в экзаменационной отборочной комиссии словечко за его протеже. Я никогда и никому не отказывал, но и, вполне естественно, они так же не забывали об этой «маленькой услуге», заполняя мою зачетную книжку в сессию. Были предметы, которые я не видел в упор, но были и любимые. У меня сложились прекрасные дружеские отношения с заведующим кафедрой «технологии обработки металлов» – Гущиным. Это был высокообразованный, очень приятный интеллигентный человек, с любопытной историей в своей необычной для советского преподавателя биографии. До войны, еще совсем молодым человеком он был заслан в Германию нашей разведкой для технического шпионажа и должен был собирать документацию по самым современным промышленным технологиям. Не знаю насколько он в этом деле преуспел, но инженером он был блистательным. К нему на лекции я не ходил, а бежал, иногда даже отменяя важные комсомольские мероприятия. Слушал его затаив дыхание и старался просто впитать в себя все полученные знания, понимая, что именно они смогут мне очень пригодиться в моей дальнейшей инженерной деятельности. Гущин обратил внимание на одну мою, любопытную с его точки зрения особенность, я мгновенно схватывал и накрепко запоминал его «немецкие секреты» и пытался использовать их при первой же возможности в курсовых работах. Он начал брать меня с собой на заводы, где читал лекции «по новой технике». Мы перед его выступлением обходили механические цеха, и он, как бы экзаменуя меня, спрашивал: где бы я что-то из его советов внедрил? Я с радостью и энтузиазмом докладывал ему, и он это вкладывал в тему своей беседы с рабочим классом, предлагая усовершенствовать тот или иной процесс. В 1956 году я привез из комсомольской поездки в Чехословакию небольшую 16 миллиметровую кинокамеру, обменяв ее на фотоаппарат «Зоркий», пользующийся большим спросом в странах соцлагеря. Гущин предложил мне снять двадцатиминутный киноролик о новинках техники. Я его снял сам, хотя кинорежиссером и оператором был впервые в жизни. Фильм получился почти профессиональным и долго кормил меня на выступлениях от общества «Знание». Александр Федорович Гущин заложил и взрастил во мне инженерно – конструкторский «Божий дар», и я до гробовой доски буду безмерно благодарен ему за это. Я уже рассказывал, что свою первую «Золотую медаль ВДНХ» я получил, правда, несколько позднее, за курсовой проект четвертого курса. По тем временам это выла очень высокая техническая награда. Думаю, что за свой дипломный проект, украденный после защиты институтом, который давал мне на него рецензию, я получил бы не меньшую награду, но что махать кулаками после драки. Россия есть, была и долго еще будет – великой родиной ворья! В том числе и умов! Гущин немцев не любил, называл их «арифмометрами» и считал нацией хорошо организованных аккуратных дебилов. В качестве примера приводил историю с моторами наших танков Т– 34. Известно, что эта модификация боевых машин в то время, да и много лет после войны, считалась лучшей в мире в модификации средних танков. Особенно хороши были их дизельные моторы, в которых топливо впрыскивалось непосредственно в рабочие цилиндры. Собственно именно эта схема подачи топлива и принесла двигателям заслуженную славу. На немецких дизелях подача топлива в цилиндры осуществлялась через длинный коллектор, в котором топливная смесь расслаивалась на воздух и солярку, и КПД двигателя резко падал. В первые же дни войны немцы захватили тысячи наших танков. Демонтировали их дизеля и сразу же устанавливали на них свою идиотскую «систему вспрыска», ликвидируя тем самым их главное преимущество. У немцев есть незыблемый закон: - если один немец что–то придумал и сделал, значит он сделал это не зря. И передумывать и переделывать это, за редким исключением, не следует. Когда через много лет после окончания института я был вынужден уйти из техники на эстраду, Гущин, побывавший на моем концерте, очень сокрушался, зайдя после окончания в гримуборную. - Нет, я не говорю, что ты плохой артист и писатель. Я сегодня хохотал до колик, что со мной случается редко, но таких как ты на эстраде много. Есть и получше, а вот в технике, для которой ты рожден, поверь своему учителю -таких единицы. Я запомнил слова моего дорогого наставника, и когда встал вопрос: вернуться к прежней профессии или остаться на сцене?… Я вспомнил его слова и, хотя понимал, что в науке и технике мне будет материально намного сложнее - не колеблясь, выбрал именно этот вариант. Кстати, о танках. Сегодня, как обычно, на сон грядущий читал, что под руку попадется. Книжка попалась интересная: «Тайны второй мировой». Автор - известный историк Борис Соколов. Среди прочих ложных, а скорее, лживых легенд о Великой войне, а «Великой», как считает автор, ее можно назвать только в связи с гигантскими потерями живой силы и техники с нашей стороны, он считает ее войной «проигранной» Советским Союзом. Не берусь вступать с ним в дебаты, он историк – ему виднее, но многие «военные мифы» меня просто обескуражили. Ну то, что Александр Матросов не бросался на пулеметную амбразуру дзота, а лишь закрыл собой его вентиляционное отверстие, где его и застрелили немцы – факт интересный. Что «двадцати восьми героев, Панфиловцев» с их подвигом, вообще, не существовало и в помине ( впрочем, так же как и героической «пятерки севастопольских моряков», подбивших 10 немецких танков. Из них последние пять - собственными телами, обвязанными гранатами)… Как оказалось по немецким документам, всплывшим после войны, в это время, то есть 7-го ноября 1941 года 11 немецко–румынская армия, действующая в Крыму, не располагала ни одним танком или штурмовым орудием! Об этом в своих мемуарах сообщает ее бывший командующий фельдмаршал Эрих фон Манштейн, и в этом пункте его воспоминаний с ним вполне соглашаются современные российские историки. Но миф о выигранной битве под Прохоровкой на «Курской дуге», -- нашей главной великой победе, практически решившей «победоносный конец войны», просто поверг меня в изумление. Борис Соколов вполне аргументировано доказывает, что Красная Армия Курскую дугу проиграла, поскольку при том колоссальном превосходстве, которым она обладала, достигнутые относительно скромные результаты, отнюдь, не оправдывают понесенные ею чудовищные потери в людях и технике. С нашей стороны в битве принимали участие 850 танков и САУ 5 – от гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова. У противостоящего ей 2-го танкового корпуса СС генерала Хауссера было всего 273 танка и штурмовых орудий, включая 8 наших трофейных Т–34! В ходе сражения немецкий корпус безвозвратно потерял всего 5 танков(!!!) и 54 танка и штурмовых орудий было повреждено (!!!). Армия же Ротмистрова безвозвратно потеряла 334 танка и САУ(!!!) и около 400 (!!!)было повреждено. Так вот, все наши трофейные, захваченные немцами танки Т–34 вышли из боя целехонькие. Ими управляли квалифицированные немецкие танкисты с большой практикой боев, в отличие от наших необкатанных и не обстрелянных новичков, «откатавших» по ускоренной программе всего 10 – 15 учебных часов! Александр Федорович Гущин, находившийся в это время в Берлине, знал эти цифры, но даже он, советский разведчик, знавший немецкую скрупулезность в отношении точности цифр, не мог в это поверить и считал приведенные в официальной прессе цифры обычной гебельсовской пропагандой. Да и можно ли его в этом обвинить? Конечно нет, ведь подобное вранье (ибо нет для этой безнравственной лжи другого слова в русской словесности) не могло в то время уложиться в голове любого нормального человека! С большим трудом оно укладывается у меня и сегодня. На четвертом курсе у нас появился молодой преподаватель (уже не помню его имени, фамилии и предмета, который он преподавал), увлекающийся подводным плаванием в легководолазном спасательном снаряжении. Он заразил меня этим новым видом спорта и летом взял с собой в Крым, где подрабатывал в экспедиции подводных работ, организованной Ленинградским Университетом (язык не поворачивается обозвать это святое учебное заведение мерзким именем, трижды проклятого убийцы и подонка А. Жданова). Очевидно, к этому предложению его подвигли мои прошлые успехи в плавании. Экспедиция жила и работала в поселке Новый Свет, под Судаком и занималась раскопками на дне моря, на 15 метровой глубине старинного римского галеона. Главными трофеями были пушки и амфоры с вином, пролежавшие под стенами Генуэзской крепости более 600 лет. Солидного опыта у ребят водолазов-любителей не было, впрочем, так же, как и надежной глубоководной водолазной техники. Аквалангов конструкции французов Кусто и Дюма тогда в стране не существовало и в помине. Да и имен этих изобретателейподводников в России никто еще и не слыхал. Опускались мы на морское дно в списанных с военных подлодок аппаратах аварийного всплытия, так называемых, ИСАэмах. Может быть, для безнадежного аварийного всплытия они и годились, но для стабильной многочасовой работы на такой глубине – нет! Опасность их использования в наших целях была заложена в самом принципе конструкции. Они состояли из кислородного баллона, промежуточного надувного мешка – смесителя для отработанного легкими воздуха с углекислотой и баллона с поглотительным реагентом для нейтрализации выдыхаемого углекислого газа. Надувной мешок обладал большой плавучестью и для погружения надо было привязывать к телу свинцовые грузила. Объем промежуточного мешка постоянно менялся, и тебя то тащило наверх, то утягивало на дно. Кроме того, поскольку дышал пловец не воздухом, а плохо сбалансированной смесью кислорода, азота и углекислого газа, дозировать ту адскую смесь было невозможно, и через полчаса работы на дне у водолаза начиналось либо кислородное отравление или наоборот кислородное голодание. При быстром всплытии азот вскипал в крови и начиналась очень опасная кессонная болезнь. Спасало нас от верной гибели только юношеская отчаянность, могучее молодое здоровье и нормальный экстремальный идиотизм, так же часто присущий молодости. С этой поездкой у меня связано несколько запомнившихся историй. Две из них любовно сексуального плана, одна просто забавная. -------------------------------------------------+---------------------------------------------Когда тепло, и тьма и море, И под рукой --крутая талия, То с неизбежностью и вскоре Должно случиться и так далее…. И. Губерман. Начну с «лав стори». Работы по подъему амфор с затонувшего галеона должны были начаться в начале августа. Сразу после сессии я впервые в жизни поехал на Черное море. Отец, управляющий большого союзного треста по прокладке высоковольтных линий электропередач договорился со своим грузинским коллегой, и тот мне бесплатно организовал номер в лучшей тогда в Гаграх гостинице «Гагрипша». Я должен был жить там две недели, а затем переехать на месяц в Одессу практиковаться на Мясокомбинате, а уже оттуда в Новый Свет нырять за амфорами.. Денег у меня было кот наплакал. Настроение отличное. Мой грузинский благодетель через день «на халяву» кормил меня в ресторане отличными шашлыками, и жизнь мне казалась раем. Днем я лежал на гостиничном пляже и выеживался перед ее постояльцами женского пола, осваивая, только что появившиеся в союзе ласты, в которых мне предстояло плавать под водой. Надо сказать, что профессиональный пловец с ластами это и в наше время зрелище достаточно привлекательное, так как скорость пловца резко увеличивается. А уж в то время это вызывало у непосвященных бурю эмоций. На второй день я обратил внимание на очень красивую женщину лет 28 – 30 с пожилым, желчного вида и очень видать богатеньким мужиком. Ну это мне тогда, с высоты моих двадцати одного, он казался пожилым, сейчас бы я поостерегся таким его назвать. На третий день я заметил, что и она поглядывает в мою сторону. На четвертый день она подошла сама и попросила поучить ее плавать, а на пятый - мы вместе удрали от ее поклонника в Сочи. Она сняла комнату недалеко от пляжа, и мы прожили в любви и согласии десять прекрасных дней. Звали ее Мариной, она была очень похожа на испанку, хотя была чистокровной еврейкой. Работала в МИДе переводчицей с итальянского языка. Имела мужа военного в чине капитана и дочь десяти лет. Жила на окраине Москвы, в одной небольшой комнатке очень населенной коммунальной квартиры. На следующий год мы повторили наш праздник. А когда в последующие годы я приезжал в столицу, мы встречались у станции метро «Библиотека Ленина», мчались к ее подруге и истово любили друг друга. Однажды, как обычно, я позвонил ей с вокзала на работу, но мне ответил какой-то совершенно чужой, очень испуганный голос. То есть говорила-то она, но в ее нарочито казенном тоне совершенно явно присутствовал затаенный страх. Я тоже перешел на язык строгого официоза и сказал, что привез посылку от ее родственников и готов передать ее в любом удобном для нее месте. - Я еду, - коротко сказала она и положила трубку. Я примчался к нашему метро и встретил совершенно чужую, буквально умирающую от непонятного мне страха женщину. Она сменила прическу, лицо заметно осунулось, под глазами легли тени. Сухо поздоровавшись со мной официально за руку, поминутно озираясь, она быстро сбежала по ступенькам на тротуар, подняла руку первой проезжающей машине, которая к счастью остановилась, и, вскочив со мной на заднее сидение, приказала водителю: - прямо и поскорее ! Я не стал задавать лишних вопросов и молча сидел, взяв ее за чужую холодную руку. Мы проехали пол-Москвы и остановились у какого–то незнакомого мне, довольно большого парка. Я расплатился с шофером, мы вышли и пошли по алее. Марина сильно нервничала, то и дело оглядываясь по сторонам. Наконец, мы присели на чуть живую, с через одну выломанными рейками скамейку в самом глухом уголке парка. Она еще раз окинула тревожным взглядом единственную идущую к нам аллейку и облегченно вздохнула. Достала из сумочки пудреницу с зеркалом. Поглядела на себя, припудрила нос, прикурила тонкую длинную дорогую американскую сигарету от красивого западного «Ронсона» - зажигалки редкой и престижной в то время. Затянулась глубоко, нервно, чуть со всхлипом, медленно выдохнула ароматный дым и только тогда, как бы почувствовала, что я сижу рядом с ней. . - У тебя большие неприятности? - спросил я - Не совсем , - она сделала большую паузу, - но мне плохо... - Что - нибудь на работе? - Нет, тут как раз все прекрасно… Пока… Во всяком случае… - Дома? - Да, пожалуй, и дома все хорошо… - Тогда что же так вышибло тебя из колеи? Я никогда бы не мог представить тебя в таком состоянии. - Я себя тоже… - Помолчи! – Громким шепотом вскрикнула вдруг она и быстро отодвинулась от меня, почти на противоположный край скамейки. Я оглянулся. По аллейке шел бродяга со старой грязной огромной собакой на веревочном поводке. Он явно направлялся к нам, так как дальше, за скамейкой, был тупик. Аллея заканчивалась нами. Дальше стоял огромный мусорный бак, полный каких–то сухих веток и гнилой листвы, а за ним мусорная свалка. - Он следит за мной, – испуганно прошептала она. – Я все же влипла… И таким неподдельным ужасом повеяло от ее дрожащего шепота, что даже мне стало не по себе. Бродяга остановился в нескольких шагах от нас и, скорчив просительную рожу, довольно робко протянул руку за подаянием. В те годы нищенство преследовалось милицией, и попрошайки прятались от стражей законности. Я подал ему какую–то мелочь и он, что–то невнятно бормоча себе под нос, поплелся назад. Марина сидела бледная как мел и тяжело дышала. - Это ОНИ. Это точно ОНИ. Я уже изучила их подчерк. И монетку он взял, чтобы потом снять с нее отпечатки твоих пальцев. Ты обратил внимание, что на правой руке, которой он взял эту проклятую монету, у него надета нитяная перчатка? - У него и на другой такая же – ответил я. - Нет, ты скажи, как он нас вычислил в этом глухом уголке? Ведь когда мы шли сюда, в парке не было ни души. Я специально привела тебя именно сюда. Этот богом забытый и потому еще существующий парк находится не далеко от моей бывшей школы. А на эту самую скамейку, которой уже наверняка полсотни лет, мы бегали с девчонками учиться курить, а с мальчишками целоваться. И кроме меня этого места в парке уже, наверно, никто и не помнит. - Успокойся, - начал уговаривать ее я, - этот нищий старик тоже, наверняка, учился в твоей школе. Лет, эдак, за тридцать до тебя. Он тоже тогда бегал сюда с девчонками. А сейчас, когда стал алкашом и нищим – ночует на ней летом, спасаясь от «ментов». Я думаю, у тебя не так много свободного времени, так что лучше успокойся и расскажи мне, что же в твоей жизни такого страшного произошло? Я прекрасно понимал, кого в страхе она величает коротким и емким словом - ОНИ. Я недаром совсем недавно просидел несколько «славных» месяцев у НИХ в «санатории», и ИХ методы «общения» с подозреваемыми ИМИ людьми были мне хорошо знакомы. Однако, на этот раз я прикинулся несмышленым дурачком, дабы не укреплять, ее далеко небезосновательные, опасения. --------------------------------------------------------+------------------Мы жили там, не пряча взгляда, А в наши души и артерии Сочился тонкий яд распада Гниющей заживо артерии И. Губерман. Итак, коротенько, история, которую она мне поведала сквозь всхлипы. Год назад она была на МИДовском фуршете с журналистами, и на него приехал сам Леонид Ильич Брежнев. Он в то время был еще только вторым лицом в государстве, но уже обладал огромным «партийным весом». Наметанным взглядом опытного кобеля он сразу же отметил Маринку и отправил к ней своего доверенного «шестерку», спеца по «снятию эмоциональный нагрузок» шефа. Тот подкатился к Марине и со сладенькой улыбочкой, от которой ее чуть не вытошнило, сказал, что член ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС хотел бы заниматься с нею уроками французского языка. Маринка ответила, что она переводчик с итальянского, а французский ее второй язык, которым она владеет недостаточно хорошо, чтобы преподавать его такому большому руководителю. - Я думаю, - сказал «шестерка» с той же гаденькой ухмылочкой, - что мой шеф, лучше, чем кто–либо сам в состоянии дать заключение о Вашем владении «языком по–французски». Можете поверить мне на слово, что в вопросах «языковладения» он очень грамотный специалист, да и сам не плохой педагог. Так, что не исключено, что и Вам будет чему от него поучиться. Утром за ней приехала правительственная «Чайка», и вся «коммуналка» прилипла к стеклам окон, выходившим на улицу, разглядывая двух шикарных адъютантов в пригнанных по стройным фигурам новеньких парадных мундирах, которые с почтением, галантно придерживая дверь, усаживали их соседку в блестящую черным лаком чудо машину. Член Политбюро ЦК КПСС, ласково встретив ее, препроводил в комнату отдыха за кабинетом, в которой был душ, огромная ванна, два туалета и биде (которое Марина увидела впервые в своей жизни и просто не знала, как им управлять), а также огромный глубокий кожаный диван, накрытый роскошным шерстяным шотландским пледом. - Вот тут мы и проведем наше первое ознакомительное занятие, -приятным баритональным баском проворковал Член Политбюро ЦК КПСС, расстегивая ремень на брюках, и продолжим их в дальнейшем, если дела у нас пойдут. - На какое число занятий Вы рассчитываете ? - принимая правила игры, в той же тональности задала вопрос Марина. Она еще вчера поняла, что надо быть круглой идиоткой, чтобы пытаться выгрести против такого могучего течения, а, посему, приняла для себя единственно возможное в этом случае решение. Леонид Ильич с блеском оправдал «педагогические» авансы, выданные «шестеркой», и показал Маринке высший класс «верховой» и всех остальных видов «езды»! - Такой «мощи коня» я никогда не встречала, - призналась моя подруга, хотя, поверь, мне многое пришлось повидать в этой жизни, имея профессию переводчицы и работая многие годы с дипломатами. Он просто не знал, что значит «начать и кончить процесс». Он в нем находился всегда и мог творить чудеса выносливости бесконечно. Позже, когда я лучше узнала его, мне стало казаться, что в этот день я у него была не одна и до меня он проводил занятия еще с кем – то! - Обычно «чайка» прилетает за мной три раза в неделю, но иногда четыре и даже пять. Бывали случаи, когда «черная птичка» залетала и дважды в день : утром и вечером. - Ты по–прежнему живешь в той же засранной квартире? – спросил я. - Ну, что ты. Он очень добр к своим пассиям. Теперь я живу в большой отдельной трехкомнатной квартире на Садовом кольце. - А как же муж? Он, надеюсь, догадывается, из какого «рога изобилия» валятся столь дорогие сердцу красивой женщине подарки. - Ну я же не могла, даже по ранней молодости, выбрать себе в супруги полного дебила, хоть и красавчика. Его срочно, с большим повышением в званиях и службе передислоцировали в Хабаровский край. Правда куда–то в очень секретную часть. Оттуда и самолеты– то летают раз в месяц и очень нерегулярно. Он теперь большой командир в звании подполковника. Я был очень молод и глуп тогда. Я приревновал ее к будущему Генсеку, и мы расстались уже без прежней теплоты. Я больше никогда не видел ее и ничего о ней не слышал, но в сердце и памяти моей она навсегда останется милой, славной и умной подружкой, доставившей мне в те юношеские годы много счастливых минут. ------------------------------------------------------+-------------------Когда роман излишне длителен, То удручающе типичен, Роман быть должен упоителен И безупречно лаконичен. Есть женщины осеннего шитья: Они, пройдя свой жизненный экватор, В постели то слезливы как дитя, То яростны, как римский гладиатор. И. Губерман. Теперь черед забавной истории, ибо вновь вернуться к сердечным утехам, что я сделаю непременно - всегда приятно. Участницами этой главки будут две очаровательные дивы разных возрастов , но удивительно одинаковых темпераментов и посему эпиграфа будут два. Велик в своем искрометном таланте Игорь Губерман, и на каждый вздох человеческой жизни у него есть свой «гарик»! Из зеленого солнечного, полного курортной романтики Сочи я автобусами и на перекладных добрался до мамочки–Одессы. Это в действительности любопытнейший город, и о моих приключениях в нем я буду рассказывать достаточно много. Подъезжая к городу – герою, я попросил водителя старой, насмерть простуженной довоенной полуторки, которая больше чихала, чем ехала рассказать мне, что–нибудь об истории города. - О! История у нас - богаче нет! Во первых Одесса – родина слонов. - Как? - удивился я, - я и не подозревал! - О! Ты многого еще не подозревал! Ты мне говорил, что ваш покрытый плесенью Ленинград - родина негра Пушкина. Который, кстати, ни где-нибудь, а именно в нашей теплой солнечной Одессе, трахая сисястую цыганку из местного табора, написал своего Луку Мудищева Так вот, послушай теперь шефа этого бронхитного кадилака на пенсии, первого водилу на всей Советской улицы, шофера Витю и скажи мне тихо на ухо: - Если негр может быть великим русским писателем и при этом родится не в каких–то там джунглях Амазонки, а в городишке на речке по имени Нева, то почему слон не может родиться в городе Одесса? Ну, скажем, в том же зоопарке. И ни от тети Песи и дяди Еси, а от слонихи Бубы и слона Боба? Может быть, ты скажешь, что это не логично? Против такой аргументированной логики возразить было ничего. И я почему–то вспомнил, что перед отъездом из города слышал по радио, что в нашем зоопарке из яйца, которое высидела утка, вылупился крокодиленок! Ну, что ж подумал я, теперь Ленинград может присовокупить к гордому званию города–героя еще приставочку – родина аллигаторов. Одесса встретила меня чудовищным смрадом гниющих костей мясокомбината на Лузановке, бедламом доброхотных горожан, которые в мигом собравшейся толпой, стараясь перекричать друг друга, опасно размахивая руками, пытались объяснить мне, где находится Холодильный институт, при этом показывая прямо противоположные направления. Практика в Одессе - это кладезь историй, которые я буду рассказывать с наслаждением. А пока я переночевал ночь в общежитии института. Отметился в деканате как прибывший на практику, к которой готов приступить через месяц, то есть во вторую очередь. Тогда это было в порядке вещей. В Одессе я прожил неделю и этого вполне хватило для того, чтобы пережить еще одно прелестное приключение, вернее начать его. События развивались практически таким же образом, как это только что происходило в Гаграх. Я также удивлял пляжную публику скоростью плавания в ластах и точно так же ко мне подошла очаровательная молодая грузинка и попросила научить ее плавать в этих «рыбьих хвостах». Она оказалась на редкость способной ученицей, и мы с наслаждением барахтались в прозрачных водах Лонжерона, самого популярного пляжа города, не менее часа. Правда, финал нашего учебного процесса был несколько резковат. Когда усталые и счастливые мы в обнимку вышли на берег, нас уже поджидали два ее поклонника, причем в руках у них были не хрустящие крахмалом махровые простыни, а открытые перочинные ножи. Мне ничего не оставалось, как только сделать моей ученице ручкой прощальное адью, снова окунуться в довольно прохладную воду и, замерзшему, проболтаться в ней лишний часок, дабы вновь овладеть своими трусами, майкой и сандалетами. На следующий день, вооружившись длинным водолазным ножом, я вновь заявился на пляж. Вопреки опасениям моя прелестница появилась тоже и притом одна. На этот раз мы провели вместе весь день, и к вечеру уже без памяти были влюблены друг в друга. Звали ее Мери. И как и положено в хорошем романе – она, естественно, была высоких грузинских княжеских кровей. У меня до сих пор сохранилась ее фотография и иногда, рассматривая ее, я думаю, как такая красавица могла положить глаз на меня? В то время (ну, а про сейчас–то и говорить нечего) я ничем, даже очень отдаленно, не напоминал ни легендарного Мцири, ни Джани Вайсмиллера из фильма Тарзан, большого друга обезьяны Читы. Я уже ни говорю о Кадочникове, киногерое из «Подвига разведчика», по которому стонала в подушку по ночам вся «прекрасная половина» страны. Но от факта не сбежишь и даже от Интерпола, - тогда прекрасная княжна была влюблена именно в этого невзрачного еврея в безобразных очках в черной оправе и первых отечественных ластах! Кстати, эта мысль мне пришла в голову только сейчас: - а может быть вся любовь–то и была обязана этим самым ластам?… Но, так или иначе, а тем же вечером, в белом пиджаке и сандалиях на босу ногу я сидел на веранде ресторана, что на знаменитом одесском Фонтане, под которой лениво плескалось самое Черное и прозрачное в мире море. Рядом, положив на крутое мужское плечо голову увенчанную тяжелой черной как смоль косой, сидела дивной красоты молодая грузинка княжеских кровей. И мы оба рыдали от распирающей нас любви и оттого, что завтра я должен был уезжать в Новый Свет в свою водолазную экспедицию, а она в родной Тбилиси. Мы пили сухое «Кахетинское» – самое дешевое, но, как нам казалось, самое пьянящее вино в мире. Жевали какое–то недорогое, но необыкновенно вкусное мясо и, тесно прижавшись друг к другу, тихо умирали от грустного счастья, присущего только молодости. Ресторан закрылся в полночь. Трамваи уже не шли. И мы ничего не видя и не слыша побрели вдоль берега моря в Одессу. Пришли утром. На белом пиджаке красными розами пылали лепестки былой девственности двадцати- трехлетней Мери, которой в родном Тбилиси родители запрещали не только ходить на танцы студенческих вечеров, но даже сидеть рядом или напротив молодых мужчин, будучи в гостях. В Одессу ее отпустили под жесткое, недремлющее око родной тетки. Но любившая племяшу больше жизни старушка, дала слабину и недоглядела за красавицей. Ее сыновья, которые так «ласково» встретили меня на берегу Лонжерона, в тот вечер удрали куда–то со своими подружками, подарив нам день и ночь безмерного счастья. На следующий день я уплывал палубным билетом на теплоходе «Победа» в Ялту, а оттуда опять на попутках в Новый Свет, к ожидавшим меня ребятам – водолазам.. «Победа» в прошлой немецкой жизни была огромной шикарной яхтой и называлась «Адольф Гитлер», впрочем, на этот счет есть и другие мнения. Я стоял у поручней борта. Мери напротив на пирсе. Где–то сзади толпы провожающих и зевак, наверно, стояли, сжав кулаки, ее двоюродные братья, но нам было не до них. Мы прощались навсегда! На всю жизнь! Так до нас прощались только южно - американка Юнона и ее ненаглядный Авось – капитан Лазарев! Мери понимала, что больше ее никогда не выпустят из-под родительского ока. Я понимал, что у меня еще очень долго не будет материальной возможности добраться до Тбилиси. Страдание, написанное на наших лицах, было так велико и так легко читалось, что окружающие нас люди скромно и даже чуть стыдливо отводили глаза. Корабль дал прощальный гудок, отравленной стрелой пронзивший наши измученные сердца. Мери громко вскрикнула и закрыла лицо руками. Я сел на корточки и зарыдал навзрыд, как когда – то плакал мальчишкой в том раннем военном голодном детстве… «Победа» была шикарным кораблем. К сожалению, через несколько лет на ней случился большой пожар, и ее не стали восстанавливать. Билет у меня был палубный без места, и я горестно притулился в уголке на корме, переживая крушение своего, так рано скончавшегося романа. Через час зашло солнце, и на палубе, продуваемой свежим морским ветерком, стало холодно. Экипирован теплой одеждой я был слабовато, и короткая курточка на рыбьем меху «сугреву» помогала мало. И в тот момент, когда я совсем было уже собрался тайком забраться под брезент бортовой шлюпки, ко мне подошла прекрасно одетая очень красивая женщина лет тридцати пяти – сорока, то есть очень пожилая дама по моим тогдашним возрастным понятиям. - По-моему Вы окончательно окоченели, и Вам срочно нужна либо чашка горячего кофе, либо что–нибудь погорячее, – обратилась ко мне она мягким, с очень приятным тембром голосом. - Да, пожалуй, не помешало бы, - не очень уверенно промямлил я, так как тратиться на кофе и спиртное в ресторане, а тем более на двоих, мои финансовые возможности, увы, не позволяли. - Пойдемте ко мне в каюту и я все мигом организую, - как бы продолжила свою мысль она, и, осторожно взяв меня под руку, повела вниз по лесенке к коридору, где были расположены люксы и каюты первого класса. Я плохо понимал, почему она обратила на меня внимание и зачем ей нужны эти лишние кофейные хлопоты, но желание согреться было так велико, что я не стал задавать себе, а тем более ей этот идиотский вопросы. Люкс был шикарный. Огромный, двухкомнатный, роскошно обставленный, с большим белым роялем. В спальне стояла одна двуспальная кровать, застеленная изумительной красоты покрывалом. Валентина, так мне представилась моя спасительница, сразу же позвонила в ресторан и заказала в каюту ужин на двоих. Я сел в огромное мягкое кресло и, пока она хлопотала по хозяйству и подправляла макияж в ванной комнате, отогревшись, заснул. Очевидно сон мой достаточно крепок, так как я не слышал, когда привез столик с ужином официант, и хозяйке номера пришлось меня будить. - Я видела, как Вы трогательно расставались со своей любимой девушкой. Она действительно очень хороша и стоит Ваших слез. Я вас обоих очень жалела. Но не расстраивайтесь понапрасну. Сердце подсказывает мне, что у вас с ней все еще будет очень хорошо. Я пил чудесный ароматный кофе. Смотрел на свою очень привлекательную спутницу. Слушал в пол-уха ее рассказы о семье в Москве. О том, как она скучает по детям и мужу и мечтает поскорее вернуться к ним. Что ей уже не в радость этот затянувшийся южный отдых… И думал о нашей несчастной любви с Мери… Валентина уложила меня на шикарное ложе. Нежно поцеловала в щеку, и я тут же отключился. А утреннее солнце уже застало нас в Ялте. Мы весело позавтракали в ресторане, и она, конечно, не позволила мне расплатиться. На пирсе мы нежно побратски обнялись и каждый пошел своей дорогой. Ее дожидался большой черный правительственный ЗИС, а меня - грузовые «попутки» до Судака. Надо сказать, что римский галеон, пролежавший на дне шесть веков, который нам предстояло потрошить на дне морском, выбрал себе в качестве кладбища очень миленькое местечко. Затонул он и, как я понимаю, не без помощи ядер из мощных пушек своих врагов – генуэзцев, непосредственно под стенами стоящей на высоком берегу и доныне, прекрасно сохранившейся красивой крепости. Совсем рядышком с ней, расположился славный городок со странным рыбьим названием Судак. Чуть левее, если смотреть со стороны моря, господь небрежно, щедрой рукой бросил кусочек рая, в котором люди построили маленький поселок и назвали его «Новый Свет». Поселок расположен в голубой лагуне с кристально чистой водой и чудесным пляжем с мелким песком. Вся лагуна поросла кипарисами, и на верху перед грядой гор стоял красивый белый замок – завод шампанских вин. За лагуной сразу же идут еще две такие же бухты. Одна из них чисто вулканического происхождения, названа Голубой, вторая - Царской. Лет сто пятьдесят назад князь Голицын выстроил в новосветской бухте знаменитый на весь мир завод выпускающий замечательное шампанское. Для хранения бутилированного напитка были выбиты девять тоннелей в соседних горах. Восемь из них функционируют и доселе, а вот девятый – потерян. Его безуспешно ищут многие десятки лет, но скалы молчаливо хранят свой секрет, а с ним и добрую сотню тысяч бесценных, столетней давности бутылок. Не знаю почему, но невостребованной зеленой пустой бутылочной тары было столько, что из нее, как из кирпичей обмазанных цементом, были выстроены все заборы и даже сараи. Ребята из экспедиции приехали на неделю раньше меня и сняли большой сеновал, где все вместе и разместились вместе с оборудованием. Работы уже начались и меня, еще не нюхавшего холода и мрака морских глубин, потихонечку начали готовить к рабочим спускам. Я уже говорил, что наши плавсредства были мало пригодны для долговременного пребывания под водой, и ребята после очень тяжелого рабочего дня выглядели и чувствовали себя, более чем неважнецки. Тем не менее работа приносила вполне ощутимые плоды, и несколько достаточно больших керамических амфор, в которых некогда было вино, а сегодня черная соленая жижа, уже готовы были радовать глаза специалистов – археологов. Через недельку и я намастрячился ковыряться в гнилых обломках галеона и уже с полным правом пил за ужином свою порцию водки, закусывая ее несравненными бычками в томате. Сегодня этой несчастной рыбке пришел конец – выловили под корень. Один жалкий бычок на одесском «привозе» (базаре) по цене тянет на двухкилограммовую кефаль. Правда недавно я обнаружил этот деликатес в Германии, в русских магазинах и по бросовой цене. Наши ребята - подводники изобрели оригинальный и до безобразия простой и эффективный способ отлова этой замечательной рыбки. Кто–то из них обратил внимание на то, что практически в каждой пустой мелкой консервной банке, валяющейся на дне, лежит, свернувшись по стенке, бычок. Очевидно, они использовали банки вместо раковин, тогда большой рыбине прошлось бы съедать бычка вместе с банкой. Мы соорудили сачок на двухметровой палке, набрали на мусорке консервных банок из-под тех же бычков, но в томате, чтобы им удобнее было лежать. Разложили их на мелководье недалеко друг от дружки, и за день, в два-три захода, набирали по полсотни рыбок, что с лихвой хватало на царский обед. Буду умирать не забуду, как я в первый раз встретился на пятнадцатиметровой глубине с двухметровым дельфином. До этого я вообще никогда не видел этого морского зверя близко. И вдруг прямо напротив моей противогазной маски (нынешних тогда еще не было) я увидел огромную (как мне показалось от дикого страха) разинутую зубастую пасть громадной рыбины. В воде все размеры увеличиваются в полтора раза – оптический эффект. Еще на столько же это млекопитающее выросло в размерах от страха, обуявшего меня. Я дико заорал, не выпуская загубника маски изо рта и, забыв про кессонную болезнь при быстром всплытии, рванул, что было сил наверх. Более идиотского решения в тот момент мне в голову прийти не могло. Даже если бы это была неведомо как попавшая в Черное море свирепая людоедка - белая акула, а не мирный дельфин, думаю, ей бы не составило большого труда, не напрягаясь, отхватить славный кусок от моей задницы или ноги. На мое счастье рядом находился один из наших ребят, который удачно успел ухватить меня за ласту, чем спас если не жизнь, то легкие и бронхи определенно. Три береговые бухты составляю, как бы три серпа, с соединенные концами. На стыке бухты Нового Света и Голубой находится большой грот. Он достаточно высок и глубок, его пол находится в двух–трех метрах от уровня воды. Во времена князя Голицына и до славного ноября 1917 года в нем был небольшой зрительный зал с естественной сценой в его конце. В зале была, да и осталась по сей день, замечательная акустика. Местное предание гласит, что в гроте пел сам Шаляпин. Грот и сейчас носит имя этого легендарного певца. На следующий год я не поехал с ребятами продолжать разборку корабля. Работа со столь несовершенными подводными аппаратами не приносила радости свободного водяного полета и была достаточно опасной. Но я серьезно занялся проблемой создания более совершенной конструкции акваланга. Конструктивные изыски французов Жан Жака Кусто и его напарника Дюма для нас оставались тайной. Я даже не подозревал в то время, что кто–то в мире занимается профессиональными подводными съемками, используя в этих целях независимые подводные аппараты. В нашей стране водолазы опускались на дно в тяжеленных скафандрах и были привязаны к поверхности воды сигнальными тросами и воздушными шлангами. ИСАэмы, которыми мы пользовались в экспедиции, были предназначены для аварийного выхода из потерпевших аварию подводных лодок и для съемок фильмов о подводных диверсантах. Зимой, оставаясь по вечерам в чертежной института я разработал конструкцию акваланга без регенеративного патрона, поглощающего отработанный в легких углекислый газ, из которого постоянно выливалась в рот мерзкая щелочная жижа, и убрал смесительный мешок, который нужно было постоянно стравливать, чтобы случайно не вылететь как пробка на поверхность. Я разработал автомат для подачи воздуха (а не вредного для этих целей и очень опасного кислорода) в легкие, использовав для этой цели мембрану и запорный клапан от автономного кислородного пожарного дыхательного аппарата. Сделать рабочий акваланг в металле к лету мне не удалось, не позволили средства, да и не было тогда в стране легких прочных малогабаритных газовых баллонов. Но экспериментальный образец многократно опробовал в ванной и даже разок в бассейне. Потом жизнь закрутила и было уже не до подводного плаванья. Да к тому же, работая летом инструктором по плаванию в пионерском лагере и не вылезая по несколько часов из холодной речной воды Вуоксы, я заработал себе сильнейший радикулит. Пять лет ходил, ел, спал и любил в корсете и двадцать лет не мог завязать себе шнурки ботинок. А теперь та самая смешная, с моей точки зрения, история, которую я обещал рассказать перед отъездом в экспедицию. За водкой надо было ездить, а вернее ходить в Судак, а это шесть километров в дикую жару по горам в один конец порожняком и столько же назад, но уже с двадцатью поллитровками на горбе. Конечно, можно было бы делать вечернюю «разрядку эмоционального напряжения» лучшим в стране шампанским, да при этом еще по цене вдвое дешевле магазинной, потому как «цельнотянутым». Но это забава для прекрасных дам. Мужикам же, со дна холодного моря, нужен был напиток покрепче. Вода на глубине 18 метров была градусов двенадцать-пятнадцать. Плюс донное течение и минус наличия гидрокомбинзонов. Опускались мы в зимнем шерстяном нижнем белье. Иной раз одевали его по две пары сразу. Мокрая шерстяная ткань, безусловно, значительно снижала теплообмен между голым телом и водой, но не спасала от лютого озноба, начинавшего тебя нещадно колотить через десять минут после спуска. Ходили за спасительной огненной жидкостью четко впорядке очередности, обычно после рабочего дня, но до темноты, которая на юге наступает рано. Ко всему прочему водка стоила денег, которых в нашем коллективе было в обрез. И только мы решили на общем собрании вдвое сократить положенные «после боя солдатские сто грамм» и делать только премиальные добавки для особо отличившихся в этот день, как сама матушка - фортуна заявилась на наш сеновал в облике главного механика Завода шампанских вин. Как известно, виноградный сок после положеного срока брожения разбавляется водой в нужной пропорции. Вода, естественно, должна быть очень высокого качества. На заводе для этой цели Голицыным был выкопан огромный подземный бассейн - отстойник - накопитель, в который откуда–то из-под земли поступала замечательная на вкус кристально чистая родниковая вода. Отстойнику этому к нашему приезду, как раз исполнилось «сто пятьдесят лет в обед». Вода в него как и прежде поступала, но несколько лет назад, очевидно, в результате образовавшейся трещинки в каменном резервуаре, уровень ее стал падать. Скорее всего причиной этой грядущей катастрофы для завода стали взрывы бомб и снарядов во время военных действий по освобождению Крыма от немцев. Главный механик пришел просить нас опуститься в резервуар, найти и забетонировать эту трещину. Не сомневаюсь, что задачка из третьего класса средней школы про две трубы, из которых через одну вода втекает, а из другой вытекает в бассейн, решалась куда легче, чем в этом случае. И разница в нашей задачке заключалась не столько в трубах, сколько в оплате за эту работу. Механик не жмотничал и сам предложил двадцать ящиков шампанского по 10 бутылок в каждом. Однако наше немедленное согласие могло посеять в его сердце сомнение: - а не переплатил ли он? Поэтому наш старший взял тайм–аут и, произведя в уме какие–то, очевидно, очень заковыристые подсчеты, прибавил к этой сумме еще пять ящиков сухого рислинга. Главный механик почесал затылок, убавил один ящик вина и поинтересовался, когда мы начнем. - Завтра в восемь утра. И привезите к резервуару пять, нет восемь мешков цемента, а к нам на сеновал задаток – десять ящиков шампани, – заявил, не задумавшись ни на секунду, старший и кивком показал, что сделка заключена и ее пора омыть. Механик скорчил жуткую рожу, в которой читалось такое невероятно мерзкое отношение ко всему, что льется и имеет запах спиртного, что мы не стали его задерживать и отпустили с миром. - А чего это он? Побрезговал нами, что ли? – спросил кто–то по- наивности. - Ты знаешь анекдот про врача гинеколога, который после очередного рабочего дня в операционной, где делал по полста абортов в день, чуть живой зашел в парадную своего дома и встретил на лестнице грязную цыганку? - Нет не знаю, - ответил парень, - а что было дальше? - А дальше - он ее убил, дав портфелем с инструментами по башке. - За что? – удивился пацан. - А она предложила ему за рубль показать, - что там у нее находится между ног. - Мы рухнули от смеха и живо себе представили механика, который всю сознательную жизнь, ежедневно, кроме воскресенья плавает в море алкоголя и как–то придя домой и немного продышавшись по дороге встречает нашего старшего, который за рубль предлагает ему «раздавить на двоих» бутылек шампанского. Прикинув, как завтра начнем искать эту трещину, мы несколько поостыли в радости предвкушения праздников поглощения этого искрящегося напитка. Старший обвел грозным взглядом наши задумчивые лица и объявил мозговой штурм. Каждый должен был внести свое предложение и лучшее принималось за окончательное. У меня не было достаточного опыта строительно – починительных подводных работ, и я брякнул первое, что пришло в мою дурацкую башку. Я предложил разрезать мешки и высыпать цемент в воду. Так как он схватывается не сразу, а лишь через несколько часов, тонкая взвесь должна даже при очень слабом течении добраться до трещины и заделать ее. Так поступают опытные шоферы, когда у них в дороге дает течь радиатор. Они добираются до первого продовольственного магазина и, купив сухой горчицы, засыпают пару столовых ложек через горловину. Горчица добирается до трещины, разбухает и заделывает ее на достаточно долгое время. - Вот и отлично, - подвел итог старший, - ты и пойдешь первым на разведку, а там решим. Мы еще долго сидели за столом, предаваясь сладостным мечтам о том, как мы обменяем половину заработанного шампанского на водку в Судаке: поллитровку «Московской» за бутылку «Новосветского» полусладкого. Еще пару ящиков выпьем сами по вечернему холодку, а остальное -обменяем на обратные билеты в Ленинград. Утром я одел две пары шерстяного белья из общего фонда, у меня такой драгоценности не водилось. Нацепил на голову водонепроницаемый фонарик. Ребята открыли люк отстойника, из которого потянуло ледяным промозглым холодом вечности. Я, встав на колени, заглянул вниз. То, что я увидел ни на йоту не вдохновило меня и, отнюдь, не посеяло чувства уверенности в непогрешимой правильности моего вчерашнего, почти призового предложения. А если конкретно, то я не увидел ничего. Это была та самая космическая ««черная дыра», которая полностью поглощает все попадающие в сферу ее притяжения световые лучи, а также астероиды, кометы, планеты и даже звезды. Фонарик осветил лишь несколько ржавых, до нельзя обросших скользкой бородатой тиной скоб, по которым, как я понял, с момента строительства резервуара никто никогда не опускался и не поднимался. Во всяком случае на них, однозначно, не ступала нога человеков 19 и 20 столетий. Опуститься в эту бездну первым человеком в мире за двухсотлетний срок, вне всякого сомнения, было делом почетным, а для настоящего бесстрашного героя – даже интересным. Но я, по всей вероятности, не был рожден своей еврейской мамой для свершения подвига такой мощи. Мне бы хватило и чего-нибудь такого- эдакого чуть попроще…? Старший и за ним все остальные ребята, тоже поочередно, с любопытством заглянули в люк, однако же, ни один их них – бывалых, не предложил старшему своей кандидатуры, вместо моей. Подъехал главный механик с мешками цемента и тремя ящиками шампанского в качестве аванса. Он тоже, неизвестно зачем, сунул голову в люк, и по выражению его лица после осмотра «бездны» у меня, да и у всех присутствующих, не осталось ни капельки сомнений, что он проделывает это не в первый раз, и отлично знает, что работенка, которую он нам сосватал, бесспорно, с лихвой стоит обещанной оплаты. - Как будем чинить? – Бодренько спросил он скороговоркой. - По всем строительным правилам, - ни сколько не смутясь, ответил старший. – Сейчас этот молодец, - он ткнул в меня пальцем, - облазит под водой с фонариком весь резервуар по периметру. Отыщет эту проклятую трещину. Затем мы опустим ему вниз мешки с цементом и мастерок. Ну а дальше, как вы понимаете, дело не хитрое. - Да, дальше уже пустяки, - также бодрой скороговорочкой согласился механик. Только зачем вам тогда столько мешков цемента? Тут и одного за глаза хватит. - А нам, татарам, все равно. Мы хоть трусами вашей жены можем эту дырку заткнуть. Только, я так понимаю, уж если что–то делать, то уж делать как следует и наверняка. Во всяком случае, нас именно так учили ! А все, что останется лишним - вернем обратно. Так что зря волнуетесь, хозяин. Мы - то, вообще, не алкаши из первой ленинградской подворотни. У нас ведь и свое, государственной важности дело есть. Так что, если по вам будет , что не так, – мы не загрустим. Механик робко кивнул и быстренько отъехал от греха подальше. - Давай, родимый, лезь в эту дыру, - кивнул мне старший, а то мы здесьеще добрых полдня проваландаемся. Я опустил ноги на первую холодную и скользкую скобу, ведущую прямиком в ад и, закрыв от ужаса глаза, начал медленно сползать вниз. До поверхности воды, которая и впрямь оказалось ледяной, было метра четыре. Мне же эта дорожка в преисподнюю показалась раз в десять длиннее. Обросшие плесенью стены резервуара полностью поглощали слабый лучик фонарика. Я напряг слух в надежде, что услышу, с какой стороны вытекает эта, богом проклятая водичка, но в абсолютно ватной тишине не раздавалось ни то что достаточно громкого звука, не раздавалось, вообще, даже малейшего шороха. Мне никогда в жизни не приходилось до этого «слышать такую тишину». Я даже представить себе не мог, что подобное безмолвие может существовать. То есть было полное впечатление, что кто–то вбил мне в уши деревянные пробки или я просто начисто лишился слуха. Я напряг глотку и громко что–то выкрикнул. Я ожидал громкого эха, но плесень и тина стен полностью поглотили звук, и он остался тут же, где–то совсем рядом со мной. Меня охватил дикий ужас. Вода начала казаться каким–то живым страшным притаившимся чудовищем, готовым каждую минуту схватить и утащить меня в свою ледяную бездну. Я заорал что–то непонятное и мигом, проскочив наверх эти четыре метра – километра, пулей вылетел из люка. Ребята в недоумении уставились на меня, но ничего членораздельного я произнести не мог. Синие от холода и страха губы дрожали. Из носа лило. Озноб лихорадкой бил тело. - Да он просто обосрался, парни, --криво усмехнувшись, констатировал старший . –Хорошенький запашок будет у завтрашнего винца! ---И, забрав мой фонарик, сам полез в люк. Я сел на землю и потихоньку начал оттаивать в лучах уже набиравшего жаркую силу солнца. Прошло минут пять – семь, и в створе колодца показалась голова старшего. Нет, конечно, он выглядел несколько лучше меня. Во всяком случае, он еще мог говорить, а, вернее, смог достаточно внятно произнести несколько слов на чисто русском языке, которые, почему–то людская молва, да и сам великий дедушка Даль приписывает людям тюркского происхождения. Закончив тираду, он быстренько выскочил на землю, подтянул мешок с цементом к люку и, резанув его острым водолазным ножом, высыпал все содержимое внутрь каменного резервуара. Та же судьба постигла еще пять из семи остававшихся мешков. - Пошли, братва, отряхнув цемент с рук сказал он, что могли сделали, а там, - как черти распорядятся. А их , родимых, там навалом… Вечером в тени сеновала на свежем морском ветерке мы с наслаждением тянули теплое липкое шампанское и, смеясь, пьяненькие от усталости и счастья хмельного «отходника», обсасывали косточки мне и старшему. А рано утром к нам ворвался рассвирепевший механик и, матерясь через слово, очень эмоционально рассказал все, что он думает о нас и наших родителях, и наших будущих потомках, если эти сученята от нас козлов сраных на свет божий народятся!. Два пришедших с ним амбала грозно сверкали глазами и, засучив рукава, ждали знака шефа. Если бы нас было чуть меньше, и не наши водолазные ружья и ножи, нам было бы несдобровать. Проклятый цемент почему–то и не собирался плыть к трещине. Более того, он никак не хотел набухать и, слипшись в комки, опуститься на дно Он себе спокойненько серой мутью плавал еще три недели, и завод был вынужден остановиться, оставшись без воды. Будь это сегодня, я за день сделал бы им фильтр из природного известняка, которого в Новом Свете в изобилии, и в миг очистил эту мутную воду, но тому минуло без малого полсотни лет... Ребята «в издевку» дали мне кличку «изобретатель», и как показала жизнь, - не ошиблись. Видать по карме в меня вселилась душа моего прадеда - изобретателя пушек, причем, аж в самой Франции. Вот только не понимаю, каким ветром его туда занесло. А его, между прочим, тоже звали Вениамином. Но про дедов – рассказ будет дальше. Прошла неделя после страстного расставания с моей ненаглядной княжной, и не было свободной минуты, чтобы я с тоской и нежностью не вспоминал бы о ней. И вот однажды, во время нашего скромного «томатно – бычкового» ужина после тяжелого трудового дня дверь на сеновал медленно отворилась и на пороге, из ничего, буквально из эфира - материализовалась моя ненаглядная Мери. Мужики застыли с раскрытыми ртами и кусками рыбы на алюминиевых вилках. Боже, как она в тот миг была хороша! Только Петрарка, Бунин, Маркес Гарсия или гениальный Юрий Нагибин могли бы достойно воспеть ее в то мгновение. Мое перо, увы, для этого слишком слабо!…Конечно, я мог бы описывать ее огромные, горящие, как раскаленная сталь черные глаза. Матово– белую кожу на персиково–бархатистом челе. Белозубую улыбку на вишнево– красных, чуть припухших, как лепестки раскрытой розы, губах и еще массу подобной сладкой глупости, но я не стану этого делать, а скажу совсем просто: - на пороге грязного, забитого до упора соломенными матрацами без простыней, кислородными баллонами, примусами, сохнущими кальсонами, плавками, майками, кастрюлями и еще бог его знает чем, сеновала - появилась гомеровская Медея. Какая–то неведомая сила вдруг мощно подняла меня со сломанной табуретки, легко, буквально по воздуху, пронесла над сидевшими за столом и лежавшими на соломе ребятами и всем этим кошмаром сеновала и бросила на колени перед парящей в проеме двери сарая легендарной богиней. Она тоже в трансе, потеряв последние силы, опустилась на порог. Два наших растопленных страстью, бесплотных от любви тела накрепко слились в одном. И уже больше не существовало различимых границ двух материальных физических объектов, двух разных тел и душ – это было единое на двоих астральное тело, невесомое и не управляемое даже единовластным хозяином бесконечного космоса – Богом. Скорее всего, это было некое силовое облако состоящее из одних лишь атомов страсти. Некая торсионно заверченная плазма из бешеной страсти и молодой любви. Я прекрасно понимаю, что трудно дать более глупое определение чувствам, владеющими нами обоими в тот момент, но иных слов, записывая сегодня эти строки, сегодня я найти не смог. Мы выплыли во двор и тот же ветер неуправляемого, необузданного желания понес нас в ближайшие кусты. Нам было совершенно наплевать, есть ли кто рядом. Видят нас проходящие люди или нет. Мы в те минуты, или может быть часы не принадлежали к существам, населяющим планету Земля, мы находились где–то в совершенно иной, в какой–то очень далекой от нашей галактики… Потом мы встали. Посмотрели друг на друга так, как будто не виделись вечность и опять упали в те же кусты дивной планеты Венера... Потом был вечер и мы, забрав ее чемодан, который так и стоял у входа в сарай, пошли искать себе гнездо любви. Господь, вне всякого сомнения, в тот день взял нас под свое доброе крыло. В первом же домишке, стоящем в сотне метров от сеновала, доброхотная хозяйка предложила нам очень уютную комнатку, в которой стояла огромная двуспальная кровать резного красного дерева неописуемой красоты. Перехватив наш немой восхищенный взгляд - вопрос, она просияла от гордости, как, впрочем, и полагалось владелице настоящего сокровища и, почему– то, тихонечко, прикрывая рукой рот, прошептала: - О цеж , самого князю Глицину коийка буде. Он же, котяра такой, царство ему небесное, на ей всех гарных баб в округе перепробовал, да с самого Парижу их скильки напривозив…Сказывали, поди кажный год пружины в матрасе менял – кобелина эдакий. – И сказав это, она отвернулась и, как бы от смущения, сморкнулась в цветастый фартук. - Я то, вообще, приизжим эту светелку редко сдаю, це дочина комнатка, но уж больно у вас жинка гарна. Уж така раскрасавица, как все равно в кино «Свинарка и пастух». Да и вы тоже ничего, - она игриво ткнула меня пальцем в бок, - но ейный грузин, который пастух-то, тот уж тоже больно сильно из себя хорош, да и поет шибко гарно. Мери вспыхнула от гордости и смущения и искоса бросила на меня победный взгляд. - Паспорты есть? – спросила хозяйка. Мери достала из чемодана свой. Я несколько смутился, в те времена сексуальная нравственность в стране витала на огромной высоте. И отсутствие штампа о браке в паспорте могло выскочить нам в кругленькую сумму. Хозяйка взяла паспорт Мери, внимательно рассмотрела фотографию и не стала копаться в нем дальше. Ей и так было ясно, что эти юные голубки не муж и жена, да и «ни за тим вони сюды прииехамши». - Твоя-то хфамилия кака буде? – обратилась она ко мне. - Сквирский, - промямлил я. Я не в состоянии описать гамму чувств, сменивших друг друга на ее лице за несколько секунд. Она буквально потеряла дар речи и, подтянув рукой стоящий рядом стул, разом рухнула на него немолодым грузным телом. - А ну це скавжи её ще? – сдавленным голосом выдохнула она. Я, ничего не понимая, повторил фамилию громче. - Да тож буде фамилие Мишки, мужа Светланки, дочи моей. Он же от ее в войну сгинул без вести. От его ж даже похоронка не пришедши. Так и пропал шельмец окаянный насовсем! Царство ему небесное, если Господь всемогущий подобрал его грешну душу. Може его какой снарядой или бонбой на куски раскидало, а може немец в полон позабирал, да там он и с голоду - та и помер себе. Да кто его таперь знае?…А ты сам – то из каких краев – то будешь? - Из Ленинграда. - Да не… Мишка - о наш откуда – то из дали, от самых узбеков к нам сюды приихав. - И я родом тоже оттуда, из Ташкента. Да и весь мой род по отцу оттуда идет. Отец родился в Бухаре, а дед в Самарканде. - Во – во – во! Вдруг громко запричитала хозяйка, - ото Мишка за тот Ташкент увсе время гутарил. У его там тоже родня вся була! Он и Светланку мою туды свезти хотив, да ни успив маленько – война, будь она проклята, поперек всей жизни стала… - А у тебя в родни таков дядька був? - Не помню, - честно признался я, - врать не буду, может и был. Я рано уехал с родителями в Ленинград и больше на родину не возвращался. А фамилия у нас очень редкая. И почти все Сквирские, которых я в жизни встречал, были какими–то моими дальними родственниками. - О це ж я и чувствую! – воскликнула хозяйка, это сам Господь нашу кровиночку сюды послав! Ей же богу! Жаль Светланка моя в прошлом годе за моряка замуж выскочила, да он ее куды – то аж на самый Дальний Восток увез. Да вы ж располагайтесь, деточки мои! Кровиночки мои! Да я ж за вами как за дитями моими ходить буду. Да я ж с вас никаких денег не возьму, тольки живите на счастье да здоровье свое у старой бабки Оксаны скильки надо вам. Прожили мы у нее, правда, недолго. Она все время твердила, что мне и Мишеньке - Бог одно личико дал. Я долго и внимательно разглядывал маленькую паспортного размера, сильно затертую фотографию своего однофамильца и, в конце концов, мне тоже начало казаться, что, может быть, нечто общее у нас с ним в чертах лица и есть. По приезду домой я рассказал отцу эту смешную историю, он порылся в родословной и вспомнил, что действительно был у него очень дальний родственник Миша, который женился перед войной на украинской девушке и уехал с ней куда–то, вроде бы и в Крым. Что с ним стало дальше, - отец не знал. Так что, чем черт не шутит, когда бог спит… Бабушка Оксана торжественно достала из семейного альбома фотографию молодых в день свадьбы. С хорошо отретушированного фото размером 20 х 30 на меня глядела красивая украинская дивчина – кровь с молоком, с большими черными глазами и длиннющими ресницами. К ней нежно и робко притулился курчавый худенький жиденок в круглых очечках, делавшими совсем маленькими его и без того небольшие близорукие глазенки. На еще совсем по-детски припухлых губах играла мягкая, чуть виноватая улыбка. Казалось, он понимал, что отхватил дивчину не по своим мужским достоинствам и оттого ему было немного не по себе. Вероятно, он был значительно ниже ростом своей суженой, - и это было заметно даже на фотографии. Хозяйка бережно и ласково погладила рукой личико сгинувшего зятька, и по тому, как она это сделала, было видно, что люб он был ее тещиному сердцу. - О, ты вже поглянь, какив гарен он быв. Тильки росточком не выдался. А волосенки курчавы, курчавы были, ну ровно як у вас, та и очки были схожи. Я понял, у бабы Оксаны был явно извращенный вкус, когда вопрос касался мужской красоты. Моя внешность в те годы лично мне казалась настолько омерзительной, что я даже брился без зеркала, на ощупь, отчего часто оставлял на лице недобритые клочки волос и нещадно резался в кровь. Я осторожно взглянул на Мери и от того, с каким выражением лица она в этот момент смотрела в мою сторону, у меня создалось впечатление, что в вопросе мужской стати и красоты она была безнадежно солидарна со вкусами бабки Оксаны, чему я несказанно обрадовался. Пока моя княжна чесала язык с хозяйкой я побежал в сарай собирать свой нехитрый гардероб. Несмотря на довольно поздний час сеновал не спал. Ребята сонно потягивали спиртное и, вставив спички в глаза, дабы удержать их в открытом состоянии, с нетерпением ожидали меня с рассказом. У изголовья моего матраца стоял ящик шампанского, из тех недопитых трех, которые мы зажали у механика в счет аванса. Это был королевский дар коллектива и, конечно, надо было обязательно расплатиться хотя бы за него. Но я навесил себе на рот здоровенный амбарный замок и, сказав: - ребята все подробности потом, – умотал с картонным чемоданчиком подмышкой и парой бутылок в руках для любимой. Народ, естественно, остался очень недоволен мной, но…! Хозяйка, а теперь считай, уже родня, заботливо застелила огромный княжеский сексодром белоснежным и не исключено, что новым бельем. Положила каждому из нас по две пуховые подушки. Поставила на керосинку чайник, а на стол, покрытый красивой, вышитой в елочку цветастыми мулине скатертью, собрала какую– то нехитрую еду и бутылку новосветского вина. Мы в самых восторженных тонах поблагодарили ее и попросили посидеть с нами, но она очень церемонно откланялась и пошла ночевать в дворовую пристройку – кухню, где по ее словам: - свежой ветерок буде ей ночью пот с телу сгонять. Мы оценили ее деликатность и съев все, что было на столе, после многочасовой любви аппетит у обоих разгорелся зверский, с раздутыми животами отправились спать. На счет сна я, как выяснилось, размечтался. Не успел я вытянуть ноги и глубоко вздохнуть от переизбытка счастья, как Мери уже тискала меня в своих раскаленных объятьях. Ночью она меня будила раз пять, и утром я буквально на карачках сполз с постели на пол. Ни о какой работе в тот день, конечно, не могло быть и речи. Когда подойдя к зеркалу, дабы соскоблить невероятно быстро отросшую щетину, я взглянул на себя, мне стало худо. Из рябого тусклого зерцала на меня глядела осунувшаяся до торчащих скул, серо - зеленая рожа зэка из Дахау. Потухшие маленькие глазки слезились от немощи. Покусанные губы потрескались, и в трещинках запеклась кровь. - Еще одна такая бурная ночь и я, наверняка, отправлюсь на тот свет, к безвременно сгинувшему дяде Мише, - подумалось мне. Дверь туалета открылась и в том же зеркале, которое отчего–то вмиг просветлело, появилось несколько заспанное и слегка похудевшее, но сияющее утренней свежестью прелестной южной молодости, дивной красоты личико Мери. Она ласково обняла меня за плечи и, слегка поджав ноги, повисла на плечах. Ослабевшие вконец колени не выдержали массы обоих тел, и мы рухнули на пол. Я не успел опомниться, как Мери, хохоча, оседлала меня, заткнула горячими губами мой готовый к жалкому брюзжанию сопротивления рот, и все началось заново… Через час с лишним, безнадежно опоздав на работу, я, полностью обессиленный и деморализованный, лежал поперек гигантской постели и слушал, как весело стрекочет мой любимый сладостный палач. -Ты сейчас побежишь на свое ныряние, а я пока быстренько постираю и развешу сушиться наше постельное белье. Потом я мигом сбегаю на базар в Судак, бабка сказала, что это всего какие– то шесть–семь километров в один конец. К вечеру, когда ты вернешься, я уже выглажу просохшее белье и сготовлю нам вкусный ужин. А потом…, - она на мгновение хитро замолкла и опять в мгновение ока оказалась на мне. К моему удивлению, она действительно полностью выполнила намеченный ею план. На работу я, естественно, не вышел. Но пока она беззаботно чирикала, готовя обед из принесенного с базара тяжеленного мешка продуктов, я несколько часов успел поспать и стал, хоть издали, напоминать человека. После обеда – ужина все началось сначала… И снова было позднее утро. И пропущенная работа. Стирка и глажка постельного белья. Поход в Судак за свеженьким творожком. Сытный обед – ужин… И я начал медленно понимать, что жить в таком сексуальном режиме мне осталось совсем недолго. Днем, в обеденный перерыв нашей команды, я сходил к ребятам. Мой сильно потрепанный внешний вид их несколько озадачил. Я соврал, что у меня вдруг пошли камни из почки, - первая ложь, которая пришла в голову. Старший предложил отвезти меня в больницу Судака, на грузовичке, который возил на зарядку наши кислородные баллоны. Я поблагодарил его за участие, сказав, что через пару дней это должно пройти. Сам же подумал, что к этому сроку меня уже вряд ли будут числить в живых на этом свете. Вечером очень осторожно и корректно я попытался объяснить моей сладкой мучительнице, что мужчины в сексуальном плане устроены несколько иначе, чем женщины. Что сексуальная выносливость их несравненно ниже женской. Далее, обратившись к бессмертным классикам русской литературы, я привел в пример повесть Куприна - «Яма», действие которой разворачиваются в публичном доме. Каждая дама в этом заведении с легкостью обслуживала в день по десятку клиентов. Мужчина же после двухтрех дней такой нагрузки - умирает! – закончил я свою нравоучительную беседу. - Наверное, я тоже смогла бы выдержать такое…, - сделала столь неожиданный для меня вывод из всего мною сказанного Мери. Ты знаешь, сейчас мне кажется, что я самой природой создана для этого… Я только думаю, зачем я так долго ждала этого дня? Ведь я начала безумно хотеть мужчину в двенадцать лет. У нас на Кавказе девушки созревают намного раньше. Боже мой! Ты бы знал, как я хотела смотреть на мужчин и, как я иногда совершенно непроизвольно, не замечая этого, сама на них смотрела! Мне потом было ужасно стыдно за себя, потому что они это сразу замечали и начинали меня «клеить». Я никогда не прощу себе, дуре, что из–за боязни родительского гнева прождала тебя аж до двадцати пяти лет! Никогда! И она вновь накинулась на меня. - Хорошо, – ответил я, пытаясь, не обидев ее, высвободиться из пылких объятий, но ты подумала, что может случиться со мной, если мы продолжим нашу любовь в таком же режиме? Я уже совершенно обессилел и едва держусь на ногах! - Не наговаривай на себя, пожалуйста. Ты так еще молод и силен, мой милый! У тебя такие мощные плечи, такие сильные руки! Ты такой великолепный мужчина! Я совершенно уверена, что с тобой такого случиться не может никогда! – С этими словами она вновь, как сумасшедшая, набросилась на меня и начала яростно стаскивать рубашку и шорты. Я понял - тут словами делу не поможешь! Ждать помощи извне – нереально! Кто из наших, оголодавших без баб молодых ребят, сейчас в состоянии понять такое… Значит остаток моей жизни находится только в моих собственных руках! - Ну, предположим, ты права, и я, попривыкнув к такой нагрузке, оклемаюсь, – начал я заново, - но как же работа? Ведь у меня подписан контракт с экспедицией, и я получаю зарплату. - И сколько это , - лукаво поинтересовалась она. Я наобум назвал какую–то цифру, наверняка, на порядок превышающую реальный заработок профессионального водолаза. Мы-то, вообще, практически работали за идею и еду. Какие-то очень небольшие деньги ленинградский университет платил старшему. - И вот за этот пустяк ты рискуешь жизнью и здоровьем? - Она была искренне поражена. – Да за такие деньги мой папа, обыкновенный начальник маленького тбилиского гаража, не выйдет на работу даже на один час в месяц. У нас с тобой есть деньги! Вот посмотри, что мне отец дал с собой. Она достала из чемодана кошелек и вывалила на простынь такую пачку достаточно крупных купюр, какую до этого момента мне, нищему студенту – грузчику, не только никогда не приходилось держать в руках, но и просто видеть наяву. – Ну? Разве нам этого не хватит на месяц? Я еще раз взглянул на эту чертову кучу денег. Провертел в голове предстоящий месячный срок этой любовной каторги и понял в отчаянии, что у меня есть только два выхода остаться в живых: либо бежать от нее без оглядки, либо задушить ее во время очередного оргазма и сдаться властям. Я понимал, что снисхождения на суде мне ждать не следует, но надо было не мешкая выбрать: - либо самый справедливый советский суд! Либо Страшный Божий Суд у райских ворот! - Хорошо, - я сделал вид, что полностью согласен с ней во всем. С работы я уволюсь, и мы проведем наш медовый месяц на пляже и в постели, как два голубка. Но давай установим регламент – мы любим друг друга три раза в сутки. Согласна? - Всего три? – Мери надула очаровательные губки. – Шесть! - Ну хорошо, четыре, и на этом закончим наш смешной торг. - Тогда пять! – Глаза ее блестели как у хитрого бесенка из балета «Сон в летнюю ночь». Я понял, что мне никогда не выиграть в этой партии и безнадежно махнул рукой. Через неделю я ее просто люто ненавидел. Я придумывал любые предлоги, чтобы «отлынить» от очередной постели. У меня начинал отчаянно болеть зуб, и Мери тут же находила единственный действенный способ его лечения: - эдакий, отвлекающий от острой боли прием. Думаю, нетрудно догадаться какой… И таким же методом лечилась любая, выдуманная мною болячка. Однажды, когда она в очередной раз отправилась на базар за свежим творожком, я быстренько попрощался с ребятами, которые так и не поняли настоящую подоплеку моего бегства. Трогательно простился с бабой Оксаной, придумав ей душещипательную историю тяжелой болезни кого–то из близких домашних… Сыновнего долга перед родителями... Обещал ей разузнать у отца про Мишу и обязательно отписать. Просил передать самые теплые слова моей ненаглядной Мери и передать письмо с последним слезным «прости». Сел на попутную машину и на перекладных умотал в Ялту. Больше Мери я никогда не видел. Кто–то из ребят, много позже, рассказал мне, что сразу же после моего бегства у нее завязался пылкий роман со старшим. Однако меня это, почему–то, не тронуло. Я ей пожелал в душе большого личного счастья с другими и был бесконечно благодарен за ту великолепную историю любви, которая так ярко началась и так иллюзорно и печально закончилась. Я уже говорил, что у меня сохранилось ее фото. Иногда, правда сейчас уже совсем редко, я перелистываю свой юношеский альбом и, натыкаясь на ее фотографию, вновь, мысленно, с большой теплотой перелистываю в страничках уходящей памяти дни этого чудесного времени. Листаю и думаю: как все же удивительно несовершенен человек, и как быстро он может превратить несказанную радость в невыносимую муку… Ах, как быстро… А главное - зачем?… А теперь я вернусь обратно в Одессу. В пропущенном мною отрезке времени, занятого производственной практикой, было много забавных моментов ----------------------------------------+----------------------------------Блажен кому достался мудрый разум, Такому все легко и задарма, Мне осталась радость, что ни разу Не мучился от горя и ума. И. Губерман. Меня поселили в общежитии Холодильного Института в четырехместной комнате с ребятами из разных городов. Каждому из нас достались разные предприятия. Кто–то практиковался на Комбинате мороженого, кто–то на Кондитерской фабрике. Третий парень - на Пивзаводе. Мне же судьба-злодейка уготовила Одесский мясокомбинат. И как в нашем вступительном фельетоне из Райкинского спектакля «Древо жизни»: - Кто что стережет, тот то и имеет! – каждый приносил вечером «образцы своей продукции» на дегустационный ужин. Пиво - в грелках, шоколад и конфеты – в трусах, также выносились и всякого рода вкусные добавки в мороженое, ну, а о продукции моего мясокомбината - отдельный, более подробный разговор. Итак я расположился в нашей комнате и вышел во двор оглядеться. Двор ничего интересного из себя не представлял, но в углу под раскидистым каштаном у пинпонгового стола стояла плотная кучка ребят. Я подошел поближе и также как и они стал зрителем довольно интересного зрелища. В центре круга, образованного восхищенными почитателями, стоял двухметрового роста гигант и методично, ни на кого не обращая внимания, подбрасывал вверх и ловко ловил двухпудовые гири. Занятие это явно доставляло ему большое удовольствие. Делал он эти упражнения легко и, внешне, без всякого видимого усилия. Маленькая, непропорциональная огромному телу головка, с выдвинутой немного вперед нижней челюстью, лысый череп, огромные шарообразные мышцы плеч и рук и определенный наклон корпуса - несколько вперед, - придавали ему удивительное сходство с Кинг Конгом, плакат фильма которого я видел в одном контрабандном американском журнале. Восхищенные зрители провожали глазами каждый бросок и буквально «шизели» от наслаждения, сопровождая особенно высокие восторженными возгласами. Я почему-то шёпотом спросил у одного из болельщиков – кто этот гигант? Парень удивленно поглядел на меня и гордо ответил – Жора Маленький, тупица! Не помню писал я уже об этом или нет, но в крайнем случае повторюсь. Весь род Сквирских, по мужской линии, отличался удивительной силой рук. Мой, достаточно тщедушный с виду дед, легко разгибал руками подкову и так же как Петр 1 мог тремя пальцами, сложенными «фигой» согнуть пятак. Удивительно сильные руки до глубокой старости были у отца. Сын Сашенька несколько раз подтягивался на перекладине одной рукой, причем правой и левой одинаково. При росте 173 сантиметра, весе 65 килограмм и 48 размере костюма, он легко выжимал двухпудовую гирю, и ему не было равных в единоборстве на руках. Как–то он пришел в двухтысячный зал Дворца им.Горького на финал республиканских соревнований по борьбе на руках (забыл её официальное название). Дождавшись победы чемпиона в весовой категории до 70 килограмм, он поднялся на сцену, подошел к нему и предложил помериться силой. Судейская коллегия подняла шум и, в свою очередь, «предложила Саше мирно покинуть сцену», но зал шумно поддержал наглеца, и чемпион с ехидной ухмылочкой указал ему место за спортивным столом. Саша был театральным актером по профессии и «сбить его с ног» на родной сцене было трудно. Он учтиво, как это делает галантный мушкетер в кино, поклонился залу, не спеша сел за стол, и чемпион, не успев охнуть, оказался поверженным. Саша встал, еще раз отвесил церемонный поклон залу и под бурю аплодисментов спокойно сел на свое место. Я, продолжая семейную традицию, тоже всячески развивал, а при всяком удобном случае и использовал силу рук, и это не раз выручало меня в сложных жизненных колизиях. Будучи восьмиклассником, я пережимал всех школьных силачей. У меня даже выработалась эдакая скверная привычка: увидев внешне сильного человека, я мог спокойно подойти к нему и сказать, ни мало не смущаясь: – Давайте пожмемся. В школьные годы я мерялся силой с кем попало по несколько раз ежедневно. Я сам разработал систему приемов, которая позволяла в нужной последовательности включать в поединок строго определенную группу мышц и направить в работу этой группы всю энергию организма. Предполагаю, что в настоящее время, когда эти, некогда доморощенные, народные поединки выросли в международный профессиональный спорт, появилась и подобная школа такого рода силовых приемов. Но весь этот экскурс в прошлое - не более, чем преамбула к действию, происходившему в тот момент во дворе институтского общежития. Я тоже с интересом минут десять любовался этой горой мышц и вдруг… Я даже не сразу понял, что этот писк произошел из меня, - услышал до боли знакомую фразу: - Давайте пожмемся.-- Нет, я просто не мог поверить, чтобы идиотизм в такой степени был мне присущ! Ежику из дремучей лесной чащи было понятно, что «пережать» такого гиганта мог только хороший экскаватор. С таким же успехом я мог бы тягаться с бетонной стеной. Кинг Конг попросту не услышал меня. Он «в гробу видел» всяких там писклявых мышей. Он имел дело только с такими же могучими машинами, каким был он сам! Но!…Но этот писк прекрасно расслышало его окружение. Вой, визг, свист, который тут же поднялся, мог бы оценить только коренной одессит. - Жора! Ты слышал эту гниду с привоза?! - Жора! Не дай мне уссаться в мои импортные французские штаны от громкого смеха! Убей его, Жорик! - Жора, брось гири и посмотри на этого жлоба в последний раз в этой его счастливой жизни! – и т. д Но я еще не рассказал вам, «что такое во всей Одессе» был Жора – маленький. Папа Жоры – маленького, соответственно, Жора – большой, был потомственным Бабелевским биндюжником с Молдованки. Он один носил на спине рояли. Поднимал «плечом под пузо» лошадь и делал с ней пять кругов вокруг дерева. Сына считал никудышным слабаком и посему отдал в институт «в ученые». Сын свято выполнял завет отца и, очевидно, считая, что на профессора надо учиться капитально и долго, регулярно тратил на каждый курс ровно два года. Ректор, сам в прошлом гиревик – любитель, души не чаял в этой биологической машине. Считал его спортивной гордостью института и держал, не обращая внимания на слабые протесты со стороны «ничего не понимающего в вузовской спортивной политике» деканата. Надо сказать, что нежелание Жорика «пачкаться» с каким–то «шменом из подворотни», несомненно, имело основание. Ростом я ему доходил чуть выше пупа. Мой неплохо развитый плечевой пояс (конечно, не идущий с его стальной мускулатурой ни в какое сравнение), был скрыт под заношенным хлопчатобумажным свитерком спортивного костюма, висевшего на мне мятым мешком. Всклокоченная, вся в еврейских завитушках, густая, почему–то всегда стоящая дыбом шевелюра. Черные, черт знает какого фасона очки в маленькой, довоенного покроя царапанной оправе. Стоптанные сандалии «на босу ногу» - вот, что он увидел перед собой, когда вопящая толпа энтузиастов, любителей чего-нибудь эдакого жареного, расступилась и втолкнула меня в круг пред его очи. Горилла взглянул на меня, сплюнул поверх голов почитателей и молча, тупым взглядом указал на пинг-понговый стол. Мне безумно хотелось сказать, что я просто неловко пошутил. Что даже ежику ясно, что жаться с таким гигантом может только слон, но мне почему – то было стыдно это сделать. И, собравшись духом, изобразив шутливую улыбочку на непослушных губах, я, едва передвигая, сразу ставшими ватными, ноги, обречено поплелся к лобному месту своего неминуемого позорища. - В конце–то концов, они же прекрасно понимают, что это были обычные шуточные понты, - вертелось у меня в голове, - ну какой нормальный человек может в этой ситуации поставить на меня?! – Позже я попытался проанализировать, что же заставило мой мозг, помимо воли его хозяина, выкрикнуть этот идиотский вызов? Ведь наверняка он руководствовался какими-то мотивами. А все, очевидно, было так. Мое подсознание вычислило: человек, который в течение получаса непрерывно бросает тяжелые гири -закрепощен от недостатка кислорода, поступающего в мышцы. И если его сразу же, не давая мышцам расслабиться и напитаться этим живительным газом, включить в нагрузку, он будет выдерживать ее значительно труднее. Это первое обстоятельство. Второе. Без сомнения, этот монстр ни с кем не соревновался в жиме в последние годы. Кому еще, кроме такого дурака как я, могла бы прийти в башку такая шальная мысль, - а значит он не знает приемов и правил этой борьбы. Третье. А если он их действительно не знает, то можно определенным образом сдать назад кисть, и в этом случае пережать человека практически невозможно, даже если он не так уж и силен. Четвертое. Его рука длиннее моей минимум на одну треть и угол, под которым он будет давить на мою руку будет для него крайне невыгодным. Но все это я вычислял много позже, а пока мы поставили локти на стол. Моя небольшая ладонь утонула в его волосатой лапище, и я сразу же незаметно для зрителей повернул кисть так, как мне это было нужно. На мое счастье никто не заметил, что я блейфую, и мне немного полегчало. Кто-то скомандовал: - Начали, - и колоссальная мощь навалилась на мою лучевую кость. Я предварительно закрепил все нужные мышцы, а поворот кисти «в несгибаемое положение» обеспечил мне возможность достаточно легко сдерживать этот адский натиск. Толпа «шестерок» примолкла. Никто не ожидал, что я не лягу в первую же секунду. Однако прошла добрая минута, потом вторая и третья, а я с видимой непринужденностью и даже со слегка дурацкой улыбкой держал прежнюю стартовую позицию. Гораздо сложнее протекал этот же процесс у моего противника. Жора просто не понимал, что происходит! Он до глубоких морщин напряг кожу своего небольшого скошенного назад лобика. И весь нехитрый, но непосильный для его мало приспособленного, не привыкшего к мыслительным операциям крошечного мозга процесс, был четко прописан на покрытом огромными каплями пота личике. Сейчас! В эти самые минуты! На глазах изумленных почитателей незыблемой, несокрушимой мощи Геракла Молдованки, складывался жуткий, трагический сюжет развенчания героя. Его - бога всех одесских пацанов, Молдаванки, Привоза и Кичмана. Его – гордость и славу Одесского Технологического Института Холодильной Промышленности - легко, без видимого напряжения, с ехидной улыбочкой на губах - укладывает первая попавшаяся на дороге, неизвестно откуда – то взявшаяся шушера. Какой–то мозглявый коротышка, шмок с мерзкой рожей протухшего интеллигента, из какого – то мало кому известного городишки Ленинграда. Ну хорошо, они там у себя в местечке, прихватив по ходу дела какую–то «Аврору», сварганили революцию в девятьсот семнадцатом. Так в чем дело?… И когда это было? И на здоровье себе!…Но причем здесь славный город–герой Одесса?… Город, в котором трудился, воевал за коммунистов и сидел в тюрьме сам Котовский. Город, в котором родился Леонид Осипович Утесов и Марик Бернес… Да, да! Именно те самые ребята, без которых этому миру нечего было бы смотреть в кино. Город, в котором живет тетя Соня с Молдаванки, а папа Жоры - маленького таскает туда – сюда рояли и лошадей на своем собственном загривке! Так в чем же дело?!.. Может быть этот хиляк, этот шмен из питерской подворотни хочет и нам устроить еще один такой же кавардак, какой они заделали тогда у себя с вечно живым товарищем Лениным?! И начинает эту революцию со свержения с пьедестала самого Жоры? А может быть он, вообще, не человек, а какой– нибудь говнатизер?! Ходил же там у них в Библии один по воде? Очевидно, нечто похожее происходило и в голове динозавра Жоры. Капли пота скатывались к подбородку, как ручейки, формирующие исток речки. И, объединившись в глубокой сексуальной ямочке, тонкой струйкой истекали на окрашенную десятимиллиметровую столешницу. Он понимал – звезда одесского героя, его звезда упала с небосклона славы навсегда. Ему, наверное, очень хотелось тихонечко, незаметно для толпы, подмигнуть мне – мол, не будь сукой – поддайся! Я тебе этого никогда не забуду! – Но гордость сверхчеловека из славного города Одесса не позволила ему этого сделать! Не позволила и он на говне проиграл двадцать пять лет жизни за три минуты этого глупого, абсолютно ему не нужного поединка. Проиграл ни за что! За просто так! На фу – фу! - Как об этом бы сказали в Одессе. Он отпустил мою руку. Встал, и что было силы ударил кулаком по ни в чем не повинной столешнице. Фанера крякнула и пошла трешинами… Ни на кого не глядя, раздвинув молчащую толпу, он вышел со двора и больше в Одессе его никто не видел много лет. Говорят он уехал в Винницу и там закончил Холодильный институт. Я же, провожаемый восхищенными взглядами бывших «жоровцев», а теперь моих боготворителей, на всякий случай ушел от греха подальше в свою комнату и не выходил из нее до утра. Утром, при моем появлении в умывальной комнате, ребята притихли. И только то там, то здесь, я слышал отрывистый шепот: Это тот парень, что вчера пережал Жору – маленького. Да, да! Именно пережал! Никто ни разу не сказал, - сыграл в ничью или устоял перед Жорой – маленьким. Так уж устроен этот мир, - если герой и падает с пьедестала, – то уж «мордой об стол» по полной программе, то есть вдребезги! На мелкие осколки,! Чтобы уже и не собрать, и не склеить! У этой истории симпатичный финал. В конце практики я как– то пошел вечером прогуляться в парк Шевченко с моей ленинградской сокурсницей Миркой, которая мне очень нравилась. Естественно, что выбирал аллейки потемнее, и это сослужило мне дурную службу. К нам подошли три плотненьких паренька, и один из них с явной наглецой попросил у меня огонька для папиросы. Я, естественно, извинился и, немного робея, сказал, что не курю. - Коля, - обратился тот ко второму, - посмотри на этого жлоба. У него в кармане англицкая зажигалка, а он жмет себе чиркнуть на ней разок для хорошего человека. Двое взяли меня за руки, а Коля тут же залез ко мне в задний карман брюк и вынул оттуда какую–то зажигалку, которая, естественно, до этого находилась в его руке. - И что я вам говорил, мальчики! И такие люди ходят по нашей замечательной одесской природе и портют в ней ее свежий и чистый одесский воздух. Это еще, слава богу, что в этом героическом городе есть несколько людей, которые могут постоять за ее честь и совесть. Коля! Посвети этому жлобчику в лицо, чтобы мы с вами на все века запомнили, как выглядят лица у подобных аморальных товарищей. Коля чиркнул колесиком обычной армейской зажигалки, сделанной умельцами из гильзы винтовочного патрона и достаточно ярким пламенем осветил мое лицо. Ша, пацаны, - отвел огонь от моего лица первый, образовалась небольшая осечка, это тот самый мальчик, который пережал Жору– маленького. Я рассказал как–то эту историю Мише Жванецкому. Он долго смеялся и сказал: - Так, значит, это был ты… Я еще в институте слышал эту историю. Правда, звучала она чуть иначе. Вроде бы приехал из Москвы какой–то горбатый сумасшедший дистрофик и в припадке эпилепсии пережал Жорика. До конца практики я больше Жору не встречал. Тот же Миша сказал мне, что «гигант мысли» и бицепсов перевелся в Холодильный институт города Винницы и в родную Одессу приезжал редко. Вторая история тоже из области спорта и тоже по–моему достаточно забавна. Ребята, проходившие вместе со мною практику на мясокомбинате, обратили внимание на то, что я прилично плаваю и посоветовали выступить под подставной фамилией на первенство вузов Украины, которое через три недели должно было начаться в Одессе. Честно говоря, это предложение меня никак не затронуло. Чужие лавры - чужие радости. Однако зав.кафедрой физкультуры, до которого дошли слухи и о моей «победе» над Жорой и успехи в плавании, «лично» заехал к нам в общежитие поглядеть на заезжее «чудо». Очевидно, он ожидал увидеть нечто совсем иное, ибо моя неброская фигура, всклокоченная жидовская шевелюра и трехрублевый костюмчик их бумажной «джерси» не вызвали в нем столь развитого в то время у всех советских людей чувства «глубокого удовлетворения». Окинув меня несколько удивленным взглядом, он недоуменно хмыкнул, спросил, плаваю ли я на первый разряд, и, услышав – «да», - в приказном тоне обязал завтра же явиться на кафедру за талонами на питание, полагавшиеся мне с этой минуты, как участнику институтской команды, находящейся на сборах. Или получить компенсацию за талоны деньгами. Последнее предложение пришлось мне по душе значительно больше, и я согласительно кивнул в ответ. Выступать я должен был под фамилией третьекурсника – механика Рабиновича, и на ближайшие три недели имя мое стало не Веня, а Сема. Конечно, в случае провала затеи рисковали обе стороны, но мне были очень кстати эти деньги, а у зав.кафедрой не было кворума в командном зачете. Оба рассчитывали на то, что в те пятидесятые годы информация вообще, и в спорте в том числе была поставлена крайне слабо. Телевидение было практически на нуле, а газеты спортивного направления отсутствовали. Пловцы моего класса встречались только на редких соревнованиях союзного масштаба, а среди украинских пловцов я не помнил ни одного из первой десятки, в коею я тогда входил. На следующее утречко я смотался в институт и к приличной сумме денег получил еще двадцать плиток шоколада, что в те годы считалось необыкновенной редкостью. Зав.кафедрой грозно напутствовал меня страшными карами, которые незамедлительно должны были свалиться на мою еврейскую голову, в случае неявки на соревнование, или какого-бы ни было обмана с моей стороны. - Но ты точно тянешь на первый разряд? – были его последние слова. - А то!… - весело ответил я, пряча три месячных стипендии во внутренний накладной карман своих «ультра-шикарных» бумажных спортивных штанов, пришитый перед отъездом на практику моей первой женой уже в качестве прощального брачного подарка. Бурная одесская жизнь настолько раскрутила меня в своем неуемном коловороте, что я начисто забыл не только о числе дня соревнований, но и них как таковых вообще. В день соревнований я лежал на вонючем засиженном миллионами мух комбинатовском пляже после веселого роскошного индивидуального мясокомбинатовского обеда в каптерке мастера цеха. Обе, как обычно состоял: из отбивных разных парнокопытных пород животных, «цыпленка табака», нескольких сортов твердокопченых колбас, ароматных, тоненьких, с мизинец толщиной, «обкомовских» сосисок и «элитного одесского холодца». На десерт - трехлетней выдержки молдавский коньяк и фрукты из личного сада кого–нибудь из местных ребят. Случайно кто–то из ребят, входя в воду, вспомнил о соревнованиях и лениво спросил меня, готов ли я к сегодняшним спортивным подвигам? Нет, в том прекрасном расположении духа, в котором я в тот момент находился, конечно, ни о каких соревнованиях не могло быть и речи. Но мастер, поддавший в этот обед немного больше обычного, вдруг неожиданно возмечтал поглядеть на эту фуйню – муйню всеукраинского масштаба и почти силком выведя меня из проходной, усадил в коляску своего трофейного «Харлея». Мы пулей проскочили половину города и в три часа дня, пристроив мастера на зрительской трибуне, я «легкой матроской походкой» вышел из душа и прямиком направился к зав.кафедрой, сидящего в судейской коллегии. Увидев меня он побагровел, как свежесваренный рак и глазами, указав на двери раздевалки, оказался в ней раньше меня. Меня часто били, начиная со школы, но такой оплеухи я не получал никогда в жизни, ни до этого момента, ни после! Не зря, видать, жевал он хлеб на спортивной ниве. Оглушенный я лежал на кафельном полу и отчетливо чувствовал, как вместе с кровью из уха из меня выходит послеобеденный хмель. Мой «педагог» сел напротив меня на скамейку и в нескольких десятках скупых и до предела точных фраз, на чистом русском языке с небольшими тюркскими отступлениями, объяснил, кто такой я из себя весь есть, и что он обо мне в этот момент думает. После войны мат наравне с великим русским языком Бунина, Тургенева и «вечно живого» Владимира Ильича практически официально обрел статус языка государственного. В мелких дворовых и парковых хулиганских шайках, с которыми я в детстве был хорошо знаком, он являлся основным языком общения. Я слышал и знавал многих великолепных мастеров этого общенародного жанра, да и сам при необходимости мог неплохо побеседовать на этом исконно российском «эсперанто», но такого гиганта ювелирной матерной фразы, такого гения морфологии и ораторского искусства, как мой наставник мне не доводилось слышать никогда. Ему нужно было бы не физвоспитанием в институте заведовать, а открыть курсы повышения матерно языковой квалификации уже бывалых боцманов! Нет, это был не монолог, достойный гусиного пера великого Шекспира! И даже не оды непревзойденого в ораторском мастерстве Цицерона! Скорее, это была песня, романс, оратория! Гимн махровой камерной нецензурщине, мелодия которого разом подняла с холодного скользкого пола раздевалки мое разленившееся в мясной комбинатовской неге тело, выдохнула из него остатки коньячных паров и вдохнула силу ярости и неукротимую волю к победе былинного героя Давида во время его поединка со львом. Я встал, натянул на горевшее ухо шапочку и твердо ступая «по палубе» бассейна пошел к стартовым тумбочкам. Это был последний сильнейший заплыв предпоследнего дня соревнований. Как он сумел так поздно меня засунуть в него, навсегда останется для меня неразгаданной тайной. Мне досталась последняя восьмая дорожка, и, стоя возле нее, я прослушал весь состав моих соперников по этому заплыву. А послушать было что! Это были украинские зубры, и перед фамилией каждого звучали достаточно мощные имиджевые звания. Как сейчас помню, там были многократные чемпионы Украины, чемпионы украинских вузов и городов республики. После объявления титулов каждого трибуны оглашались свистом и аплодисментами болельщиков. И только объявление моего жалкого имени трибуны встретили гробовым молчанием. - Семен Рабинович, Холодильный институт, - произнес комментатор, и в абсолютной тишине громко прозвучал голос моего мастера: - О, цеж наш Бенаминчик?! Во, сукин кот, дает!… Ничо, ничо, чемпиёны! Счас наш еврейчик вам всем жопы понадерет! - Трибуны рухнули хохотом, а я влез на стартовую тумбочку. С этого момента мир для меня перестал существовать. Многолетний титул первого брассиста второго главного города страны выработал и намертво заложил в мозгу победную раскладку дистанции. С этого момента, с команды «на старт» отлично натренированный, откормленный свежим одесским мясом организм все делал сам. Так как нужно согнулись мощные пружины ног. До упора, до боли откинулись назад руки, чтобы в момент прыжка стрелой выброситься вперед и увлечь за собой брошенное в свободный полет тело. Годами выпестованный тяжелыми тренировками организм точно знал, сколько времени надо обтекаемой торпедой проскользить под водой и когда сделать первый гребок на всплытие. Мой опытнейший тренер, Семен Бойченко, за девять лет выдрессировал каждую клеточку моего тела так, что Ирине Бугримовой с ее львами и тиграми такое и не снилось. Стать чемпионом единожды очень трудно. Но продержаться в этом звании подряд восемь раз, поверьте, невообразимо сложнее. Итак, моя четко отлаженная машина мощно пошла вперед. Я, как всегда, вынырнул у противоположного бортика бассейна (тогда разрешалось все двадцать пять метров плыть под водой) и не оглядываясь, так как не сомневался, что как всегда шел первым, резко оттолкнувшись, ушел под воду на второй двадцатипятиметровый отрезок. Вынырнув за пять метров до бортика, в три гребка дошел до поворота и, убедившись, что соперники, как обычно, позади,- пошел на третий. Вынырнув в третий раз, я услышал привычный моему уху рев трибун. Он всегда придавал мне свежие силы, так как почти всегда впрямую относился именно ко мне. Перед самым поворотом я поднял голову и вдруг абсолютно четко увидел широко раскрытые от ужаса глаза моего зав.кафедрой. - Он прав, - мелькнуло в мозгу, -- если выиграю, мы точно «залетим» оба… Один мой портрет в местной газете и разоблачение липы неизбежно. Я оттолкнулся, быстро выскочил на поверхность, сделал несколько мощных гребков и «схватив огурчика», приостановившись, якобы в приступе неудержимого кашля, пропустил вперед трех соперников. На трибунах поднялся дикий вой. Еще бы! Какой–то никому неизвестный жиденок из «холодилки» уделал всех чемпионов Украины! Да, да! Именно уделал. И алкаш, оравший с трибуны перед заплывом, действительно оказался пророком: - «жопы-то он им действительно надрал»! - То есть в деталях повторилась история с Жорой Маленьким. Никто не говорил о том, что я мог бы победить. Все в голос вопили, что Сема Рабинович выиграл. Да, как ни говори, но в данном случае в этих воплях, без сомнения, была большая доля сермяжной правды, но важна–то не какая–то там предположительная правда, важен только заключительный результат и приговор судей. А его–то вот , как раз мы с зав.кафедрой действительно выиграли, хотя моему спортивному начальнику это могло стоить инфаркта. Продолжая кашлять, я быстро заскочил в раздевалку и через три минуты катил в мотоциклетной коляске мастера на комбинат отмечать «жопонадральную» победу, как окрестил мой заплыв мастер. Вечером в общежитие, где мы продолжали отмечать «победу» с сокроватниками по общаге, пришел зав.кафедрой. Вид у него был более, чем мрачный, и в глазах сверкали такие молнии, что я, на всякий случай, отошел в другой угол комнаты. Оплеухи во второе ухо не последовало. Может быть, его удержало присутствие ребят, а быть может некоторые «странности», которые обеспечили мне за столь короткий промежуток времени две «крутые победы» и в которых физические данные играли далеко не последнюю роль. - Ты почему не сказал мне, что плаваешь по мастерам? – зло спросил он. - Вы спросили - тяну ли я на первый разряд? Я и ответил утвердительно. - Меня сегодня заколебали твоим заплывом. Я едва отговорился. Сказал, что ты юноша со странностями и что, к сожалению, завтра ты вряд ли сможешь участвовать в финальном заплыве, так как у тебя неприятности после «огурца», что–то серьезное с бронхами. И запомни, шоколад можешь оставить для своих девок, а деньги за сборы завтра вернешь полностью, до копейки. Тебе все понятно? - Все … - Не очень внятно промямлил я. Он встал. Пригрозил мне кулаком и, бросив на прощанье – Засранец! – вышел из комнаты. Деньги я не потратил. И более того, значительно пополнил эту сумму за счет неких не совсем чистых торгово–финансовых операций, основанных на вынесенной за пределы проходной комбинатовской продукции. Повторюсь: «Кто, что сторожит – тот с этого и кормится », как говорил Райкин в нашем спектакле «Древо жизни». Однако возвращать эти деньги, а тем более, как я считал, честно заработанные, - уж очень не хотелось. Мы долго базарили с ребятами на эту тему и пришли к такому решению. Завтра я прихожу на финал. Плыву всю дистанцию, выигрываю, но выкидываю в конце какой–нибудь финт, чтобы мне не зачли результат. Если завкафедрой не изменит своего решения, я открываю аферу. На следующий день я вновь пришел к сильнейшему заплыву. Трибуны взвыли при моем появлении, а лицо начальника стало сильно смахивать на плохо загримированного покойника. Заплыв по составу был тотже, только на этот раз судьи дали мне не неудобную последнюю восьмую, а четвертую дорожку. Аплодисменты болельщиков по–прежнему заслуженно прозвучали в адрес любимых пловцов, но я сорвал самый большой эмоциональный и звуковой куш. На трибунах сидело все общежитие и, конечно, наш комбинатовский мастер. На этот раз он «принял на грудь» такую дозу «молдавского», что приехал на трамвае, не рискнув сесть на мотоцикл. Ребята говорили, что на их памяти - «такое»… случилось с ним впервые. Во время заплыва в бассейне стоял сплошной рев, однако его чисто индивидуальное: «Бенчик, надери им жопы», я явственно различал в этом диком гаме. Мой заплыв, как и в прошлый раз, прошел по обычной схеме. Только и последнюю финишную двадцатипятиметровку я тоже целиком прошел под водой. Своего второго соперника, чемпиона Украины Женьку Гнеева, с которым я потом подружился, я обошел метра на два. Однако финт я все же сотворил. На последнем повороте перед финишем я нагло, чтобы у судей не могло возникнуть уже никаких сомнений, поставил ладони не параллельно уровню воды, то есть горизонтально, а наискосок. Это в брассе считается грубейшим нарушением правил, и пловец дисквалифицируется на данные соревнования. Судьи на поворотах, конечно, зафиксировали этот «прокол», и результат не был засчитан, но зритель не мог, да и не хотел ничего понимать, и дело чуть не дошло до драки. Я, естественно, немедленно смылся, предоставив дальнейшую «разборку» своему завкафедрой. И вечером, за очередной, на этот раз «финишной победной» попойкой, с легким ужасом ожидал прихода начальника. Однако все обошлось благополучно. Через два дня я, закончив практику, покинул гостеприимную Одессу. Деньги остались при мне. Дефицитнейшие шоколадки я роздал ребятам и милым моему сердцу девушкам. -------------------------------------------------+ ----------------------Летят столетья, дымят пожары, Но неизменно под лунным светом Упругий Карл у гибкой Клары Крадет корралы своим кларнетом. И. Губерман. Тема этой главки, отнюдь не соответствует сексуальному эпиграфу из прелестного гарика Губермана , но ничего ближе к сюжету этой главы я у него в сборнике не нашел, в этом, хотя бы, есть слово –«украл». Будем считать, что сексуальный термин «её поимел ввиду», я привязываю к ловко уведенной твердокопченой колбасе из цеха мясокомбината или вахтерше тете Варе, «шмонавшей» всех выходящих со смены. Ну и коль идет одесская тема, расскажу несколько историй из моей студенческой практики на мясокомбинате. Если помните, в первый день моего проживания в общежитии института произошла история с Жорой-маленьким, но на самом деле это был второй день моего пребывания в Одессе, а первый день я запомню навсегда. Сойдя ранним утром с ленинградского поезда, я в девять часов отметился в канцелярии Холодильного института и, получив направление на практику на мясокомбинат, на стареньком скрипучем, пятидесятилетней давности трамвайчике, пополз через весь город в район его расположения, под названием Лузановка. Комбинат стоял на берегу моря, недалеко от одного из городских пляжей Одессы. Я до сих пор с трудом себе представляю, как на этом пляже можно было купаться и загорать. Ибо невыносимая вонь гниющих на обваленных костях остатков мяса, приправленная тошнотворным запахом сырых обработанных какой–то мерзостью коровьих шкур заставила меня заткнуть ноздри остановок за пять до колбасной житницы. Я в ужасе обвел взглядом вагон, однако привычные к местной газовой атаке коренные жители района продолжали спокойно беседовать с крикливой толстой кондукторшей, ничего не замечая. - Вьюноша, Вы можете себе выходивать тута, - проходя мимо за деньгами, гаркнула она мне в ухо на весь вагон и игриво подтолкнула к двери здоровенной, каменной упругости задницей, И не хватайтесь себе за свой нос. Если в Одессе вам уже-таки успели подарить сифилис, – поверьте Клавдии Самсоновне, вам все равно это уже не поможет. Нужно сначала просить у девочки справку из КВД, а уже потом чем попало лезть в ее в трусы. Вагон жеребцово откликнулся на ее тонкую остроту. Я же красный, как знамя революции, пулей вылетел на остановке, со всего маха вмазавшись в трамвайный столб, который, в свою очередь, ответил мне за неожиданное нападение хорошей шишкой на лбу. В глазах поплыло, и вестибулярный аппарат, в силу страшенного удара отказавший мне на пару минут, отправил потерявшее управление тело прямиком под колеса проезжавшего мимо грузовика. На этом самом месте могли бы и закончиться мемуары о моей короткой, насыщенной приключениями, жизни, однако, подготовленный к этой коллизии вездесущий Господь решил несколько иначе, и я отделался чуствительным подзатыльником от могучего шоферюги, обладавшего помимо силы биндюжника еще и реакцией заправского теннисиста. Вагон выл от смеха. Дуэт из вагоновожатой в обнимку с толстожопой кондукторшей рыдал на два голоса в терцию. Я же, почти ничего не соображая, сомнамбулой двигался в направлении, как мне казалось, спасительной проходной комбината, не подозревая, какие еще ужасы ожидают меня впереди… Показав институтское направление жующему чеснок охраннику, я вышел во двор, и в этот момент что-то липкое и жирное капнуло мне за шиворот. Я инстинктивно поднял голову вверх, и такая же отвратительная плюха залепила мне глаза. Я, как ошпаренный отскочил в сторону и с трудом протерев очки, увидел над головой конвейер, по которому на склад медленно ползли насаженные на крючья только что забитые и выпотрошенные свиные туши. Нет, я, конечно, видел разделанный скот, но это всегда были замороженные безголовые половинки, которые уже как–то не очень ассоциировались со свежей смертью. С только что свершенным убийством… Меня направили к инспектору по кадрам – молодому, шпанистого вида садисту – антисемиту. Вообще–то, антисемитизм в Одессе, с моей точки зрения, дело удивительное, поскольку с еврейским акцентом в ней говорит поголовно все население. Впрочем, может быть, именно это и ожесточает юдофобов. К тому же, половина из них недообрезанные хохлы. Ответ коренного жителя этого города на вопрос:-- « Кто есть жители Одессы?» --обычно таков :--«Половина евреи, о остальные антисемиты!» Младожидоед мгновенно распознал во мне ненавистную его сердцу голубую кровь иерусалимских первосвященников и врожденную питерскую интеллигентность, не менее отвратительную его местечковой душе и решил вволю наиграться со «слабаком». Истязание видом чужой смерти, пусть даже это убийство животных, он провел с наслаждением, с необходимыми в таких случаях мерзкими комментариями и с большим знанием дела. Начали мы с убоя и разделки крупного рогатого скота, потом «полюбовались» забоем безумно вопящих свиней и закончили, а от этого еще страшнее, умирающими без единого стона овцами. Из совершенно осмысленных, полных укоризны человеческих глаз которых, мешаясь с кровью из располосованной острым, как бритва ножом глотки, падали, как крупные кристальной чистоты камушки, алмазные слезы. Смотреть, как разбитные одесские бабенки, болтая без умолку и хохоча по поводу и просто так, воткнув острые ножницы в клюв нежным цыпляткам протыкают им мозг, у меня уже не было ни сил, ни остатка нервной системы. В голове шумело. Тупо саднила здоровенная шишка на лбу. Я сел на какие–то грязные липкие бревна и, очевидно, так жестко сказал своему мучителю, что больше никуда не пойду, даже если он меня зарежет на этом самом месте, что он отстал и, махнув рукой на прощанье, ушел в столовую. Время перевалило за полдень, а у меня с утра не было маковой росинки во рту. Правда, есть не хотелось совсем, но пропустить «халявный» сытный мясокомбинатовский обед в моем почти нищенском материальном положении было бы непростительным кощунством. Я встал и медленно поплелся к едальне. В грязноватом, душном зале было тихо. Отупевшие от конвейеров смерти рабочие, уставившись остеклянелыми глазами в стол, тарелку или стену методично бездумно пережевывали жилистое последней, внепродажной категории мясо. Мимо меня прошла пожилая работница в грязном, обрызганном запекшейся кровью переднике. В руках у нее на бордового цвета подносе дымилась тарелка с красным, как свежая кровь харчо, с торчащими из супа хребтовыми бычьими позвонками. Передо мной тут же ярко вспыхнула, только что виденная жуткая картина. Еще живая корова, потерявшая память от удара здоровенной деревянной кувалдой по голове, висящая за горло на крюке. Не просыхающий от беспробудной пьянки амбал– раздельщик кривым ножом вспарывает ей брюхо и, уцепившись за горячие дымящиеся внутренности, вместе с ними, огромной единой бесформенной вонючей кучей оседает на пол. Он поднимается с пола. Вытирает руки о заделанный до нельзя кровью и испражнениями из вспоротых кишок клеенчатый фартук и, вынув из кожаных ножен тесак, начинает быстро разделывать еще чуть дергающуюся в последних конвульсиях тушу. Сильнейший рвотный спазм сжал мой пустой желудок, и я едва успел выскочить наружу, чтобы выблевать забившую рот и глотку горькую жгучую желчь. Я утерся тыльной стороной ладони. У крана на стене столовой вымыл лицо и руки, прополоскал рот и, забрав оставленный в отделе кадров маленький фибровый, довоенного фасона видавший виды чемоданчик, побрел в комбинатовское общежитие, находившееся на той же территории. Ключ от комнаты, номер которой мне сказал кадровик, свободно висел на щитке в вестибюле за не высоким барьечиком. Я попробовал несколько раз окликнуть дежурного, однако мое жалкое блеяние имело тот же результат, что и протяжный крик осла в Аравийской пустыне. Я ждал минут двадцать, но уставшие ноги уже едва держали меня, и самовольно сняв с гвоздя на щитке ключ я поднялся на второй этаж. Небольшая замызганная до нельзя комнатка с тремя, казарменного образца, кроватями. И противно громко капающим краном, на спускающейся по стенке ржавой трубе, встретила меня горячим спертым смрадом. Лаборатория моего чуткого еврейского носа, рассортировав запахи установила: - водочная блевотина с никогда не моющегося пола, вонь потных мужских тел с небритыми подмышками, стойкий запах тройного одеколона и нежный аромат гниющих остатков мяса на костях от громадной кучи, расположенной непосредственно под открытым окном, затянутым серой до черноты марлей. Второе такое же окошко, расположенное под углом 90 градусов к первому, выходило в аккурат на груду просоленных недорубленных коровьих шкур. Их нежнейшее благовоние, пожалуй, с лихвой перебивало вышеперечисленный суммарный «шанелевский» букет. С трудом сдерживая оставшуюся в желудке желчь, комом подошедшую к горлу, обжигая травмированные предыдущей столовской рвотой связки, я спустился вниз в комнату коменданта общаги за постельным бельем. Толкнув приоткрытую дверь на чудовищно скрипящих петлях, я остолбенел. На грязном заставленном грудой бутылок и заскорузлой посудой столом, облокотившись локтями в упор подбородка, ритмично ерзая на огроменных титьках взад-вперед, полулежала полуголая здоровенная бабища, сладко постанывая и закатывая сонные глаза. Сзади нее высокий щупленький солдатик в мятой выцветшей пилотке и потемневшей от пота тельняшке тяжело пыхтя добротно выполнял, по всему видать, полученный от начальницы приказ. - Ну и чо тебе? - Через длинную паузу, как ни в чем не бывало, сонно спросила меня женщина, продолжая елозить по столу, - у тебя чо, другого времени отрывать коменданта от дела нет, что ли? Солдатик, немного смутясь, приостановил было работу и стыдливо отвернул голову. - Ты чо? В казарму опять захотел или мужиков в очках никогда не видал? – бросила она ему через плечо, не сводя с меня полуприкрытых от сладкой истомы глаз. Это откудова тебя, такого красавчика, к нам прислали. На переработку-то? Чай столичный будешь, с самой Москвы? - Нет, из Ленинграда, к вам на практику, - проблеял я. - Ко мне, это значит. Это хорошо. Ну, раз уж так сильно науке надо, значит попрактикуемся. С Ленинграду практикантов у менято еще и небывало. Тебе чо надо-то, бельишко? Так я принесу. Ты пока там у себя на коечке–то полежи на матрасике, отдохни с дорожки. Отдышись. Ты из какой комнаты–то? - Из тринадцатой на втором этаже, – слегка заикаясь ответил я, не в силах оторвать взгляд от монотонно–ритмичного, но добротно продолжающегося рабочего процесса. Ага, та комнатка-то хорошая будет. Светлая, чистая. Там Абрамыч с Плошкиным пьют. Но у их сегодня втора смена, так что не боись, еще и не раз успеем. Так что ты пока иди, иди к себе, отдыхай. Я бельишко–то сама занесу, да и застелю, как надо, дай только ослобожусь от его. - До свидания, - интеллигентно попрощался я и почему–то очень осторожно, на цыпочках, вышел из комендантской, стараясь умерить бешенный петельный скрип и, почему–то вдруг аритмично взбрыкнувшее сердце, плотно прикрыв за собой тонкую фанерную дверь. Ты как закончишь свое дело, прибей к дверке кручок, поднимаясь по лестнице, услышал я приказной голос начальницы, обращенный к солдатику, - а то неровен час еще кто и из начальства невпопад навестить меня припрется. Так тебе, дурню, и свою задницу подставить придется. Я плюхнулся на тонкий грязный матрац, больно ударившись коленом о почти проступающие через него доски, уложенные на провисшую кроватную сетку и мгновенно отключился, впав в какой–то странный обморок с жуткими сновидениями. Мне снилась огромная баранья голова, стоящая в тарелке с супом с глазами полными кровавых слез. Она меня о чем–то просила, а я никак не мог понять, на каком языке звучали ее слова. Потом на меня свалились горячие, скользкие смрадные внутренности висевшей на крюке коровы, и я, барахтаясь и дико крича, никак не мог выползти из-под них. Потом была комендантша со стопкой серого мокрого белья в руках, с длинными вислыми грудями, лежавшими на этой стопке. Она смотрела на меня выпуклыми влажными коровьими глазами и страстным низким голосом нудно просила прибить крючок к двери. Проснулся я от громких мужских голосов. С трудом приоткрыв глаза я увидел двух дюжих жлобов, сидевших за столом, на котором стоял жестяной бидончик и две бутылки водки. Мужики о чем–то спорили между собой и разливали водку каждый из своей поллитровки. Увидев, что я просыпаюсь, они дружно протянули мне свои стаканы и еще громче загалдели, приглашая разделить застолье. Я, еще плохо соображая, где я, и что тут происходит, на всякий случай, благодарно улыбнулся им в ответ и принял от одного из них замызганный сальный стакан с водкой. Второй вытащил из кучи грязной посуды, сваленной со стола в раковину, пустую консервную банку из-под бычков в томате, налил в нее из бидончика густую темно красную жидкость и протянул банку мне: - Запей-ка томатиком, очень душевно ложится на крепкую, а потом залакируешь пивком. Я дрожащей рукой взял банку, сделал глоток и понял, что это кровь. Банка непроизвольно выпала из моих рук, вылив содержимое на рубашку и штаны. - Это что? Настоящая кровь? – Пролепетал я заплетающимся языком. - Нет, моча от красной коровки. – Расхохотался второй. – Наипервейшая в мире закусь. А тебе что? Не пришлось? Так колони пивка. Я сказал «спасибо ребята» и опять отключился. Жуткий грохот вновь разбудил меня и, плохо соображая, что происходит, я продрал слипающиеся глаза и, сев на койке, стал невольным свидетелем жуткой сцены. Роняя все, что попадалось под ноги и под руки первый амбал с разделочным ножом в поднятой руке, дико матерясь, гонялся за вторым. Догнать убегающего в небольшой комнатушке без мебели было делом не сложным и, спустя несколько секунд, нож по самую рукоятку надежно вошел между лопаток убегающего. Я дико заорал и отключился в очередной раз. Меня привели в чувство ласковые руки врачихи, которая пыталась найти на моем теле те страшные ножевые раны, из которых вылилось на одежду столько кровищи, и ничего не найдя, никак не могла взять в толк: все-таки откуда она взялась? Следователь долго пытался добиться от меня чего-нибудь вразумительного, но поняв, что сейчас это сделать невозможно, плюнул и, записав фамилию и номер паспорта, махнул рукой. Я вытащил из-под кровати свой полупустой старенький фибровый, бывший папин командировочный чемоданчик и пешком через всю Одессу поплелся в общежитие Холодильного Института, куда поместили двух наших институтских девочек, приехавших на практику вместе со мной. Дальше был двор с Жорой-маленьким и сорок дней значительно более приятных приключений. …………………………Х……………………………. Тогда я еще не был профессиональным эстрадным драматургом. Мишку Жванецкого, Рому Карцева и Витю Ильченко не знал, да и, честно говоря, в тот замечательный отрезок лихой молодости и свободы эстрада меня мало волновала. Я был немножко влюблен в свою сокурсницу - пухленькую Мирку с прелестными мягкими сочными губами, необычайно сильными руками и железобетонными морально – домостроевскими устоями. Мирка позволяла мне до упаду целовать ее по вечерам на скамейке в темном уголке дворика общежития, но только после ужина в каком–нибудь ресторанчике с оркестром и танцами. Тогда у меня еще не было «халявных» денег спортивного сбора пловцов, свалившихся прямо с неба, их надо было каким–то способом добывать, и самым простым оказалось воровство дефицитнейших твердокопченых колбас, окороков и сосисок с родного комбината. И вот тут-то уж во всю разыгрался мой изобретательский талант. Начал я с копченых свиных окороков. Веса в них было где–то от 5 до 7 кг в каждом и, продав их перекупщику постоянно дежурившему за пару трамвайных остановок от комбината, можно было заработать на четыре-пять Миркиных целовальных вечеров. Делал я это так. В самом конце рабочего дня завернутый в спецовку окорок, плотно заделанный в частую латунную сетку, чтобы оградить его от грубого посягательства рыб, выносился на вонючий, загаженный обглоданными собаками костьми и птичьим пометом маханький комбинатовский пляжик и погружался в воду. К сетке была привязана достаточно длинная рыболовная леска и поплавок, состоящий из трех, только что появившихся в продаже пинг-понговых шариков, засунутых в красный или белый мешочек. К свободному концу лески прикреплялся проволочный крючок, который я цеплял за свои плавки и отплывал метров за сто от пляжа, буксируя заветный вечерний залог Миркиной любви. Далее, отстегнув крючок и оставив на воде поплавок, я быстро возвращался обратно и, одевшись, добирался на городской лузановский пляж, расположенный в трех остановках от комбината. Ну а дальше, вообще, все было очень просто. Прокатная лодка, мешок с выловленным окороком и заветная тридцатка, а то и полтинник в кармане. Таким же образом добывалась дорогостоящая «московская» колбаса. Сосиски, - те-то просто выносились между ног, но они шли не на реализацию, а на свои вечерние ужины в компании сокроватников по комнате. Ребята приносили со своих практик коньяк в грелках на груди или в двух–трех, засунутых один в другой, презервативах. Но последние в те времена были в большом дефиците и, к тому же, недостаточно надежны. Нашей стране, сильно поредевшей после чисток кровавого 37-го года, кровопролитнейшей войны и послевоенных сталинских лагерей стране нужны были не сексуальные утехи строителя коммунизма советского народа, а мощный демографический рост оставшегося сексуально способного народонаселения. То есть, кроватные бои разных полов должны были проходить «натурально» и заканчиваться нормальным зачатием будущего продолжателя дела отцов и матерей! То- есть, как учил нас первый конный командарм Михайло Василич Буденный: - « в бой надо вступать с шашками наголо». Конфеты с фабрики девочки проносили в лифчиках, а, может быть, и еще где–то там, но вот уж белые–то батоны и ржаной одесский кирпич покупались в государственных магазинах на честно заработанные советские деньги! Правда, первый свой воровской трюк я проделал тоже достаточно изобретательно. Тогда мысль стать морским добытчиком свиных окороков мне еще не пришла в голову. Утром я собрал простыни и пододеяльники со всех кроватей в комнате и, завернув в них хорошо вымытый трехкилограммовый булыжник и засунул в дорожный рюкзак. Зверь с нюхом охотничьей собаки - охранница проходной комбината Варвара Селиверстовна (удивительно, но я действительно почему–то запомнил ее имя и отчество), которая всегда точно знала и просто каким необъяснимым образом чувствовала ту часть человеческого тела, в котором была запрятана «припарка», однако, по–матерински снисходительно относилась к нищим студентам – практикантам. И не лезла с «ощупыванием», когда была уверена, что «выноска» весит не более 200–300 грамм, но за полкилограмма уже могла вызвать старшего смены, и это могло грозить даже тюрьмой. Зайдя в проходную, я весело поздоровался с тетей Варей и, испросив о здоровьи ее ненаглядных внуков, передал ей тяжеленный рюкзак, попросив сохранить его несколько минут, пока я не узнаю, работает ли комбинатовская прачечная, и возьмут ли они в стирку студенческое белье. Такая услуга была негласно разрешена нам, и раз в десять дней мы ею пользовались. У тебя там камни, что ли наложены, ласково улыбаясь, спросила охранница, забирая у меня рюкзак, не подозревая, что и на этот раз она, как в воду глядела. Просто бельишко сыроватое, да и в рюкзачок собрал со всех кроватей в комнате. Через несколько минут я, со счастливой улыбкой на лице попросил у нее рюкзак обратно и помчался, якобы, в прачечную. Далее в коптёрке цехового мастера, не торопясь сменил булыган на заветную твердокопченую колбаску и через четыре часа вновь принес его в проходную на хранение к Варваре, чтобы полежала до конца рабочего дня, но уже якобы с чистым бельем. К сожалению, такие номера не могли повторяться часто, а зов бурлящаей от страсти молодой крови, как магнитом тянул к пухлым губам Мирки, и мне пришлось придумать более муторный, но значительно более верный «морской вариант» спасительного воровства. --------------------------------------------------+------------------------И я сказал себе: - держись, Господь суров, но прав, Нельзя прожить в России жизнь, Тюрьмы не повидав. И. Губерман. Мои последующие очень кратковременные наезды в Одессу были связаны с круизами на морских туристических паромах в качестве писателя- сатирика с выступлениями перед отдыхающими. Это любопытный, с моей точки зрения, описательный материал, и я постараюсь обязательно к нему вернуться позже. Итак, вновь институт. Я уже говорил, что за курсовой проект на четвертом курсе я, уже работая на заводе «Знамя труда», получил «Золотую медаль ВДНХ». По тем временам это была очень высокая государственная награда, получить ее в двадцать два года (а по существу–то студенту в 19) простому конструктору 3-й, самой начальной категории была большая честь. Я изобрел приставку к токарному станку, благодаря которой прямо из-под резца на обрабатываемой вращающейся детали можно было сделать четырехгранник, шестигранник, восьмигранник и т. д. Даже сейчас инженерам, которые не знакомы с этим устройством, такоекажется чудом. Правда вначале поданное на заводе рацпредложение, у меня в наглую украл главный инженер, поделив его с главным технологом. Но я поднял на заводе жуткий скандал. И с курсовым проектом в руках, взятым в институте из архива кафедры, где его сохранил мой любимый преподаватель Гущин, отстоял правду. Очень похожая история произошла и с моей дипломной работой – автоматом, который закатывал сушки. Существующая до того времени машина весила чуть ли не полтонны и занимала два квадратных метра площади. Мне удалось превратить ее в маленький настольный автоматик с утроенной производительностью. Отзыв на дипломный проект мне должны были дать специалисты из НИИХЛЕБа. Они внимательно ознакомились с чертежами и, вызвав меня, предложили: или положительный отзыв, и я навсегда забуду про этот проект, либо…увы и ах, отрицательный отзыв! Естественно, я, скрипя сердце, был вынужден остановиться на первом варианте. После окончания института я вновь посетил его лет через 30. Все стало незнакомым и чужим. Обошел работающих на кафедрах и оставшихся еще в живых однокашников. Радостно взгрустнули, вспомнив былое, и уже, по всей вероятности, простились на этом свете навсегда. Я пропустил одну немаловажную веху из институтских времен. Просто удивительно, как это могло со мной случиться? Ведь, пожалуй, это было самым ярким впечатлением в моей тогдашней жизни и чудом не стоило мне, как минимум, десяти годков лишения свободы, а то и жизни вообще. На четвертом курсе я какое–то время замещал заболевшего секретаря комитета комсомола. Время было боевое. В город приехал сам « дорогой» Никита Хрущев, бывший в те времена, на самом пике своего властного фавора. Все высокопоставленные партийные холуи рыли носами землю и ходили на цыпочках. Город стоял на ушах и был приведен в полную боевую готовность. Милиция стояла на каждом углу. Бонзам казалось, что все было в полном лакированном ажуре, но тут, как на грех, Генерального Секретаря КПСС плохо встретили студенты ведущих вузов. На встрече с ним они не достаточно громко аплодировали, не пели осану, задавали вождю каверзные, несогласованные с институтским КГБ вопросы и даже позволяли себе неподобающие выкрики во время его выступления. «Царь» уехал из университетского зала, где проходила встреча, крайне возмущенный и на выходе в запале бросил страшненькую фразу: «Быстро они, сволочи, забыли добрые сталинские времена, да он бы их, паразитов, за такое неуважение-на фонарях развесил!» КГБ немедленно воспринял слова «императора» как приказ к действию, и хорошо отработанный десятилетиями и, отнюдь, не забытый «органами» процесс пошел. Буквально на следующий день на проводимое мною очередное собрание комитета комсомола, не спросив разрешения, вошел и спокойно сел на один из крайних стульев невзрачный человечек в простеньких круглых бериевских очечках. На мой вопрос, - кто он и какое право имеет тут находиться, - он тихим голосом ответил: - «Занимайтесь своим делом, молодой человек. Можете не сомневаться, что я обладаю всеми необходимыми правами». Я не стал спорить, хотя из чисто юношеских идиотских амбиций довольно сильно разозлился. Комитет шел своим чередом, как вдруг этот тип бесцеремонно перебив меня тем же тихим невыразительным голосом начал делать мне какие–то дурацкие, с моей точки зрения, замечания. Я еще раз спросил его, - кто он? И на этот раз он достаточно грубо, но так же тихо сказал мне какие– то гадости. Я взбесился, подошел к этому шибздику и, взяв его за воротник, почти пинком выкинул в коридор, закрыв за ним дверь комитета на крючок. Он вежливо постучал в дверь и, не получив ответа, бросил достаточно громко тогда еще не понятую нами фразу: «Генеральный и этот раз оказался прав». Через два часа за мной приехал фургон с бортовой надписью «ХЛЕБ». И трое молодцов в хрустящих портупеях сопроводили меня по длиным институтским коридорам «с руками за спину» внутрь этого славного фургончика, в котором замызганный пол и такие же стены в темных пятнах пахли отнюдь не хлебобулочными изделиями, а застарелой блевотиной и еще ,чем–то очень странно знакомым, но тогда еще я так и не понял чем. Позже, когда я за дерзость следователю угодил на трое суток в карцер, стены которого были в тех же темных, но еще достаточно свежих и не смытых пожарным шлангом пятнах, я сообразил, что на стенках фургона была засохшая кровь, у которой со временем появляется именно такой запах. Фургон доставил меня на Дворцовую площадь, где в то время находилась одна из тюрем КГБ. Ночь я провел в грязной одиночке, а в семь часов утра молодой солдатик сопроводил меня на первый допрос. --------------------------------------------------+-----------------------В борьбе за народное дело Я был инородное тело. И. Губерман. Поразительно, каких кретинов сделала из советского народа эта омерзительная партия. Страх, тупое баранье послушание любым приказам и распоряжениям, почти поголовное наушничество и стукачество, которое большинство считало чуть ли не своим гражданским долгом, абсолютное неприятие всего, что не нравилось партийным властям, нежелание верить в то, что страна – это один сплошной концлагерь, в котором ты временно еще находишься по ту сторону колючей проволоки. Я про все это слышал и по «вражеским голосам», и от умудренной личным опытом нашей домрабыни - тети Вари, которая прошла весь ужас раскулачивания своей семьи и своего села и пережила страшный период «военного коммунизма». От несчастной русской женщины, которая в 30–ые голодные годы потеряла мужа и трех детей и видела, как ее односельчане ели мясо своих умерших от голода родных, а скорее всего ела и сама, а оттого и выжила. Она до самого последнего дня жизни у нас в семье съедала за общим столом только половину положенной еды, а вторую половину заворачивала в тряпочки и прятала их у себя в комнатке под кроватью в фанерном сундучке, чтобы тихо доесть ночью. Она ненавидела и Ленина, называя его «звериной калмыцкой рожей», и Сталина, который шел у нее под кличкой «зверский изверг». Нет, ни она, ни даже только что законченное Берией «дело еврейских врачей»-- ничему не научили меня, великовозрастного дебила, праведного комсомольца к моменту этого ареста. И я шел на первый допрос в своей жизни почти весело, думая лишь о том, как мы на пару с умным и справедливым следователем утрем нос этому партийному козлу! Этому шибздику, свалившемуся на мою голову неизвестно откуда. Да, да, именно эта мысль владела мной в тот момент, ибо я, проживший жизнь с пионерских времен честным ленинцем – сталинцем, защищенный в свое время от вопиющей несправедливости, допущенной колхозным шофером – антисемитом. И ни кем–нибудь, а комсомольским активом своего института! И я ни на секунду не сомневался, что уж наше советское правосудие --самое честное и правосудное в мире! И, что следователь, к которому меня ведут, безусловно честен, добр и справедлив! Что просто произошло вопиющее недоразумение по вине какого–то клерка – иезуита, но этому будет быстро и четко положен конец. В конце–то концов: - мы рождены, чтоб сказку сделать былью! Преодолеть пространство!… Моя железная интуиция и на это раз меня не обманула. Следователь, молодой улыбчивый парень, с простым открытым русским лицом и университетским значком в лацкане хорошо пошитого пиджака, встретил меня, как близкого, родного, горячо любимого родственника, с которым нас надолго разлучила злодейка судьба. - Присаживайтесь, уважаемый Вениамин Яковлевич, вежливо подвигая мне стул, приятным баритоном пропел он, меня можете величать Михаилом Яковлевичем, как видите, мы с вами, в некотором роде, даже тезки по отцам, а фамилия моя Пронин. Вашу фамилию я запомнил, ваше, очень даже любопытное дельце проглядел очень даже внимательно, и у меня к вам имеются кое–какие очень простенькие вопросики. Вопросики несложные, я бы даже сказал совсем простенькие, не сомневаюсь, что мы с вами на них скоренько ответим. - На меня уже заведено дело, которое нуждается в тщательном изучении? – изумился я. - Ну делом его еще называть рановато, пока это только тоненькая папочка, а когда мы с вами доберемся до самой сути событий и зафиксируем весь нужный нам с вами материал, как положено, в строго документальной последовательности, вот тогда–то у нас и получится то, что в юриспруденции называется делом. - И толстое у нас с вами будет это дело? – включился я в предложенную мне игру, ни на йоту не сомневаясь, что этот симпатяга парень предлагает мне эдакую шутливую манеру общения, эдакий междусабойчик двух неглупых остроумных людей, очевидно, зная, что в институте я пишу очень смешные юмористические капустники. Университетский значок и молодость этого «симпатяги» особенно приятно подействовали на меня. В это время я тесно общался с двумя авторами университетского капустника «Чугунные доски», будущими известными драматургами Володей Константиновым и Марком Яковлевым (тогда еще носившими свои настоящие еврейские фамилии Гуревич и Певзнер ), и значок, даже на лацкане следователя, как бы говорил мне: – «Не боись, я свой!». - А это уж зависит только от вас, - как разговоримся, - мягко, очень искренне, но с эдакой легкой иронией улыбнулся он. - Как вы насчет чашечки крепенького чайку, в камере вас напоить, очевидно, не успели? - Не откажусь, Михаил Яковлевич, какую–то бурду с миской дерьма сунули в окошечко, когда разбудили, но пить эту содовую гадость я не смог. - Да, - посетовал следователь, доставая из портфеля красивый заграничный термос и наливая мне в жестяной колпачок ароматно пахнущий мятой горячий чай, - с сервисом в наших заведениях еще не все в идеальном порядке и за роскошью еще надо мотаться за границу. И опять иронично улыбнулся, чем окончательно расположил меня к себе. - Ну, что, уважаемый Вениамин Яковлевич, если не возражаете, приступим? - С удовольствием, - ответил я, - с чего хотите начать? - Тут у меня написано, и думаю вы не будете возражать, что вами и вашими друзьями, фамилии которых вы мне, не сомневаюсь, перечислите, не далее, как на прошлой неделе организована демонстрация на той площади, куда как раз нынче выходит окошечко вашей камеры, надеюсь, вы не будете мне говорить, что это не так? – И он, подмигнув мне, так при этом симпатично осклабился, что сомнений в том, что мы начинаем играть в очень забавную, почти капустную игру у меня не сталось ни на йоту. - Вопрос с фамилиями мы пока оставим, а демонстрацию мы, конечно, заделали, что надо! – Весело согласился я. - И какова же была ее цель, милейший? – Продолжал в той же, почти клоунски - серьезной манере он. - Подрыв основ ныне существующего строя! – гордо и очень серьезно продекламировал я, оскалившись во весь рот. - Если не возражаете, то мы так и запишем. - С таким же, как и у меня серьезным лицом продекларировал Миша (а именно так мне теперь хотелось его называть), чирикая паркеровской авторучкой с золотым пером, что–то на листочке линованной бумаги. - Итак, любезный Вениамин Яковлевич, сколько там вас набралось, на этой площади? - Думаю, тысяч десять-двенадцать, – ответствовал я. - С оружием в руках, надеюсь? - Ого – го, и еще с каким. - А подробнее? – Голубые, как июльское небо над Парижем, глаза моего друга лучились, как хорошо ограненные карбункулы. - Винтовки образца 1893 года, - начал перечислять я, напрягая детскую память времен Великой Отечественной, когда каждый пацаненок от четырех лет и выше знал все виды и марки вооружения обеих армий. - И сколько их было, уважаемый? – Из горла следователя журчащим ручейком изливался елей. - Штук восемьсот, несравненный Михаил Яковлевич. Далее в дело пошли штук двести «максимов и «дегтяревых», полста пушек разного калибра, все типы советских танков и несколько трофейных «тигров» и «пантер». Развеселившись до упора, мы вписали в протокол допроса прикрывающую демонстрантов авиацию и не дошли, только разве, до атомной бомбы. Через полчаса, надорвав животы от смеха, мы остановились. Я заметил на долгом пути, Что, работу любя беззаветно, Палачи очень любят шутить И хотят чтоб шутили ответно. И. Губерман. - Теперь прочти эту мутатню и распишись под каждой страничкой, - вытирая пот с лица, протянул мне листочки Миша. – Кстати, если тебе не лень, можешь прочесть свое лучшее в жизни сочинение. Я, пожалуй, с твоего разрешения, сниму с него копию и оставлю себе на память, как ни говори, а не каждый день удается встретить такого могучего и честного террориста. Подписывать эту галиматью мне почему–то расхотелось, впрочем, как и перечитывать ее, что я и сказал своему приятелю. - Ну, это ты напрасно, - обиделся он. Подпись надо под такими документами ставить обязательно, а то кто же поверит, что ты их автор. А, впрочем, твое дело. У нас с тобой это первая, но, надеюсь, не последняя беседа, так что еще успеем. Чаю попьешь на дорожку? - Пить чай из его красивого термоса мне почему–то расхотелось. Да и веселье куда–то улетучилось. - А кто ко мне приходил на комитет? – Вяло, почти без интереса спросил я. - А ты не знаешь? – Он удивленно поднял брови. - Это же был сам Червяков, завотделом агитации и пропаганды Ленинградского Обкома Партии. Премерзкая личность, но при б-о-о-ольших карательных правах! Партия наш рулевой, незабвенный Вениамин Яковлевич, и она, родимая, у нас с вами и со всем советским народом – одна! И этого забывать не-про-сти-тель-но! Так что про милейшего товарища Червякова я вам ни-и-чего такого не говорил. Вам все ясно? - Все, - ответил я, и в сопровождении того же безусого солдатика устало поплелся в свою одиночку. Примерно через час меня опять вызвали на допрос. На этот раз мой любезный Миша встретил меня совсем по иному. За столом сидел просто другой человек. Сурово – мрачные глаза, поджатые губы, прямая жесткая посадка на стуле. - Садитесь, - ледяным тоном произнес он, - не глядя на меня и перебирая бумаги на столе. – Садитесь и слушайте меня очень внимательно, Вениамин Яковлевич. При первом свидании я позволил себе поиграть с вами в «подкидного дурачка». Мы люди взрослые и, думаю, далеко не глупые, и оба понимаем, что никакой террористической авантюры с танками и самолетами на прошлой неделе в нашем славном городе не было, да и быть не могло. Не та страна, не то время, не тот народ. Мне хотелось пощупать вас. Выяснить, каков ваш моральный облик. И понять, как нам с вами надо будет вести себя дальше в нашем достаточно простом деле. Я с красной книжицей закончил два факультета нашего славного Университета и по профессии психолог и юрист в равной мере.. Час назад я протестировал вас и дальше, как шить ваше дело мне предельно ясно. - Шить? – Удивленно переспросил я. - Да, да, мой наивный друг – именно шить, потому как серьезного-то материальчика можно наскрести на вас, дай бог, на рубль, а костюмчик на вас велено скроить «товарищами свыше», аж на 58 статейку кодекса. Это еще до Никиткиной речи, при незабвенном Лаврентии Павловиче можно было за пять минуточек отправить вас на «десяточку, без права переписки», а сейчас совершенно другие времена, милейший, сейчас мы с вами должны будем ох как покрутить извилинами, для того чтобы вы могли бы сесть прочно, но за- кон-но! Я ясно выражаюсь? - То есть, как это «прочно сесть законно», когда я ничего противозаконного не совершил? Ну хорошо, выставил за дверь комитета постороннего человека, но выставил же пристойно? Ни тебе по роже, ни даже хорошего пинка под задницу ? Ну уж, в самом крайнем случае, мне можно дать выговор по комсомольской линии или десять суток за оскорбление человека? Не так ли? - Че-ло-ве-ка! Это вы правильно, Вениамин Яковлевич сказали. Но важно - какого че-ло-ве-ка! Это ведь он по господину Брему – так, червячок. А по партийно – номенклатурному разряду – он крокодил! Бегемот! Слон! Динозавр! Вот он кто! А червяк, уважаемый, это есть вы! И неважно, какая у вас фамилия, хоть Мамонтов. Важно, в каком дерьме вы ползаете! Надеюсь, я доходчиво вам объясняю, милейший? По Брему и Алексею Максимовичу: - Человек - это звучит гордо!-- Помните? А по неписанным законам нашей славной партийной номенклатуры: вас и вам подобных высочайшим распоряжением «са-мо-го» велено развесить гирляндами на питерских фонарях. Но, поскольку, вашего брата, неблагодарного студента намного больше, чем этих самых фонарей - ваш комсомольский задор велено как следует остудить в прохладных регионах нашей великой социалистической родины. Так что, милый друг, не будем тянуть драгоценное время, вы у меня тут не один, а давай те –ка соберем наши мозги в кулачек и совместными усилиями, быстренько придумаем вам красивое , небольшое дельце, всего эдак годков на 5 – 7 строгого режима. А коли будете, как некое мохнатое животное упираться лбом о ворота, я его в лучшем виде сочиню и сам, но это вам будет стоить, мой драгоценный, года на три дороже. - Ну как, по рукам? - Я бы с большим удовольствием – по морде, если не возражаете. – Без капли энтузиазма заметил я. - Юморист! Ну, право, юморист! Браво, товарищ Райкин! – искренне расхохотался следователь. За отличный юмор, уж так и быть скошу тебе годок. Так что иди-ка на часок в камеру и придумай себе вину пострашней. Да не упирайся, я же тебе, дураку, добра желаю. Но себя подставлять, да еще на карьерном взлете, как–то тоже не хочется. - Конечно, я себе сам ничего придумать не смог, да не очень то и хотелось добровольно лезть головой в мышеловку, да еще и без сыра. Я все еще очень плохо представлял себе, насколько четко и без особых сбоев работает эта талантливо сконструированная и годами отлаженная КаГеБешная машина. Недавно я просматривал очередной каталог новых книг и вдруг наткнулся на фамилию Абакумов. Думаю читателю не надо напоминать, сколько эшелонов цистерн крови выкачал из жил своих сограждан этот монстр. Книгу я не выписал, мне тошно стало только от одной прочитанной редакционной аннотации к ней: «Виктор Семенович Абакумов – министр государственной безопасности сталинской эпохи и один из самых могущественных и загадочных руководителей того времени. Автор пытается опровергнуть мифы и легенды об Абакумове и воссоздать подлинный образ этого поистине незаурядного человека.» Не слабо, не правда ли? Правда, может быть, при печати верстальщик текста допустил ошибку и вместо слова - «подлый», написал «подлинный». А вот слово «незаурядный» я, пожалуй, принял бы, ибо только уж очень незаурядная тварь способна на злодеяния, которые натворила эта гнусная гадина! Я от всей души попросил бы Господа, чтобы мои слова донесли до Абакумова, сейчас , надеюсь, сидящего голой задницей в аду на раскаленной сковороде! Я пожалел только о том, что автор этого маразма - некто господин Степанов, - не провел со мной те несколько месяцев в камере или в одном из Абакумовских лагерей. Может быть, тогда он написал бы какую-нибудь другую книжонку. Ну, а, что же остается делать человеку, если у него невыносимо зудит в седалище, когда он не пачкает пером бумагу (не надо только путать этот графологический раж с пушкинскими строками : - «рука к перу – перо к бумаге)? На следующий день мой очаровательный Михаил Яковлевич вызывал меня на свидания раз десять. То он вел со мной душеласкающии беседы как дипломированный психолог, призывая к здравому смыслу, который, по его словам у меня полностью отсутствует. То становился обычным абакумовским следователем – орал, хамил, в изобилии применял ненормативную лексику, даже грозил расстрелом. Видать, и эту школу ему неплохо преподали на юрфаке имени не меньшего подонка, чем Абакумов – товарища Жданова.. День на десятый он, войдя в неистовый раж, выплеснул мне в лицо остатки еще достаточно горячего чая. Он, очевидно, ожидал, что я заеду в него стулом и у него, наконец, появится обоснованная причина отправить меня на недельку в бетонный карцер – подумать на досуге, но я невероятным усилием воли сдержался и очень спокойным голосом ответил, что интеллигентные люди с двумя красными дипломами, обычно, так не поступают. По–моему, ему стало стыдно. Он–то прекрасно знал, что никакого отношения к преступникам и шьющемуся мне преступлению я не имею и не исключено, что на моем месте в аналогичной обстановке и он бы не удержался от пинка в зад верному ленинцу – сталинцу товарищу Червякову. Однако народная поговорка: - «От сумы и беды - все равно не уйдешь», как всегда, оказалась верна. Через неделю меня передали другому следователю, и тот наши взаимоотношения начал просто с обещанного мне Мишенькой «бетонного мешка», без койки, стула и дневного света. Я уже не помню, как его звали, но от напускной интеллигенции Мишеля у него не было ничего. Он был стар, неотесан, не выпускал беломорину изо рта, от него шел мерзкий запах гнилых зубов, подмышечного пота, бесконечно давно не мытого тела и вонючих ног. Он носил гимнастерку с несколькими орденскими планками и стоптанные кирзовые сапоги. Даже в обычной беседе к месту и не к месту пересыпал свою речь плоским грубым матом, гордился своей службой в СМЕРШЕ и частенько повторял, что из своего старого верного нагана он в войну много таких вшивых интеллигентов – еврейчиков, как я «отправил к богу в душу в рай»! Он долго читал протокол допроса, сляпанный своим предшественником, в котором я еще ко всему обвинялся в выпуске «черно – желтой» институтской стенной газеты (как оказалось, это любимые цвета Гитлера). В избиении (на первом курсе) ударника соцтруда, передовика производства, водителя легковушки председателя колхоза «Путь Ильича». В написании антисоветских капустников. В пропаганде чуждого нашей советской молодежи капиталистического американского джаза. В распространении антисоветских анекдотов о членах правительства и такого же типа прочей дребедени. Грозно из-под старомодных очков взглянул на меня, и, грязно выругавшись, подытожил: - «Ну, что, это чистая 58 – 10, расстрел. Чистый расстрел. Только вот подпись твоя нужна обязательно. Ты понял! На, бери самописку и шпарь, соображаешь». И вот тут - то я окончательно уразумел, что год сейчас на советском подворье все же не 37-ой! И без моей подписи хрен они что со мною сделают. Понял, что надо держаться изо всех сил и тогда, не исключено, – победа будет за нами. Так я думал, мой уважаемый читатель, и это лишний раз доказывает, что дураком я был и им же и остался. Гениальная девочка, героиня Франции - Жанна д Арк (о которой я сорок восемь лет спустя написал роман) тоже так думала по–началу, и полгода очень мудро тянула сляпоный судебный процесс скотины Кошена, однако, когда ее привезли на готовое кострище и, привязав к столбу, поднесли факел к сухому хворосту под ногами – изменила свое твердое решение. Новая история говорит нам, что ее все-таки не сожгли, и она благополучно закончила свою жизнь, и даже родила двух детей. Меня тоже не расстреляли, и усилиями моего отца я благополучно выбрался из этого страшного советского чистилища. И требуемой своей подписи я так и не поставил… хотя…не было и кострища. Но попытка подложить мне хворост под ноги у убийц со значками «щита и меча» – была. С годами жизнь пойдет налаженней И все забудется конечно, Но хрип ключа в замочной скважине, Во мне останется навечно. И. Губерман. После карцера, в котором я заработал жесточайший простатит, меня перевели в камеру на двоих. Соседом моим оказался тихий старичок, просидевший двадцать лет по политической статье 58 – 11, и подлежащий Хрущевской амнистии. Он считал, что дав ему срок в 10 лет, как почти и всем остальным ни за что, о нем простонапросто забыли. Он был лыс, без единого зуба, с трясущимися руками и морщинистым, как печеное яблоко, лицом. Я думал ему за семьдесят и был поражен, узнав, что всего сорок два. Срок свой он отбывал под Иркутском и на Колыме. Прятал, как и другие, намытое золотишко и обменивал его у паханов на табак и спички, за что многократно и нещадно был бит охранниками. На этом золотишке он и оставил здоровье, зубы и волосы. Повидал в лагерной жизни все. Был мудр, но скорее не от ума, а от этой бывалости. Был добр к людям. Власть простил. Считал,. как и многие в то время, что Сталин человек хороший, ничего про лагеря и аресты не знал, а, вообще, святой Ленин рано умер, а то все было бы по–доброму, а не так. Любил поговорить, пофилософствовать на свой лад. Образования практически не имел, но не жалел об этом. Говорил, что шибко образованным в лагерях было хуже, чем малограмотным. С неученых и спрос меньше, а у интеллигентов мысли о политике и мировой революции иссушают им мозги. Прослушав мою историю, этот Лука – великомученик долго чесал в затылке, даже лег лицом к стене и добрый час что–то молча прикидывал, бормоча под нос какие–то маловразумительные слова, потом свесил ноги с койки и коротко изрек – подписывай. - Почему? – удивленно спросил я. - Я не сегодня- завтра выйду в мир. А ты тута останешься в одиночестве. Как дверка за мною прикроется, к тебе заведут другого – из воров, и будет он тебя убивать руками и ногами, пока не подпишешь тую самую бумагу. Убивать он будет ох как шибко. Энто они умеют. Так шибко, что ты, как я вон, все зубы начисто на энтом полу оставишь. - Не боись, отец, меня один на один побить не так уж и просто. Я боксу обучен. - Э – эх! Молодость да глупость в тебе играют еще, Винамин. Одного побьешь, двоих приведут. Двоих поучишь, и за тремя дело не встанет. У их этого добра в кажной камере, как грязи понатыкано. Только дай кулакам поразмяться. Ты вот что, запомни, как только заместо меня другого к тебе запустят, не дай ему ни слово сказать, ни оглядеться, а так сразу со всей силы в морду и бей! Понял? --Понять – то я , понял, а если нормального мужика на ваше место приведут? - Ты меня слушай, да соображай. Я в энтих делах, что твой Ломоносов. Коли ошибешься, не тому врежешь, - не большая беда, он тебя простит, потому, как либо он поймет задним числом зачем , да почему это ему влетело такое зазря, а ежели не поймет, то шибко тебя бояться будет. А проспишь насильника – век опосля жалеть будешь. Через неделю он ушел. Ушел с тяжелой душой, да и без особого на то желания. Все его родные повымерли в войну. Детей и жену он не нажил в молодые годы до ареста. Профессия – чернорабочий. А с судимостями, да еще с такими сроками, работы с общежитием не найдешь. Я дал ему адрес отца и на обрывке из книжки чиркнул записку, но как я потом узнал – он к нам не зашел. А дальше все было так, как он и предсказал на прощанье. Буквально на следующее утро, в коридоре раздались тяжелые шаги идущих людей. Моя камера находилась в тупичке, и шаги охранника, ведущего меня на допрос, и раздатчика бурды, которая называлась едой, я различал. Эти же шаги были мне незнакомы. Я встал на изготовку у двери. Сердце колотилось, руки и ноги охватила легкая дрожь. Охранник долго гремел ключами и наконец впустил в камеру невысокого плотного паренька. На вид моего ровесника. Парень мне как–то жестко улыбнулся, оскалив сильно щербатый рот. Которая будет моя…? – Он имел в виду кровать, но я, не дал ему закончить фразу, вложив в сильнейший профессиональный удар справа все, чему меня научил еще в детстве одноногий тренер дядя Саша Фесенко и все, что накопилось за время ареста. Всю ненависть к обоим следователям, суке Червякову. К собственной наивности и глупости. К страху перед неведомым «убивцем», так точно предсказанным Лукой. И ко всей этой коммунистической «мелихе» во главе с ее Генеральным Дураломом, сталинским шутом Микиткой Хрущом. Не издав ни единого звука, не ожидавший такого приема парень тяжелым кулем свалился к моим ногам как подкошенный, глухо, но неожиданно громко ударившись головой о металлическую дверь. Привлеченный непривычным звуком, еще не успевший отойти от камеры, охранник заглянул в смотровое окошко. Взглянул и, обалдев от совершенно неожиданного, совершенно непредвиденного расклада стоящих и лежащих на полу фигур, открыл дверь и с яростью так сильно долбанул меня винтовочным прикладом в спину, что последующие пару дней я с трудом мог дышать. Парня, так и не пришедшего в сознание, уволокли от греха подальше, а затем для меня началось кошмарное время. Я ждал прихода, предсказанных провидцем - соседом на этот раз уже пары – тройки «педагогов», которые должны были, столь привычной и отработанной ими методой заставить меня понять, как важно, без никому не нужных интеллигентских рассуждений, слушать начальников, и без проволочек, немедля ставить свою подпись под любым предложенным тебе документом, даже ежели таковой является твоим смертным приговором. Спустя неделю, когда нервы мои были на пределе срыва, я услышал шаги нескольких человек, идущих в направлении моего тупика. Я встал на колени перед спинкой своей койки и вытащил два прута толщиной в палец из углублений в нижней чугунной чеке и верхней перекладине, куда они были зачеканены. Это невероятное действо, ставшее возможным только в состоянии сильнейшего стресса, вызванного колоссальным испугом, впоследствии было описано академиком Васильевым в известной книге о чудесах, совершаемых людьми и животными в стрессовых ситуациях. Обливаясь холодным потом, испытывая сильнейшую боль в обеих кистях рук я, тяжело дыша, сел на кровать. Пару тяжелых, чуть согнутых посредине железных прутьев я быстро засунул под матрац: один - у подушки, второй - в ногах. В глазах плыли серые круги. Начало ломить плечи. К горлу подкатил тошнотворный комок. Шаги остановились у двери соседней камеры. Несколько отрывистых командных фраз охранника, стук тяжелой двери, лязг ключей и шаги протопали обратно. Я облегченно вздохнул и взглянул на саднящие руки. Гигантское напряжение мышц не прошло мне даром. На правой руке вздулся и посинел сустав между первой и второй фалангами указательного пальца, на левой лопнула кожа, и, очевидно, порвалась мышца между большим и указательным пальцами. Я смыл кровь под краном и перевязал руку носовым платком сохранившемся с вольных времен. Всевышний дал мне спокойные две недели на заживление болячек, и молодой, еще не истощенный тюрьмой, организм достаточно быстро оклемался. В понедельник третьей недели я вновь услышал шаги. На этот раз интуиция меня не обманула, и охранник втолкнул в камеру двух крепких зеков. Наколки на обеих руках и железные фиксы во рту без лишних вопросов говорили о воровской принадлежности моих новых «друзей». Оба молча сели на вторую кровать напротив меня и, закурив, с улыбочками перебросились несколькими непонятными мне словечками на блатной фене. Как ни странно, но на этот раз я был на удивление спокоен. Свои последующие действия я многократно продумал заранее и не стушевался под их пристрелочно -запугивающими взглядами. Я подвинулся к изголовью, не торопясь достал из-под матраца прут и положил его рядом. Парни переглянулись и удивленно хмыкнули. Не исключено, что они были осведомлены о том, что произошло с первым посетителем этой камеры, потому как ухмылочки стерлись с личиков. - Ты чо, паря, никак прямо сейчас калечить нас начнешь или погодя? – спросил один. - Могу и повременить, если тихо вести себя будете, – ответил я. - А мы–то чо? Мы сами по себе, ты сам по себе. Ты нас не трогаешь. Мы тебя не дрочим. Мы кабурщики (кражи со взломом), а остальное нам до фени. Так мы просидели до обеда. Нервы у меня были напряжены до предела. Я ни на секунду не мог позволить себе расслабиться, стараясь не спускать с них глаз. Как только один из них поднимался, чтобы подойти к параше или умывальнику, я хватался за прут и волком провожал вставшего взглядом. Перед раздачей баланды охранник заглянул в смотровой глазок и видно был поражен, увидев столь благопристойную картину. Его голубки сидели паиньками друг напротив друг и, только что не миловались. Он открыл дверь, вызвал одного из них в коридор и, пошептавшись с ним, зашел в камеру. Окинув грозным взглядом меня и койку, он двинул мне весьма чувствительно по физиономии кулаком и, вытащив из-под изголовья матраца прут удалился, зачем–то на прощанье пригрозив кулаком зекам. - Наклепали суки! – в сердцах бросил я, стараясь популярно объяснить им их нехороший поступок на их же родном языке. - Сука, браток, слово в нашей профессии сильно нехорошее. За суку и базар схлопотать можно. Мы не сучье отродье, а воры в законе! Понял! И нас таким мудакам как ты, уважать следует. Тональность, в которой прозвучали эти слова, совершенно точно отдавала открытой угрозой. Один их них, тот что был повыше ростом и поплотнее, даже начал медленно приподниматься. Я быстро, вынув второй прут, встал и спокойно спросил: - Ну и кто же из вас, мальчики, желает схлопотать по черепку первым? Мне -то , ребятки, терять уже нечего, ведь если я подпишу этот расстрельный приговор, мне все одно - кранты. Так что лучше я кого–нибудь и из вас к чертям на сковородку с собой прихвачу. В хорошей компании оно – то и помирать веселее. Мужики явно взгрустнули. Такого поворота событий они не ожидали. - Ладно, давай договоримся – выдавил из себя второй. Нам ты и на хрен не нужен. Живешь себе и живи, как знаешь. Нам, что велели, то мы и должны в лучшем виде исполнить, а не то начальники, суки, всегда найдут, как на нас отыграться. Если мы и про вторую железяку нашепчем, всем некрасиво получится. Да и не к лицу нам на говне ссучиваться. Придут, – скажем, мол, мы под матрасиком отметелили тебя ножками по почкам, только так. А, мол, по рогам не стали, чо рыло–то за зря пахать. Ну, а уж ты и сам на койке подыграй перед ними это фуфло, мол ни встать, ни сесть, ни пернуть не могу, и мол краска прет в ссаке, понял? - Лады , - ответил я, и мы побратались. Неделю я, скорчившись, лежал не вставая. Дня три даже баланду всю оставлял – ребята своей делились. Потом их увели к себе в камеру. Мы даже проститься по–человечески не успели. Следователь весело встретил меня на допросе и был несказанно удивлен, когда я опять наотрез оказался от подписи. - Пытать тебя, мерзавца, надо. Лаврентия на тебя нет… – Процедил он сквозь зубы и вызвал охранника. Первый секретарь райкома партии района, где территориально находился мой институт – Владимир Анатольевич Витковский, был в свое время замом и другом моего отца. Дружил отец и с министром энергетики Петром Степановичем Непорожним. После войны мы с братом даже пару раз в летнии каникулы жили у министра на даче в Светогорске, и мой Фелька был лучшим другом его сына. Эта высокопоставленная тройка серьезно взялась за мое освобождение и, как оказалось, небезуспешно. Меня вызвали к следователю, и тот с лучезарной улыбкой протянул мне листок, на котором я был признан невиновным. - Благодарите нашего дорогого Никиту Сергеевича, пропел он. Это только его личная беспримерная доброта и всепрощающее сердце даровало вам освобождение. - Благодарить устно или письменно? – спросил я. А, может быть, он еще и позволит мне поцеловать его всепрощающую руку или ногу? Я читал еще об одном таком добром, всепрощающем дяденьке – его звали Иисус Христос. - Не ерничайте, паяц! – Свирепо осклабился следователь, – скорее всего наш Генсек был прав, когда говорил о фонарях, имея в виду вас и вам подобных неблагодарных щенков. Несколько позже я постараюсь поведать о моей второй тюрьме. Она была покороче, но не слабее по форме и содержанию. И между этими двумя отсидками прошло 47 годков, и компартии уже у власти не было, но персонал, следователи, законы, методы и условия содержания заключенных остались прежние. Никогда! Ничего! Не изменится в этой воровской и рабской стране! Никогда! Носи она еще хоть сто раз название Великой Державы. Таков в массе населяющий ее народ. И пастухов своих это стадо стоит! Не знаю за что, но висит над ним какое–то проклятие Божие. И с этим моим глубочайшим убеждением я и умру. ……………………………Х………………………… По давней наблюдательности личной Забавная печальность мне видна: Говно глядит на мир оптимистичней, Чем те, кого воротит от говна. И. Губерман. В нашем институте учился аспирант из Чехословакии, Володя Витт. Парень он был сугубо западно - европейский. К России относился с легким сарказмом. Нападение коммунистов на свою родину перенес героически. Даже пытался поджечь танк. Любить СССР после этого он больше не стал, но ко мне и Фельке относился по- прежнему хорошо. Очень любил нашу маму и частенько неделями жил и отъедался в нашей семье. Трижды мы ездили к нему в Чехословакию в гости, причем два раза на своем стареньком «Москвиче». Бензин в Чехословакии, как и во всей социалистической Европе, был дорогой, во всяком случае по сравнению с Союзом, и я самостоятельно переоборудовал карбюратор, электросистему и зажигание на своей слабенькой машинке так, что она по равнине брала три литра на сто километров вместо восьми, а в горах - пять. В то время я, вообще, был необычайно увлечен доработкой двигателя своего автомобиля, так как мы с братом начали строить самопальные автотрайлеры для летних путешествий. Но движок на «Москвиче» развивал по паспорту всего 45 лошадиных сил. Этого, естественно, было маловато для тяжелого прицепа - дома, даже на равнине, не говоря уже о горных крымских и кавказских дорогах. О нашем первом трайлере в 1963 году даже писал журнал «Рационализатор и изобретатель», так как он был первым в стране. О наших трайлерах будет отдельный рассказ. Я с братом сделал их три, и мы путешествовали на них двадцать лет. Несколько слов о переоборудовании моего «Москвича». В машине практически не было узла, в который бы не влезла моя творческая мысль. Первое в стране факельное, а затем форкамерное зажигание. Бабина на 35 тысяч вольт, вместо фирменных 12 тысяч. Интенсификатор зажигания. Подача водяного пара в карбюратор, все жиклеры которого стали регулируемыми. Автоматическое включение и переключение света фар, в зависимости от степени освещенности дороги. Противоослепляющая защита водителя от плохо отрегулированных автомобильных фар встречного транспорта и т. д. Всего на моем несчастном «Москвиче» было 23 капитальных усовершенствования, на 19 из которых можно (и нужно) было смело подавать авторские заявки. Однако в то время это было дорого, долго и хлопотно, и я дарил идеи кому придется. Впрочем, частенько я это делаю и поныне. Но начал я свой рассказ о поездке в Чехословакию и продолжу начатую тему. Володя Витт попросил привезти ему два маленьких автомобильных телевизора и десять пар электронных часов на жидких кристаллах со светящимися красным цветом цифрами. И те и другие были в те годы очень дефицитными новинками нашей отечественной промышленности и дорого стоили в соцстранах. Таким образом, сдав Витту эту продукцию и получив 13 тысяч крон, мы с Фелом, по чешским понятиям, стали очень даже состоятельными туристами. Родители, жившие и работавшие тогда в Финляндии, приодели нас в импортные шорты, футболки, сандалии и шапочки с длинными козырьками, так что внешне мы ничем не отличались от западных немцев и прочих шведов. Даже чемоданы у нас были фирменные. Володя Витт был занят на службе, и мы, взяв языковый разговорник и зная английский в объеме очень средней советской школы, рванули на машине по стране самостоятельно. Первый прокол у нас случился при посещении ледяных «Деменовых пещер». Мы понятия не имели, что это такое и были одеты сугубо по июльской жаре. Пещеры находятся на высоте 300 метров, в киллометре от дороги. Поднявшись на гору и подойдя к закрытым воротам, ведущим внутрь, мы с удивлением обнаружили, что группа иностранных туристов - в массе своей восточных и западных немцев, ожидающих начала экскурсии, была одета в зимние куртки, шапки и ботинки. - Идиоты, изнеженные капиталистической системой, решили мы, - теперь понятно, почему они так боялись сурового русского климата и проиграли войну. Думаю, что эти «идиоты», глядя на нас, думали нечто схожее. Раскрылись огромные ворота и из пещеры на нас пахнуло ледяным могильным холодом. Спускаться за более теплой одеждой с достаточно высокой горы к машине было лень, и мы вместе со всеми решительно вошли храм ледяных сталактитов и сталагмитов. Экскурсовод тоже с некоторым оттенком удивления поглядел на двух голых русских дегенератов, однако промолчал, очевидно, решив, что у каждой нации свои придури. Не исключено, что он отнес нас к северной группе народов: - эскимосов, эвенков или чукчей. Минут через десять наша кожа посинела, покрывшись мелкими пупырышками. Глаза начали слезиться. Все красоты подсвеченных в разные цвета огромных сосулек, свисающих с потолка, или образующих, идущие от пола колонны, нам уже были как–то по фигу, нас мучила единственная мысль, когда эта чертова экскурсионная мука закончится. Немцам стало жалко нас, и они поочередно стали подкидывать нам шарфики, косынки, рюкзаки, чтобы прикрыть ими спину и грудь с животом. Короче, к концу часовой прогулки мы выглядели, как с карикатуры «Крокодила» и очень смахивали на Наполеоновских французов, бежавших из голодной сожженной Москвы, или фрицев, захваченных в плен под Сталинградом. Шуткам и смеху не было конца. Немцы, вообще, очень легко и с удовольствием поддаются смеху. Голая задница наклонившегося человека для них вершина остроумия, и они могут хохотать, глядя на нее, до колик в животе. Самый простенький, лучше ниже пояса, пошленький юмор без особых изысков, столь ценимых настоящей советской интеллигенцией – для них самое, что ни на есть то! Из пещер мы направились в Высокие Татры. Это дорогое, роскошное по тем временам горнолыжное курортное место, действительно очень красивое. На голой равнине неожиданно появляется эдакий огромный кулич, высотой более тысячи метров, поросший великолепными лесами. Чем выше поднимаешься в горы, тем шикарнее и дороже отели. Мы попали туда в летний сезон, и в тех нескольких отелях, которые встретились нам на пути, свободных номеров не оказалось. Так мы добрались до самого верха и ткнулись в последнюю и самую фешенебельную гостиницу. Цена самого дешевого номера, а таковых в ней просто и не существовало, была даже для нас, «богатеев на час», просто астрономической. Но выхода не было, и мы, в полном «западном прикиде», с заморскими чемоданами подошли к стойке администратора. Он встретил нас ослепительной улыбкой дорогих фарфоровых зубов и лучистых склеротических глаз. - Нам нужен недорогой номерок на пару суток, - на чистом русском языке обратился к нему я. Глаза лощеного портье разом погасли, ротик стал маленьким и презрительным. - Все номера заняты, дорогие товарищи, - голосом, от которого могла застыть кровь в жилах, выдавили из себя его плотно сжатые губы. И столько в тоне, которым они были произнесены, было презрения, превосходства и ядовитой желчи, что у нас с Фелом возникло огромное желание незамедлительно съездить этой гниде «по мордам – с». Однако, даже социалистическая Чехословакия была для нас, жалких СССРщиков – заграницей. Мы же в те времена были до мозга костей запуганы пропагандой всесильного Комитета Госбезопасности «Западом». Поэтому, тяжело вздохнув, скрипнув в ярости своими, тогда еще бывшими в полном порядке и количестве родными костяными зубами, мы, взяв чемоданы, грустно двинулись в направлении выхода. В этот момент в дверях появился западный немец с костлявой перепудренной фрау и тремя огромными чемоданами. Оба швейцара наперегонки бросились ему помогать, а портье за стойкой вновь осклабился дежурной фарфоровой улыбочкой. Немец, едва успев открыть рот, уже вытаскивал авторучку, дабы заполнить две гостевые анкеты, протянутые ему старым административным холуем. - Постой, дядя! – вдруг на весь огромный гостиничный вестибюль заорал Фел. - Что же это получается, дорогие товарищи! – Он обвел взглядом прислугу и нескольких постояльцев, сидевших за стойкой бара. – Хочу задать вам вопрос. Кто по- вашему в минувшей кровавой мировой войне с фашизмом освободил вас, наших братьев славян чехов и словаков от гитлеровских оккупантов, - простой советский воин или кто–нибудь другой?! Спрашиваю я вас? А, может быть, этот гражданин – Феликс ткнул пальцем в администратора, который в момент стал цвета свежевыбеленного потолка холла, – считает, чтобы лучше случилось все наоборот и братская Советскому Союзу Чехословакия оставалась немецкой?! Тогда пусть этот гражданин во всеуслышание нам сейчас об этом скажет? Мертвая тишина повисла в вестибюле. Администратор, очевидно, пытался что–то произнести, но из его дрожащих губ лишь с легким присвистом, слабо пузырясь, выходил воздух. - Дети героя войны, для него могут спать на улице, а этот немец, наверняка, офицер бывшей фашистской армии, будет со своей тощей фрау нежиться на их кроватях! – Негодовал мой братец. Немец, по всей вероятности, из всей этой в сердцах произнесенной тирады понял лишь два международных слова: фашистский офицер Он густо покраснел, замахал тоненькими ручками и писклявым голосом начал быстро, быстро что–то выкрикивать по-немецки. Из всей его бурной речи можно было уяснить только то, что он не фашистский офицер и не был им никогда. В этот момент, очевидно, привлеченный криками немца, из администраторской вышел директор отеля. Подойдя к портье и спросив того, почему возник такой шум, что, черт подери, здесь происходит, он успокоил немца и подозвал нас к стойке. Я приношу вам наши глубокие извинения, уважаемые русские товарищи, за возникшее по вине нашего сотрудника недоразумение, - он довольно хорошо владел русским, - но дело все в том, что наш администратор, плохо зная язык вашей замечательной страны, не сумел сказал вам, что номера в нашем отеле для вас могут быть слишком дороги. Как говорят в России – это вам может быть не по карману. - Для нас не по карману? – Усмехнулся Фел. – А этого вам будет достаточно? – И он раскрыл толстенный бумажник с 13 тысячами еще не истраченных крон, полученных от Витта за часы и телевизор. Глаза у директора полезли из орбит. Березовских, Брынцаловых и Ходарковских в те годы в России еще открыто не значилось. Да и «новые русские» оккупировали Европу по второму разу уже через сорок с лишним лет. Я уж не знаю за кого он нас принял, но через десять минут лучший люкс, аж за 500 крон в сутки, был наш. И наши чемоданы с белозубой улыбкой 15 на 18 вносил лично дежурный портье. Деньги за номер мы отдали, конечно, огромные, но честь державы, как сочли мы, была дороже. Однако, не в еврейской натуре терпеть одни убытки, мы быстренько нашли способ их частичного оправдания, и выглядело это следующим образом: Чехи, как и почти все западно - европейские страны, практически не едят грибы, собранные самими в лесах. То ли не хотят, то ли боятся отравлений, так как не знают, какие из них съедобны. Так чехи, например, не едят белые, подберезовики и красные, но зато кроме шампиньонов выращиваемых в теплицах, употребляют в пищу самые настоящие мухоморы. Чехи называют их массаками, и едят в период, когда они еще не раскрыли шляпки и очень напоминают мужские достоинства дееспособных человеческих особей. Я эту отраву ел. По вкусу они напоминают сыроежки, а готовят их обычно с длинным жестким иранским рисом. Чешская кухня, вообще, разнообразием блюд не отличается и мало вкусна. Главная еда – сардельки с вкраплениями сала (шпикачки), которые они в изобилии употребляют, запивая прекрасным темным «Пильзенским» пивом. Из обеденных праздничных блюд я запомнил только пончики с клубникой, почему–то с чисто еврейским названием- кнедлики, которые не пекут, а варят в воде или жире. Причем много съесть их с непривычки, да еще и не чеху – опасно. Тесто толстое, непроваренное и легко можно схлопотать заворот кишок. Итак, устроившись в поистине королевском номере, с халатами, тапочками, необыкновенно душистым мылом в огромной ванне необыкновенной красоты, мы отправились в окружающий отель необычайно чистый лес – парк за грибами. Белые стояли ровными рядами вперемежку с красными и мухоморами, так что буквально в течение пятнадцати минут мы до верха набрали пару резиновых автомобильных ведер. Фел, по призванию блестящий кулинар от рождения, вынул из багажника старый бабушкин примус 1902 года, огромную сковороду, бутылку российского подсолнечного масла, соль, хлеб, мешочек картошки и несколько луковиц. Нагруженные до зубов этой снедью мы важно продефилировали в свой императорский люкс, мимо изумленного невиданной наглостью портье и двух швейцаров, с отвисшими от изумления челюстями, понимающими, что с этими скандальными богачами русскими уж лучше не связываться. Фел собрался установить примус в ванной, но я уговорил его устроить кухню на балконе, выходящем в прехорошенький, чистенький садик при гостинице. В садике располагалось небольшое кафе со столиками, за которыми, наслаждаясь тенью, тянули пиво очень состоятельные иностранные туристы. Фел залил в примус керосин, естественно, пролив часть этой достаточно ароматической жидкости на красивые половые плиточки балкона и накачал воздух в блестящее медное чрево этой адской машинки начала века. Подлил керосинчику в поддончик для подогрева примуса и поджег тяжелые остатки нефтяной перегонки. Черный специфического запаха дым поднялся над белоснежным балконом в глазурную чистоту не замутненных техногенной мразью горных небес. Затем раздался змеиный шип бешеного пламени примусной головки, забиваемый аппетитным скворчением кипящего масла. Невольные безбилетные зрители нашего самодеятельного камерного театрика, разом поднесли шелковые платочки к носам и носикам и, дружно произнеся – фее - отвернули от балкона седые головы и прехорошенькие молоденькие головки. Однако прошло еще десять минут, и аромат подрумяненного лука и царских грибов с мелко нарезанной палочками картошечкой, свободной, необычайно раздражающей слюнные железы, щекочущей слизистую ноздрей волной опрокинулся и на них. Я вынес из комнаты столик и два стула. Достал из морозилки, уже успевшую запотеть бутылочку «Московской особой», со страхом вывезенную через границу, и хранившуюся в глубокой заначке за запасным колесом. И когда мы, чокнувшись с братцем, не спеша пригубили ее из хрустальных рюмочек люксовского серванта, приподняв над тарелкой лоснящийся от масла, с прилипшими коричневыми лепестками прожаренного лука, наколотый на вилочку грибок, - садовая аудитория, уже неукоснительно внимавшая, почти каждому нашему движению, - икнув, издала легкий стон. Взволнованный портье, выскочивший по чьей–то фискальной наводке в сад, открыл, было, свою фарфоровую пасть для назидательно запрещающего сотрясения воздуха, но, осознав абсолютную бесполезность нравоучений в данной ситуации, лишь судорожно сглотнул ненароком набежавшую сладостную слюну и с грациозной безнадежностью махнув рукой, вернулся к администраторской стойке. В 1962 году мы на чешских дорогах впервые увидели авто – прицепы (трайлеры). Мы мгновенно заболели ими и уже в следующем году потратили три весенне-летних месяца на постройку первого образца. Он был достаточно неказист с виду, так как в те годы в стране не существовало необходимых красивых облицовочных материалов, но по прочностным параметрам - до сегодняшнего дня, наверняка, не имеет равных в мире. Это был эдакий вагон – топор на колесах. На стоянке к нему крепился большой закрытый палаточный предбанник - веранда. В нем был приемник, маленький телевизор, газовая плита, умывальник и даже фирменный фарфоровый ночной горшок - для экстремальных ситуаций. Десять лет мы колесили на нем по дорогам страны, повергая в невероятное изумление и черную зависть встречных автомобилистов – курортников, с их забитыми барахлом, детьми, собаками и кошками внутренностями кузовов автомобилей . Навьюченными багажниками на крыше и коробками с запчастями в основных багажниках. У них на глазах мы лихо сворачивали с дороги на лучшие пустынные черноморские пляжи, где уже через час у нас был готов комфортабельный и ни от кого не зависимый личный санаторий со всеми мыслимыми в то время удобствами. Это была небольшая, но все же степень свободы в этом соцлагерном государстве. Да, наш первенец был еще далек и от конструктивного совершенства. Его так сильно раскачивало на плохих магистральных дорогах , что начинало опасно бросать из стороны в сторону. И наш легкий «Москвичонок» почти терял управление. Мне пришлось придумать специальную независимую подвеску для автотрейлеров и полностью переделать прежнюю. Это был мой первый серьезный патент. Большой проблемой оказалось отопление трайлера. Ночью на море или в лесу температура воздуха за бортом иной раз падала до 8 – 10 градусов и для того, чтобы поднять ее на 5 – 7 делений термометра нужна была очень огневая и выносливая спутница. Однако любовный жар не мог продолжаться с вечера до утра ежедневно и без перерывов, - нужен был экономичный, «долгоиграющий», не загрязняющий воздух внутри прицепа отопительный агрегат. Я перебрал десятки готовых конструктивных решений, но все они имели один главный минус – высокий расход топлива. С бензином же в те времена, особенно в глухой средней полосе России, было туго. Так, скажем, на первозданной, не заезженной дикарями и туристами лесной природе, у прекрасных озер неповторимого древнего Себежа на бензоколонку нужно было ездить километров за 50 – 70 по грязи и бездорожью, причем без всякой гарантии наличия на ней в тот день горючего. Решение проблемы пришло мне во сне. Почти так же, как и у великого еврея Менделеева с его замечательной таблицей. Патент на этот раз я не оформил, а сейчас понимаю, что зря, ибо идея приснилась воистину гениальная. Керосин, которого было навалом в любой деревенской лавочке, обладает значительно большей теплотворной способностью, чем бензин. Именно по этой причине его и используют в авиационных реактивных двигателях. Я взял змеевик, обычный хромированный полотенцесушитель для ванной комнаты, приторочил к его нижнему концу хорошо оребренную головку цилиндра от мотоциклетного движка, вставил в её отверстие обычную трехлинейную керосиновую лампу, а из верхнего конца сделал вывод в трубу на крышу прицепа для отвода удушливого не догоревшего керосинового газа. Через десять минут хромированная батарея и ребра головки нагревалась – плюнь – шипит. Для лучшей конвекции тепла внутри трайлера я насадил винт от детского вертолета на ось крохотного электромоторчика от другой детской игрушки, и он, практически бесшумно, с мизерной затратой энергии от аккумулятора автомобиля прекрасно выполнял функцию сверх экономичного вентилятора. Освещая и согревая трайлер, лампа расходовала всего 250 грамм керосина за ночь. А это, если и не Нобелевская, то уж Сталинская премия наверняка. Кстати, --это замечательный способ отопления крошечной палатки для любителей зимнего подледного кормления рыбы червяками. Первый «старик прицеп», триумфально отработав свой срок, простоял у нас на даче сорок лет. Летом в нем жили друзья, а зимой полевые мыши. Кто- кто, а уж он – то честно заслужил свое место в моих мемуарах. Второй прицеп был сделан по более продуманной схеме. Он стал много легче и внешне был несравненно более эстетичен. По нашему мнению - он был просто чертовски красив. Просуществовал он у нас очень недолго - двое суток после своего первого выезда на Кавказ. А история была такова: в районе славного города Кутаиси нам перегородил дорогу автомобиль, из которого вышел очень носатый человек в кепке невероятных размеров, и, как выяснилось несколько позже, с «редким» в Грузии аристократическим именем Сосо. – Смерть или деньги – достаточно громко и веско произнес этот Мцири второй половины ХХ века и широко расставив короткие, но, очевидно, очень крепкие и под брюками, наверняка, по–обезьяне густо волосатые ноги. Из внутреннего кармана столь же необъятного пиджака он достал пяти- сантиметровой толщины бумажник из кожи натурального аллигатора. Бумажник был столь внушительных размеров, что у нас с Фелом возникли большие сомнения: хватило ли на его пошив шкуры одного бразильского каймана. Фел высунулся из окошка автомобиля и, не повышая голоса, спокойно и достаточно коротко объяснил, что в плане вполне возможных торгов по интересующему товарища вопросу, он, в качестве возможного продавца, несколько сомневается в платежной способности новоявленного «Витязя в крокодиловой шкуре». Ответ братца немедленно вызвал такой всплеск национальных эмоций, что Фел поспешил закрыть защелку своей двери и даже прикрыл боковую форточку. Поостыв, Сосо не торопливо подошел к прицепу, оглядел его со всех сторон, постучал по стенке, подпрыгнув, попытался заглянуть в окно, поцокал языком и затем, широко расставив ноги, каменным командором встал перед капотом «Москвича», вальяжным жестом приглашая нас выйти для переговоров. Мы вышли и, как подобает в таких случаях интеллигентным людям, любезно обменялись рукопожатиями. - Сколько хочешь, дорогой, за твой бардак на колесах? – обратился он ко мне, чувствуя, что говорит с главным хозяином вещи. - Боюсь, доражайший, что у вас денег не хватит на нашу передвижную гостиницу, опять неосторожно ляпнул Фел. - Я с человеком разговариваю, а не с тобой! Не видишь, что ли? Клянусь мамой, ты меня можешь рассердить. – Даже не взглянув в сторону брата, небрежно, через плечо, бросил грузинский крез. - Четыре с половиной тысячи рублей, - сам испугавшись названной суммы, показавшейся мне невероятной, с некоторым сомнением в голосе ответил я. - И это ты называешь деньгами? – Искренне засмеялся тбилисский Рокфеллер. – Клянусь мамой, ты меня сильно рассмешил, генацвали. Садись в свою дохлую тачку и давай за мной. Цифра, невольно вырвавшаяся у меня, была не совсем случайной, именно столько просил наш знакомый за свою, практически, новую «Волгу». Но о таком авто я в то время не мог и мечтать. И, кроме всего прочего, Фел, мой равноправный партнер по изготовлению трайлеров и горячо любимый брат получал бы мой «Москвич», что для него, очень талантливого, но тогда, более чем скромного конструктора, было просто царским подарком с неба. Минут через двадцать мы подъехали к довольно большому частному дому со встроенным гаражом. Сосо по–хозяйски пригласил нас войти и, заведя в спальню, достал со шкафа солидный узел, битком набитый пачками красненьких десятирублевых купюр. - Считать умеешь, Достоевский? – кивнул он Фелу и бросил ему под ноги узел. - Вы, милейший, перепутали писателя Достоевского с Пифагором, именно тот, с вашего разрешения был математиком. – Гордо произнес Фел. - Не знаю, кто из них арифметик, кто из них писатель, но ты меня уже целый час достаешь не хуже, чем этот Достоевский. Считай говорю, если, конечно, умеешь. Фел, обливаясь потом от волнения, он никогда не только не держал в руках и даже не видел в кино подобных сумм, но даже плохо себе представлял, что такие деньги бывают. - Все, - с легкой дрожью в руках и голосе растерянно промямлил братец, можете проверить. - Все говоришь, - ответил Сосо, бросив брезгливый взгляд на отсчитанную Фелом стопку купюр, выглядевшую жалкой кучкой по сравнению с горой денег, лежащих рядом на грязной тряпке развязанного узла. – Добавь еще к своей кучке штук десять, пятнадцать бумажек, если вдруг ошибся, Пифагор несчастный, клянусь мамой. А теперь давай затащим эту штуку в гараж, чтобы пыль его не пачкала и едем в ресторан. Шашлык, машлык, поедим, кахетинским запьем, отметить надо такую покупку и наше знакомство, клянусь мамой. Прицеп оказался выше потолка гаража, и нам пришлось выпустить воздух из камер колес. - Забери все, что там есть, – небрежно бросил Сосо, аккумулятор, то, се. Оставь мне только кровать с матрацем, шкафчик для вина, где подмыться и вентилятор. Через полчаса мы сидели в хорошеньком ресторанчике, закрытым по такому случаю для всех желающих, кроме друзей нашего благодетеля. Еще через час, Фел, который в нормальной обстановке мог достаточно спокойно выпить за вечер литр водки, не вязал лыка, так как выпивал все, что ему мешал Сосо и за все бесчисленные грузинские тосты. Я же , понимая, что один из нас должен был быть трезвым, ел много жирного и систематически бегал в туалет отдавать острую пищу сдобренную алкоголем всепоглощающему ненасытному унитазу. Еще через час в ресторанчик под бурную здравицу оркестра вошел маленький пузатый грузинчик, в сопровождении свиты прихлебателей, который оказался дядей Сосо и по совместительству вторым секретарем горкома партии Кутаиси. Он подошел к племяннику, вставшему перед ним на колени, ласково потрепал его хозяйской рукой по щеке и, как бы шутя – играя, закатил такую мощную затрещину по затылку, что тот кулем свалился к его ногам. - Я секретарь горкома второго города Грузии, - и он гордо, царским взглядом окинул окружавший его народ, а мой любимый распиздяй - племянник так и не смог вырасти выше продавца автомобильного магазина. Это нонсенс, клянусь мамой! И он еще раз оглядел зал и нас с Фелом, мол мы тут в провинции тоже не лыком шиты, дабы увидеть восторженную реакцию льстецов на незнакомое слово «нонсенс», которое он взял, очевидно, из доклада какого–то московского партийного политолога. Сосо вскочил с пола, поцеловал дяде обе руки и вновь плюхнувшись на колени, обливаясь счастливо восторженными пьяными слезами и соплями застыл, ткнувшись головой в мощный секретарский живот. При этом он в любовно – уважительном экстазе, обнял как статую святого толстую, туго обтянутую дорогими блестящими заграничными штанами откляченную дядину задницу. Неожиданно солист оркестра запел на грузинском очень лихую песенку, в которой то и дело звучали имена Гитлера и Сталина. Я попросил соседа грузина перевести мне текст и чуть было не свалился в страхе со стула во время перевода. Сейчас уже, конечно, не помню точного содержания, но смысл был приблизительно таков: Гитлер был дураком, что не взял всю Грузию и испугался Сталина, мы бы его встретили на белом коне. - По-моему, надо отсюда тихо линять, пока не отняли деньги, шепнул я Фелу и мы, сделав вид, что идем в сортир на очередной очистительный сеанс, интеллигентно, сугубо по–английски смылись из гостеприимного кабака. Сев в машину и обмотав братцу физиономию позаимственным в туалете вафельным полотенцем, я включил мотор и с ужасом обнаружил, что, отрезая второпях провода освещения, связывающие машину с прицепом, я накоротко замкнул всю автомобильную проводку и ни фары, ни подфарки не функционируют. Разбираться в электрике было некогда, и я, «ударив по газам», в кромешной темноте южной ночи, буквально на ощупь, исключительно на шоферской интуиции, помчался по пустынному шоссе в обратном направлении. Я решил, что таким образом я замету следы, собью возможных преследователей с толку. Через полчаса этой смертельной гонки я свернул с главной дороги на какой- то съезд к морю и, притормозив метров через сто, тут же уснул мертвецким сном, притулившись к теплому боку сладко сопящего Фельки. Яркие солнечные лучи заставили нас открыть глаза и, выйдя из машины, мы с ужасом увидели, что стоим в метре от края глубокого берегового обрыва в море. Господи, спасибо, что ты и тогда сохранил нас, ну меня хотя бы для того, чтобы начать писать эти мемуары! Через несколько лет Фел, будучи в командировке в тех краях решил заехать к Сосо. Встретившая его жена нашего героя в слезах поведала, что Сосо в припадке ревности зарезал свою любовницу, и его только через год выпустят на свободу, так как год он уже отбыл в заключении. Прицеп, так ни разу и не использованный, по– прежнему стоял на спущенных колесах в гараже, и верная заветам мужа, любящая жена еженедельно смахивает с него пыль. Прицеп принес Сосо немеркнущую славу и невероятную известность. Все жители Кутаиси, вспоминая его, всегда добавляли: - это тот самый Сосо, у которого есть в гараже бардак на колесах. И уже никто не говорил больше, как это было раньше до прицепа, что это тот самый Сосо, у которого дядя второй секретарь горкома. -----------------------------------------------+---------------------------Вернусь к моим первым службам после окончания института. Первой – был завод пищевых и табачных автоматов «Пролетарская заря». Пролетариев, особливо с алкогольным уклоном, в нем было навалом, а вот насчет «зори» – дело обстояло куда хуже. Старый грязный цех токарных автоматов встретил нового «зеленого» мастера без энтузиазма. Настройка автоматов - дело достаточно непростое. Тут необходим большой опыт, а главное - интуиция и смекалка. У единственного существующего на заводе настройщика дяди Матвея со всеми тремя перечисленными составляющими был полнейший порядок. Человек он был степенно – солидный. Все делал медленно, без излишней суеты, долго, аккуратно, со знанием дела. Точно так же он проводил свои плановые и внеплановые, достаточно частые запои – без суеты, без предупреждения руководства и мастера цеха заранее. Он с большим знанием дела запасался присылаемым из родных краев деревенским самогоном, а был он родом из Псковской области. Если случался перерасход горючего и продукта не хватало, трезвел на один день и с тем же профессиональным знанием дела выгонял несколько недостающих литров самостоятельно. Обычный внеплановый запой длился неделю. Плановый - праздничный – две. В эти дни цех либо вставал на «внеплановый ремонт», либо гнал в запас кладовой детали на ранее настроенных дядей Матвеем станках. Начальство каждый раз вызывало Матвеича на ковер. Уговаривало и даже легонечко, как бы совестило, но ругать, боже упаси, боялось, – мог, вообще, бросить завод и, как инвалид войны, в сердцах уйти на инвалидную пенсию. Учеников у него не было, гений настройки автоматов хотел быть единственным и незаменимым. Его оклад был раза в два больше, чем у начальника цеха и раз в пять больше назначенного мне, как молодому специалисту, по – малолетству, «по – зелени». Меня в первый же день предупредили, что называть дядю Матвея надо только на «Вы». Ни в коем случае не спорить. К запоям относиться максимально терпимо, то есть подходить к человеку творчески и с пониманием нужд родного завода. Последнего я по–началу уразуметь не мог, но постепенно жизнь заставила. Цех должен был получать месячные премии и прогрессивку, но так как по личным «графикам дяди Матвея» станки частенько простаивали, большинство денежных надбавок пролетало над нами «как фанера над столицей Франции Парижем». А если какая- нибудь из них, случаем, и зацеплялась там за «Башню инженера Эйфеля», то башней этой, как всегда, оказывался тот же незаменимый дядя Матвей. Через пару, тройку месяцев я пообтерся и попривык к существующему цеховому рабочему процессу, но моя творческая мысль совместно с шилом в анусе, подстегиваемая «полным абзацем» с деньгами, при «грязном» окладе в 600 голых рублей не давала мне покоя. Творческая мысль зудела в башке по голодным вечерам: - Веня, неужели же ты дурнее какого–то сраного алкаша дяди Матвея? – Научись сам настраивать станки, дурак. Научись, болван ты эдакий! - подкалывало острое шило. Я несколько раз пробовал подсматривать за настройщиком, но как только я подходил к станку, над которым он в тот момент колдовал, он тут же вытирал ветошью руки и деловито, как и все что он делал, доставал из кармана спецовки солидный обеденный бутерброд с толстым розовым подкопченным деревенским салом, обильно сдобренный крепким тонко наструганным ядреным чесноком. Вне зависимости от времени дня, степенно разворачивал его и начинал жевать, едва двигая челюстями, размеренно, долго, смачно чавкая, вытирая чистым концом ветоши моржовые усы. В один из длинных праздничных запоев, пользуясь тем, что весь советский трудовой народ, а, соответственно, и добрая половина рабочих моего цеха в эти славные дни следовала заразительному примеру дяди Матвея, я, взяв инструкцию по настройке автоматов, решил сам разобраться в этом хитром деле, помятую народную пословицу, что и горшки обжигают не только на Олимпе. Шесть дней по 10 часов, я как проклятый, портил заготовки, но, зато, на седьмой настроил сразу четыре станка из десяти, бывших в цеху. Начальник цеха, сам чуть не запил от радости, а я получил свою первую в жизни премию в размере двух зарплат. Первое что, как всегда деловито, прочел дядя Матвей, вернувшись после десятидневного прогула на работу, был вывешенный на цеховой доске, в аккурат под его стахановским портретом, приказ о строгом выговоре лично ему. И не просто выговор, но еще и с предупреждением об увольнении! Он долго и мучительно пытался понять, что же за время его планового отсутствия могло произойти в стране? Неужели снова война или революция? Вкатить в мирное время такого строгоча? И кому? Самому ему, Матвеечу? Единственному и незаменимому заводскому настройщику шестого разряда? Ну держитесь, падлы! Уж он-то им, сукам, покажет! Он посадит не только цех, но и весь этот вонючий завод на голодный паек! Итак, обалдевший от наглости руководства. И горя жгучим желанием показать «этим зарвавшимся засранцам Кузькину маму», взбешенный дядя Матвей твердой походкой Терминатора вошел в жужжащий от всех работающих станков цех. По инерции, молча вынув из кармана традиционный бутерброд, на этот раз сдобренный поверх сала еще и чесночной колбасой, он прошел мимо меня с безразличной физиономией, процедив сквозь зубы – «еврейская сука». Затем остановился у нескольких налаженных мною станков, поочередно включил и выключил каждый и, удивленно хмыкнув, наверное, впервые в жизни заплакал. На следующий день он принес в кадры заявление об уходе по инвалидности и три месяца ходил по другим заводам в поисках такой же малины и зарплаты. Но пожилой инвалид, с дрожащими руками и достаточно наглядными мешками под глазами, оставленными регулярными запоями, не внушал особенного доверия опытным кадровикам. И, очевидно, оголодав, он побитой собакой вернулся в родные пенаты. ………………………….Х………………………………. Через месяц я тоже уволился, так как не мог более существовать на нищенскую зарплату мастера и устроился (благо в горячий штамповочный цех еврея взяли) на завод им.Молотова цеховым мастером в ночную смену с обещанной перспективой последующего перевода в конструкторы самой низкой, третьей категории. Там я прослужил год. По началу, в конец уматывался ночами у гигантских прессов, крушащих громадные горячие болванки. Но уже через три месяца начал работу в КБ на сдельщине и чертил по четыре листа в день! Поверьте на слово - это очень много. В жизни я знал только одного человека, который мог делать шесть листов, да еще с расчетами, это был мой братец Фел. Я достаточно быстро и неплохо поднаторел в новой для меня конструкторской профессии, и к концу моего пребывания на заводе, пройдя аттестацию, к удивлению сотрудников и себя самого, сразу получил первую конструкторскую категорию, перескочив через вторую. Еще через месяц я перевелся на завод «Знамя труда», тот самый, где у меня чуть было не увели «Золотую медаль ВДНХ» за институтскую курсовую работу, о которой я уже писал.. На этом заводе мне необыкновенно повезло, в нем я за год прошел такую инженерную школу, которую никогда бы не приобрел на любом другом предприятии. Завод делал спецарматуру для атомных субмарин. Средства у государства завод мог брать любые. И для кондукторного цеха (кондуктор, это приспособление, с помощью которого обрабатываемая деталь крепится на станке, и специальные втулки направляет в нужное место сверлильный или режущий инструмент при обработке этой детали) завод приобрел в Германии УСП (Универсально Сборочные Приспособления). Это самый настоящий специализированный конструктор, по принципу обычного детского, только значительно больших размеров и безумно дорогой. Из него без всяких чертежей один человек мог собирать кондукторы любой сложности за считанные минуты, вместо двух–трех недель работы квалифицирнейшего технолога– конструктора и недель работы конструкторского бюро завода. При этом, практически полностью становился ненужным технологический отдел завода численностью в тридцать человек и кондукторный механический цех со своими станками и рабочими. А главное, что после изготовления нужной партии деталей кондуктор снова разбирался на составные части, готовые к сборке нового изделия. Мне доверили руководство этим участком, и я с двумя симпатичными ребятами, братьями близнецами сразу же начал приносить заводу огромную прибыль. Однако через год, когда я мог собрать любой кондуктор с закрытыми глазами, мне стало жалко теперь уже напрасной траты времени. Ничему новому и нужному мне как инженеру я на этом месте научиться уже не мог бы. И тут появилось очень заманчивое предложение. Брат заместителя моего отца был зав.лабораторией в НИИ физики Ленинградского Университета имени подонка товарища Жданова - НИФИ. И ему (этому брату), учитывая мою «инвалидность по пятому пункту», с огромным трудом удалось перевести меня с завода в КБ Физического факультета Университета. КБ обслуживало ученых – физиков, среди которых были такие громкие имена, как профессора Румш и Лукирский. Занимались они разрушением материалов сверхбыстрыми ядерными частицами, разгоняемыми в циклотроне. Работой с этими замечательными физиками - экспериментаторами судьбе было угодно меня и свести. Я проектировал для них камеру мишеней циклотрона. Этакого своеобразного робота – руку, которая должна была держать испытуемый материал – мишень, и, поворачивая ее, подставлять потоку разгоняемых частиц под любыми, задаваемые экспериментатором углами. Это была достаточно сложная конструкторская разработка. Деталировку отдельных деталей делала очень симпатичная девушка – конструктор, выпускница вечернего факультета Киноинженерного института. Звали ее Инна и она носила уже громкую в то время фамилию - Евтушенко. Она прекрасно владела чертежной графикой, но обладала довольно сложным характером. Но тем не менее отношения у нас сложились добрые, и я даже начал за ней немножко ухаживать. Мужским вниманием она не была обделена, неглупыми поклонниками избалована, и мои невнятные поползновения оставляла без особого внимания. Как–то, проходя по университетскому двору, я обратил внимание на валявшийся на земле, огромного диаметра шариковый подшипник, по всей вероятности, от корабельной орудийной башни очень большого калибра. Я запомнил эту находку и, подумав, решил предложить моим физикам сделать на базе его сепаратора поворотный круг для магнита вращающегося вокруг камеры мишеней циклотрона. Изготовление эскизного проекта и рабочие чертежи этой не простой конструкции Лукирский предложил какому–то солидному проектному институту, но те заломили фантастическую цену, а таких средств в НИФИ, естественно, не было. Физики находились в унынии, и в этот момент я, набравшись наглости, предложил им не только выполнить в одиночку весь рабочий проект, но и сделать баснословно дешевым его изготовление в металле, используя в качестве самого дорогого узла этот даровой корабельный подшипник. После камеры мишеней физики поверили в мой конструкторский профессионализм. Сумму вознаграждения для такой объемной работы я назвал мизерную. Идея с сепаратором им понравилась. Да и другого выхода в ближайшем обозримом будущем они не видели. Чертежи общего вида и узлов делал я сам, а всю деталировку предложил вычертить Инне, и она прекрасно справилась с этим заданием. Совместная плотная работа способствовала и более тесным контактам и то, чему суждено было случиться, - случилось. Встречались и женихались мы еще много лет и записались только после смерти ее отца. За эти годы были у обоих и другие романы. Приходы и уходы, но судьбу не обойдешь, и этот брак, со всеми присущими этому виду человеческими взаимоотношениями, благополучно длится до сих дней. У нас родился прекрасный и очень талантливый сын. Мальчик прекрасный по всем человеческим параметрам и к тому же замечательный поэт. Судьба уготовила ему ужасный конец, а нам страшный удар. Заповедь: « Господь забирает к себе лучших», увы, – слабое утешение для