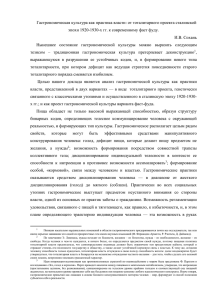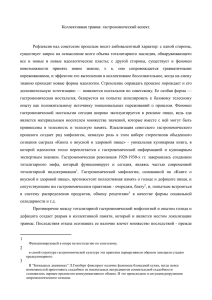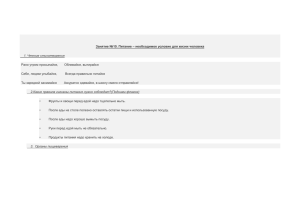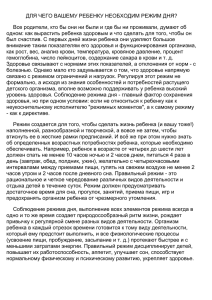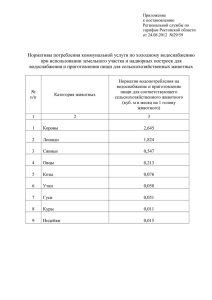О составе экзаменационной комиссии по проведению итоговой
реклама

Гастрономическая культура как практика власти: от тоталитарного проекта сталинской эпохи 1920-1930-х гг. к современному фаст фуду. И.В. Сохань НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург irina.sokhan@gmail.com Нынешнее состояние гастрономической культуры можно выразить следующим тезисом – традиционная гастрономическая культура претерпевает деконструкцию (позиции касательно кардинальных изменений в области гастрономического придерживаются почти все исследователи, так или иначе серьезно заявившие его одной из приоритетных тем своих научных изысканий (как то, Ф. Фернандес-Арместо [F. FernandezArmesto, 2002], Р. Рэнгхем [R.Wrangham, 2009]), выражающуюся в разрушении ее устойчивых кодов, и, в формировании нового типа тоталитарности, при котором дефицит как ведущая стратегия повседневности старого тоталитарного порядка сменяется изобилием. В связи с рядом обширнейших проблем, инициируемых отмеченной деконструкцией, мы выделим одну из них, и остановимся на ней — это возможность власти репрезентировать себя в рамках гастрономического и использовать его потенциал для качестве особого рода дисциплинарной практики. Пища обладает не только высокой выражающей способностью, образуя структуру бинарных кодов, определяющих телесное коммуницирование человека с окружающей реальностью и формирующих тип культуры; но, и, в целом, гастрономическое располагает целым рядом свойств, которые могут быть эффективными средствами манипулятивного конструирования человека — такие как: возможность формирования посредством совместной трапезы коллективного тела; формирование особой, кормовой, связи между человеком и властью (с этим и связана одна из составляющих гастрономической культуры как практики власти — кормовая); голод, дефицит пищи, которые делают пищу предметом не желания, а нужды (по замечанию Э. Левинаса, нужда исходит из бедности, желание – из богатства, нужда – из необходимости, желание – из свободы. Когда человек в чем-то нуждается, и ничего более, он определяется предметом своей нужды, поэтому пищевая политика тоталитарной власти предполагала, что самоопределение индивида должно быть ограничено тем продуктовым пайком, который и отражает степень его полезности государству и обществу, а также делает устойчивой кормовую связь с властью. К тому же, оставляя человеку способность только нуждаться, тоталитарная власть отчуждала в свою пользу способность желать: далее неоднократно будет утверждаться, что тоталитарная власть и базируется на механизме отчуждения частного желания – для того, чтобы сделать его основой своих планов, непременно носящих грандиозный характер); дисциплинирование индивидуальной телесности в контексте ее способности к интроекции в противовес возможности ассимилировать (идея интроекции-ассимиляции как противоположных стратегий по взаимодействию с миром была предложена Ф. Перлзом в исследовании «Эго, голод и агрессия». Ф.Перлз проводит аналогии между пищевым и ментальным метаболизмом, утверждая, что интроекция (проглатывание целиком, без разжевывания), санкционируемое на телесном уровне крайним голодом и соответствующей ему пищевой жадностью, на ментальном уровне проявляет себя как бездумное поглощение-усвоение любого идеологического конструкта. Иначе говоря, гастрономические привычки как лежащие в основе базового коммуникативного паттерна человек – мир, формируют и способ полагания субъектом себя в реальности). Так, гастрономические практики оказываются средством дисциплинирования человека — разнообразно данного — в диапазоне от жесткого дисциплинирования (крайний вариант — голод; более смягченный — организация дефицита в сфере гастрономического потребления) до совсем мягкого, но, и поэтому весьма эффективного — соблазн (связанный с переизбытком еды формата фаст фуд и навязыванием ее потребления в вездесущем рекламном дискурсе). Практически во всех социальных утопиях гастрономическая культура выступает предметом неустанного внимания со стороны власти, одной из основных ее практик заботы о гражданине в сфере повседневного бытия. Возможность регламентации удовольствия, связанного с пищей и тяготеющего, как правило, в индивидуальном исполнении, к избыточности своих проявлений, и, в этом плане влияющего на траекторию индивидуации человека — эта возможность в руках власти становится действенной силой эффективного управления, что и продемонстрировал тоталитарный проект гастрономической культуры эпохи раннего сталинизма (1920-1930-е гг.): сначала, в 1920-е гг., данный просто в виде проекта, связанного с фантазиями о конструировании нового, особого типа человека — строителя коммунистической реальности; затем, в конце 1920-х и начале 1930-х, трансформировавшийся в тоталитарную культуру еды со всеми характерными признаками (голодом, дефицитом, распределением, обобществлением трапезы и т.д.); завершившийся в 1939г. выходом (первым изданием) «Книги о вкусной и здоровой пище». Выход этой книги (уникальной, ввиду совмещения гастрономических и идеологических риторик) знаменовал символическую регистрацию результатов промежуточной победы социализма. А также, зафиксировал сам факт рождения советской гастрономической культуры (т. к., гастрономическая культура в качестве любой своей типологической репрезентации, должна быть зафиксирована как экспертное знание — в форме кулинарной книги). Следует отметить, что, при теоретической реконструкции этого проекта поражает его глубокая логика, отражающая как его краткую эффективность, так и неизбежное поражение — надежды, возлагавшиеся на общепит, были сильно преувеличены, и государство вынужденно обратило свой взор к контролю уже домашней кухни, к мифическому изобилию домашнего стола как промежуточному результату построения коммунизма («Наркомпищепром СССР — домашней хозяйке» — эти слова служат эпиграфом к «Книге о вкусной и здоровой пище»). В качестве именно такового, проект не декларировался советской властью, но, тенденции трансформации гастрономической культуры, проявившиеся в социальной, культурной и экономической политике молодого большевисткого государства, в своей совокупности отличаются такой внутренней логикой, которая и позволяет говорить о некоем целостном проекте по реконструкции гастрономической культуры, прицельно делая ее дисциплинарной практикой власти. В современном обществе массового потребления стратегии дисциплинирования посредством голода и нехватки оказываются неуместными, и сменяются новыми практиками мягкого принуждения к потреблению, перед которыми индивиду трудно устоять — образы пищи соблазняют и обещают счастье в вездесущем дискурсе рекламы. Если рассматривать гастрономическую культуру как практику власти во всей совокупности характерных признаков, то необходимо отделить ее от кормовой функции власти, которая, безусловно, являясь важнейшей составляющей, не абсолютно отражает все ее содержание. Сама способность гастрономических практик оказывать дисциплинирующее влияние, которое может иметь особенный характер в силу неотчуждаемой нуждаемости человека в пище, делает гастрономическую культуру особой формой дисциплинарных практик. А, если учесть то, что пища является материальным субстратом, наиболее подходящим для записи разного рода значений, которые проникают в субъекта, преодолевая его самотождественность, нарушаемую в голоде и в нуждаемости в пище, то становится очевидна важность использования практик потребления пищи для установления властного контроля любого рода. Поэтому, говорить о гастрономической культуре как практике власти представляется важным и правильным, и, начать следует с рассмотрения самой структуры репрезентации власти посредством гастрономических практик. Итак, здесь выделяются следующие параметры (или уровни этой репрезентации): 1. Кормовая функция власти (в ее первичном значении) в форме установления кормления народа посредством кормового дара, подач, как, например, в России XVI-XVII вв., что определило российскую модель власти в качестве так называемой «домашней» модели. Кормление подчеркивало дополнительную связку между властью и управляемым ею народом, особую интимность их отношений в совместно создаваемом телесном пространстве, и, купируя возможную чрезмерную самостоятельность человека, фиксировало необходимость особого присутствия власти в его жизни. 2. Кормление выражалось (речь также идет про русскую историю и феномен реализации власти посредством кормления): - в масштабных совместных трапезах при царском дворе, когда милость государя проявлялась в личном угощении гостя, и даже в предложении есть пищу непосредственно с царской тарелки — в знак величайшего расположения; - продуктовыми дарами (собственно тем, что получило название подачи), отсылаемыми домой избранным: «подача на всех уровнях общественной лестницы была ритуальным жестом, который через дар устанавливал отношения власти» [Кондратьева, 2006, с. 34]. - различных практиках кормления по случаю праздников и иных событий: «Для харизмы царя наличие изобилия продуктов много значило» [Кондратьева, 2006, с. 30]. Подача оказывалась ритуальным жестом, подчеркивающем харизму дарителякормильца, поэтому так называемая кормка, со стороны любого уважающего себя хозяина — зависимых от него и нищих, обладала таким же символическим капиталом, как и царская подача. Характерно, что подача носила именно ритуальный характер, и существовала еще до появления ежедневно практикуемых форм застольного этикета, который, регламентируя социальные и культурные параметры застолья, выводил пищу (и, в-принципе, все сопутствующие формы ее потребления) за рамки сакральности. Кормка властью подданных — практика, подчеркивающая именно сакральный характер власти и обеспечивающая именно такое ее восприятие в глазах народа. Кормление и подача в изложенном здесь значении исчезли только при Петре I, который, с его целенаправленной ориентацией на западную культуру, способствовал вытеснению гастрономического ритуала в пользу гастрономического этикета, что поставило под вопрос саму суть кормления. Однако, для менталитета русского народа практика кормления является настолько родной, и, поэтому живучей, что при соответствующих обстоятельствах ее легко можно реанимировать, что и произошло в Сталинской России в 1920-1930-е гг. 3. Кормовая функция власти (в ее уже вторичном или дополнительном значении) связана с установлением особого контроля над содержимым продуктовых подач — эта идея также прослеживается в классических социальных утопиях, где не только организация коллективных трапез, но и контроль над содержимым приготавливаемых блюд оказывалось делом государственной власти. Например, в «Новой Атлантиде» Ф.Бэкона государственный контроль на качеством пищи связан с необходимостью ее обработки с научной точки зрения — дабы еда была усилена привитыми ей лекарственными возможностями; в «Городе Солнца» Т.Кампанеллы пища для коллективной трапезы заказывается поварам Главным врачом — чтобы также инициировать ее приготовление с точки зрения полезности, рациональности, и не допустить потенциальной избыточности удовольствия. Такую же функцию, помимо собственно распределения, присваивает себе советская власть в рамках идеологических риторик касательно преобразования быта в России 1920-1930-х гг. - не только повсеместный контроль посредством установления совместных трапез, но и нормирование в отношении состава блюд и качества питания — установление медикалистких требований, и, такая рационализация питания, которая бы определяюще сформировала новую телесность строителя коммунизма, к тому же, оказав влияние и на его сознание. В настоящее время, при относительном изобилии продуктов, навязывании потребления пищи, преимущественно «эконом-класса» - фаст фуда, быстрой еды, пригодной к непосредственному приготовлению — можно говорить о том, что гастрономическая культура в целом, в том числе и в качестве практики власти, сильно видоизменилась. Фаст фуд подрывает саму идею приготовления пищи в качестве практики заботы-о-себе, употребление готовой пищи формирует другого рода связку — пищевая промышленность заботится о том, чтобы накормить индивида и семью. Содержание пищи также остается за рамками культурных норм и соответственного им режима предсказуемости. Так, воздействие через пищу приобретает характер не явного, но скрытого дисциплинирования. 4. Гастрономическое самопрезентирование власти, куда входят практики преимущественного гастрономического потребления, с помощью которых власть устанавливает свое отличие. Это потребление, прежде всего статусное — пищи праздничной, пищи пира, не характерной для повседневного стола среднего класса, но властью используемой в качестве повседневной, т. к. она утверждает статус на уровне телесного опыта. Изобилие пира демонстрирует также ту масштабность, объемы, изысканность пищи, которую может потребить власть. Если грандиозность блюда может выглядеть репрессивной по отношению к обычному человеку, то она, эта грандиозность, вполне приемлема для власти. Пресловутое блюдо из соловьиных язычков, подаваемое на Лукулловых пирах, с точки зрения здравого смысла кажется абсурдным. Но оно совсем не абсурдно для того, чтобы стать телом и языком власти, которая демонстрирует свои масштабы как неограниченные человеческой логикой. Необычность и многообразие, а также неподъемное количество блюд означает неограниченный рост идентичности власти, ее колоссальную способность к интеграции и переработке иного, которое переставало быть собой и становилось внутренним содержанием власти. В любом случае, речь идет о потреблении за рамками действующего гастрономического нормирования — изобилие во время крайнего дефицита, редкая и недоступная пища. Например, в Древнем Риме становление олигархии вместо республики сопровождалось и созданием режима питания, максимизирующего удовольствие: «Почти до конца Пунических войн господа делили трапезу со слугами: все ели за одним столом простую пищу. Преимущественно это была зелень и бобовые растения и кисель из пшеничной муки, часто заменявший хлеб. Среди сохранившихся фрагментов ученого и писателя Варрона (I в. до н. э.) имеется упоминание о царивших в раннем Риме вкусах: «У дедов и прадедов хоть слова и дышали чесноком и луком, но высок у них был дух!». Однако вскоре после завоевания Греции и Малой Азии в Рим и Италию широким потоком потекли богатства и яства» [Миронов, 2007, С. 350]. Ж. Ле Гофф также отмечает, что, как только власть получает возможность позиционировать себя с позиции интенсификации удовольствия, первое, с чего она начинает, – это гастрономия, как будто она хочет сказать, что отныне, самое лучшее, деликатесное и максимально разнящееся со столом простого человека будет составлять ее основу и подчеркнет степень ее отличия от этого простого человека, а следовательно, ее возможность и способность им управлять. 5. Экстремальной формой дисциплинирования, создающего тело максимальной лишенности, является голод. Голод создает тело заключенного, которое, в отличие от тела короля (а тело короля является двойным, что отражает избыток власти, принадлежащей ему), выражает недостаток власти, являясь «наименьшим телом» [Фуко, 1996, С. 46], в котором недостаток материального приводит к противоположному эффекту – удвоению нетелесного, души. Как уже было отмечено выше, в современной реальности меняются формы гастрономического дисциплинирования — на смену голоду приходит соблазн, изобильные гастрономические практики поощряют новый тип тоталитарного порядка с изменившимися параметрами: в его основе — не лишенная телесного субъективность с максимально представленными и постоянно созидающимися структурами души, а, наоборот, удваивающееся и утраивающееся, все возрастающее и расширяющееся тело – новый стандарт тела осужденного. (как осужденного, прежде всего, поддерживать тоталитарный порядок). А власть при этом становится все более метафизичной и неуловимой, претендуя преодолевать границы, устанавливаемые ей миром материального, трансцендируя и утончая собственные основания. Желая подчинить человека способом открытого и жестокого дисциплинирования его на гастрономическом уровне, тоталитаризм, по сути, применил пытку голодом — если обобщить всю совокупность тоталитарных стратегий в гастрономической сфере, то они сводятся к голоду, который является пыточным орудием и способом сконструировать человека, минимизировав его частное присутствие в мире, используя его индивидуальность в качестве строительного материала для решения глобальных задач. В то время как мягкая скрытая дисциплинарная стратегия соблазна оказывается гораздо успешнее – например, если, при проекта реконструкции гастрономической сферы в 1920-1930-е гг. обнаруживал себя как энтузиазм, так и сопротивленческие настроения в пользу домашней пищи; то сегодня человек уже сам выбирает отказ от традиции приготовления пищи, так как привлекательность быстрой еды, особенно в ситуации ее изобилия и доступности, гораздо выше. Современные гастрономические практики, хотя и носят достаточно вариативный характер, тем не менее тяготеют к фаст-фуду, который является не просто быстрой едой, а пищей с искаженной онтологией – его основой выступает еда в качестве некоего материального субстрата, вкусовые и эстетические характеристики которой определяются достижениями пищевой индустрии. Теряя связь с природой и природными циклами, такая пища стала определенным способом запасания бытия, утратившим в ней, однако, свою открытость и расположенность по отношению к человеку – вместо природно инициированной еды, пищи как таковой он получил некий субстрат, симулякр еды, эрзац пищи. Но именно то обстоятельство, что пища становится субстратом с возможностью мимикрии под любые вкусовые значения, накопленные в коллективной памяти человечества, делает ее способом реализации стратегий соблазна посредством предлагаемого ложного изобилия. Эти стратегии обнаруживают себя как новые формы властных практик, так как противоположные формы дисциплинирования человека и конструирования человеческой субъективности – связанные с голодом и дефицитом, обнаружили свою весьма кратковременную эффективность, что и продемонстрировал тоталитарный проект гастрономической культуры сталинской эпохи. Образцом фаст-фуда выступает еда из Макдональдс – немаловажно, что его экономическая политика ориентирована прежде всего на детей, вернее, на каждого, кто самоосуществляется в формате ребенка. Отличие взрослого и ребенка в гастрономическом контексте заключается в том, что ребенок не заботится о своей пище сам, он нуждается в кормовой связи со взрослым. Современная культура еды способствует формированию новой модели идентичности, уподобленной детской – в смыслах инфантильности, зависимости, ведомости, максимальной некритичной открытости влиянию извне. Как ребенок получает пищу от матери, родителей, так и взрослый человек привыкает к потреблению готовой еды, утрачивая не только саму привычку к такой практике заботы-о-себе, которой выступает приготовление, кулинарно-гастрономическая практика, но и все сопутствующие ей эффекты и следствия, породившие сложные культурные феномены. Свобода, ответственность, возможность формировать собственное коммуникативное пространство с тесными смыслообразующими связями с Другими, и, пожалуй, самое важное – семья претерпевают девальвацию. Зависимость семьи от успешно оформленного и функционирующего гастрономического пространства, ежедневных будничных трапез, которые санкционируются женщиной, – это эволюционный факт, подтверждаемый антропологами. С тех пор как появилась культура вообще, и гастрономическая культура – как стала возможной обработка пищи огнем, именно женщина является хозяйкой огня-очага, центрирующего вокруг себя то внутреннее пространство существования человека, которое является домом. Традиционная роль женщины, во многом трансформировавшаяся на протяжении истории, и по сей день сохраняет свои устойчивые позиции в сфере сохранения семьи, нуждаемости в семье и ее пищевой политики – последнее подтверждается и многочисленными социальными исследованиями, выясняющими на уровне анализа эмпирического материала, что при всех изменениях в самой модели семьи планированием семейной гастрономической политики ведает по-прежнему женщина. Семья распадается, когда теряет свое повседневное гастрономическое пространство, когда автор приготовляемого не находится уже внутри семьи (хозяйка), а представляется внешней анонимной силой (пищевая индустрия); и возможность влияния посредством пищи связана уже не с женским бессознательным, его желанием, а с этой анонимностью, которая всегда есть анонимность власти. Самая большая опасность фаст-фуда как повседневной гастрономической практики заключается именно в этом. Сравнительный анализ двух гастрономических проектов: современного с акутальной идеей фаст-фуда и советского 1920-1930-х гг. – наиболее полно и точно реализовавшего основные гастрономические принципы тоталитарных утопий, показывает, что современная гастрономическая культура и гастрономическая культура сталинской эпохи носят различный по вектору (стратегия изобилия и дефицита соответственно), но одинаковый, по сути, характер. Они обе тяготеют к тому, что быть способами инсталляции структур власти в бессознательное человека. Литература 1. Кондратьева, Т. Кормить и править: О власти в России XVI-XX вв. М.: РОССПЭН, 2006. - С. 30. 2. Миронов, В. Древний Рим / В. Миронов. – М.: Вече, 2007. – С. 350. 3. Фуко, М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / М. Фуко — М.: Ad Marginem, 1999. — С. 479. 4. Felipe Fernandez-Armesto. Near a Thousand Tables: A History of food. Published by The Free Press, New York, 2002. P. 275. 5. Wrangham Richard. Catching Fire: How Cooking Made Us Human. Published by Basic Books, NY., 2009 - P. 312