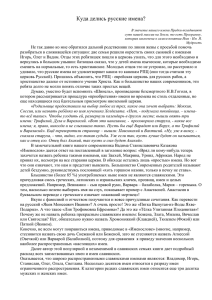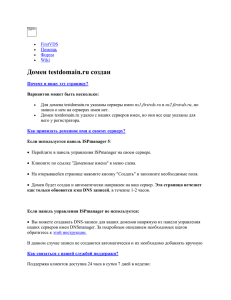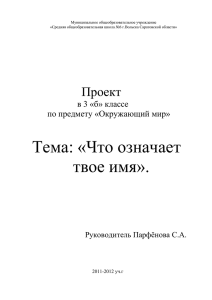Viktor_Feller
реклама
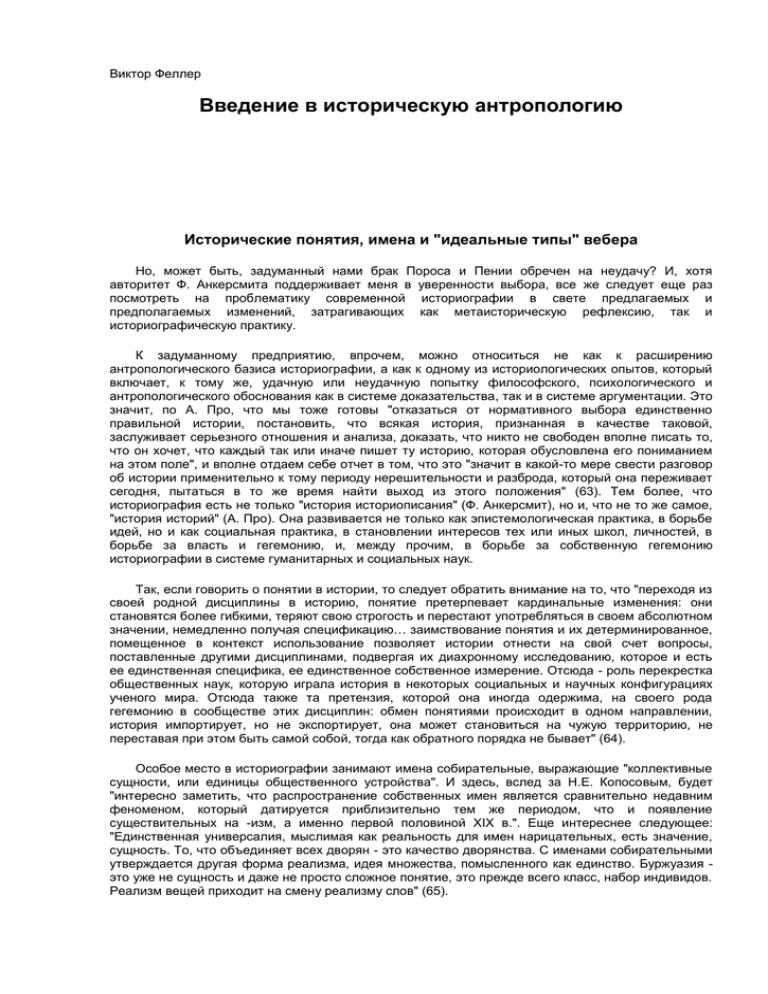
Виктор Феллер Введение в историческую антропологию Исторические понятия, имена и "идеальные типы" вебера Но, может быть, задуманный нами брак Пороса и Пении обречен на неудачу? И, хотя авторитет Ф. Анкерсмита поддерживает меня в уверенности выбора, все же следует еще раз посмотреть на проблематику современной историографии в свете предлагаемых и предполагаемых изменений, затрагивающих как метаисторическую рефлексию, так и историографическую практику. К задуманному предприятию, впрочем, можно относиться не как к расширению антропологического базиса историографии, а как к одному из историологических опытов, который включает, к тому же, удачную или неудачную попытку философского, психологического и антропологического обоснования как в системе доказательства, так и в системе аргументации. Это значит, по А. Про, что мы тоже готовы "отказаться от нормативного выбора единственно правильной истории, постановить, что всякая история, признанная в качестве таковой, заслуживает серьезного отношения и анализа, доказать, что никто не свободен вполне писать то, что он хочет, что каждый так или иначе пишет ту историю, которая обусловлена его пониманием на этом поле", и вполне отдаем себе отчет в том, что это "значит в какой-то мере свести разговор об истории применительно к тому периоду нерешительности и разброда, который она переживает сегодня, пытаться в то же время найти выход из этого положения" (63). Тем более, что историография есть не только "история историописания" (Ф. Анкерсмит), но и, что не то же самое, "история историй" (А. Про). Она развивается не только как эпистемологическая практика, в борьбе идей, но и как социальная практика, в становлении интересов тех или иных школ, личностей, в борьбе за власть и гегемонию, и, между прочим, в борьбе за собственную гегемонию историографии в системе гуманитарных и социальных наук. Так, если говорить о понятии в истории, то следует обратить внимание на то, что "переходя из своей родной дисциплины в историю, понятие претерпевает кардинальные изменения: они становятся более гибкими, теряют свою строгость и перестают употребляться в своем абсолютном значении, немедленно получая спецификацию… заимствование понятия и их детерминированное, помещенное в контекст использование позволяет истории отнести на свой счет вопросы, поставленные другими дисциплинами, подвергая их диахронному исследованию, которое и есть ее единственная специфика, ее единственное собственное измерение. Отсюда - роль перекрестка общественных наук, которую играла история в некоторых социальных и научных конфигурациях ученого мира. Отсюда также та претензия, которой она иногда одержима, на своего рода гегемонию в сообществе этих дисциплин: обмен понятиями происходит в одном направлении, история импортирует, но не экспортирует, она может становиться на чужую территорию, не переставая при этом быть самой собой, тогда как обратного порядка не бывает" (64). Особое место в историографии занимают имена собирательные, выражающие "коллективные сущности, или единицы общественного устройства". И здесь, вслед за Н.Е. Копосовым, будет "интересно заметить, что распространение собственных имен является сравнительно недавним феноменом, который датируется приблизительно тем же периодом, что и появление существительных на -изм, а именно первой половиной XIX в.". Еще интереснее следующее: "Единственная универсалия, мыслимая как реальность для имен нарицательных, есть значение, сущность. То, что объединяет всех дворян - это качество дворянства. С именами собирательными утверждается другая форма реализма, идея множества, помысленного как единство. Буржуазия это уже не сущность и даже не просто сложное понятие, это прежде всего класс, набор индивидов. Реализм вещей приходит на смену реализму слов" (65). Возможно, что развитие истории в первой половине XIX века не случайным образом связано именно с появлением и распространением собирательных имен, в истории однако мыслимых "почти как" имена личные. И здесь следует вспомнить о значении личных имен как в языке, так и в мифе, на которое обращал внимание Ю.М. Лотман и о чем мы рассуждали в конце второй части этой книги. Историческое понятие, используемое как имя нарицательное, возможно, имеет своей основной задачей транслирование некоей схваченной чувством интуитивной сущности на некоторую модель, класс, набор индивидов или вещей. Историческая теория также транслирует некую схваченную ею общую интуицию цельности и сущностей на широкий класс индивидов и вещей. "Показательно, что распад социальной истории 1960-х гг. начался с идеи о том, что для описания общества достаточно описать различные пересекающиеся в нем иерархии, не пытаясь найти их результирующую. С того момента, когда сворачивание многомерного пространства в линию перестало быть логическим императивом, предмет спора оказался утрачен. Но характерная черта - модель многомерных пересекающихся иерархий не позволила сохраниться проекту социальной истории. Она оказалась кратковременным переходным моментом на пути от истории социальной к истории социокультурной" (66). Особое место понятий как имен нарицательных в истории и историческом сознании определена, во-первых, индивидуализирующим свойством имени и родством исторического сознания с мифическим; во-вторых, стоящей на входе исторической репрезентации некоей интуитивно-чувственной сущности (для самых крупных "объектов" истории имеющей чисто религиозный характер, характер религиозной сущности); в-третьих, созданием моделей, классификаций, иерархий, имеющих характер пространственного множества. Сам акт исторического постижения сущности и одновременно усмотрения множества, которому "присваивается" эта сущность, имеет характер оживления. Потому-то имена нарицательные употребляются историками как имена собственные или по меньшей мере как метафоры имен собственных. Это описание близко к тому, как мы определили акт Sensation. Только в Sensation мы имеем дело с репрезентацией события, а здесь - с прояснением "структуры" и проявлением "субъекта"; в первом случае нас больше интересует временнoй срез пространственно-временного континуума, во втором - пространственный его срез, хотя речь, собственно, идет об одном и том же, но рассмотренном под разными углами зрения. Особая роль понятий-имен, выражающих коллективные сущности, вытекает из самой сущности объекта истории. "Объект истории обладает тремя характерными чертами. Во-первых, он человечен, а это означает, что даже с виду безразличная к людям история окольными путями все равно ведет к ним… Во-вторых, это коллективный объект: история изучает "не человека, и еще раз, никогда ни человека, но человеческие общества, организованные группы", - говорил Л. Февр… Наконец, объект истории конкретен: историки с недоверием относятся к абстрактным терминам; они хотят видеть, слышать, чувствовать". Марк Блок назвал историка сказочным людоедом: "Предметом истории является человек. Скажем точнее - люди. Науке о разнообразном больше подходит не единственное число, благоприятное для абстракции, а множественное, являющееся грамматическим выражением относительности. За зримыми чертами пейзажа, орудий или машин, за самыми казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей. Кто этого не усвоил, тот, самое большее, может стать чернорабочим эрудиции. Настоящий же историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиной, там, он знает, ждет его добыча" (67). Но историк, "съевший много людей", сам становится историей ("историография - это история историописания"), иначе говоря, история в ее отношении к своему главному объекту - Антропосу, становится наукой не о людях, а о Человеке или - исторической антропологией. Но и на уровне обычной, "мелкой" истории человечность, коллективность и конкретность объекта истории делает ее не только по преимуществу антропологической наукой, но и наукой имен, с одной логической, стороны, вроде бы имен нарицательных, а с другой, практической стороны, то есть с точки зрения конкретного словоупотребления, также и личных. В истории, согласно А. Про, используются два типа понятий: понятия, унаследованное от прошлого как эвристические элементы для постижения прошлой реальности и понятия, которые не содержатся в источниках и образованы после. Впрочем, важнее другое различение. Это различение между понятиями истинными, предполагающими логическую дедукцию и историческими, которые "не относятся к такого рода понятиям. Они конструируются путем ряда последовательных обобщений и определяются через перечисление некоторого числа существенных черт, обусловленных их эмпирической общностью, а не логической необходимостью" (68). В развитие идеи "неистинного", недедуктивного понятия предлагается понятие "идеального типа", разработанное Максом Вебером. Идеальный тип, по Веберу - это "мысленный образ, не являющийся ни исторической, ни тем более "подлинной" реальностью. Еще меньше он пригоден для того, чтобы служить схемой, в которую явление действительности может быть введено в качестве частного случая. По своему значению это чисто идеальное пограничное понятие, с которым действительность сопоставляется, сравнивается, для того чтобы сделать отчетливыми определенные значимые компоненты ее эмпирического содержания. Подобные понятия являют собой конструкции; в них мы строим, используя категорию объективной возможности, связи, которые наша ориентированная на действительность, научно дисциплинированная фантазия рассматривает в своем суждении как адекватные" (69). С помощью идеально-типических понятий историки создают абстракции, с которыми они сравнивают реальность и выявляют степень расхождения идеальных моделей и их предполагаемых воплощений. Таким образом, "абстракция идеального типа преобразует эмпирическое разнообразие в различия и подобия, обретающие смысл: она позволяет выявлять как особенное, так и общее". При этом следует помнить, что любая концептуализация лишь только "упорядочивает историческую реальность, но это упорядочение - относительное и всегда лишь частичное… концептуализация вносит в реальное некоторый порядок, но это несовершенный, неполный и неравномерный порядок" (70). Идеальные типы относятся к множеству, моделируемому как единство. Это пространственные модели, лучше работающие в социологии, чем в истории, в поперечных, структурных, пространственных срезах пространственно-временного континуума, чем в его диахронических, событийных срезах. Почему? Может быть потому, что если в Zusammenhang'e пространственного континуума отдельные вещи и лица могут быть помыслены как отдельные находящиеся или не находящиеся в связи с другими вещами и лицами, то в пространственно-временном континууме отдельные пространственные Zusammenhang' и сами выступают как вещи, расположенные во временнoй последовательности. Чтобы наша мысль стала более понятной, поясним ее так - в диахроническом измерении всего лишь одна вещь или одно лицо можгут повлиять на историю столь сильно, что изменятся траектории всех остальных вещей и лиц в истории. Так, великие произведения или научные открытия, написанные или сделанные одним человеком, изменяют условия существования всех, живущих после этих открытий, а взятие Бастилии или Зимнего дворца небольшой группой активных горожан или революционных матросов и солдат также изменило судьбы людей во всем мире. Получается, что в диахроническом измерении каждое последующее событие поглощает в себе предыдущее, ведя себя как тот самый сказочный людоед Марка Блока. В синхронном же измерении возможно помыслить структуру, состоящую из множества автономных тел, находящихся друг с другом в устойчивых отношениях. Фактически А. Про, говорит о том же, рассуждая о неприменности социологического рассуждения к истории собственно событий. "Конечно, иногда оно может привлекаться для подтверждения или опровержения причиновменения: если мы полагаем, что нищета является причиной забастовок, то можно численно выразить уровень зарплаты и уровень безработицы, с одной стороны, и частоту забастовок - с другой, чтобы затем выяснить, действительно ли они взаимосвязаны. Конечные же причины, или цели, абсолютно не поддаются численному выражению, и статистика никогда не сможет ответить на вопрос, лежит ли на решении Бисмарка ответственность за войну 1866 г. или нет" (71). Темпоральная структура истории, предложенная в этой книге, является основой и для периодизации истории. Например, 128-летний период можно определить как "эпоху", а 2048летний как эон. Но "эпоха" тем и значима, что сохраняет на протяжении "своего" времени, несет в себе некую сущность - именно в этом смысл периодизации истории, - в определении неизменного внутри периода и изменяющегося или исчезающего при переходе к другому периоду. Фактически один период можно рассматривать как одно, единое событие. Это делает возможным рассмотрение периода в синхронном срезе, а рассматриваемые внутри него факты как относящиеся к одному и тому же времени. И, видимо, в этом одна из возможностей широкого использования идеально-типических моделей в истории. Если расшифровать сложное определение М. Вебера, то можно сказать, что идеальный тип представляет собой модель, схему, но не такую, в которую можно полностью уложить некое сложное эмпирическое содержание, охватываемое мысленным образом и, тем более, дедуцировать это содержание как частный случай, а такую, которая всего лишь проясняет некоторые существенные связи в этом эмпирическом содержании. Иначе говоря, идеальный тип это соединение охватывающего эмпирию интуитивного образа и некоей модели, схемы, "формы", не претендующий на объяснение, дедуцирование и индуцирование, а претендующий лишь на "прояснение". Правда, внутри этой модели можно индуцировать и дедуцировать, но помня об относительном, всего лишь "проясняющем" значении этой операции и фактически о ее подчиненном положении по отношению к интуитивному образу. С одной стороны, в идеальном типе мы видим индивидуальный образ, с другой стороны - претендующую на универсальность модель, и их сложное взаимодействие. Модель, "работая с фактами", обогащает образ, а образ, обогащаясь или же "отслаиваясь" от моделей, тем самым, подтверждает или опровергает операцию моделирования.