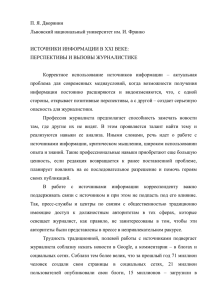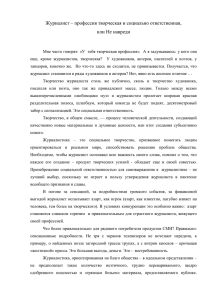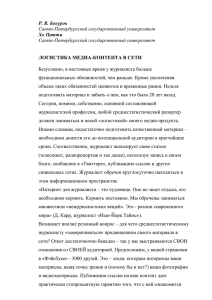леонид костюков
реклама
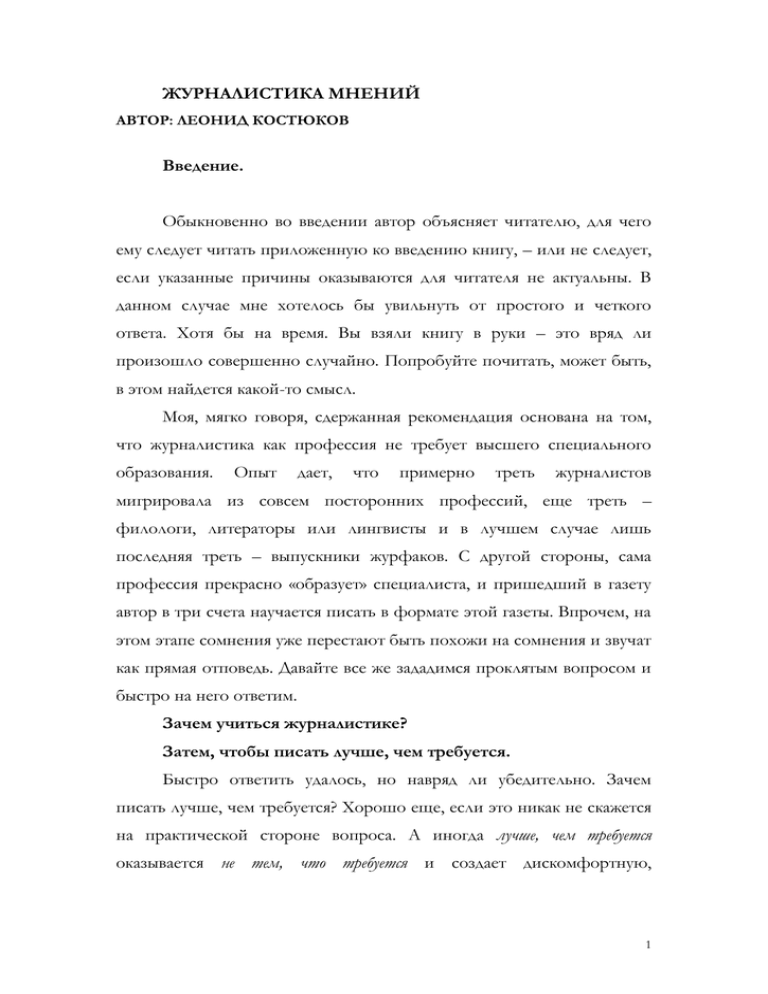
ЖУРНАЛИСТИКА МНЕНИЙ АВТОР: ЛЕОНИД КОСТЮКОВ Введение. Обыкновенно во введении автор объясняет читателю, для чего ему следует читать приложенную ко введению книгу, – или не следует, если указанные причины оказываются для читателя не актуальны. В данном случае мне хотелось бы увильнуть от простого и четкого ответа. Хотя бы на время. Вы взяли книгу в руки – это вряд ли произошло совершенно случайно. Попробуйте почитать, может быть, в этом найдется какой-то смысл. Моя, мягко говоря, сдержанная рекомендация основана на том, что журналистика как профессия не требует высшего специального образования. Опыт дает, что примерно треть журналистов мигрировала из совсем посторонних профессий, еще треть – филологи, литераторы или лингвисты и в лучшем случае лишь последняя треть – выпускники журфаков. С другой стороны, сама профессия прекрасно «образует» специалиста, и пришедший в газету автор в три счета научается писать в формате этой газеты. Впрочем, на этом этапе сомнения уже перестают быть похожи на сомнения и звучат как прямая отповедь. Давайте все же зададимся проклятым вопросом и быстро на него ответим. Зачем учиться журналистике? Затем, чтобы писать лучше, чем требуется. Быстро ответить удалось, но навряд ли убедительно. Зачем писать лучше, чем требуется? Хорошо еще, если это никак не скажется на практической стороне вопроса. А иногда лучше, чем требуется оказывается не тем, что требуется и создает дискомфортную, 1 конфликтную ситуацию. Наметим пояснение, подробный же разговор отложим до второй части учебника. Профессия журналиста может стать чем-то вроде суммы должностных обязанностей, а может – делом жизни, или хотя бы одним из приоритетных занятий. Во втором случае надо писать лучше, чем это требуется извне, потому что речь идет о счетах с самим собой, о призвании, о судьбе – эти вопросы ввиду стопроцентной человеческой смертности рано или поздно предстоит решать каждому, и счастливы те профессии, которые оставляют пространство для маневра. Иными словами, нет ничего хуже, чем работать по 8 часов в день. Для серьезной самореализации надо работать больше; для серьезной самореализации на стороне – меньше. Ладно. По крайней мере, стало ясно, в каких категориях идет разговор. Не менее важный вопрос: почему этот учебник в ИЖЛТ пишу именно я? Дело в том, что мой журналистский опыт отнюдь не грандиозен. Семь лет; два штатных места, остальное – так называемый фриланс, вольная внештатная работа. Немногим более 300 публикаций в газетах и журналах. Наверное, какое-то значение имеет мой преподавательский стаж, но и в этом импровизированном двоеборье я, вероятно, не рекордсмен. Как ни странно, главным своим доводом в пользу качества (еще не написанного) учебника я считаю дистанцию между собой и журналистикой. Дело в том, что я никогда – ни работая в ежедневной газете, ни публикуя по четыре статьи в неделю – не идентифицировал 2 себя как журналиста. Скорее, как литератора в газете. Дистанция позволяет наблюдать. Поэтому настоящий учебник – это свод наблюдений и обобщений. Еще один важный довод – эмоциональный. Мой опыт участия в журналистике практически целиком позитивен. Мне не приходилось грешить против совести или против искренности (что, впрочем, для журналиста почти одно и то же). Журналистика дала мне чувство востребованности, навыки работы в команде (насколько они существенны для индивидуалиста, другой вопрос), друзей, какие-то деньги в трудные годы. Позитивным опытом имеет смысл поделиться – хотя бы из человеколюбия. Еще несколько мелких соображений напоследок, и мы приступим к делу. Я постараюсь избегать определений, точнее, они останутся только как формы спрямления речи, своеобразные метафоры. Каждое слово, будь то журналистика или репортаж, мы будем понимать максимально бытовым способом, как его понимают без дополнительных разъяснений большинство грамотных жителей нашей страны. Если при этом возникают разночтения, что ж, потерпим их, примем как меру расплывчатости. Когда же тумана получится слишком много, будем стараться обходить такие широкие слова. Такое отношение к языку мотивировано тем, что именно так будут относиться читатели газеты к вашим текстам. Давайте учиться говорить понятно. Что ж, догадывается смышленый студент, мы, стало быть, говорим не только о журналистике, но и как журналисты? До определенной степени. 3 Мы постараемся приблизиться к хорошему журналистскому языку, но метод исследования должен резко отличаться от предмета исследования. Что бы то ни было (будь то человек, философия или язык) плохо, с ошибками рассуждает само о себе. Журналистика движется от частного к типичному, мы же, говоря о журналистике, будем исходить из некой общей системы и двигаться, уточняя детали, к частному, как бы навстречу журналисту. Еще. Мы ограничим сферу наших интересов журналистикой мнений, твердо отделив ее от журналистики фактов. Добыча, проверка и передача информации – этим мы заниматься не будем. Информационная основа журналистики мнений либо общедоступна, либо является лишь поводом для разговора, либо сама существует в статусе мнения. Для такого уточнения объекта есть несколько причин. Укажем одну достаточную – ИЖЛТ специализируется на журналистике мнений, и нам нет нужды выходить за рамки компетенции института. Само собой, и весь этот учебник – развернутое мнение о журналистике. Мое личное мнение. Мы будем говорить о газете, имея в виду главным образом два условия: злободневность и необходимость создания текстов. Работа в ежемесячном или ежеквартальном издании – уже не вполне журналистика, это скорее издательская деятельность. Радио- и телеэфир по темпу работы, конечно, журналистика. Но текст там – полуфабрикат, а не конечный продукт. Не вдаваясь в тонкие детали различий – я пишу о том, что знаю лучше. Но, кроме того, именно газетный опыт хорошо конвертируется в эфир, а не наоборот. 4 Тут по интонации хорошо бы нащупать девиз, вроде камертона для дальнейшего текста. Что ж, он готов. Помните слова Иешуа ГаНоцри из «Мастера и Маргариты» – «Говорить правду легко и приятно»? Вот, легко и приятно – иначе нет смысла браться за большую работу, будь то учебник по журналистике или собственно журналистика. Правда – не совсем уместное слово в сфере обмена мнениями. Итак, чуть-чуть перефразируем: Говорить искренне легко и приятно. РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ ГЛАВА ПЕРВАЯ. БЫТОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО МАТЕРИАЛА. Тема 1. Условия чтения материала и формальный аспект. Представьте себе, что ваш друг-поэт дал вам почитать свою новую поэму, а назавтра вы ее возвращаете с такими словами: «Знаешь, старик, не фонтан. Я попробовал пролистать твой опус в метро, но мешал народ, потом открыл за ужином, но меня отвлек телевизор. Да, там у тебя в первой строчке про какую-то мглу, меня это не потащило. И название твое вяловато». Лет 200 назад за таким отзывом мгновенно последовал бы вызов на дуэль. Но и сейчас это квалифицируется как бескультурье и хамство. Поэзию так не читают. А вот газету так читают. Краем глаза на лотке. Через плечо соседа по вагону метро. Перед тем, как постелить на дно помойного ведра. И тут у нас с вами на выбор две модели поведения. 5 1. Оскорбиться. Сказать, что такое отношение к тексту унизительно для автора. И при наличии творческого зуда пытаться создавать литературные произведения, предполагающие чуть большее читательское уважение. 2. Кивнуть. Принять условие невнимательного, расслабленного чтения как культурный вызов. Ты готов в любую секунду отцепиться и бросить читать, что ж, я тебе не позволю. Пониженные требования к читателю обращаются повышенными требованиями к тексту статьи. Мы начинаем решать интересную и сложную культурную задачу. Само собой, мы выбираем второй вариант. Здесь возникает вопрос о кредите читательского доверия или, если хотите, о характерном времени отказа. Сколько нам дается пространства, чтобы заинтересовать читателя? Абзац? Строка? Полстроки? Не хотелось бы утверждать безапелляционно, но, по-моему, этого пространства вообще нет. Представьте себе читателя (а хотя бы и себя), разворачивающего газетный лист. Он схватывает взглядом заголовки, картинки, абрисы статей, но еще не различает отдельных букв. Так вот, по-моему, решение не читать статью может возникнуть уже на этой стадии. Попробуйте вообразить огромную (почти на целую полосу) статью с невнятным заголовком (например, РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА), без картинки и подзаголовка, в четыре колонки без абзацев. Как четыре серые слоновьи ноги. Как у Мандельштама: «... у него без всякой прошвы наволочки облаков». Как у Вен.Ерофеева: «... чулки безо всякого шва...». 6 Общий смысл один: не за что зацепиться глазу. Допустим, даже начнешь читать, отвлечешься на полсекунды – как попасть в нужное место текста? Как спальный район, да еще без табличек на домах. Забракованный нами заголовок немного напоминает названия бунинских рассказов. Так называется прекрасная новелла Анатолия Макарова. Многозначное название – то ли идет речь о конкретной дате православного календаря, то ли о воскресных папах, то ли об уважении к предкам, то ли о чем еще. Но в журналистике многозначность, не отыгранная подзаголовком, не помогает ответить на один важный вопрос: а зачем, собственно, именно мне читать именно это? Да к тому же именно сейчас. Музыканты любят такую историю: заходит один известный композитор в гости к другому и спрашивает от дверей: «Что это у тебя там за дерьмо на пюпитре?» Отдельных нот еще не видит, но схватывает общий абрис. Дерьмо. Так, без абзацев, писал покойный Ананьев – вы ведь не знаете такого писателя. Не случайно. Откроешь «Новый мир» – слева и справа два скорбных прямоугольника. Читать невозможно. Я не говорю о покойнике плохо, констатирую лишь, что я его не читал. И никто из моих знакомых его не читал. И тираж «Нового мира» тогда за несколько лет упал в сотни раз – уж конечно, не только из-за Ананьева. Из-за тотального неуважения к читателю. Мы не зря обозначили абсолютно худший вариант – полную (пока что графическую) монотонность. Теперь будем бежать от него как можно дальше. Хороший... ну вот – почему хороший? Может быть, отвратительный, пустой; понизим планку – текст, сохраняющий надежду быть прочитанным, даже по очертаниям неравномерен, 7 разрежен и структурирован. Напомним: мы еще не различаем отдельных букв. Но уже видим: заголовок, подзаголовок (первый – яркий, второй – информативный), длинные и короткие абзацы (ритм!), пару диалогов, пару курсивных выделений, несколько имен собственных, из которых одно знакомое. Перечисление с цифирками. Если статья очень большая, она разбита на главки, у каждой – свой заголовок, свой эпиграф. Как бы несколько маленьких омутов, всасывающих читателя внутрь текста. Глаз мечется, с чего бы начать. Ну, например, с начала. Пока что речь шла – если перевести с письменного языка на устный – только о модуляциях голоса. А как насчет смыслового ряда? Очень просто – те же модуляции, те же колебания. Борьба с монотонностью продолжается на новом этапе. Заметьте, мы сейчас не рассуждаем о том, как сделать статью убедительной, или взвешенной, или умной. Мы просто хотим, чтобы она читалась от начала до конца. Согласитесь, что это грамотная начальная цель – никакой другой, минуя ее, не достичь. Итак. У нас есть истории и доводы. Их хорошо бы чередовать. Есть доводы серьезные и шуточные, рациональные и эмоциональные. Их тоже – чередовать. И так далее – как только есть минимальная свобода выбора, маленькая шкала влево-вправо, елозить по ней, чередовать. Если представить себе журналистский текст не как последовательность слов или фраз, а как последовательность шахматных ходов (реплик?), то идеальное отношение нового хода к предыдущим – логичная непредсказуемость. Посудите сами – предсказуемый ход разочарует читателя, но так же его расстроит 8 абсолютно «левый», алогичный маневр. Это как разгадка загадки – сам читатель не догадался, но наш вариант принял и утвердил. Вообще-то мне нравится слово реплика в отношении журналистского материала, потому что всякая статья – не монолог, а диалог с невидимым собеседником. Искусство убеждения заключено, в частности, в том, чтобы слышать себя со стороны –или, что то же самое, чувствовать реакцию возможного собеседника и вовремя гасить его недоверие. Кажется, мы забегаем вперед, но нет – если материал совершенно неубедителен, то его и дочитывать никто не будет. И еще одна, но важная мелочь, касающаяся именно сквозного чтения любого текста – и художественного, и журналистского. Есть ситуации, когда перестать читать – попросту дискомфортно. Например, не кончилась история. Или анекдот не добрался до смехового ядрышка. Прерывая одни фрагменты и завязывая новые, можно длить и длить эту неравновесную ситуацию. Собственно, на этом плетении держатся и сериалы, и глянцевые романы. Я не советую вам злоупотреблять этим дешевым эффектом: читатель прекрасно видит, на чем его ловят, и довольно холодно относится к подобным уловкам. Разве что иногда... Сколько в среднем мыслей приходится на газетный материал? Одна. (Ну, полторы). Больше – многовато, меньше – все-таки недостаточно. Допустим, мы с вами добились своей цели и читатель прочитал нашу статью от начала до конца. Может так быть, что он не уяснил при этом нашу титульную мысль? Вряд ли, если он не полный кретин. Это все равно что съесть хот-дог и не попробовать в нем сосиску. Скажем больше – читатель уяснил не только основное содержание мысли, ее эмблему или девиз, но и все обертона, степень 9 нашей уверенности, оговорки. Хорошее слово – позиция или мнение. А теперь подумаем, хотели ли мы большего? Чтобы он мгновенно встал на нашу позицию? Это уже будет какая-то магия, а не человеческий диалог. К тому же, если бы мы владели таким магическим рупором, еще пришлось бы крепко подумать, пускать ли его в ход. Нужны ли нам с вами полчища новоявленных союзников? Цивилизованный диалог является не средством, а, скорее, целью журналиста. Его задача – прояснить спектр мнений, довести их ло состояния ясности. По возможности помочь людям избежать драмы непонимания. Различие позиций все равно останется – и внутри журналистского цеха, и вне его. Я веду к тому, что легкость чтения – не только исходное, необходимое качество материала, но и почти окончательное. Исключая грубые намеренные подлоги. Тема 2. Требования к содержанию материала. Собственно, эти вопросы уже поднимались выше. Иначе и быть не может, поскольку форма и содержание глубоко связаны. Например, порядок подачи материала (пресловутое чередование) относится к форме. Выделять в отдельные главки, провести курсив. С другой стороны, те же тезисы в новом порядке образуют новое совокупное высказывание. Например, две фразы Американцы попрали все нормы международного права, но преступления Хусейна чудовищны и Преступления Хусейна чудовищны, но американцы попрали все нормы международного права почти противоположны по смыслу. Скажем совсем точно – выражают позиции двух противоположных лагерей. Словом, еще о содержании материала. 10 Журналистика фактов и журналистика мнений – не совсем разные вещи. В журналистике мнений остается след фактической, информационной журналистики – привязка. Иногда ее называют информационным поводом. Допустим, музыкальный критик пишет в газету превосходную статью о джазе. Мы понимаем, почему это газетный материал, а не статья в специальное музыкальное издание: читатель предполагается неподготовленный. Но остается последний проклятый вопрос: почему этот материал выходит именно сегодня? Может быть, сейчас проходит фестиваль джаза, тогда наряду с репортажем и интервью на организованной по такому случаю тематической полосе встанет и эта статья. Может быть, вчера стукнуло 100 лет какому-то патриарху джаза или историческому мероприятию. Тогда надо чуть-чуть развернуть статью в сторону именно этого повода. Исключения есть. Например, по отделу общества – вечно злободневные темы. Нищета, беспризорность, наркотики. Приготовь полоску к середине марта. Извини, старичок, выйдет в апреле. Ничего. Это не портится. Но вообще-то в журналистике, в отличие от литературы, то, что не портится с течением времени, обычно второсортно, маргинально. Как йогурт – если он живой, он должен портиться. Важное уточнение. Представим себе замечательную толстую еженедельную газету. На первой полосе – энергичный, адекватный отклик на важнейшие события недели в мире и стране. Далее – политическая и экономическая аналитика, новости культуры, актуальное интервью... К последней полосе само сквозное чтение не может оставаться таким упругим и нервным. Идет – так или иначе – расслабление. Мы 11 удерживаем руку на пульсе времени – через новости спорта, прогноз погоды и телепрограмму именно на грядущую неделю. Но остальные материалы здесь – на 2-3-х последних полосах – не очень злободневные. Лирическое фото, очерк о весеннем лесе, детские оговорки, стихи, юмор. Журналистика фактов сообщает, журналистика мнений обналичивает мнения. Но отдельные участки газеты еще и развлекают. Это, вообще говоря, не журналистика. Суждение не оценочное. Просто тут в газету интегрируются внешние материалы, может быть, нарытые в сети, может быть, написанные 100 лет назад литератором по совершенно другому поводу. Как правило, газете не нужны эссе. Эссеистика – ругательный термин в устах заведующего отделом. Эссе – непортящийся литературный жанр. Его незачем публиковать именно сегодня. Но «Независимая газета» второй половины 90-х охотно печатала пространные эссе в разделе «Стиль жизни». Если мы постараемся определить их функцию в газете – то это, как ни странно, получится развлечение. Просто наша интеллигенция привыкла так нестандартно развлекаться. Почему нет? Закроем тему негазетного материала в газете таким изящным способом: незачем учиться писать эти материалы. Штатному сотруднику газеты, может быть, понадобится их искать. Но и этому простому навыку незачем учиться в институте. Далее. Конкретность. То есть фамилии, даты, адреса. В отличие от литературы, мы исходим из первой, а не воображаемой реальности и постоянно сигнализируем об этом читателю. Здесь возможны мистификации, подмены. Как высокая литература (Довлатов), так и беллетристика (материалы «Мегаполис-Экспресса») 12 может наряжаться в одежды журналистики, воспроизводить ее приметы: интонацию, конкретику, стиль. У Довлатова: «Андрей Битов ударил по морде Андрея Вознесенского...» Хотя у этого анекдота есть чисто литературные корни (например, Хармс: «У Пушкина было четыре сына и все идиоты...»), документальный дух так силен, что пожилые и почтенные Битов и Вознесенский через 30 лет отмазываются в телеэфире на глазах у потрясенного отечества. «Скажи, Андрюша, что я тебя не бил». – «Конечно, Андрюша». Вот уж поймал так поймал. У Богомолова в романе цитируется документ: «Присвоить такомуто звание Героя СССР...». Далее следует сноска, а в низу страницы Богомолов озадаченно комментирует: я, мол, знаю, что надо Герой Советского Союза, но так написано в документе... Читатель соображает: документ, стало быть, подлинный – если бы выдумывал, выдумал бы без ошибки. Черта с два! Именно выдумал с ошибкой, с шероховатостью, в том-то и талант Богомолова. «Мегаполис» (импровизирую на ходу, воспроизводя дух издания): «В доме № 52 по Ново-Басманной улице в водосточной трубе обнаружен гигантский глист. Ученые говорят, что мутация произошла в результате кислотных дождей в сочетании с повышенной радиацией...» На самом деле не только глист, но и Ново-Басманная улица короче. На ней нет дома № 52. Но в этом ли дело?.. Мы потратили немало места, чтобы отделить конкретность как стилевую примету от конкретности как способа отражения действительности. В журналистике необходимо сочетание первого и второго. Важнейшее содержательное свойство журналистского текста – ясность. Когда достоинства идут через запятую, само перечисление 13 быстро теряет смысл. Чтобы подчеркнуть значение ясности, укажем, чем можно пожертвовать ради нее. Во-первых, точностью. Представьте себе, что вы объясняете нечто очень глубокое человеку не слишком внимательному и терпеливому. Он не воспринимает длинных периодов речи и постоянно пытается вас прервать и как-то упростить высказывание. Так ты имеешь в виду вот это: ... Вы имеете в виду не точь-в-точь это, но вынуждены пожертвовать тончайшими нюансами мысли. Журналист (в отличие от философа) излагает свою позицию просто и внятно, неизбежно слегка популяризируя ее. Во-вторых, изяществом. Красоты речи, поэтизмы, игра слов – все это допускается, только если служит большей ясности выражения. То есть обычно опускается. Ясность, внятность текста – это легкое чтение с постоянно ощутимым приращением смысла. Кроме того, ясность – это еще и честные правила игры. Как говорил Лев Толстой, неясность речи свидетельствует о неясности мысли. Чуть перефразируем Толстого: неясностью речи можно попытаться скрыть отстутствие мысли. Ясная речь – как прозрачная вода; в ней четко видно наличие рыбы или ее отсутствие. Тема 3. Контекст. Важное отличие журналиста от литератора (собственно, одно из важных отличий; этими противопоставлениями учебник будет буквально прошит) состоит в том, что журналист работает в команде. Отсюда – у него есть задача, участок фронта. И ему лучше сделать свою работу плохо, чем не сделать никак. Литератору – наоборот. Над 14 ним не каплет. Ему лучше никак, чем даже просто хорошо – потому что мы уже перекормлены литературными непортящимися шедеврами. А журналист подобен актеру со своей репликой. Пусть (в этой пьесе) кушать подано. И – в голосе ты или не в голосе, в ударе или нет – изволь выйти и сказать. Спектаклем в данном случае является контекст. В первую очередь, контекст полосы – что соседствует с твоим материалом. И если у вас просят статью эмоциональную, предельно субъективную, то будьте уверены – ее уравновесит чья-то отстраненная, суховатая, начиненная статистикой статья. Не тревожьтесь тем, что ваше мнение не совпадает с мнением газеты: газета найдет способ встроить ваше мнение в диалог. Я в принципе не очень интересуюсь политикой и уж тем более не пишу статьи на политические темы. Но когда НАТО бомбило Югославию, меня это отчего-то взбесило. И я позвонил Николаю Фохту, тогда главному редактору «Недели», и сказал, что хотел бы написать статью на тему югославских событий. – Что ж, – ответил Коля, – к пятнице пять страниц. К пятнице я написал пять страниц, а в положенный срок увидел в газете свою статью без единой поправки, а рядышком – проамериканскую. Что интересного в этой истории? Ничего. Она поучительна именно тем, что все в ней произошло, как и должно происходить. Во-первых, заказ касается объема и срока (может быть, характера подачи материала). Николай, заметьте, даже не спросил меня, на чьей стороне я собираюсь выступить. Во-вторых, меня, конечно, ничуть не покоробило, что газета дала площадь моему оппоненту. Я был уверен в своей позиции, и диалог, по-моему, только обналичил эту правоту. Третий предельно внятный момент в этой публикации был уже внутри материала – моя статья очень четко расквиталась с 15 информационным полем. Дело в том, что трудно компетентно рассуждать о военных событиях, происходящих далеко от тебя. С точки зрения владения информацией, ты заведомо проиграешь тысяче военных корреспондентов, находящихся в Югославии. К тому же, в еженедельнике не угонишься за темпом событий. Но, на мой взгляд, эти частности только уводили от главного информационного повода. И я начал свою статью с того, что НАТО бомбит суверенную страну в Европе (с этим фактом никто не спорил), и с ограничения: я буду работать только с этой информацией. Такой зачин и тогда казался, и сейчас кажется мне очень правильным для журналистики мнений. Вот вам факт, теперь компетентность автора равна компетентности читателя, других фактов в рукаве автора нет. А теперь – мнение. Скрытый диалог. У внимательного студента может возникнуть вопрос: а читал ли мой американофильский оппонент мою статью прежде, чем писать свою? (Скорее всего, да). И если да, не ставит ли это его в выигрышную позицию в диалоге? Много раз побывав в таких ситуациях на позиции первого и второго, обобщу: если второй начинает аргументированно возражать первому, то его позиция скорее проигрышна. Он принимает чужие условия игры, чужой язык, чужую расстановку категорий. Он как бы играет вторым номером, черными. Если даже ему удастся расшатать позицию противника, вряд ли он сумеет на ее руинах построить свою. Итог почти парадоксален – пишущий вторым имеет как бы преимущество: может прочитать первый материал. Но правильнее отказаться и играть на равных – белыми против белых. 16 В контекст полосы входят материалы, перекликающиеся тематически или только дополняющие друг друга жанрово, иллюстрации, дизайн. Полоса организуется зрительно и смыслово. В перекличку вступают заголовки материалов – именно поэтому часто редактор будет изменять ваш авторский и вроде бы удачный заголовок. Вы не знаете контекста, а он знает. Более тонкая и скрытая контекстная связь расположена уже не в пространстве, а во времени. Она увязывает ваш сегодняшний материал с традицией других, появлявшихся в газете на этом месте. Так как газета имеет тенденцию использовать конкретного автора (особенно штатного) на определенных позициях, то этот протянутый во времени контекст создан, в том числе, и вами. Это явные и неявные серии статей, рубрики. Серийность вырабатывает определенные требования к стилю, темпу, характеру материала. Это некая успокаивающая тенденция, образующая стандарт. Творческая неудовлетворенность журналиста время от времени толкает его на бунт против этих постепенно прописывающихся требований стандарта. Он склонен сломать все мерки и сделать решительно иначе. Подробнее об этом – во втором разделе учебника. А сейчас лишь заметим, что читатель газеты реализует свои творческие (в том числе, и читательские) амбиции в других местах. От газеты он ждет стабильности, нового по-старому и в привычном месте. Сама ситуация чтения (именно на этом перегоне метро, именно в этом кресле) организует эту стабильность. Еще есть контекст всех СМИ в совокупности, который выражается у хорошего журналиста в чувстве осведомленности читателя. То есть слово Березовский не надо ему объяснять, а слово 17 эпикриз не надо оставлять без пояснения. Как ни странно, обе этих противоположных по типу ошибки вызывают у читателя ощущение снобизма автора. Два способа выражения неуважения к собеседнику – говорить о непонятном как об общеизвестном и об общеизвестном как о непонятном. И, наконец, есть глубокий культурный контекст. О нем – в третьем разделе. А пока понизим пафос – в 90% случаев он для нас не актуален. ГЛАВА ВТОРАЯ. ЖУРНАЛИСТСКИЕ ЖАНРЫ. Тема 4. Жанр как условия игры. Вернемся на время назад, к самому началу учебника. Мы заняты в газете изготовлением легко читаемого материала, своеобразного фастфуда. Сообщаем мы информацию, вступаем в диалог или просто развлекаем, все это должно легко усваиваться. Даже полезные витамины мы предлагаем в яркой упаковке и вкусной облатке. Такова стилистика времени. Еще одно важное уточнение – мы не обманываем читателя. Даже в порядке невинной игры. Например, лучший (по-моему) роман Акунина «Коронация» носит подзаголовок ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОМАНОВ и начинается со смерти Фандорина. В конце, естественно, выясняется, что Фандорин жив, а подзаголовок оказывается репликой английского камердинера о Николае Втором (искаженное неверным падежом ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОМАНОВЫХ). Изящная литературная игра, виньетка на полях блестящего детектива. Но журналист не должен обманывать читателя – даже так. Еще один пример, казалось бы, совершенно из другой оперы. Однажды в буфете аэропорта «Шереметьево» я взял со стоечки и оплатил в кассе картофельные биточки со сметаной. Начав жевать продукт, я с ужасом понял, что он сладкий. Мороженый картофель?! Уже через секунду я сообразил, что это 18 сырники, внешне не отличимые от картофельных биточков (а ценник куда-то пропал). Что ж, сырники я люблю – и конфликт исчерпался. Мораль простая. Журналист должен не только уметь готовить вкусные и аппетитные сырники и картофельные биточки, не только правильно, на видных местах расположить ценники (рубрикаторы), но и в сам внешний вид продукта внести какие-то идентификаторы, чтобы сырник кричал я сырник! – а биточек, соответственно, я биточек! – и никто бы их не путал. Чего мы хотим от читателя? Когда чего... Иногда – приобщить его к мероприятию, на котором он не смог присутствовать. Иногда – попробовать в чем-либо убедить. Иногда – познакомить с интересным человеком. Или всего лишь рассказать об интересном человеке. Иногда рассмешить по серьезному поводу. И так далее. Соответственно, читатель – сквозь свое общее невнимание – все же слегка переключает регистры восприятия. То расслабится, чтобы получить максимум удовольствия, то как бы сосредоточится, чтобы не попасться на совсем пустой крючок. Правила игры с читателем – это жанр. Журналистика тяготеет к чистым жанрам, то есть к простым, стандартным сводам правил игры. И дело автора – как можно быстрее настроить читателя на жанр своего материала. Например, с первой фразы. Тема 5. Конкретные жанры и их критерии. Сегодня деревня Ишимбаево – сорок домов (из которых семнадцать заколоченных намертво), да еще пасека километрах в семи от главной усадьбы. Очерк! Небыстрый темп, статичность – глаголов вообще нет... Первое, что бросается в глаза, – огромный штырь, направленный в зал, как указательный палец. 19 Это репортаж. Автор добивается эффекта присутствия. Почему вам стоит сходить на этот спектакль? А вот это рецензия. Сходим – и увидим пресловутый штырь не словно, а буквально своими глазами. Мой сегодняшний собеседник... Интервью. Чего уж. Говорят, один житель Новопеределкина скопил у себя в двухкомнатной квартире стратегический запас продовольствия на девять человеко-лет. Наверное, это будет аналитическая статья. Очевидно, что история тут не самоцель, иначе ее рассказывали бы медленнее и вкуснее. Скорее всего, зачин выведет нас к проблеме разговора. И чем скорее, тем лучше для автора. Приспичило тут одному гражданину попасть на фестиваль – ну простотаки через все тернии потянуло к звездам. Фельетон. Уходящий жанр. Прежде, чем продолжить разговор о конкретных жанрах, ужесточим требования к их быстрому диагностированию. С первой фразы. Так. А можно быстрее? Почему нет? Во-первых, можно просто и тупо отмечать жанровую характеристику, например, справа сверху от самого материала. Во-вторых, давайте подумаем, как определяется жанр с полувзгляда, когда (помните?) до отдельных букв еще очередь не дошла. Колонка и подвал даже названы по их форме и месту на полосе. Интервью издали распознается по чередованию вопросов и ответов, а если еще точнее – по чередованию шрифтов вопросов и ответов. Очерк и аналитическая статья попросту больше, чем репортаж или рецензия. 20 В-третьих, через иллюстрацию. Очерк естественно проиллюстрировать пейзажем, репортаж – снимком с места событий, статью – искусно подобранным жанровым фото из архива, может быть, ассоциативно связанным с материалом; интервью – портретом героя, колонку – автора, фельетон – карикатурой, рецензию – никак (или обложкой, например, рецензируемой книги, кадром из фильма и т.п.). Еще немножко о конкретных жанрах. Не надо определений, просто по несколько замечаний по ходу дела. Интервью настолько важно, что о нем – далеко потом. Пока что лишь отметим, что сделать среднее интервью значительно легче, чем средний авторский материал. Допустим, вам надо выдать некоторый объем связного текста (да еще к определенному неумолимо надвигающемуся сроку), а на вас напал полный ступор. Страшный сон начинающего журналиста. Ну буквально двух слов не можете поставить рядом, ни одной мысли, ни одной зацепки. Все кажется либо дико банальным, либо дико нелепым. Еще хуже, если у вас при этом есть диплом журналиста – чему же вас учили 5 лет, если так все ужасно кончилось?! Если бы можно было застрелиться из компьютерной мыши, вы бы застрелились. Человек с нормальной фантазией легко представляет себе соответствующие страшные сны начинающего актера, педагога, летчика и т.п. Как одолеть пресловутый ступор – чуть ниже, в теме «Бэкграунд». А пока что лишь отметим вскользь, что в случае интервью оснований для такой паники нет. Спросил – ответили, расшифровал, отредактировал. Что-то уже есть. Белый лист (пустой экран) не давит на психику. 21 Но хорошее интервью сделать, наоборот, значительно сложнее, чем хорошую статью. Главная цель репортажа, как уже понял внимательный читатель, – создание эффекта присутствия. Ни в коем случае не информация о событии (это сообщение). Дело опять же не в дефинициях, а в оправдании вашего присутствия там. Допустим, в Тушино был авиапарад и в нем приняло участие столько-то того-то. Это мы можем и из сети списать. А вот то, что вас толпа прижала к трибуне, что вы видели только распаханные облака и слышали гул, то, что пахло отчего-то шпалопропиточным составом, что играл духовой оркестр, что дуло с Москва-реки, что мелькнул Жириновский, что... в общем, все это составляет – скажем учено – симультанный образ авиапарада. (Что это слово добавляет к остальным, точно сказать не могу, но что-то добавляет. Я его услышал на лекции, теперь передаю вам. Оно, помоему, хорошо само по себе, правда, в контексте обучения, а не собственно журналистики. Ну и хватит о нем.) Лучший способ ухватить интонацию репортажа – представить себе радиорепортаж, сначала – в прямом эфире, а потом уже как рассказ очевидца. Переводя первое во второе (настоящее в прошедшее), мы немного теряем в драйве, зато приобретаем чувство целого, и даже придерживаясь строгой хронологии событий, все равно (подчас невольно) имеем в виду весь сюжет, центруем фрагменты по главному, узловому моменту. В прямом эфире этот узловой момент в момент (извините за тавтологию) появления будет выделен криком, а потом – возвратами, воспоминаниями. Самый легкий пример – решающий гол в футбольном матче. 22 Очерк – может быть, сложнейший журналистский жанр. Скажем определеннее – сложнейший газетный жанр. И дело тут в пограничности. С одной стороны, очерк граничит с рассказом. Если бы мы не гнушались определениями, мы назвали бы очерк невыдуманным рассказом. «На входе», по типу создания, очерк разительно отличается от рассказа: автор вступает в совсем другие отношения с действительностью. Но «на выходе», если учесть, что и прозаик, и журналист добиваются правдоподобия, вполне можно спутать очерк и рассказ. Давайте разберемся. Очеркист как бы добавляет: это произошло на самом деле или такой человек действительно существует. Вслух это как раз чаще добавляет прозаик: эту рукопись я нашел на чердаке своей усадьбы или эту историю мне рассказал стряпчий в Новой Слободе. Но, воспитанные культурой, мы не должны ловиться на подобные обрамляющие ходы. Давайте сделаем решающий ход: прозаика интересует история сама по себе, вне зависимости от того, случилась ли она на самом деле. Очеркист же сообщает нам нечто, ценное именно своим реальным существованием. Например, история о человеке, который все успевает делать, в качестве прозы скучна: еще и не то придумаешь. А как очерк любопытна – ведь есть такой человек! Как у него это получается?.. Скажем лишний раз, что Андерсен заведомо умнее толкователей Андерсена. (И нас в том числе.) И все же, когда придворные у Андерсена узнают про соловья и розу, что они настоящие, и воротят после этого носы, это не просто фигура пошлости. Действительно, в искусстве не нужны настоящие соловей и роза. Нужны живые, но не настоящие. В очерке – наоборот. 23 Другая пограничная черта очерка – в его неполной газетности. Посмотрим на этот феномен с двух сторон. Штатный автор даже не ежедневной газеты живет отрезками времени в 30-40 минут. И вот его вызывает главный редактор и посылает на недельку в отдаленную деревню, написать очерк о любопытном кустаре. Автор для начала выпадает из ритма. Ему некуда больше спешить. Его командировка почти не отличима от отпуска. Сегодня он покупает билеты. Завтра складывает чемоданчик и едет... Когда возвращается, узнает, что его материал точно не пойдет в следующий номер, потому что есть более актуальные темы. С точки зрения читателя, как мы уже говорили, драйв, нервность чтения ослабевает к концу газеты. В районе последних полос уместен очерк – текст подчеркнуто неспешный, просторный. Его назначение можно было бы определить как расслабляющее. Точнее – темповый контрапункт. Отсюда – обилие ловушек, подстерегающих начинающего очеркиста. Угодить в область рассказа. Угодить в ничейную, межеумочную область. Недостаточно замедлить темп – и не решить поставленную задачу. Чересчур замедлить темп – и потерять читателя на первом абзаце. Будучи явлением меры, очерк – в высшей степени традиционный жанр. Лучший способ научиться писать очерки – читать очерки и постепенно усваивать темп, ритм, интонацию. Аналитическая статья – или просто статья. Не больно-то и аналитическая, может быть, наоборот, эмоциональная реплика. Этот жанр, вопреки нашей системе правил игры, проще выделить с точки зрения процесса создания. «Чистый» жанр, образцы которого производятся не вставая от компьютера. Для сравнения – интервью, 24 очерк, рецензия, репортаж делаются принципиально иначе. Собственно письму там предшествует предварительная работа. Отсюда три базовые черты статьи: 1) некоторая близость к литературной ситуации, говоря точно, к эссеистике; 2) синдром белого листа, опасность того самого ступора, когда ну нечего сказать по существу, а для разгона нет ни места, ни времени; 3) если уж удается написать статью, то она становится самым выгодным жанром: время тратится только на вывод букв на экран, а без этого, сами понимаете, не обойтись. Подробнее о написании статьи, повторим еще раз, в теме «Бэкграунд», а пока лишь заметим на полях, что обмануть судьбу невозможно. Предварительная работа над статьей не отсутствует, а размыта во времени. Журналист ведет ее, условно говоря, всю жизнь, а в момент планирования статьи актуализирует. Рецензия – востребованный жанр, подробный разговор о котором неотделим от разговора о современном состоянии культуры. Мы выносим его в третий раздел. Соседний жанр – обзор. Главная (помоему) черта и рецензии, и обзора – эмоциональная наводка читателя на то, что вам искренне понравилось. Остальные жанры мы бегло перечислим из чисто учебных соображений, чтобы никто нас с вами не упрекнул в незнании или забывчивости. Библиотечный характер упоминания связан с тем, что начинающему журналисту не доведется работать в этих жанрах. Передовица. Выражается мнение газеты. Расследование. Жанр, близкий к образцам судебной риторики. Цена слова становится невероятно высока. 25 Фельетон. Юмористический рассказ с реальными героями и реальными последствиями. Именно последний указанный фактор практически исключает фельетон из современной отечественной палитры. Если есть гражданское общество и стыд является одним из регуляторов общественной жизни (Англия), то яркий узнаваемый фельетон может заставить, например, политика уйти в отставку. В СССР за последствия брались властные структуры, а фельетон, скажем, в «Правде» играл роль вестника гнева. Это, кстати, исказило и стилевые черты жанра. Различие как между степным волком и цепным псом. Цепнопсовые интонации сохранились и в некоторых изданиях третьей эмиграции (читайте Довлатова о «Новом русском слове»), и в современной патриотической прессе. Но это пес без хозяина. Собака лает – караван идет. Колонка – промежуточный жанр. Это периодическая эссеистика с заданным объемом. Ну, еще такая мелочь – это эссеистика в «онлайне», написанная вчера-сегодня, хотя бы и о сугубо личном. О лечении зубов автора, но в сегодняшнюю погоду, по сегодняшним расценкам. Автор колонки – статусное лицо и вовсе не обязательно журналист. Может быть, артист или политик, чаще всего – литератор. Говоря строго, колонка – образец интеграции негазетного материала в газету. Еще чуть-чуть о перетекании газетного в негазетное, мнения в информацию и развлечение. Представим себе шумное ресторанное застолье. Языки развязаны. Информация тут гуляет даже не в виде сплетен, а в виде зачинов для бесед, с быстрым реагированием и обсуждением. Мнения превалируют. Развлечение в чистом виде представлено музыкальным ансамблем, массовиком и певцом. И есть 26 яркий человек, остряк. Он говорит красиво. Нечто среднее между обменом мнениями и развлечением. Это и есть колумнист-колонкер. Тут есть опасность словоблудия, но, слава Богу, это пока что не актуальная для вас опасность. Сперва надо сделаться статусным лицом. Тут по интонации нужно некое итоговое рассуждение. Что ж. Противопоставление литературы и журналистики для нас уже привычно. В литературе жанровая определенность как правило признак второсортности, бульварности. Иронический детектив, любовный роман, мистический триллер... Шедевры пишутся не для читателя, поэтому восприятие их также становится творческим процессом, правила которого скорее интуитивны. Жанр классического произведения («Мертвых душ», «Преступления и наказания», «Мастера и Маргариты») – стандартная тема филологической диссертации. В журналистике чистый жанр – добродетель. ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЖУРНАЛИСТСКИЕ КАТЕГОРИИ. Так получилось, что у этой главы есть сквозная тема. Это борьба с белым листом, концентрация ресурсов для создания чего-то из ничего. Давайте четко определим задачу. Во-первых, глупо и смешно было бы пытаться свести написание статьи к точно регламентированной последовательности действий. Все-таки это не кулинария. Мы слишком уважаем профессию журналиста, чтобы вбить ее в рецепт. Скорее пойдет речь о 27 воспитании навыков, о маршруте, каждое новое прохождение которого будет осмысленнее предыдущего. Во-вторых, есть нечто, не вмещающееся в сумму навыков. Это – творческая деятельность, то, что отделяет более удачную, любимую статью даже опытного автора от менее удачных, проходных его статей. Хорошо, когда есть озарение. Но эта глава трактует ситуацию, когда его нет. Мы боремся с гибельной немотой, преодолевая ее более или менее осмысленной речью. Наша цель – в условиях творческого бессилия наметить и написать посредственную статью, предотвратить аварийную ситуацию в номере, выполнить свои обязательства. Напомним – в командной работе лучше сделать плохо (ладно – средне), чем не сделать никак. Это относится в первую очередь к штатному сотруднику, но и к внештатному, если он обещал. Мы плавно переходим к третьему уточнению. Обещал, значит, имел какие-то основания на то. Иначе говоря, от каких предложений следует отказываться наотрез и твердо? По крайней мере, мы в данной главе не беремся лечить осложнения, вытекающие из принятия таких предложений. Не стоит браться за темы, которые вас совсем не волнуют. Недостаточная осведомленность – не повод для отказа. Иногда хорошо знать чуть больше читателя или даже столько же. Но эмоциональный нуль – его не скрыть. Одна моя знакомая сделала довольно добросовестный материал об эвтаназии. Грамотно изложила доводы за и против. Вот только ей самой все эти проблемы были откровенно до фонаря. К концу статьи пустота зияла настолько, что моя знакомая решила ее вскрыть. Она написала: «Вы хотели бы знать мое мнение об эвтаназии – его у меня нет». Понятно, что пустота не исчезла от простой констатации пустоты. Допустим, что редактор в нарушение всяких этических норм в конце приписал бы от себя: «Вы хотели бы знать мое мнение об эвтаназии – я 28 решительно против!!!» Эта просто организованная истерика на одном конкретно взятом месте ни от чего не спасает. Невозможно оживить мертвое с помощью уловки. Следствие безразличия – бестемпературность текста. Есть такой непрофессиональный и неоплачиваемый жанр – письмо в газету. Я пишу вам потомучто у меня больше нет сил терпеть эту стерву соседку. На постоянные упоминания насчет того что давно вечер она ржет мне прямо в глаза. Я инвалид второй группы у меня справка ВТЭК она сволочь плюет на мою справку... В таком примерно духе. Письмо в газету: не организованно, не взвешенно, не грамотно, тупо по духу и стилю. Но в нем есть главный жизненный зародыш – эмоциональный заряд. У него решена проблема с мотивацией высказывания. Здесь проходит планка уровня. Именно поэтому письмо имеет шанс на публикацию. Профессиональный журналист все более глубоко и тонко организует текст. Но нулевой позицией для него является письмо в газету, заряд небезразличия. А как быть, если совсем все равно? Отказаться. А если приходится чересчур часто отказываться? (То есть, поясняем, если вам почти все до фени.) Два варианта: менять себя или менять профессию. Средняя статья – это что-то вроде электрического контура, проводящего ток. Наличие тока здесь подразумевается. Иначе все бессмысленно. Тема 6. Самоопределение. Молодого автора сбивает с ног практически любой «взрослый» вопрос. Например, кто Вы по своим убеждениям? Кто – я?! Ну да. Автор ввергается в глубокую задумчивость. Как показывает опыт, все для него в диковинку. И само наличие убеждений. И то, что их можно с помощью простых вопросов-ответов 29 вытащить наружу, осознать. И то, что можно назвать простыми словами. Что, впрочем, молодой автор... Мне было уже за сорок, когда мой знакомый заметил вскользь, что у нас у всех имперское мышление. Я начал было отрицать: у меня, мол, мышление вполне доброкачественное, демократическое. Тогда знакомый спросил меня прямо: – Ты живешь в великой стране? – Да, – ответил я без колебаний. И заткнулся, потому что вопрос идеально обнажил мое имперское мышление. Далее мы можем сколько угодно спорить о путях к процветанию империи или, наоборот, о путях борьбы личности с этой империей. Но никакой швейцарец или бельгиец не скажет так про свою страну. Другой пример, еще более показательный. Женщина собирается стать крестной матерью младенца. Священник спрашивает ее, верит ли она в Бога. – Я крещеная, – отвечает женщина. Логика ее ясна: есть протокол обряда. Тебя крестили, теперь ты крестишь. Член партии рекомендует товарища в члены той же партии. Но священник спрашивает немного не про то. – Ты в Бога веришь? Женщина смущенно хихикает и явственно затрудняется с ответом. Тогда священник спрашивает иначе: – Бог есть? – Да, – отвечает женщина немедленно. Священник, удовлетворенный, удаляется в алтарь. С точки зрения чистой логики, вопросы веришь ли ты в Бога и есть ли Бог, заданные одному человеку, абсолютно синонимичны. Но эмоциональный окрас их различен. В первом случае отвечающий занимает во фразе место подлежащего. Речь идет о сумме его чувств. Он начинает тревожно вслушиваться в себя. Достаточно ли явствен аффект веры, пафос? Пульс вроде есть... нет... все-таки есть... 30 Во втором речь идет о свойствах мироздания. Центр тяжести смещается с субъекта на объект. «Бог есть», – с облегчением говорит новоявленный эксперт, понимая, что его никто не собирается прощупывать на предмет твердости веры, – и, соответственно, выражая довольно твердую и бескорыстную веру. В формулировании своей позиции есть один щекотливый момент, и было бы нечестно его обойти. Каждый из нас – индивидуальность, более того, уникален в качестве мыслящего субъекта. Конечно, человек не сводим к совокупности его взглядов. Остается за скобками его физический облик, голос, манера, стилевые особенности. Но хочется верить, что и наши с вами совокупности взглядов уникальны. Наверное, так оно и есть. Трудно представить себе двух людей, долго говорящих на животрепещущие темы и все время соглашающихся друг с другом. Терминов же для обозначения позиций до обидного мало. В области политики – либерал, патриот, консерватор, анархист, демократ... Ну, 20. Ну, с уточняющими эпитетами – 100. Ну, философия. Ну, культура. И эти шесть типовых слов – это я?! Безусловно, здесь есть момент упрощения. Мы жертвуем тонкими нюансами. Повторяем – точностью ради ясности. При этом никто не просит вас самих мгновенно упрощаться до своего самоопределения. Все детали и нюансы остаются с вами, но к ним добавляется – ярлык? Пусть ярлык, эмблемка позиции. Теперь если по ходу разговора вам надо будет быстро обозначить свою систему взглядов, вы сделаете это легко. Теперь давайте постараемся сформулировать свою позицию в отношении темы искренностью, данной статьи – и честностью перед собой, уже а с максимальной также со всеми уточнениями, возвратными ходами, сомнениями. Без упрощений. Это 31 может быть не очень внятная запись, понятная только вам, схемка, картинка со стрелочками. Это не для читателя – по крайней мере, в таком виде. Это внутренняя доминанта вашей статьи, ее смысловой и эмоциональный заряд. Например. Меня занимает проблема эвтаназии – и не только потому, что она может коснуться меня самого или моих близких. Нет, даже страдания незнакомого человека мне не безразличны. Если нет другого способа справиться с этими муками, из голого принципа не прекращать их – это жестоко. С другой стороны, а если это минута слабости? А если завтра ему вдруг необъяснимо захочется жить? А послезавтра медицина вдруг найдет конструктивный способ вылечить его недуг? Кроме того, если узаконить эвтаназию, за ней встанут другие послабления главного закона медицины, а тут я решительно против. Я не знаю... Наверное, эта проблема должна решаться каждый конкретный раз заново, со всеми мучениями. Но накапливать культурный опыт и не пользоваться им глупо. Я в затруднении... Вы можете сказать, что вот так елозить между «да» и «нет» – это как раз отсутствие мнения. Пожалуй. Но это не отсутствие интереса. Это не то же самое, что вежливо стоять в стороне. Может получиться хорошая, открытая статья. Теперь давайте позиционируем себя по отношению к данной статье. Постараемся превратить недостатки в достоинства. 1. Я не специалист в медицине. Это скорее плохо, чем хорошо, но мои читатели – тоже не специалисты, и больные, и их родственники – тоже не специалисты. Мне легче будет нащупать общий язык для разговора с заинтересованными людьми – не специалистами в медицине. Да и вообще, эвтаназия – не внутренняя проблема медицины. Скорее, она начинается там, где кончается медицина. 32 2. Я молодой здоровый человек, все мои родственники (тьфутьфу) тоже пока в порядке, так что у меня нет личного интереса к проблеме эвтаназии. Это скорее плохо, чем хорошо, но в противном случае мне трудно было бы рассуждать. На меня давил бы страх – или депрессия. Я обращаюсь к читателям, для которых эта проблема не стала еще жизненно актуальной, и мне легче будет говорить с ними на их языке, вводить в курс дела, приобщать. Люди, знакомые с проблемой эвтаназии не умозрительно, скорее всего, мало нового узнают из моей статьи. Но, с точки зрения журналистики, попасть в этот сравнительно узкий слой и не попасть в широкий было бы опаснее. 3. Я не видел, как проводится эвтаназия, и не знаю деталей. Это скорее плохо, чем хорошо, но, по зрелому раздумью, зачем мне эти детали? Хороши ли технологически, удобны ли в эксплуатации газовые камеры или электрические стулья? Зная детали, я написал бы репортаж «Эвтаназия как она есть». Для аналитической статьи «Эвтаназия – преступление или милосердие?» детали играют роль деревьев, заслоняющих лес. И так далее. Вовсе не обязательно быть знатным москвоведом, чтобы написать классную статью о Москве. Можно вообще впервые ее увидеть. Надо только правильно сфокусировать тему: «Москва глазами приезжего (командировочного, туриста, иностранца, провинциала)». И не строить из себя знатного москвоведа. Тема 7. Формат. Будем, уже по привычке, отталкиваться от литературы. Один мой знакомый написал книжку для большого издательства. Не художественную, что-то типа тематической детской энциклопедии. Работу 33 приняли и даже похвалили. Осторожно предложили автору написать по заказу издательства художественную книгу. Например, мистический триллер. – Но мне не хочется писать мистический триллер, – ответил мой знакомый. – А что хочется? – Роман. Просто роман. – Чудесно. Пусть будет просто роман. А о чем? – Ну... я бы показал историю России ХХ века на материале жизни двух семей. – Превосходно. Напишите разработку. Знакомый написал и принес. Редакторы прочитали и восхитились: – Чудесно! Голсуорси отдыхает. Подпишем договор? – Нет. – Но почему? – Я не работаю по заказу. История звучит, как анекдот, но за ней встает определенный смысл. Допустим, литератор намечает для себя некий план действий. Почему нет? Хоть диаграммы и графики. Пока это явление самодисциплины, мы не возражаем. Но вот этот план без единой поправки спускается к автору в виде внешнего заказа. Автор принимает собственные условия и скрепляет их подписью. Именно тут он поступился толикой абсолютной свободы. Ошибка. Совершенно другая ситуация у актера: его свобода ограничена текстом пьесы и общим замыслом режиссера. Поскольку журналистика – работа в команде, журналист ближе к актеру (скажем точнее – исполнителю), чем к писателю. И тут надо четко разграничить область заказа и область свободы. (У актера, например, область заказа не ограничена. Станиславский прямо рекомендует, о чем актеру думать – даже не на сцене, а в период подготовки роли. Мы не можем представить себе 34 режиссерский совет, на который актер говорит: «А вот это уж мое личное дело».) Для журналиста область заказа – тема, объем материала и срок. Ну, еще чисто жанровые уточнения типа максимально субъективно или без нагнетания пафоса. Областью свободы являются собственно позиция автора и стиль письма. Впрочем, второе можно было не упоминать. Это как походка – зачем ходить строем? Требования формата могут восприниматься как ограничения (тем более, это так и есть), а могут как формообразующие. Я, например, около года писал литературные рецензии в «Еженедельный Журнал». Там требовался крайне малый объем, около страницы компьютерного текста. Сперва мне приходилось постоянно себя одергивать, сокращать – то мысленно, а то и прямо на экране. Из абзаца делать фразу, из трех продолжений мысли усилием воли выбирать одно. Это было неприятно. Потом я сумел переформулировать объем в уточнение жанра: говорить только главное. Писать стало легко. В тот же год я написал пару рецензий в «Знамя», где требовался примерно втрое больший объем. Я определил его для себя как речь с отступлениями. Стало легко. Представьте себе, что в застолье тамада намекает вам, что за вами следующий тост. У вас есть порядка пяти минут. Готовить текст – записывать, шлифовать, редактировать – нелепо. Надо ухватить доминанту, в подводку и порядок высказывания пустить экспромтом, на автопилоте. Щедрость – вот о чем пойдет речь. Вы готовы, а от пяти минут осталось еще четыре. 35 Требование срока (от тебя требуется небольшая статья через 40 минут) лучше всего перевести в устный формат. Например, тоста или реплики. Нащупать доминанту. Вплести ее в естественную речь. Общая канва рассуждений такая – чем больше мы знаем о своем будущем материале, тем меньше нам осталось добавить, чтобы его дописать. С этой точки зрения, требования формата (заказ) уничтожили стоящую на данных позициях неопределенность и придвинули нас к результату. Но только никогда не соглашайтесь на то, чтобы заказ вторгался в область вашего мнения. Даже по мелочи. Допустим, вас просят смягчить очень уж экстремистское, крайнее высказывание. Пожалуйста – смягчить можно формы выражения. Но не мнение. Выражая не свою позицию (даже несильно смещая ее), вы жертвуете искренностью, а без искренности речь теряет упругость. Уйдет живая интонация – и рассыпется все, вплоть до синтаксических связей. Тема 8. Бэкграунд. Внимание! До этой главки статьи еще не было. Сейчас она возникнет «из ничего». Почему мы не говорим «опыт», а задействуем англоязычную кальку? Потому что мы хотим то ли уточнить, то ли немного сместить базовое значение слова «опыт», и нам нужна незанятая вакансия. При этом, пожалуй, нас не очень волнует точное смысловое соответствие нашего нововведения английскому первоисточнику. Итак, начинаем накладывать смысл в слово, как мороженое в вафельный стаканчик. 36 Напомним: тема статьи вас хоть немножко волнует; у вас есть позиция. Теперь актуализируем в мозгу все, что отзывается на тему данной статьи, в следующем строгом порядке. 1. То, что произошло с вами или на ваших глазах. Это ваш опыт. 2. Ваши мысли, суждения, умозаключения, ассоциации. Это тоже ваш опыт. 3. Истории, услышанные вами в купе, в электричке, рассказанные за соседним столиком в кафе. Пусть это произошло не с вами, не с вашими знакомыми, да и рассказано не вам, да, может быть, и вообще вранье, но это тоже ваш опыт – по праву внимания и памяти. Никто не просит вас клясться в фактологической точности излагаемых событий. Вы за что купили, за то и продаете: эту историю я услышал в электричке. Эксклюзивность вашего владения историей можно сформулировать так: вряд ли другой пишущий субъект присутствовал при том рассказе. А большей эксклюзивности добиться нельзя. 4. Необщезначимый культурный опыт – редкая, малоизвестная книга или не очень заметный старый фильм, который мало кто видел. Это такая же ваша собственность, как подслушанное. Нужен только навык быстрого и внятного пересказа. 5. Общезначимый культурный опыт, но не очевидно связанный с темой вашей статьи. Тогда вашей интеллектуальной собственностью становится именно усмотренная вами связь. 6. Общезначимый культурный опыт, очевидно связанный с темой вашей статьи. Это общее достояние читателя и вас. 37 Надо вкратце намекнуть, что вы не упустили из вида этот очевидный ракурс. Но большого объема отсюда не следует: так, упоминание, полуфраза. Тут был бы уместен пример, но в печатно-засушенном виде он будет неубедителен. Как заранее заготовленный экспромт. В формате лекции я бы произвел эту работу за 10 минут на одну из трех тем, предложенных залом. Впрочем, что значит «бы»? Я это делал неоднократно. Важнее то соображение, что тут речь идет не о фокусах перед аудиторией, а о действующей методике. Именно так я пишу статьи, которые выходят в разнообразных печатных изданиях. Им предшествует план. Те 8-15 пунктов, которые возникли на вашем листке, это почти план. Планом статьи они станут, когда вы определите порядок изложения. Тут, может быть, пара пунктов выпадут из сюжета – Бог с ними, пригодятся в другой раз. За каждым пунктом плана стоит мыслимый объем – ни в коем случае не то, что можно выжать отсюда, а то, во что разворачивается данная эмблема посредством ясного и краткого изложения. Никакой воды. Все же ради примера... Тема статьи: «Месть». Пункты плана: 1. История Андрюши. 2. История про свиней. 3. Месть как общественный нравственный регулятор. 4. Христианство как передоверенная месть. Возмездие. 5. «Граф Монте-Кристо». 6. «Бочонок амонтильядо». 38 7. Ленин и А.И.Ульянов. 8. «Страшная месть». 9. «Выстрел». И т.д. Пп. 5,6,8,9 довольно однородны. Либо придется упомянуть их буквально через запятую, либо надо продумать тут вдобавок к упоминаниям некую типологию или классификацию. Пп. 1 и 2 непонятны пока заглянувшему через плечо досужему читателю, но это ерунда. За ними встает, скажем по 3 абзаца. Без воды, но и без утомительного сжатия, в нормальном рабочем темпе. Пп. 3 и 4 более пластичны. Скажем, от 3 до 7 абзацев в сумме. П. 7 может и не пригодиться. Можно прикинуть итоговый объем и сравнить его с необходимым. Возникает чувство соразмерности плана и нужного объема – причем возникает довольно быстро, к третьему-четвертому материалу. Если вы чувствуете, что объем пока получается слишком маленький, наращивайте пункты плана, но ни в коем случае не нарабатывайте объем за счет словоблудия, изящных оборотов, всяческих замедлений темпа. Это будет не журналистика. И не надейтесь, что объем возникнет за счет плавных переходов от одного фрагмента статьи к другому. Если план логичен, то на «сращивание» уйдет буквально полуфраза (С другой стороны...), а то и просто красная строка: ...но и такие допущения, даже если найдутся общественные институты для их реализации, вряд ли решат проблему окончательно. Один мой друг, Андрей О., после долгого и унизительного развода затаил глубокую обиду на бывшую жену... У нас нет возможности оценить рассуждение и историю, но переход не выглядит резким. 39 Итак, предлагаемый путь от чистого листа к готовой статье такой: неравнодушие – позиция – активизация бэкграунда – план – статья. На входе, повторяем, не круглый нуль. На выходе не шедевр, а нормальный удовлетворительный продукт. Но метод работает. Последнее важное уточнение. Я не утверждаю, что это единственный или даже предпочтительный для вас метод. Вам удобнее написать иначе (без плана, одним куском, под музыку Бетховена и т.п.). Флаг в руки. Повторяем, речь идет о бедственной ситуации внезапной немоты и о ее преодолении. Тема 9. Адресат. Повторим еще раз: газетный материал (в первую очередь, то, что широко называется статьей) является скрытым диалогом с читателем. Или, скажем так, монологом перед молчаливым собеседником, лицо которого выражает некоторую эмоцию. И если это нетерпение, то надо ускорить темп разговора. Если недоверие, то, наоборот, замедлить, пояснить детали. Эту воображаемую фигуру диалога я для себя называю адресатом. Забавно, но мы можем перечислить некоторые черты этого несуществующего, обобщенного субъекта. Во-первых, читатель вашей статьи – это читатель всего издания. Допустим, вы пишете о музыке в газету для автолюбителей. Так вот, ваш читатель – не меломан, а автолюбитель. Это не значит, что с ним о музыке надо говорить в автомобильных терминах (гобой барахлил, как карбюратор). Это значит, что он не специалист в музыке. Во-вторых, надо представлять себе средне доверчивого читателя. Это тоже очень понятно. Чересчур доверчивый кивнет на все подряд, и мы 40 пропустим место, где надо было замедлиться, объяснить свою мысль подробнее. Болезненно недоверчивый будет морщиться на все подряд, и мы замучаемся объяснять очевидные вещи. Это направление абсолютно тупиковое – стопроцентному скептику и спорщику все равно ничего не докажешь (хотя бы потому, что мы находимся не в сфере доказательств, а в сфере аргументаций), и при этом мы растеряем остальных читателей. Лицо средне доверчивого читателя подвижно, способно выразить как согласие, так и недоверие. Тем оно и ценно. В-третьих, адресат средне информирован. В частности, он не посвящен в узко специальные детали пивоварения или астрономии – и не нуждается в этих деталях. Здесь источник частой журналистской ошибки, называемой ножницами, когда автор принимается излагать нечто, одним уже известное, а другим ненужное. Вот, собственно, и все. По сути, мы говорим о регулировании темпа изложения, усилении и расслаблении аргументации. Можно ли описать необходимый навык, не прибегая к вспомогательной фигуре адресата? Конечно. общезначимые Нужно уметь положения (с в своей которыми позиции различать экзотично спорить), укорененные в культуре в качестве версий и парадоксальные (которые экзотично высказывать). Чувство адресата или, что почти то же самое, чувство адекватности высказывания позволяет не потерять читателя на уровне смысла. То есть, может быть, он и отбросит вашу статью, но, по крайней мере, не потому что она непонятна и не потому что она жует пустоту. 41 Тема 10. Модальности и другие уточнения смысла. Сейчас речь пойдет об одной важной частности. О том, как мы склонны путать сильное и убедительное высказывания. Например, мы заметили связь между работниками ДЭЗов и мздоимством. Мы прописываем ее: Сантехники и водопроводчики берут взятки. Нам кажется, что этого мало. Мы усиливаем тезис: Все сантехники и водопроводчики берут взятки. Конечно, высказывание изменилось. Но от усиления оно стало менее убедительным. А вот есть один странный водопроводчик в Бибирево, который не берет взяток. Какой механизм ответственности стоит за этим размашистым «все»? Очевидно – никакого. С юридической точки зрения, теперь любой сантехник или водопроводчик может подать на автора в суд за клевету. Обвинил – докажи. Но дело даже не в этом. Явная безответственность понижает доверие к автору. Попробуем ослабить тезис: Большинство сантехников и водопроводчиков берут взятки. Тоже неудачно. Если мы владеем статистикой, то надо ее привести со ссылкой на источник. Если нет, то не надо использовать слово «большинство». Давайте, наоборот, предложим самую слабую форму высказывания. Навряд ли нас с вами удивит ситуация, когда сантехник или водопроводчик берет с жильцов дополнительную плату за работу. Слабейшее по напряжению становится сильнейшим по убедительности. Навряд ли удивит. И навряд ли у нормального читателя возникнет раздражение или желание спорить с этим тезисом. А дальнейшее рассуждение вполне может начаться здесь – для него не 42 нужны были ни все, ни большинство. Хватило типичного – и это нормально. Вот захотелось нам процитировать Набокова. И мы организуем пышный зачин: Набоков, лучший русский писатель ХХ века, однажды сказал... Это неудачно. Потому что мы распорядились титулом, которым нам никто не доверял распоряжаться. Даже внутренне согласного с нами читателя уколет ощущение безответственного слова. Подскажем кучу нормальных вариантов: Один из лучших русских писателей ХХ века... Великий русский писатель... Может быть, лучший русский писатель ХХ века... Пожалуй, лучший русский писатель ХХ века... (калька с известной рекламы пива) По-моему, лучший русский писатель ХХ века... Лучший русский писатель ХХ века по версии журнала «НЛО»... В общем, идея ясна. Никогда (кроме исключительных случаев) не говори «никогда». А также «всегда», «все», «любой», «никакой», «большинство». Чтобы провести ток мысли, обычно хватает слабого убедительного высказывания. Тут уместен исторический анекдот про выдающегося адвоката Плевако. Он вызвался защищать обедневшую дворянку, укравшую с соседского подоконника банку сметаны. Прокурор, заранее подавленный величием защитника, решил нагнать пафоса и повернул дело так, что несчастная женщина скомпрометировала дворянство – правящий класс России – и тем самым замахнулась на общественные устои. Зал с интересом ожидал речи защитника, но Плевако выступил невероятно коротко. – Я думал, – сказал он, – что это дело о банке сметаны, но раз речь зашла об устоях общества, я не готов к защите. 43 Что ж, процесс пошел своим чередом. Судья спросил присяжных, виновна ли обвиняемая в подрыве устоев России (так, напомним, было сформулировано обвинение), те, естественно, ответили «нет». Дворянку оправдали. Прокурор пал под тяжестью собственного обвинения. Он – не первый и не последний – спутал сильное высказывание с убедительным. А связь тут скорее обратная. Часто нам надо просто произнести фразу и потом как-то на нее отреагировать. Может быть, через абзац мы выясним, что опорный тезис прямо неверен. Есть тьма способов дистанцироваться от высказывания. Сказать – и в то же время не сказать, не брать на себя ответственность по ходу речи. Я слышал, что... Есть мнение, что... Допустим, ... Иногда нам достаточно утвердить некоторое высказывание в слабом статусе предположения, гипотезы, версии. Уже этого хватит, чтобы, например, разрушить очень сильный (и неубедительный) тезис противника. Может быть, ... Трудно исключить такой вариант: ... А если... Это несложное искусство оперирования модальными конструкциями. С их помощью мы выражаем наше отношение к сказанному. Уверенность, допущение, дистанцирование. Уточнения типа «иногда» или «часто» в точном филологическом смысле слова не модальные, но примыкающие к ним. Можно еще сказать, что журналистика мнений пронизана модальным уточнением по-моему и отвергает как ложно-объективное на 44 самом деле. Первое не стоит часто употреблять именно из-за тотальности (так можно зачинать почти любую фразу), второе лучше табуировать из-за прямой неверности. Правильно взвешивая высказывания, ослабляя их до необходимого уровня, мы повышаем их убедительность и реально отвечаем за свои слова. Тема 11. Деньги. Эта тема стоит особняком. Обойти ее совсем нельзя – получится лицемерие. К написанию статьи она прямо не относится. Но подпадает под вспомогательную категорию – не выносить же ее в отдельную главу. Итак. Многие свойства журналистского материала определяются тем, что он реально выходит в печать, в тираж, и не когда-нибудь, а завтра, и не где-нибудь, а именно в этой газете, на этой полосе. Время и место выхода задают не только параметры текста, но определяют и само его существование. В литературе иначе. Текст пишется в стол, «в никуда», а уже потом востребуется (или нет). Массовую литературу мы литературой не называем. Стало быть, – возвращаясь к журналистике, – без денег она не существует. Деньги для периодического издания – все равно, что кровь для человека. С другой стороны, деньги = время. Недоплачивая взрослому человеку, работодатель знает: может быть, он и не уволится, и сделает работу хорошо, но вынужден будет добирать свой жизненный минимум в других местах. Это объективно. 45 Взрослый человек работает не ради денег, но за деньги. Сортируя возможные приработки, мой шурин Николай выдвинул замечательный закон: я делаю за деньги только то, что при других обстоятельствах делал бы бесплатно. Я принимаю этот закон без поправок и выношу на ваше обсуждение. В итоге: я сотрудничаю с *** изданием не из алчности, а потому что меня устраивает это сотрудничество. При других обстоятельствах (став наследником нескольких миллионов) я делал бы примерно то же, что и сейчас, но бесплатно. Допустим, издание *** настолько меня устраивает, что и в этих, вполне земных обстоятельствах я сотрудничаю с ним бесплатно – практически или абсолютно. И вот тут начинаются неприятности, о которых я вынужден говорить, хоть и с неохотой. Повторим – журналистика является командным делом. И, приняв участие в финансово анемичном проекте, вы не только занялись благотворительностью (это ваше личное дело), а опираетесь на таких же благотворителей (что ненадежно), да к тому же привлекаете к работе третьих лиц, взывая к их совести – или доброму отношению к вам. Ставя то и дело в скользкие ситуации, когда отказать неудобно, а работать бесплатно несподручно. Потому что у всех разные личные обстоятельства. У вас, например, есть свободное время, потому что вы живете один в собственной квартире. А ваш коллега снимает квартиру, у него только что родился ребенок, да еще заболела собака. Остро нужны деньги. Вот он и буксует на бесплатном фронте. Появляются глупые, нелепые обиды и претензии. Мы же уславливались. Не ради денег. Небось, за штуку баксов работал бы иначе. 46 Да! За штуку баксов работал бы иначе, но не из-за любви к деньгам, а потому что не зарабатывал бы ее на стороне. У человека бывают болезни, связанные с малокровием или полнокровием. Гипотония и гипертония. В отношении наполненности газеты деньгами – ровно то же самое. Есть средние по городу расценки. После года работы вы их усвоите; если не хочется ждать год, спросите у более опытных коллег. И если в некоем издании зарплаты и гонорары в 2-3 раза превышают средние по городу, это тревожный симптом. Один из базовых законов капитализма – работодатель просто так денег не переплачивает. Зарплата две тысячи долларов за одну небольшую статью в неделю – это что, рай на земле? Конечно, нет. И это не доплата за повышенное качество. Достаточно открыть журналы издательского дома «Бурда» («Лизу», «Отдохни», «Упс» и т.п.), чтобы оценить качество материалов в хорошо оплачиваемых изданиях. Начальник платит за расширение сферы заказа. За такие деньги он будет диктовать вам не только тему, формат и срок, но и мнение, и стиль. Если вы согласитесь, то (на время или навсегда) перестанете быть журналистом. Если откажетесь, легко найдут другого на ваше место. В январе 1998 года меня взяли на постоянную работу в буржуазную газету «Русский Телеграф». Положили оклад $1500 за два присутственных дня и одну статью в неделю. И – абсолютно против правила, изложенного абзацем выше, – никто на психику не давил. Пиши, что хочешь. И я писал в буржуазную газету, что не в деньгах счастье, что сексуальное просвещение в школе не нужно, словом, что хотел. Как новый русский из популярного анекдота, я не понимал, на чем меня ловят. 47 Через три месяца ближайшее начальство в высшей степени мягко предложило мне чуть-чуть изменить направление статей. Встроиться в общий поток. Расчет был прост: за три месяца жизни в достатке организм перестраивается с плохой колбасы на хорошую, с метро на такси – далее везде, и его невероятно трудно перестроить обратно. Человек становится податлив. Насчет меня расчет оказался неточен – и не ввиду моей завышенной культурности или духовности, а просто потому, что я делил большие деньги на 5 человек в семье. Не за три, а за пять месяцев я был бы посажен на денежную иглу так же верно, как мои сотрудники. Внимание! Я делаю это постыдное и не мотивированное реальным развитием событий утверждение не из мазохизма, а из честности, желая вас предостеречь. Деньги – тот же наркотик. Точнее, не деньги, а уровень жизни. Меня спасло только то, что мои деньги не превратились в иной уровень жизни. И вы, если подсядете на достаток, утратите свободу. Вам трудно будет добровольно вернуться к бедности – на уровне не духовном, а привычек, желудочном. Лучше тут не экспериментировать. Вернемся к «Русскому Телеграфу». В июне 1998 меня оттуда уволили, и мы с семьей на остаток денег поехали в Евпаторию. В августе случился дефолт. В сентябре газету закрыли. Это была много проясняющая осень. Две женщины, не знакомые друг с дружкой, никак мной не провоцируемые, сказали мне ровно одну и ту же фразу: – Сейчас за тысячу долларов в месяц я готова на все: убивать, грабить... Интеллигентные, образованные женщины средних лет. Матери дочерейподростков. Практически то же говорил Катаев Бунину в Одессе в 1919 году. Но то Катаев... Одна из этих женщин работала в «Русском Телеграфе». Хотите знать больше – читайте роман Климонтовича «Последняя газета». Там автор не пощадил никого (кроме себя). Климонтович пишет о «КоммерсантЪ»-е, но после увольнения оттуда оказался в «Русском Телеграфе» и по доброй воле еще раз прошел путем, с отвращением описанным им в романе. Я говорю не о неискренности. Благие намерения, как правило, искренни. Я говорю о двуприродности человека и о силе телесного начала. Не надо ее недооценивать. Историк с экономическим чутьем, разбирая архивы нашей буржуазной журналистики конца 90-х, заметит там некую финансовую 48 несообразность. Средняя зарплата журналиста по городу – $250-300. Хорошо, богатая буржуазная газета покупает не рабочий продукт журналиста, а его самого с потрохами. Но на это хватит $700-800. Откуда берутся сверхвысокие оклады порядка тысяч долларов? По-моему, здесь блестящая находка. Буржуазная газета – для богатых людей. Она должна заниматься соответствующими проблемами – ресторанным рейтингом, престижными клубами, салонами, хорошим автосервисом, вернисажами, аукционами и т.п. Допустим, журналист Г. ведет ресторанно-клубную рубрику. Можно платить ему $500, выдать казенный костюм, долго и трудно договариваться с администрацией злачных мест, чтобы Г. туда бесплатно пускали и там бесплатно кормили. А можно просто платить Г. $2500. Тогда он сам купит себе костюм, сам начнет естественным путем заходить в рестораны и научится их ценить. Самый простой способ приобщить журналистов богатой газеты к проблематике богатых людей – сделать их богатыми. Тогда и приобщение будет искренним, без фиги в кармане. Кроме шуток. Когда в период моей работы в «Русском Телеграфе» я услышал, что у шахтеров нет денег, первая реакция была – какая проблема? пусть сунут карту в банкомат. Ну, понятно, эта мысль не для печати и даже не для обсуждения. Для психоаналитика. А для печати мои коллеги предлагали следующее рассуждение: Раз им полгода не платят зарплату и они еще не погибли с голода, значит, они нашли способ добывать еду. А раз они нашли этот способ, зачем им платить? Изящно. Логично. Кто ее ужинает, тот ее и танцует. Кроме уровня денег, какое-то значение имеет их источник. Иван Засурский совершенно справедливо пишет в своей монографии, что 49 периодическое издание питается от тиража, или от рекламы, или от спонсора. Естественно, можно сочетать источники финансирования. Тираж и реклама – категории рынка. Некая данность. Спонсор – субъективное, волюнтаристское начало. Он может вдохнуть жизнь в объективно убыточное издание. Оно, в свою очередь, может быть объективно убыточным, потому что хуже рынка (не менее убогое по целям и методам, но неумелое) или потому что лучше рынка (элитарное типа «НЛО»). Отсюда мораль – лучшие и худшие в творческом отношении издания опираются на спонсора. Средние определяются рынком. Источник финансирования конкретного издания часто можно распознать по его виду, иногда – узнать у нанимателя или штатного сотрудника. Он, повторяю, не так важен. Культурный уровень издания наблюдается непосредственно. Зарплата и гонорарная ставка – другое дело. Я советую вам ориентироваться на средние ставки по городу. Понижение и превышение этого уровня – симптомы болезней издания, которые довольно скоро скажутся и на характере вашего с ним сотрудничества. РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ТАКОВАЯ И В ЖУРНАЛИСТИКЕ 50 Тема 1. Алгоритмическая и творческая деятельность. Давайте попробуем, начав с очевидного, договориться (в обоих смыслах этого слова) до более или менее важных вещей. Журналистика – живое профессиональное занятие. Творческое? Почему бы и нет. Английский язык, например, не различает творчества и акта создания чего-либо. Creation. OK. Кто же спорит? Журналист, конечно же, создает текст, которого доселе не существовало. Однако, у Пелевина великолепно сказано на этот счет: “Нам не нужны творцы, нам нужны криэйторы”. Попробуем разобраться, тем более, что богатый русский язык дает нам для этого все возможности. Что такое творческая профессия? Художник – творческая, но не профессия. Художник-оформитель в клубе – профессия, но ограниченно творческая. Что такое профессиональный писатель? Член профсоюза? Человек, живущий на гонорары со своего труда? Давайте присмотримся подробнее. Вот он год пишет роман, вот еще три месяца безо всяких гарантий таскает его по издательствам, наконец, публикует за скромное вознаграждение. Это непрофессионально – дело даже не в сумме, не оправдывающей труд, а в пресловутой негарантированности, оторванности оплаты от работы. Значит, профессиональный писатель – этот тот гонщик глянцевого дерьма, который работает по договору с издательством? Да. Тот самый, которого заклеймил Мандельштам в “Четвертой прозе” как представителя лживого и вороватого племени за одно то, что он пишет заранее разрешенные вещи? Да. Именно это – профессиональный писатель. Его статус противоположен статусу творческого писателя. Вообще, творческая деятельность непредсказуема по процессу и результату. Как следствие, непрофессиональна. 51 Все-таки кажется, что мы искусственно растаскиваем две хорошие категории и организуем конфликт на ровном месте. Нет же! Речь идет об очень простых вещах. Например, для эмигрантов в Канаду есть своеобразный свод расценок за профессии. Писатель (writer) там оценен минимально – в один балл. Нули просто не предусмотрены. А screen-writer (сценарист, рекламщик) имеет высший балл – 10. Смысл простейший. Если ты самовыражаешься, как и когда ты хочешь, это прекрасно, но нам не нужно. А если ты в состоянии наступить на горло собственной песне и сварганить для нас пару слоганов, нет человека милее и ценнее тебя. Способности примерно одни и те же, различен их разворот. Как та самая избушка на курьих ножках, которая может стать к нам передом, а к лесу задом, – или наоборот. Чтобы аргументированно рассуждать дальше, постараемся очертить границы именно творческой деятельности, понять, чему она противопоставлена. Если ты делаешь что-то в тысячный раз, машинально, пусть даже и хорошо, это не творческая деятельность. Поэтому люди стремятся в театры на премьеры. Пусть дальше спектакль отшлифуется, но градус творчества упадет. Творческий акт загадочен, его нельзя разложить, объяснить... Что противно, даже противопоказано творческому человеку? Рутина. Снова калька с английского – routine. Ничего такого уж негативного в первоисточнике нет. Программа. Творческой деятельности противопоставлена алгоритмическая, полностью регламентированная, расписанная по инструкции, шаг за шагом, где результат гарантирован и (при соблюдении инструкции) не зависит от исполнителя. 52 Очевидно, что профессиональная деятельность тяготеет к алгоритмической. Отсюда – обилие должностных инструкций. Отсюда же – обучение навыкам. Сумма умений и навыков составляет профессию. В математике есть четкое определение алгоритмической деятельности и, как следствие, точно очерчены ее границы. Появляется понятие разрешимой задачи – той, решение которой в принципе можно доверить алгоритму, может быть, еще не открытому. Любопытно, что большинство серьезных проблем оказываются неразрешимыми. Принципиально творческий характер человеческой деятельности становится особенно нагляден. Вернемся к паре творчество – профессия. Тема 2. Базовое противоречие между профессиональной и творческой деятельностью. Опять обратимся к антиподу (в важнейшем) журналиста – литератору. Вот он сидит, подперев голову руками, над белым листом. И сам не знает, чем через минуту начнет ее преодолевать. Ну как, то есть, совсем не знает? Во-первых, у него есть чудесный замысел убийства и его разоблачения. Во-вторых, трижды он начинал романы с долгих пейзажей – и это катило. В-третьих, ему великолепно удаются диалоги представителей закона с преступниками. Вырулим – и на автопилот. Вперед. Читатель уже собразил, что я иронизирую. Наработки связаны с жанровой определенностью, которая претит высокой литературе. С навыками, которые ослабляют творческое напряжение. Настоящий писатель сталкивается с белым листом без тузов в рукаве. Рискуя полностью проиграть – не написать ни строки или написать такую 53 дрянь, что ее придется опять превращать в белый лист. Но абсолютный риск – другая сторона абсолютной свободы. Это и есть творчество. Мы далеки от того, чтобы влезть внутрь черепа писателя и уставиться на мгновенные образы- вспышки – или что там есть. Мы даже не подглядываем в дверную щель. Мы просто наблюдаем периоды молчания у великих писателей и поэтов. Или, если угодно, наблюдаем их презрение к наработкам, перенесению удач из одних вещей в другие. Об этом подробнее – в приложении. Вернемся к журналисту. Он, наоборот, все козыри из рукава вытряхивает не мимо стола, а на стол. Все жанровые уточнения, все наработки (бэкграунд, план). Белого листа уже нет. Он увален обломками и зародышами будущей статьи. Допустим, мы их разовьем. Упорядочим. Свяжем интонацией. Красиво, упруго изложим. Допустим, к тому же, мы хотим понимать слово «творчество» узко и точно. Где же тут творчество? Его нету. Еще пара отрицаний. Человека в кухонном споре зацепило за живое. Он говорит, допустим, о смертной казни в этой стране – горячо, интересно, выпукло, убедительно. Это творчество? В узком смысле слова – нет. Иначе мы полстраны запишем в творцы. Другой незаметно нажал на кнопку диктофона, потом расшифровал, отредактировал, чуть-чуть причесал (не творчество). Статья готова. Творческий момент снова пролетел между пальцев. В метафорике русской сказки. 54 План статьи, точнее, развернутый план, где тезисы уже превращены во фрагменты, – это разрубленное тело. Наше чувство гармонии и логики, упорядочивающее статью, – горсть мертвой воды. А горсть живой – наше изначальное неравнодушие, температура, обеспечивающая насыщенность текста. Первым делом, первым делом напряженье. Ну а творчество? А творчество потом. С точки зрения процесса. Творчество – особое состояние человека. Создание статьи – нормальное состояние профессионального журналиста. Сегодня ему не творится. А статья, однако, готова, и очень неплохая статья – дельная, живая, изящная. С точки зрения итога. Представим себе нерадивого шахматиста, которому лень читать теорию. Вот он в творческих муках, продумав по двадцать минут над каждым ходом, породил староиндийскую защиту, к миттельшпилю обессилел и сдался на двадцать первом ходу. Что мы скажем такому шахматисту? Правильно – дурак ты, братец. Не надо расходовать творческие силы на то, что можно свести к сумме навыков. Блок: «Не надо называть искусством то, что называется иначе». Мы еще усложнили для себя задачу поиска творческого начала в журналистике. Еще полстраницы назад мы искали творческий аффект, растрепанного молодого человека с глазами, бессмысленно уставленными в стену, и с карандашом в зубах. Фигуру творца в состоянии порыва. О счастье! Мы ее нашли. Но, заглянув на экран, забраковали: то, что ты сотворил в экстатическом исступлении, Михал Палыч пишет, не снимая шарфа. По наработкам. 55 Мы очень близки к тому, чтобы сделать очень важное и ответственное заявление: успешная журналистика возможна без творческой деятельности. Нам необходим задний ход, потому мы чересчур далеко зашли. Целый раздел нашего учебника висит на волоске. Как можно быстрее уточним наше высказывание. Хорошую статью можно написать по законам профессии, не задействуя творческие способности. То есть – создать, как удобный стул или вкусную котлету. В эпитетах отражена функциональная успешность. Попробуем не апофатически (через отрицания, исключения негодных вариантов), а прямо определить, что такое словесное творчество. По-моему, тут дело связано с двоякой природой слова. Оно, конечно, условно, но иногда происходит чудо. Мы говорим «закат» – и видим закат. Мы говорим «лимон» – и во рту становится кисло. Денис Новиков: Он произносит: кровь из носа. И кровь течет по пиджаку... Иначе говоря, в каждом слове заложен секрет. Мы вертим, его, вертим – и вдруг, вот в этом ракурсе оно становится безусловным, буквальным, начинает действовать. Это связано с пра-языком, существовавшим до строительства Вавилонской башни, его энергетическим следами в современных языках. Поэзия и проза по-разному преосуществляют словесную ткань. Преображение слова – где-то тут творческий акт. Журналист работает с той же рудой, что и литератор. Его вкус к слову (без него не потянет в пишущую профессию) позволяет ему 56 заметить мерцание материала. Никто не заказывает журналисту творческого движения, но материя слов к нему располагает. С точки зрения психологии. Человек создан по образу и подобию Творца, то есть в нем (в человеке) заложено творческое начало. (Въедливый читатель тут меня упрекнет, что до сих пор «объективная», внеконфессиональная книга вдруг отчетливо оперлась на библейскую традицию. У меня три ответа этому въедливому читателю. Во-первых, книга с самого начала предельно субъективная, моя. Во-вторых, свободно позиционируя себя в отношении христианской веры, мы все вместе с газетой находимся внутри христианской культуры. Почувствуйте разницу. Втретьих, иные концепции происхождения человека приписывают ему не меньшую, а большую творческую потенцию. Коли, например, Бога нет, то человек уже не со-творец, а Творец, Преобразователь мира.) Профессиональное самоопределение, обрастание навыками медленно или быстро убивает творческие амбиции. Классический тест – выставка детского рисунка и выставка рисунков тех, кому за... Человек реализует свои творческие потенции в свободное от работы время или освобождается от них. При этом вы зря представляете себе литературного неудачника, графомана, полковника, по субботам заходящего в районное литобъединение. Набоков и Бродский работали профессорами в университетах, а прозу и стихи писали в свободное время. Теперь давайте говорить предельно медленно, серьезно, честно и точно. Журналистика как (всякая) профессия склонна уничтожить ваше творческое начало. Загвоздка, шанс, попущение, искушение, удача, беда – все сразу заключается в том, что журналистика уничтожает творческое начало нерадиво, не до конца, не намертво. Она как 57 немного бракованный электрический стул, который не убивает, а только калечит. Перечислим действенные поводы для уничтожения творческого начала. 1. Читатель не востребует творчества от газеты. Он востребует стабильности, «как вчера». Новое он хотел свести бы к новостному, к информационному поводу. Прогноз погоды и программа телепередач именно на завтра, но во вчерашнем формате. 2. Если автор хорошо делает репортажи на третью полосу или очерки на седьмую, всем будет легче, если он займет эту позицию, решит ее раз и надолго. 3. Профессиональный продукт легче встроить в контекст, чем творческий продукт, потому что он лучше совпадает с заказом. 4. На профессионального работника можно положиться, на творческого – нет. Творческий работник – не работник. 5. Творческий материал, впущенный в контекст полосы, поднимает планку уровня, а завтра ее можно и не взять. Это называется «сбивать расценки». Это соображение кажется умозрительным и эмоциональным. Между тем, оно совершенно рыночное. Допустим, у некоторого издательства возникает желание начать серию переводных психологических романов, есть некоторая сумма на раскрутку и впаривание первого образца и есть на выбор два романа – звездный и средний. С какого начать? Со звездного? А найдется ли второй звездный? Зачем дразнить читателя, будоражить в нем загадочные бездны, а потом в ущерб себе разочаровывать? Лучше выдать средний уровень за первоклассный и легко его поддерживать. Если учесть, что эта политика интернациональна, то становится ясен механизм мирового успеха таких глубоко средних писателей, как Коэльо и Мураками. Надо только задвинуть на заднюю полку книжного супермаркета Бёлля, 58 Сэлинджера, Маркеса, Кундеру, Фриша, Борхеса, Гессе – словом, всех тех подлинно великих писателей, которые появились в досерийную эпоху. Честь этого наблюдения я охотно разделяю со многими критиками, например, с Борисом Кузьминским, кратко описавшим эту тенденцию на одном из текущих писательских форумов. Но: 1. Есть такие ситуации (интервью с очень незаурядным, штучным собеседником, внезапное серьезное событие), которые требуют мгновенной, спонтанной, живой, не типовой реакции. 2. Все-таки не так цепок контекст полосы. Не так жесток его диктат – ни по объему, ни по характеру материала. 3. Периодические издания не так долго живут, особенно слаженными коллективами. Всегда есть новые места, где свой формат только складывается. 4. В начальнике (главном редакторе) тоже еще не умерло творческое начало. Ему как функциональному элементу процесса не нужно ваше творчество. Но как частному лицу (иногда) симпатично. 5. Вообще – творчество в газете не востребовано. Не нужно. Не необходимо. Но и не сильно мешает. Оно допустимо. Все-таки журналистика не хирургия. Мы близки к тому, чтобы подвести итог. Молодой журналист – творческий субъект, во-первых, потому что человек; во-вторых, потому что человек, склонный к созданию текстов. Храбро вступая на путь профессионального становления, он видит, что творческий подход к решению (как правило) простых служебных задач часто буксует, предает автора, дает ничтожный по сравнению с затратами результат, 59 уводит в ненужную сторону, приводит к конфликтам. Постепенно журналист обрастает суммой навыков и легко вписывается в предлагаемый формат. Однако подлинное удовлетворение дает только творческое усилие. Однако сама материя слов провоцирует на нечто большее, чем умелое их использование. Однако журналист находится среди себе подобных, то есть творческих людей, чье творческое участие не востребовано даже на 20%. Возникает благодатное пространство для создания новых проектов, изданий, серий. Не потому что это требуется начальству или рынку, а потому что хочется. Посмотрите, сколько изданий в среднем сменил в Москве штатный журналист за последние 10 лет работы. Двадцать. Ну, пятнадцать. Потому что он склочный? Вовсе нет. Потому что он бежит от рутины, заменяет профессиональную легкость творческим интересом. Точнее, чередует их. Есть такая расхожая формула: «У каждого журналиста в столе недописанный роман». Точно. Не у каждого, а у многих. Теперь мы можем хорошо объяснить эту стратегию: журналист раздельно реализует свои профессиональные и творческие амбиции. Другая стратегия – он реализует их слитно, всеми возможными путями, в том числе и конфликтными, привнося творческий элемент в журналистику. Первый путь спокойнее, второй – веселее. Состоявшееся литературное произведение на 90% творческое, на 10% – профессиональное. Эти 10% – те навыки, которые писатель подсознательно отрефлексировать приобрел и за отбросить. годы письма, Газетный но материал не на успел 90% профессионален, но на 10% – творческий. Это связано с тем, что его 60 создает творческий человек из творческого материала, а культурный контекст терпит этот творческий элемент. Само собой, проценты условны. Это лишь метафора, но, как мне кажется, верно отражающая действительность. Тема 3. Совокупность ситуаций и журналистских проблем, требующих скорее творческой, чем профессиональной реакции. Мы с пространства, вами потратили чтобы достаточно локализовать много творческую времени и деятельность журналиста. Как правило, можно обойтись без нее – как на деле, так и в разговоре. Тем ценнее те очажки, где она востребована и, как следствие, возникает. В первую очередь, это те ситуации, которые требуют быстрой, спонтанной реакции. Где профессионализм с необходимостью проходит через усилие типизации, а оно слишком выхолащивает суть. Например, интервью. Помните Терминатора из одноименного голливудского шедевра? После реплики собеседника у него в башке возникало несколько типовых продолжений диалога, и он выбирал из них одно аналогом компьютерной мыши. Так вот, плохо, если вы так будете брать интервью. Не потому, что кто-то прочитает немыслимое количество сделанных вами интервью и отследит систему. Такого напряженного исследовательского внимания со стороны читателя можно не опасаться. А потому плохо, что даже в одном образце отразится эта машинальность перехода, неполная вовлеченность в беседу, отсутствие подлинного интереса к собеседнику. Можно сказать так: организует интервью, готовит вопросы, расшифровывает, редактирует, визирует, согласует, опять визирует, 61 публикует – журналист. Но проводит – человек. Тут (в лучшем случае) профессиональное начало уступает место творческому. Об интервью подробнее – потом. Пока лишь скажем, что (помоему) главная доблесть интервьюера – готовность отказаться от заранее намеченного плана в пользу внезапно открывшейся возможности. Это творческая мобильность. Особенно ярко тут проявляет ситуацию прямой эфир, радио или телевизионный. Интервью в формате очищенного ореха, где нет профессиональной оболочки. И где отчетливо видно направление журналиста – «внутрь», в типовую ситуацию, или «вовне», в спонтанную, творческую. Здесь важно, насколько мы с вами верим в психологию как науку, в психологию общения, в частности. В СССР в свое время были крайне популярны монографии Карнеги, в которых описывались типовые приемы: как вызвать интерес у собеседника, как произвести требуемое впечатление, вплоть до того, как приобрести друзей. Что сказать – карнегианство не прижилось в России. По сути, оно являлось заменителем, суррогатом подлинного интереса, подлинного общения. Имитацией. Не только российский интеллигент, но и относительно простой индивид быстро и безошибочно распознавал в собеседнике типовые модуляции, казенные повороты темы, смайл на месте кривоватой местной улыбки. Не сочтите за патриотизм, а так – заметки фенолога: здесь в цене подлинное, искреннее общение. Это можно пояснить в терминах интерфейса. У компьютера нет сердцевины, у него есть только оболочка для общения с пользователем. У человека эта оболочка, интерфейс есть помимо сердцевины. Что-то типа вежливости, воспитанности, хороших манер, рафинированности, умения поддержать пустой разговор. Интерфейс маркирует принадлежность к некоему кругу – чужой сразу становится заметен как не умеющий себя правильно вести. С другой стороны, 62 общение на уровне интерфейса позволяет не морочиться: оболочка на то и оболочка, чтобы защищать сердцевину от уколов и царапин. Так вот, карнегианство – это пути совершенствования и развития интерфейса, приспособления его ко все более сложным типовым ситуациям. А в России считается правильным как можно быстрее преодолеть уровень интерфейса и пробиться к сердцевине. Другой изначально штучной ситуацией является рецензирование. Как правило, объектом рецензии является произведение искусства. Допустим, состоявшееся – отрицательная рецензия не так показательна и, как ни странно, отличается от положительной жанрово. (Об этом подробнее – ниже, в специальной главке.) Что мы можем сказать про произведение искусства? Во-первых, оно само появилось в результате творческого усилия. Во-вторых, важен не аффект, а итог: оно в сильной степени индивидуально, уникально, единично. В нем так или иначе проявлен феномен действительно нового. С другой стороны, оно вписано в тот или иной культурный формат. Это повесть (фильм, спектакль, выставка фоторабот). Рамка произведения искусства подогнана под тот или иной стандарт; новизна (как правило) проявлена внутри рамки. У нас есть два способа реагирования на произведение искусства – профессиональный и творческий. В первом случае мы вписываем новое явление в готовую систему, начиная, естественно, с рамки и далее уточняя классификацию. Мы обналичиваем культурные параллели и связи. Мы как бы приручаем новое через старые категории. 63 Второй путь – мы начинаем с феномена новизны. С описания собственной наивной (не экспертной) реакции. Восторг, изумление, радость. Это не профессиональные категории. Мы находим индивидуальный язык (!) для разговора об индивидуальном явлении. Или – не находим. Мы сознательно отказываемся от профессиональных наработок. Играем на поле искусства, а не культуры (подробнее об этом драматическом различии – опять же ниже). Второй путь представляется мне лучшим – потому что обращается к главному в произведении искусства, потому что говорит об уникальном в уникальных, одноразовых, а не типовых терминах. Ни на чем не настаивая, я квалифицирую позицию рецензента (критика) как скорее творческую, чем профессиональную. Это, кстати, согласно нашему совершенно тотальному тезису о противоречии между творчеством и профессией, ставит под сомнение саму штатную ставку рецензента. Действительно, сложно обязаться каждую неделю делать художественное открытие или испытывать восторг. Чаще всего ружье в порядке, а дичь не взлетела – и рецензент вынужден ограничиваться отписками. Один из ведущих наших критиков, А.С.Немзер, издал свои еженедельные публикации в газете «Сегодня» в виде книги, которая обнажила этот эффект холостой стрельбы. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, он, тем самым, и от критика не требует дегустации этой священной жертвы. Сиди, стало быть, надейся и жди. Какая уж тут профессия?!.. Другой вариант – использовать очередную книгу (фильм, спектакль) как очередной повод для самовыражения. Лев Данилкин, «Афиша». Так как любовь к себе обыкновенно длится долго, то и в качестве универсального горючего она вполне хороша. Получается профессия – глянцевого шута или глянцевого резонера, как кому больше нравится. Читать Данилкина, может быть, и забавно, но читать (или не читать) то, о чем он пишет, в зависимости от его статей – культурная невменяемость. Впрочем, страсть к самовыражению – частая болезнь критика, и Немзер также ее не избежал. 64 Интервью, рецензия, что еще? Бог троицу любит, но я специально выдумывать не хочу. Вырисовывается общий контур – творческой, а не профессиональной реакции требует единичное, противящееся тому, чтобы стать типичным. Конкретный живой человек. Произведение искусства. Что еще? Пожалуй, событие, страшное и сильное именно в своей уникальности, и взятое именно в момент его переживания. Например, 11 сентября в Нью-Йорке или «Норд-Ост» в Москве. Через месяц после их эмоциональной кульминации уместна трезвая, умная аналитическая статья, встраивающая титульное событие в тот или иной контекст. Это будет профессиональная реакция. Но репортаж об уникальном по эмоциональному накалу событии, возможно, должен быть непрофессиональным, открыто эмоциональным, спонтанным, творческим. Сам отказ от профессиональных установок маркирует уникальность информационного повода. Потом это вспоминается как срыв голоса диктора или слезы у него на глазах. И вспоминается как достоинство, а не недостаток. Тема 4. Журналистика как путь от единичного к типическому. Наверное, это будет самая короткая главка. Мы вроде бы условились не давать определение журналистики. Но все же давайте его, хоть и в нескольких фразах, дадим. Главные достоинства журналиста – уважение к людям, – видеть внимательность, недоверчивость. Главное профессиональное умение журналиста типическое в единичном. Чтобы так уверенно (пусть в рамках моей субъективности) определить рамки профессии, мне понадобилось нащупать объект 65 творческой деятельности журналиста. По-моему, это существенное единичное, не стремящееся стать типическим. Здесь я готов предположить троякую природу сенсации. Есть это самое действительно уникальное, выламывающееся из любого контекста. Типа извержения Везувия. Это не хлеб журналиста, потому что случается редко. Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Не будем долго говорить о том, чего, может быть, вы не увидите ни разу в жизни. Есть единичное, как бы прорывающее внятную глухую тенденцию. Например, бедность – чиновничий произвол – ужасное состояние жилого фонда – рухнул дом. Единичное высвечивает типическое. Это хлеб журналистики. И есть просто единичное, материал для сплетни. У обывателя лопнул сосуд в мозгу, он зарезал соседа. Ну и что? Мы можем бессмысленно упиваться деталями или притягивать за уши обобщения. Вот до чего дошла сердечно-сосудистая обстановка по региону. Такие сенсации – типичная пища желтой прессы. Эта классификация имеет смысл добавочного прояснения. Журналист должен понимать, с чем имеет дело. Его недомыслие или прямая глупость слишком бросаются в глаза. ГЛАВА ВТОРАЯ. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА ВНУТРИ МАТЕРИАЛА. Тема 5. Импульс как организатор жанра. Сколько раз мы уже говорили о гигантском различии между журналистикой и литературой! Какую проблему ни возьми, эти два 66 занятия расположены по отношению к ней противопожно. Ну, кроме исключительных случаев. Чтобы противостояние между журналистикой и литературой проявилось максимально отчетливо, представим себе такую вполне реальную ситуацию. Газета. Отдел культуры. Вот человек, который пишет о музыке. Вот – о визуальном искусстве. О театре. О литературе. О кино. Все встало на свои места. Литература – предмет внимания журналиста, такой же, как кино и театр, как (для соседнего отдела) жизнь за окном. Первая реальность. Журналистика – отклик. Мы ведь никогда не спутаем симфонию со статьей о симфонии. Точно так же – рассказ и статья (о рассказе или другая статья). Нас немного сбивает с толку, что рассказ написан буквами и статья – тоже. Чтобы отвлечься от этой условности, вспомним, что в компьютере нет букв, есть только нули и единицы, кодирующие как алфавит, так и нотную грамоту. Ну и что? Но статья и рассказ написаны словами – и это устанавливает между ними дальнее родство. Сейчас мы вступаем на очень скользкую почву. Начинаем рассуждать о литературном творчестве – впоследствии мы сделаем это подробнее, но с той же осторожностью. На мой взгляд, художественная проза в лучших, важнейших своих образцах возникает решительно не из правды жизни и решительно не из вымысла. Мы знаем по крайней мере одно состояние сознания, явственно внеположное прямому контакту с реальностью и усилию фантазии. Это сон. Так и материя прозы, по-моему, соприродна сну – или грезе наяву. Эту гипотезу можно подтвердить прямыми свидетельствами писателей, можно же – со стороны статистики. Если представить себе талант прозаика как 67 сумму нескольких ярких способностей (фантазия, стилевая интуиция, чувственность и т.п.), мы в любой компании найдем людей, одаренных этими «частями» поштучно и в сочетаниях. Хорошие прозаики будут возникать по этой теории не реже, чем один на тысячу человек, на деле же их один на десятки миллионов. Очевидно, что идет речь об одной уникальной способности, а не о сочетании обычных. Тем более, что обычные развиваются. Прозаик «прорубается», проваливается в полнокровный параллельный мир и начинает существовать там как участник событий (проза от первого лица) или наблюдатель (от третьего). Длительность существования там приводит к рассказу, повести или роману. Иногда достаточно возникновения лишь одной живой фигуры – рассказчика; возникает повествовательная материя его живой речи. Есть, однако, принципиально иная прозаическая малая форма – новелла. Новеллу, в отличие от рассказа, можно пересказать практически без потерь. Фрагменты ее не самоценны, в ней главное – законченная история, замкнутая фигура сюжета, превратившаяся в символ, знак, сочащийся смыслом. Возьмусь утверждать, что новелла возникает в мозгу автора мгновенно, целиком, как пресловутый знак. Постепенно она всплывает, обрастая сперва деталями сюжета, точнее, нащупывая воплощающий ее сюжет (на войне... нет, несущественно, что на войне... просто в одном городе...), потом – словами. На лист новелла переносится уже практически готовая. Тяготея к фольклорным жанрам, к пересказу, она и до языкового воплощения на бумаге сто раз в уме пересказана самим автором. Автор не живет внутри времени новеллы, его не ожидает там никаких сюрпризов; она сама – цельный, неделимый сюрприз. Я веду к тому, что рассказ и новелла различаются не только в итоговых вариантах. Они в сознании автора ни разу не соприкоснулись, не образовали точки ветвления, выбора, путаницы. Первым импульсом рассказа стала приоткрывшаяся на щелку дверь в 68 параллельный мир. Жгучий интерес к иному живому. Первым импульсом новеллы – иероглиф, зародыш будущей новеллы, еще смутный, до слов и даже (может быть) до внятных событий, но существующий целиком. Импульс определяет жанр. В литературе импульс возникает ниоткуда – изнутри автора, из эфира. И, как правило, не связан с читателем – мы чуть выше и не вспомнили о нем. В журналистике есть четкая задача материала, всегда связанная с читателем (адресатом). Она играет роль импульса и опять же определяет жанр. А теперь давайте локализуем разговор до абзаца текста. Писатель Н. пишет роман. Его герой Кирилл попал в театр. Писатель Н., перевоплотившийся в Кирилла, видит, как медленно гаснет свет, слышит приглушенный шепот справа, резкий запах пудры. Душновато... Занавес раскрывается – Все чудесно в этой способности Н. видеть, слышать и даже носом чуять то, чего на самом деле (между нами) нет. Осталось написать. Репортер М. вчера посетил театр. Наяву. Вот, даже билет остался. Все было на самом деле: гаснущий свет, шепот, запах пудры, духота. Занавес, естественно, раскрылся. Действие пошло. Запомнилось. Осталось написать. Конечно, я не ляпну, что им осталось написать одно и то же. Это как один кадр, но с разной фокусировкой: писателя интересует план восприятия героя, любые, даже самые отвлеченные его мысли и чувства, спектакль – фон и повод. Репортера интересует внешний ряд, конечно же, пропущенный через его восприятие и организованный им, но само восприятие выносится за скобки. 69 Но: в этом отрывке романа и в репортаже могут встретиться общие фразы и даже целые абзацы. Здесь, конечно, мы уткнулись в еще одну границу – творчества и повседневности. То, о чем уже говорили: у человека есть дар прямой разумной речи (Арсений Тарковский), и само облечение в слова историй, мыслей, образов равным образом чудесно и обыденно. Где тот порог, за которым яркость и скорость речи обретают статус творческого результата? Вопрос, естественно, остается открытым... Происхождение прозы и журналистики полярно. Но фиксация в словах соприродна. Именно тут, в точке словесного воплощения, сказываются скорее творческие способности автора, чем профессиональные навыки. Потому что словесные фигуры имеют свойство старения. Удачное сочетание слов однажды найдено, быстро размножено, многими усвоено... Но и все. Второй раз оно не стреляет. Неприкрытый цинизм – как здорово, свежо это, наверное, звучало впервые. Но сейчас никак не звучит. Штамп; неподвижно сцепленные, омертвевшие слова. Поэтому на уровне сочетания слов навыки не работают. Разве что негативный навык отбрасывания штампов. И превращение картинки, звука, ощущения в полуфразу происходит скорее спонтанно, небольшим творческим усилием – или не происходит. Под красноречием мы привыкли понимать пышность речи, обилие изящных необязательностей. Что-то вроде грузинского тоста в честь невесты. Тогда давайте определим творческую способность, о которой шел разговор чуть выше как выпуклую, живородящую речь. И дело с концом. 70 Очерк в некоторых точках воплощения касается рассказа, статья – новеллы. Репортаж вовсю использует описательную литературную культуру. Колонка – порция эссеистики, но, повторим, это совпадение не должно нас удивлять: колонка – не журналистский жанр, а жанр, интегрированный в газету. Тема 6. Мгновенное творческое усилие. Выше, в главке «Бэкграунд», у нас с вами значилось: Теперь актуализируем все, что отзывается в мозгу на тему данной статьи. То есть все ассоциации – потом мы их начнем сортировать. А как, собственно, актуализируем? Как-то автоматически. Скажешь: «железная дорога» – и память по своим внутренним поисковым каналам начинает поставлять на поверхность истории, попутчиков, детали... Но вот, допустим, начали мы не со столь простого понятия. «Служение». И вдруг в ответ: дядя Ваня. Нет... Да... Осмысление наступает – или не наступает – уже потом, когда ассоциация возникла и проявилась. Кому служит чеховский герой, толково ли служит – а связь уже заявлена. Как? Мгновенным (творческим?) усилием. Задействуем тяжелую артиллерию. Пушкин: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно, и объяснению оных». Это близко к нашим мгновенным связям. Впечатления идут из внешнего мира, из воображаемых областей, из памяти. Соображение понятий – совсем близко. Расположение души – состояние или акт действия? Думаю, в основном состояние, но чуть-чуть и действие. Душа располагается, но слегка и мы ее располагаем. Моряк не управляет ветром, но вполне волен над парусом. 71 Мы много говорили о противоречии между творчеством и профессией. Но, пожалуй, именно сейчас мы подошли к тому, чтобы буквально на атомном уровне развести их, как минус и плюс. Мгновенное профессиональное усилие – это вообще нонсенс. Но можно как-то описать настройку организма на (протяженную) профессиональную работу. Сосредоточиться, сфокусироваться, оказаться здесь и сейчас. Включиться. Выход на мгновенное творческое усилие противоположен. Расслабиться, расфокусироваться, выпасть из момента «здесь и сейчас». Отключиться. (Само слово «усилие» становится сомнительным, лучше бы подошло противоположное по смыслу.) И совсем уж неожиданный ход сюжета. Репортер присутствует на событии. На конференции. Он должен наблюдать. Его козырь сегодня – внимательность. Его дело – запечатлеть то, что происходит здесь и сейчас. Он ведет себя добросовестно и профессионально. Наблюдает, фиксирует, записывает. Все, в общем-то, понятно. Он в десятый раз обводит глазами зал. Все под контролем. Можно на пару минут расслабиться. И вот – вдруг! – практически отключившись от происходящего, выведя его в фон, наш репортер замечает грамматическую ошибку в лозунге, одинаковые галстуки у председателя и вице-председателя, визгливую интонацию выступающего. Мы уже способны квалифицировать этот эффект – репортер перевел наблюдение из статуса профессиональной работы в статус творческого... все-таки усилия? расположения? И, как бывает, творческое добавило что-то к профессиональному. 72 На бытовом языке это называется замыленный и свежий взгляд. На философском – нельзя описывать объект, находясь внутри него. И, немного расшатывая здравый смысл, – невозможно без искажений зафиксировать момент «здесь и сейчас», не выпав из него. Описав дугу, мы вышли к довольно банальному психологическому совету. Если усилие концентрации приводит вас к пробуксовке, если вы погребены под грудой наработок, если листок сплошь исчеркан вариантами, но все они неудовлетворительны, – измените направление мышления, смените сосредоточенность на расслабление, отвлекитесь. Замените листок чистым. Белый лист для нас был символом бессилия и отчаяния, мы боролись с этим бессилием и отчаянием, противопоставляя ему профессионализм, сумму навыков. Но сейчас навыки оказываются нашими противниками, а белый лист – союзником. Может быть, вывезет кривая и решение чудесным (творческим) образом найдется само. А может быть, не найдется. Тема 7. Жанровые расширения и жанровые гибриды. Как мы уже говорили, требования жанровой определенности в журналистике незыблемы и обязательны к исполнению. Ну, то есть почти обязательны. Иначе говоря, обязательны всегда, кроме тех случаев, когда очень хочется их нарушить. Знаменитый венгерский гроссмейстер Тарраш был очень дотошен и имел склонность к шахматным теоремам. Типа если у белых конь, слон и три пешки, а у черных ладья и две разрозненные пешки, то надобно вот так-то и так-то двигать свою среднюю пешку в ферзи. И вот опубликовал Тарраш свою очередную теорему – и нашелся читатель еще дотошнее его. Читатель предъявил позицию, где все условия совпадали с условиями теоремы, а играть следовало по-другому. Таррашу предлагалось изменить формулировку теоремы. Что он и сделал: если у белых конь, 73 слон и три пешки, а у черных ладья и две разрозненные пешки, то надобно вот так-то и так-то двигать свою среднюю пешку в ферзи кроме тех случаев, когда этого делать не следует. На мой взгляд, весь мир устроен согласно замечательному уточнению Тарраша (кроме, разумеется, тех его уголков, которые устроены иначе). Что такое «яблочко» жанра? Это некие базовые пропорции формата, выверенность интонации, перехода. (Есть парадоксальный такой своевременность признак каждого сверхточного попадания в жанр: идеальный образец начинает приобретать черты пародии. Что, впрочем, неудивительно: и то, и другое предполагает сгущение характерных признаков. Что такое «Белое солнце пустыни» – идеальный вестерн или пародия на вестерн? Начните писать образцовую мелодраму – и вы почувствуете, как пародийность буквально попрет из каждой фразы. Но это так, к слову.) Попадание в пресловутое «яблочко» с психологической точки зрения – задача совсем не творческая и даже не профессиональная. (Потому что профессионализм заключается в несбивании расценок – для публикации достаточно «семерки», так зачем же предпринимать добавочные усилия для того, чтобы угодить в «десятку?). Это задача, как видно из построения метафоры, спортивная. Так или иначе, она быстро исчерпывается. Ну, написал ты абсолютные образцы очерка, репортажа, далее везде. Центрее центра не попадешь. Поэтому разнообразнее и веселее путешествовать вдоль границы жанра, находить новые пропорции, устраивать жанровые гибриды. При этом возникают забавные истории публикации. Написал я однажды эссе. Жанр вообще уважаемый, но нигде конкретно не нужный – напишите, узнаете. Я отнес его товарищу Диме в журнал «Огонек». Дима 74 там тогда заведовал отделом публикаций – классное, если вдуматься, название, как будто остальные отделы занимались не публикациями. Если не всматриваться в название, характерным материалом Диминого отдела были мемуары вдовы какогонибудь генерала или неизвестное письмо Деникина Юденичу, если бы такое нашлось. Но и праздное эссе живого автора тоже вроде как не возбранялось. (И все-таки название! В «Юности» был – а, может быть, и сейчас есть – отдел рукописей. Помимо отделов поэзии и прозы. В отдел рукописей можно было принести стихотворение или рассказ; их читали, говорили вам много приятных слов. Вопрос о публикации в этом разговоре даже не всплывал – как в гостиной не справляют нужду. За этой дверью рукописи оставались рукописями.) Вернемся к моему эссе. Дима прочитал его и позвонил мне, слегка озадаченный. Дело в том, что ему мой текст понравился, но тогдашний главный редактор «Огонька» а) не публиковал тех авторов, которых не знал по фамилии; б) не публиковал эссе. Нести главному мое эссе, получается, было бессмысленно. Дима и не понес, а оставил его у себя на столе – абсолютно алогичный ход, без продолжений. Казалось бы. Дальше было как в комедии. Однажды зайдя в свой кабинет, Дима обнаружил там главного, читающего мое эссе. Главный обернулся на шум двери. – Странное дело, – сказал он, – я не знаю фамилию автора, а текст мне нравится. Что делать? – А вы подпишите в печать, – посоветовал Дима. Главный подписал и вышел. Подождав еще полмесяца, Дима подал ему эссе. Случился диалог, почти дословно слизанный с «Трех мушкетеров». – Ну и что это? – спросил главный с брезгливым недоумением. – Но это уже подписано в печать. – Кем? – Вами. Не поверив себе до конца, главный вынес мое эссе на редколлегию. Неизвестность автора тут никого особо не смущала. Но жанр... – Не знаю, – сказал один из обсуждавших с сомнением, – как будет выглядеть эссе на глянцевой бумаге. Материал вышел. И... Впрочем, истории такого рода как правило лишены яркой концовки. Вот если бы тренерский штаб хоккейной сборной лаялся целую ночь, приглашать туда 75 или нет сорокалетнего ветерана, а он в решающем матче наклепал бы три шайбы... Будем реалистами. Материал вышел. Ничего не произошло. «Огонек» не рухнул. Подписчики и розничные покупатели, узрев эссе на глянцевой бумаге, не окочурились, а, скорее всего, и не обратили внимания на это сочетание. Не пришел миллион писем – ни восторженных, ни гневных. Приплести хоть для какого-то финального аккорда, что мое эссе стало лучшим материалом номера? Что ж. Оно было отмечено как один из лучших материалов номера, но что по существу значит этот небольшой титул? Плавно понизим пафос до нуля. Ничего. Что оно, пресловутое эссе, в общем-то, понравилось главному редактору и членам редколлегии, как и до публикации. Но до публикации к этой симпатии примешивался смутный страх: что будет, если мы нарушим вот эту традицию? Публикация всегда расставляет акценты и всегда одинаково: ничего не будет. И страх рассеивается, как утренний туман. Я так долго и подробно излагал эту, прямо скажем, негромкую историю, потому что она прекрасно иллюстрирует уже сформулированные нами правила. Нестандартный ход не востребован периодическим изданием. Начальство обычно делает его с трудом, преодолевая внутреннее сопротивление. Но когда он сделан, выясняется, что он никому и ничему не мешает. Мне всегда нравилось быть на фрилансе (так изящно на сленге нового времени именуется внештатная работа) и расширять- расшатывать жанровые рамки различных изданий. Я (см. выше) напечатал эссе на глянцевой бумаге. В газете «Неделя» я публиковал такие ассоциативные пары: стихотворение (не мое) и художественная фотография (не моя). Моей была идея и конкретная ассоциация. В той же «Неделе» я придумал и раза 4 успел реализовать такие материалы о литераторах: статья + фотография + большая цитата + микроинтервью. По-моему, получалось органично. 76 В «Неделе» же – серию предельно субъективных очерков (или эссе) под общим заголовком «Карта Москвы». В «Первом сентября» дважды я вместо проблемных статей печатал фантастические рассказы (свои) с последующим анализом: а что тут, собственно, на сегодняшний день, уж так фантастично? Мир не рухнул. Помянутая выше «Неделя» – вроде бы одна газета, а вроде бы несколько. Это приложение к «Известиям», которое то возникает, то закрывается по воле вышестоящей газеты. Возобновляется, естественно, с полной заменой штатного состава. Мне посчастливилось сотрудничать (как внештатному автору) с двумя генерациями «Недели». Пока речь шла о первой – как уже четко видно, эта газета не противилась творческим проектам. Впрочем, в таких случаях всегда идет речь не о печатном органе, а о конкретном человеке. Дмитрий Стахов (он же – Дима из «Огонька»). Вторая «Неделя» прямо-таки тянулась к нестандартным, творческим решениям и затеям. У ее руля стояли Николай Фохт и Дмитрий Храповицкий. Заметим, не литераторы-анархисты, а профессиональные журналисты соответствующим образованием и впечатляющим стажем. По-моему, с за их намеренностью стоял не только нейтральный довод (читателю все равно, так сделаем, как нам интереснее), но и позитивный. Такая избыточная, многоцветная, непредсказуемая «Неделя» хорошо оттеняла абсолютно серьезные, пресноватые, застегнутые на все пуговицы «Известия». Может быть, оттеняла немного невыгодно для «Известий». То выходил номер «Недели» без стандартных заголовков – на их местах стояли ассоциативные иллюстрации. То (к 200-летию Пушкина) весь номер перелагался в стихи – и стихи неплохие. Это была веселая газета. Категория широкого читателя остается для меня загадочной, но конкретные живые люди брали у меня экземпляры «Недели» и читали их с удовольствием. Если попробовать определить функцию этой газеты, то она в основном развлекала (без пошлости), чуть-чуть ненавязчиво просвещала и поддерживала диалог мнений. Понятно, что новостную нагрузку брали на себя ежедневные «Известия». 77 Насколько я понимаю, не было серьезных объективных данных о каком-то коммерческом или даже имиджевом неуспехе «Недели». Тем не менее вышестоящий орган («Известия») ее закрыл. Это было человеческое, волевое решение, и, стало быть, мы не можем до конца прояснить его мотивацию. Там сплелось несколько доводов и причин. Но, насколько я понимаю, главным доводом был очень человеческий: обидно. Мы тут соорудили себе узкие рамки из взвешенности, «объективности» и политкорректности и теперь ежедневно, обдирая бока, в них втискиваемся, а они там резвятся и горя не знают. Повторяю, это моя интерпретация событий. Но не совсем умозрительная. Я лично знаю многих журналистов «Известий», в частности, по «Русскому Телеграфу». Мне знаком напряженно-усталый стиль работы, этакий ежедневный трудовой подвиг. Чтобы так – на износ, без особой радости, хоть и за хорошие деньги – работать, надо искренне верить, что иначе работать нельзя. И наблюдать, как на соседнем этаже работают принципиально иначе, попросту невыносимо. В газете «iностранец» я столкнулся с поразительной кадровой расстановкой: невероятно живой, интересный, творчески мобильный главный редактор Илья Вайс – и (в основном) зачумленный, погрязший в текучке рабочий коллектив. Впрочем, все можно если не предсказать, то хотя бы объяснить. Творчество – это свобода. Свободу главного редактора ограничивает только фигура спонсора. (Вроде бы.) Коммерчески успешное издание, питающееся от тиража и рекламы, обходится без спонсора. В этом случае главный редактор – царь и бог. Он потенциально – творец. Он и изначально творец, потому что именно он своей интуицией определил нишу и занял ее. В случае «iностранца» – это конкретная информация для гастарбайтеров, эмигрантов и просто желающих попутешествовать по миру или отдохнуть за границей. Есть механизм с человеческой начинкой, поддерживающий этот информационный круговорот... Черт, какая-то неувязка получается. Илья Вайс выдумал чуть ли не аналог вечного двигателя. Теперь он может жить на проценты с запатентованного открытия. Его газету покупают за конкретные цифры, даты, расценки, факты, которые расставляют на страницах 78 рядовые сотрудники. Эта чисто профессиональная, абсолютно нетворческая, обязательная базисная основа настолько успешна, что может обеспечить существование еще и надстройки. Совершенно не обязательной, творческой. Личной игрушки главного редактора. Вот только коллективу не до игрушек. Сами сотрудники воспринимают свою деятельность в газете иначе. А новичка, который возьмется писать непонятно что, не имеющее отношение к обязательной коммерческой составляющей (нише), по сути содержать на свои деньги?! Как необходимое зло профессионалы из «iностранца» терпели отдел культуры, а говоря лично – Никиту Алексеева. Никита писал (и пишет) очень хорошо, но его предельная культурная партийность и ангажированность сближали его с остальными сотрудниками. Как и они, он из номера в номер делал примерно одно и то же. То, что делал в газете я (по поводу телевидения, потом видео и кино, потом интервью), долгое время нравилось Вайсу и не нравилось больше никому. Потом вождь устал бороться со своим народом. Тем более, что народ был по-своему прав. За последние пару месяцев в газете я несколько раз беседовал с Вайсом на темы разнообразных жанровых расширений и культурных проектов. Скажу честно: в первый раз на поле журналистики я встретил человека с абсолютно незашоренным мозгом. По крайней мере, более незашоренным, чем мой. Иное дело, что большинство своих начинаний Илья Вайс, успешный и единоличный хозяин газеты, реализовать не мог. Когда пошла речь о расширении жанра интервью, мы с Ильей (активнее – он) за считанные минуты накидали десяток направлений. Антиинтервью (где герой выражает себя в вопросах, а не в ответах), интервью с переменой ролей, с выдуманным собеседником, с физически умершим гением... Я сумел напечатать в «iностранце» одно нестандартное интервью, где врезки выросли до уровня равноправных фрагментов материала. Другое, где эти врезки переросли в эссе, объединяющие 3 интервью, а третье интервью вдруг перешло в несобственно прямую речь, пришлось отдать в «Дружбу Народов». Илья хвалил его, но напечатать не решился. Главку у нас принято заканчивать итоговой формулой. Что ж, вот она – всякий закон можно изредка нарушать, вот только надо знать, 79 какой именно и нарушать резко и уверенно, потому что легкое нарушение выглядит как простая небрежность. И – журналист обыкновенно более свободен, чем думает его начальник и даже он сам. Ограничивают свободу журналиста только его же коллеги, и он сам в их числе. Тема 8. Интервью. Как мы уже говорили, то обиняками, то открытым текстом, журналистика двояка по самой глубокой своей природе. По сути журналист – посредник, медиатор (ср. – масс-медиа) между читателем и: информацией (новостная журналистика, популяризация), событием в он-лайне или как бы в он-лайне (репортаж), мнением – соседа или его собственным (статья), образом жизни (очерк). С другой стороны, по фактуре, газетный журналист создает авторский продукт – текст. У него возникает искус самовыражения. Эмоциональные и психологические константы посредника и «создателя» чрезвычайно различны. Интервью – чрезвычайно важный жанр, где посредническая функция журналиста никак не замутнена, где способ создания материала тоже посреднический. Интервью берут, расшифровывают, редактируют, визируют, публикуют. Но его не пишут. А если и создают, то иначе, чем авторский продукт. Можно – с долей, естественно, условности – выделить несколько моделей интервью. Информативная – когда у собеседника выпытывают некоторые конкретные сведения. Дуэльная – когда собеседника вызывают на открытую словесную перепалку. 80 Провокативная – когда каверзными вопросами собеседника ставят в конфузное положение и заставляют предпринимать неожиданные ходы. Мне, честно говоря, все эти три модели кажутся довольно убогими. Они не приводят к настоящему результату. Информативная модель в своей основе высокомерна и неуважительна к собеседнику. Плохо не только то, что его откровенно используют, а то, что используют на доли процента. Собственно, это полуфабрикат разъясняющей статьи: журналист не знал толком, что такое оффшор и лизинг, проконсультировался у специалиста, поблагодарил его (так или иначе), вник в тему, сел и написал для нас простой и ясный материал. Ситуация консультации совершенно не требует публичности. Наш собеседник не сможет потом сказать, что дал интервью. Он не почувствовал, что был кому-то интересен – он сам, какой он есть. Дуэльная модель враждебна по отношению к собеседнику, заставляет его замкнуться и подвергает испытанию его интерфейс. Дуэль может быть зрелищна, но смысл ее неглубок. Победу одерживает не тот, кто прав, а тот, кто ловчее фехтует (стреляет, полемизирует). Особо ущербны такие дуэли в условиях культурного беспредела, где нет ни кодекса, ни секундантов. Ситуация боя без правил изначально выгодна газетному журналисту, потому что он становится собственником итогового продукта и может нанести решающие удары уже в отсутствии живого партнера. В живом эфире (радио и ТВ) нет хотя бы этого гандикапа. Словом, все это ерунда. Шоу. В провокативной модели хорошо хотя бы то, что она – пусть и конфликтным способом – старается пробить интерфейс собеседника и выйти к каким-то существенным пластам его сознания. Плохо, что эта 81 модель все же враждебна и не предполагает ответной открытости журналиста. В случае успеха провокативной модели мы видим не маску, а живого человека, но – пойманного, смятенного, подавленного. Уже вырисовывается предпочтительной. Это та модель, модель которую сотрудничества. Ее я считаю кредо: мой собеседник – заведомо бесконечно интересный человек. Я либо знаю это наверняка, либо (в худшем случае) в это верю. Надо дать ему высказаться. Для этого стоит только начать. Возникает потребность в своеобразной провокации – но иного рода. Зацепить за живое – но не больное место. (Почувствуйте разницу.) Чтобы ваш собеседник сказал: как хорошо, что вы об этом спросили. Или что-то в этом духе. Мне кажется действенной метафора дома. Собеседник – дом, внутрь которого мы хотим пробраться. Мы обходим дом и пробуем двери и окна – закрыто, закрыто... А вот – распахнулось. Дальше обходить дом не имеет смысла. Для меня подготовка к интервью носит внутренне противоречивый характер. Я готовлю, скажем, 7 вопросов, неплохих, уместных и любопытных. Но удача будет тем полнее, чем меньше этих заготовленных вопросов я успею задать. Они нужны не сами по себе, а для того, чтобы пробиться к собеседнику, выйти в режим живого диалога без заготовок. Все мы видели телевизионные интервью. Как правило, журналист либо задает собеседнику простые вопросы, чтобы тот справился, либо сложные, чтобы его подставить и завалить. Второй вариант мы уже квалифицировали как дуэльный или провокативный (различие в степени внезапности, неожиданности неприятных вопросов). Первый настолько жалок, что мы и не подберем ему имени. Сладко-юбилейный. – 82 Как вам удается 80 лет подряд заряжать радостью и оптимизмом зал? – Я дико люблю жизнь и своих зрителей. – Ах, спасибо. Как это интересно. Парадокс в том, что на очень простой вопрос как раз невозможно (или очень трудно) интересно ответить. – Вы собираетесь останавливаться на достигнутом? – Нет. (А поди ответь иначе.) – И собеседник-юбиляр превращается в невольного идиота. Одним из немногих исключений (и единственным, отмеченным мной, впрочем, я не претендую на полноту информации) является Дмитрий Дибров. Он в своей "Антропологии", да и в других проектах всегда задавал собеседникам трудные вопросы, но не чтобы засыпать, а чтобы те сумели проявить себя, ответили с блеском. Дибров же открыто болел за них. Это, на мой взгляд, настоящее творческое (с элементом риска) посредничество и сотрудничество. Вершина жанра интервью. Впрочем, велик ли риск? Один из классически трудных вопросов – о смысле, например, жизни. Но поищите такого умного одаренного человека (других Дибров не приглашал), который не ухватился бы за этот вопрос. И не наговорил бы в ответ массу интересного. Тут разворот темы. Вопрос о смысле жизни, мягко говоря, не эксклюзивный. Так что же получается, могут сработать и совершенно стандартные вопросы? Конечно. Ведь нестандартный, авторский вопрос немножечко тянет одеяло на себя, переводит стрелку на самовыражение журналиста, мы же определили его доблесть как незаметное посредничество. По-моему, идеальное интервью – это то, где работа журналиста не бросается в глаза, где ни один читатель не 83 подумает вот это вопрос! – но со жгучим интересом будет читать ответы. Давайте для примера ранжируем три банальнейших вопроса. 1. Ваши творческие планы. Тупой вопрос, заставляющий собеседника углубляться в то, чего нет, и выводить на поверхность то, чему сейчас положено существовать в сумерках. 2. Расскажите какую-нибудь забавную историю из вашей жизни. Средний вопрос, хороший хотя бы тем, что ответ будет эксклюзивный и (в большинстве случаев) сочный. Но ваш собеседник уже сотни раз рассказывал эту самую историю. Он отвечает на автопилоте, сам же откровенно скучает. Классический контакт с интерфейсом, а не живым человеком. 3. Ваши любимые писатели. Прекрасный вопрос (несмотря, повторяем, на свою затасканность). Отношения вашего собеседника с его любимыми книгами и авторами глубоко личные и живые, изменяющиеся во времени. Пусть два месяца назад он уже отвечал на подобный вопрос; сейчас он ответит иначе. Если вы не погубили к этому моменту ситуацию общения, если ваш собеседник не патологически замкнут и скрытен, здесь контакт может перейти на глубокий уровень. Потому что – не боясь разжевать очевидные вещи, на то и учебник – писатель стремится к глубокому контакту с читателем, минуя наработанные приемы общения (интерфейс). Любимый писатель не только к этому стремится, но и этого достиг. Отсылая к ситуации настоящего контакта в прошлом, мы склоняем собеседника воспроизвести эту ситуацию здесь и сейчас. Отметим кстати, что культурный опыт (в отличие от религиозного и любовного) не так интимен. 84 Иными словами, об этом принято говорить вслух, и ничто не мешает вашему собеседнику заговорить искренне, горячо и всерьез. Пример Дмитрия Диброва выводит нас на еще один сюжет. Есть такая область человеческого знания, а по совместительству и учебная дисциплина, как профессиональная этика журналиста. В 80% случаев ее воспринимают как общечеловеческую этику, спроецированную на профессиональные ситуации. То есть, как говорил в «Мастере и Маргарите» Азазелло Варенухе, хамить не надо по телефону, врать не надо по телефону. Телефон аккуратно заменяется эфиром или газетной полосой – вот вам и профессиональная этика. Я бы трактовал помянутую область совершенно наоборот. Представим себе человека идеального с нравственной точки зрения (хотя бы и князя Мышкина), однако абсолютно несведущего в журналистской профессии. Так вот – те ситуации, где он поступит совершенно морально и органично с общечеловеческой, «наивной» точки зрения, но результат получится неудовлетворительный и в каком-то отношении противоположный ожидаемому, это и есть предмет именно профессиональной этики. И как раз интервью поставляет нам такие ситуации. Допустим, ваш собеседник неполно, неточно, слабо ответил на поставленный вопрос. Вы, повторяем, исполнены к нему самых добрых чувств, совершенно не стремитесь что-то там разведать или раскопать. Простая человеческая деликатность и тактичность заставляют вас быстро покинуть сомнительный участок беседы, свернуть тему. Князь Мышкин так бы и сделал. Зачем расчесывать то, что затруднительно и неприятно для вашего собеседника? 85 Итог: неполнота, неточность и слабость ответа стали всеобщим достоянием и выставили вашего собеседника в самом невыгодном свете. Получается, что надо было все-таки углубиться в это трухлявое место и дать собеседнику возможность снять неопределенности. Если уж вы так его любите, а он вконец закопается в этом вопросе, удалите в итоге весь фрагмент интервью. Но нельзя оставлять слабые места. Мы можем Толерантность к снисходительность сформулировать ответам и этот собеседника, равнодушие. грех интервьюера. переходящая в Бесконфликтность, удовлетворенность неудовлетворительным. Блюдя интересы собеседника, надо вести себя строго наоборот. Возвращаясь к сложности вопросов – легкие типовые вопросы не оставляют вашему собеседнику творческой свободы и невольно превращают его в идиота. Относитесь к нему как к отличнику, а не вытягивайте на три. Тем более, что он по жизни отличник – иначе с чего бы брать у него интервью? И сами не будьте идиотом. Даже князем Мышкиным. Тема 9. Ситуации и жанры с изначально неполной информацией. Мы с вами уже подошли к такому взгляду на события: творчество интуитивно. Профессиональная реакция чаще всего рациональна, включает в себя быстрое усилие классификации, осознание и вывод. Опыт позволяет прессовать эту последовательность в автоматическое действие. И все же автоматизм отдает равнодушием... Еще раз: спонтанная, индивидуальная ситуация, требующая вашей быстрой реакции, почти не поддается профессиональной обработке. Иногда лучше сделать то, что советует мутант из блокбастера (не знаю, что значит это слово, но звучит убедительно) «Вспомнить всё» герою 86 Шварценнегера: open your mind! Эту рекомендацию трудновато переложить иными словами. Раствори сознание (?). Как бы продыши, но не носоглотку, а чуть выше. И, увеличив пространство свободы, увидишь выход. (Или, как уже сообразил шустрый студент, не увидишь. Фирменное свойство творческих рекомендаций: они могут совсем не подействовать.) Можно ли прогнозировать такие ситуации? Иногда – да. Допустим, идет речь о съемках документального фильма. На этапе монтажа отснятого материала режиссер итоговым творческим усилием создаст законченное целое. Но пока что мы говорим о сценарии. Об этапе подготовки к тому, что нельзя полностью предугадать, рассчитать. Допустим, о съемках реального события: конференции, футбольного матча, митинга. Или – ток-шоу, не «паленое», заранее срежиссированное, а настоящее. Реальный прямой эфир. Сама спонтанность, которую мы никак не можем вбить в заготовленный сценарий, а если сможем, от этого станет только хуже. С другой стороны, совсем без сценария начинать тоже нельзя. Как ни странно, говоря о простейших профессиональных проблемах, мы выходим на абсолютно философский план. В какой степени мы создаем окружающую реальность, а в какой степени наблюдаем ее? Или иначе – есть сопротивление материала, среды. Матч протекал и закончился не так, как мы предполагали. Гости прямого эфира повели себя непредсказуемо. Для сравнения – этого эффекта в игровом кино или в процессе написания романа нет. (Есть иное сопротивление материала, но углубляться сейчас в эту бездну было бы гибельно.) Как связаны эти данности: наличие/отсутствие 87 неучитываемого (извините за неуклюжее слово) пласта и уже привычная для нас оппозиция творческого и профессионального? Связаны непрямо: там, где этой внешней створки нет, у нас есть полная свобода колебания между творческим и профессиональным. Твердая почва – а нам выбирать, бежать по ней или лететь над. Можно снять «Амаркорд», а можно «Никиту». Там же, где появляется спонтанный элемент, профессиональное усилие недостаточно. Приходится если не летать, то хотя бы перепрыгивать. Мы все никак не переходим к конкретным установкам и рецептам. Напоминаем читателям, что перед ним страницы второго раздела книги. Творческая деятельность не предполагает готовых методик. И все же. По-моему, хороший сценарий прямого эфира предполагает жесткие элементы (формат, интерьер, способ организации материала, заготовки), гибкие (направления разговора, которых стоит хотя бы приблизительно придерживаться) и открытые участки, заполняемые спонтанно уже в реальном времени. О! Открыл Америку! Кстати об Америке. Как мне рассказывали, однажды Американская Академия Киноискусства (та, что присуждает «Оскаров»; Все Три Слова пишутся с большой буквы), чтобы показать, кто в курятнике петух, собрала на ошеломляющий семинар всех ведущих кинорежиссеров планеты. Куросава, Феллини, Бергман, Тарковский – ну, если не лично они, то вплотную примыкающие к ним мэтры смирно расселись в зале, а каждому из них выдали – нет, совсем не поп-корн, а специальные наушники с синхронным переводом на нужный язык. И вот выходит лектор из Академии, все достают блокнотики и собираются конспектировать. – В каждом фильме можно выделить три части, – говорит специалист, – начало, середину и конец. 88 Возвращаясь к нашим проблемам. Сколько раз уже мне сдавали студенты сценарии документальных фильмов с фрагментами типа Киногруппа въезжает в деревню. У водочного магазина очередь. Пастух матюками гонит стадо овец. В канаве лежит человек, одетый в неплохой пиджак... Или сценарии прямого эфира: Ведущий: Так что же все-таки для вас главное в жизни? Гость: Вы знаете, я как-то не задумывался буквально над этим вопросом. Главное, вероятно, ощущение гармонии, сопровождающее повседневное наше бытие. Если, конечно, вы понимаете, что я говорю. Ведущий: Да, конечно, понимаю. А вот я не понимаю. Человек в пиджаке – актер? Кто такой Гость? И почему он говорит то, что в сценарии, а не то, что он хочет? Вопросы детские, но я сам не раз был Гостем на радио и ТВ и отвечал на все вопросы совершенно свободно. Так что приходится пояснять простейшие вещи. Перефразируя известную молитву, можно сказать так: Доблесть сценариста прямого эфира или другого процесса с внешней, спонтанной створкой состоит в том, чтобы предугадать то, что можно предугадать, выстроить то, что нужно выстроить, и четко обозначить место того, что должно идти своим чередом. По-моему, хорошо сказано. В меру изящно и в меру конструктивно. Тема 10. Сочетания материалов в пары, серии и полосы. Как уже было многократно сказано, создание одного конкретного журналистского материала в основном профессионально. 89 Это может быть объяснено и через психологическую категорию запарки, или, как любят говорить журналисты, dead line. Пастернак по другому поводу писал: «Найдись в это время минута свободы...». У пишущего журналиста ее как правило нет. У его начальника – случается. Возникает мысль о таком попущении – соединить готовые объекты все же проще и быстрее, нежели создать их из ничего. Может быть, тут простор для нестандартных творческих решений? Читатель, аккуратно продвигаясь вперед по минному полю текста нашего учебника, ждет, что продемонстрирует ему автор-сапер. А ничего. Действительно, тут свобода. Уже навязшая у нас в зубах свобода выбора между творческим и наработанным (профессиональным). Рабочие пары: заголовок-подзаголовок, материал-иллюстрация, материал-заголовок, материал-материал, заголовок-заголовок, материал-рубрикатор и т.д. В каждом случае есть стандартный принцип сочленения. Например, заголовок: а) метафоричен и ярок; б) передоверяет подзаголовку и рубрикатору информативную функцию; в) зрительно и смыслово сочетается с другими заголовками полосы. Это азбука, последняя буква которой поясняет, кстати, почему редко сохраняются авторские заголовки. Автор попросту не ведает остальным контекстом полосы. Лет 7 назад наш спикер Селезнев съездил в Намибию и дал ряд ценных советов руководителям этой державы по народному хозяйству. В газете «КоммерсантЪ» это событие было отражено так: заметочка, совершенно стандартный рубрикатор, подзаголовок (если он вообще был, точно не помню) и решающий заголовок: КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ НАМИБИЮ. Блестящая находка моего (к великому сожалению, погибшего) друга Михаила Новикова, 90 главным объектом иронии которой стал, конечно, Селезнев, но рикошетом и Солженицын. К чему я веду – это блестящее стандартное решение, что, естественно, никак его не компрометирует. Молодой писатель почтительно поинтересовался у Михаила Светлова, как тот посоветует озаглавить роман о советских китобоях. Ответ последовал мгновенно: «Бей китов – спасай Россию!». Зиновьев озаглавил свою культовую антисоветскую книгу «Зияющие высоты». Ему же приписывает молва афоризм (вакантное название) «Над пропастью во лжи». Дима Сучков роман о доблестных современных гэбэшниках назвал «Shit и меч». Это все один – но выигрышный прием. Немного модифицируем его. Один мой знакомый на просьбу помочь подобрать яркое и в то же время точное название для лирической повести о первой любви, отреагировал (не читая): «Ни слова о Ельцине». Нет нужды говорить, что заголовок стопроцентно соответствовал действительности. Добавим, что он довольно универсален – если к тому же своевременно обновлять имя вождя. Список забавных примеров можно длить бесконечно. Достаточно пролистать подшивку «МК». Но мы все же не только веселимся, поэтому двигаемся дальше. Стандартная иллюстрация к материалу про обезьян – фото обезьяны. Блестящая стандартная – блестящее фото обезьяны. А вот нестандартная... для этого надо как минимум прочитать статью, потом просмотреть сотню фотографий и ощутить укол ассоциативной связи. Внимательный читатель газеты (если таковой существует в природе) без труда отследит в ней серийные материалы. Что-то типа Великолепный Истомин продолжает свою серию очерков о мастерах современных ремесел. Кстати. Одна моя знакомая состряпала однажды блестящую статью о чесалках. Идея этого несложного прибора такова: многим менеджерам среднего 91 звена приходится подолгу высиживать на разнообразных заседаниях. Иногда при этом чешется спина, пузо или что еще, а чесать как-то неудобно – в отличие от представителей высшего и низшего звеньев, которые по противоположным причинам свободны и чешут, где чешется. Выход: прикреплять к подтяжкам или ремням своеобразные конструкции, похожие на насекомых с лапками, а потом управлять ими посредством пультов. Статья подробно и дотошно рассматривала разные модели чесалок: механические, электрические, с радиоуправлением. Желтизна материала заключалась, собственно, в одном – он весь был придуман от начала до конца. Другой мой знакомый для другого желтяка не только выдумал частника на Измайловском рынке, торгующего поясами верности, но и дал ему мою фамилию. Как я понимаю, так он отыгрывал наш разговор о проблемах семьи и брака. Впрочем, утром в газете – вечером в куплете. Кто поручится, что чесалки и пояса верности не выброшены на отечественный потребительский рынок сообразительными частниками, вдохновившимися помянутыми выше статьями?.. Однако, мы отвлеклись. Итак, серия. Основных поводов для ее возникновения, как это ни странно прозвучит, два – недостаток или избыток фантазии и творческой энергии. В первом случае редактор полосы абсолютно опустошен необходимостью ежедневно рожать новые темы и хочет дать себе отпуск, закрыть амбразуру хоть на две недели идеей серии. Во втором – хочется приключений, хочется большего, чем ежедневная легкая рутина. В первом момент неожиданности, вариативности почти исключается. Материалы в серии похожи один на другой, одного жанра, скроены по единой схеме. Во втором случае тематическая фиксация – повод для жанрового многоообразия. Очерк – репортаж – интервью – аналитический материал – лирическая зарисовка. Впрочем, жанровую палитру серии читатель заведомо не оценит. Другое дело – тематическая полоса. 92 Полоса существует одновременно, и в ней разнообразие – жанров, разрезов темы, интонаций – попросту необходимо. Впрочем, одновременность никогда не бывает полной. Текст читается слева направо и сверху вниз. Картинка «читается» от ярчайшего графического пятна по заложенной в ней – как бы назвать? – спирали внимания. Полоса существует и как гипертекст, и как графический объект. Окончательная ее иерархия запутана, но есть простые правила. Материал «над» важнее материала «под». Два уравненных по объему, сбалансированных по заголовкам материала рядом на одной высоте вступают в диалог. Тот, что слева, «говорит» первым, но непонятно, что выгоднее. Крупные: шрифт, формат, иллюстрация важнее мелких. Знаешь закон – знаешь, как его нарушить. В первых кадрах великого «Крестного отца» проситель-гробовщик снят сверхкрупно и говорит очень громко, дон Корлеоне – средним планом и говорит чуть ли не шепотом. Мы вынуждены с самого начала фильма отменять стандартный способ восприятия как обманувший нас (его, способ, классически подставили) и смотреть «Крестного отца» поверх стереотипов. Что еще? Да, в общем-то, все по здравому смыслу. И вашему (творческому) велению. ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ТВОРЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ЖУРНАЛИСТА. Тема 11. Кадровая установка СМИ и самореализация журналиста. Есть такие речевые обороты: в интересах страны или, например, в интересах крупной буржуазии. Надо отдавать себе отчет в их легкой метафоричности: мы как бы очеловечиваем страну или, соответственно, буржуазию, наделяем их волей, устремлениями и 93 эмоциями. Воспользуемся этим немного условным ходом в своих интересах. Имеет ли смысл говорить об интересах конкретного СМИ, например, газеты? Наверное, если ограничиться цифрами. Газета стремится к экспансии, увеличению прибыли, тиража, индекса цитируемости. (К более тонким целям, например, политическим или культурным, все-таки стремятся люди, используя газету как рычаг.) Сделаем следующий шаг, вдохновившись если не «Матрицей», то ее культурно-философскими корнями. Довольно стандартная расстановка – некая категория (деньги, властная структура, идея) подчиняет себе людей, высасывает их волю, превращает в своих функционалов. Вот Газета набирает сотрудников. Читатель нашего учебника не удивится, если я скажу: это будут слегка примороженные профессионалы, каждый из которых блестяще знает и выполняет свой узкий маневр. Отличие сегодняшнего номера от вчерашнего будет исключительно в новостной начинке, все навыки, приемы и ухватки будут наследоваться. Такая превосходно слаженная газета обойдет конкурентов. Близкий пример – «МК». Повторим: созданное без творческого усилия и потребляется без оного. Это не значит, что мы отказываем читателю в творческой энергии. Просто он расходует ее в других местах. Отчего бы журналисту не отделить, как белок от желтка, одно от другого и не вкладываться в газету чисто профессионально, а в роман в ящике домашнего стола – чисто творчески? Мы уже упоминали возможность такого образа жизни. Сейчас в паре слов заметим, почему он не решает проблему целиком. Создавая и отчуждая текст, журналист все-таки выводит в свет некий авторский продукт. В отличие, скажем, от телеведущего, просто существующего в эфире (без отчуждения продукта). В отличие от 94 актера театра, многократно исполняющего, а не создающего. В отличие от писателя, конечно, создающего и отчуждающего авторский продукт, но в десятки раз реже, чем журналист. Я хочу, чтобы вы вместе со мной нащупали тот единственный ракурс, в котором профессия журналиста становится уникальной, если не героической. 10.000 раз высказать свое мнение по разнообразным поводам – на кухне или в ходе интервью перед микрофоном – легко. Но 10.000 раз за жизнь оформить эти мнения в законченные письменные тексты – невероятно, выматывающе трудно. Решающей становится категория формы, пресловутая законченность. Извините за банальность, форма должна быть адекватна содержанию, то есть глубоко индивидуализирована. Она, как это ни странно, плохо сводится к сетке навыков и рекомендаций. Шаблонные ходы слишком легко читаются. Интуиция, ритм текста – вот слова, которые всплывают в сознании. Мы попадаем в редчайшую ситуацию, где творческое усилие гораздо счастливее, чем профессиональное. Легче воспитать в себе чувство формы, чем постичь ее закон. Эта капля творчества востребована именно на длинной дистанции. Профессионал освоил 100 навыков, но написал к этому времени 200 статей, а предстоит ему написать еще тысячи. Повторы оставляют неприятный осадок. Журналист реально нуждается не в постепенно расширяемой территории свободы, а в изначально полной свободе белого листа. В узком коридоре теснее, чем в широком. Повторы (повторяю) оставляют неприятный осадок. Возникает очажок конфликта: СМИ стремится локализовать позицию штатного журналиста – журналист стремится расширить сферу своего применения. Конфликт чаще всего протекает мягко, потому что интересы СМИ представляет главный редактор, в 80% случаев сам – (бывший) журналист. Он хорошо 95 понимает своего подчиненного и по-человечески с ним солидарен. В тех редких случаях, когда начальство рекрутировано со стороны, этот конфликт обостряется. Лишний раз подчеркнем: конфликтность журналиста никак не связана с особенностями его характера. По характеру он чаще всего сангвиник и экстраверт. Его искренне интересуют люди. Склочность и угрюмство для него (в отличие, например, от поэта) почти синонимичны профнепригодности. Мы плавно переходим к морали данной главки. То, что на первый взгляд кажется издержками, причем не профессии, а личной судьбы, – постоянный неудовлетворенность поиск новых сложившимися мест и (вполне приработков, приличными) обстоятельствами, некая незаконченность, незавершенность карьеры, частый сброс на ноль – всё это есть профессиональная норма, здоровая стратегия журналиста. Понимание тотальности этого психологического феномена позволит вам быстро и легко находить союзников для новых проектов и авантюр. Казалось бы, у Х.Х. все в порядке; чего ему искать от добра добра. Рискнув, однако, обратиться к нему, вы, к своему радостному изумлению, через сутки уже видите Х.Х. в своей компании, рьяно ищущего добра от добра. Чтобы не заскучать. Особенно этот эффект заметен в Москве. (Так мы мягко утверждаем Москву не просто в качестве города, а как важную категорию современной отечественной журналистики.) Тема 12. Необходимость тематического и жанрового варьирования. 96 Может быть, мне только так кажется, что в прошлой главке мы с вами нащупали верную интонацию и как бы набрали приличную скорость. Но так или иначе мне сейчас нечего противопоставить своей интуиции. Поэтому попробую сообщить вам еще кое-что, как если бы вы мне поверили. Допустим, у вас есть работа и вы ищете приработок. На работе от вас требуют, например, страничные спортивные репортажи. И вот, звонят из параллельного органа и спрашивают, не согласились бы вы штопать и им время от времени страничные спортивные репортажи. Что, мол, тебе стоит, старичок? У тебя отлично получается. Ты этот формат уже освоил. Вы догадываетесь, что я вам хочу посоветовать. Отказаться и искать на стороне максимально далекий вариант. Не страничные, не спортивные и не репортажи. То есть сменить тему, жанр и формат. Сейчас я сижу и смотрю на экран в некотором душевном колебании. Я могу десятком способов аргументировать и откомментировать стоящий чуть выше совет. Но если я правильно чувствую адресата, этого делать не стоит. Лишние комментарии тут только затормозят текст. Рискнем. Едем дальше. Точно так же для журналиста неоценимо важны литературные пробы. Не по принципу притяжения, а по принципу отталкивания. То есть, конечно, полезно попробовать в условиях абсолютной свободы дать словам спокойно принюхаться друг к другу и подружиться. Но гораздо полезнее распутать этот клубок мотиваций. Почувствовать, какой импульс ведет к поэтическому, какой – к прозаическому началу. 97 И постараться не проращивать эти импульсы внутри журналистского материала: во-первых, всходы будут чахлые; во-вторых, здесь они окажутся сорняками. Очень условно, на уровне дорожных знаков. Прозаик видит то, чего нет. Поэт слышит то, чего нет. Это эмбрионы их гениев. Для журналиста это начало профнепригодности и желтизны. Развести понятия. Не смешивать. Может быть, еще полезно прочитать какой-нибудь хороший реалистический рассказ (из «Записок охотника», например) с точки зрения журналистских недостатков. Но полезнее пробовать написать. Чтобы почувствовать разницу на всех уровнях: в глазах, на кончиках пальцев, в воздухе между словами, между фразами... Впрочем, я так долго и безуспешно пытаюсь вам объяснить фактурное отличие журналистики от литературы именно потому, что оно плохо ощутимо до опыта. Кабы сумел объяснить, можно было бы и не пробовать писать. А вы попробуйте. Тема 13. Критерии журналистского успеха. Весной 1987 года я месяц проработал на практике в журнале «Октябрь». Мне пришлось – устно и письменно – объяснять авторам, почему их вещи не годятся для публикации. В декабре того же года один мой рассказ вышел в журнале. Я попросил своих бывших коллег что-нибудь об этом рассказе сказать. «Ты что?! – удивились они. – Мы же его печатаем. Этим все сказано». Прошло много лет. Я не считаю, что они были правы. Может быть, просто спешили. По крайней мере, типовая ситуация так не 98 выглядит. О рассказе тем больше можно сказать, чем больше он вам понравился. А вот об опубликованной статье чаще всего действительно сказать нечего. Да, нормально... Если бы что-то вывалилось, исправили бы или вообще завернули. А так – вышла, вместе с остальными материалами составила собственно газету. Альфа успеха (повторяю, в большинстве случаев) становится его омегой. Пора думать о завтрашнем номере. Задумаемся чуть глубже – вообще о критериях журналистского успеха. Карьерный рост выводит журналиста из зоны письма. Как правило, уже заведующий отделом пишет меньше, чем рядовой сотрудник, а заместитель главного (если он не Дмитрий Быков) почти не пишет. Поэтому карьера автора-журналиста – скользкое понятие. Писатель Вацлав Гавел, став президентом Чехии, сделал блестящую карьеру, но не карьеру писателя. Известность – да, в известной мере... Но ее очень трудно отделить от тусовочности. Постепенно все становятся знакомы (известны друг другу). Это внутри цеха. А ситуация, когда знаменитый журналист ошарашивает своей фамилией соседей по купе, здорово отдает «Мосфильмом». Сам Зубов! Не фунт изюма!.. Что-то не верю. Не из нашей жизни. Почесав тыкву, вы вспомните 3-4-х газетных журналистов по имени, но без придыхания. Гонорары и ставки? Нет, любой глянец тут предпочтительнее серьезного издания, а уровень глянцевых материалов даже не чудовищен (это образовало бы парадоксальную, но все-таки ось качества), а никаков. Деньги могут быть приятны сами по себе, но индикатором успешного бытования журналиста они – к сожалению 99 или к счастью – не становятся. Чаще (см. выше) они обозначают степень несвободы. Лично для себя я пришел к такому странноватому умозаключению. Литература – дело личное, сумеречное, и именно поэтому критерий успеха должен быть вынесен за скобки самооценки, вовне. Пусть это будет не десяток рецензий, а просто канва чужих мнений и обмолвок. Она важна. Журналистика – дело коллективное, внешнее, социальное. Именно поэтому критерий успеха в ней должен быть внутренним, потаенным. Потому что критерий должен быть дистанцирован от предмета. (Точно так же главный критерий научной истины – практика, а не внутренние коллизии теории.) Иначе мы впадем в скучноватую ошибку: будем мерить предмет самим предметом; вдохновение – вдохновением, публикацию – публикацией. Итак, внутреннее ощущение. «Яблочко» и «молоко» материала. Тактика «сведения в точку» и «расширения границ». Мы уже можем оставлять эти кавычки без раскрытия – понятно, что имеется в виду. Постепенно возникает, растет новое измерение существования человека в профессии – он в профессии живет и реализует свои интересы. Очень примерно это можно описать так: молодой лектор, входя в аудиторию, забывает, о чем только что думал, и переключается на тему занятия. Опытный же делится своими мыслями с аудиторией. Что за кустарщина! – возмутитесь вы. А если мысли об истории США, а лекция по сопромату? Понизим пафос – если так, тогда не стоит. Но чаще лектор преподает то, что ему интересно, и думает о том, что ему интересно, и перекличка получается. Вот точно так же и опытный журналист не только служит газете. И газета служит ему – как школа учителю, театр – актеру. 100 Впрочем, что гадать? Я попросил нескольких своих добрых товарищей дать для учебника любимые статьи и пояснить в паре фраз, почему они выбрали именно эти материалы. Я думаю, объяснения как нельзя лучше проиллюстрируют принцип личной задачи. Удалось то, что хотелось сделать. Хорошо, когда это ощущение сопутствует журналисту. Литератору же хорошо, если удается больше, чем он хотел. Или иное, чем он хотел. И хорошо, когда сигнал об этом эффекте приходит извне. В области полной свободы простая реализация собственных планов слишком похожа на порочный круг. Тема 14. Штатная работа и фриланс. Если вы попадаете в штат, то при той же нагрузке (например, 1 статья в неделю) вам платят в полтора-два раза больше, чем внештатнику. Как мы уже установили выше, никогда никто ничего никому не платит напрасно. Читатель уже слегка съеживается, ожидая неприятной мистики. Газета выторговывает у вас кусочек души! Нет, все скучнее и проще. Штатному сотруднику оплачивают что-то вроде дежурства. Он должен быть на подхвате, и у него гораздо меньше возможностей отказаться. Парадоксальный пример. Я в газете «Первое сентября» не работаю (потому что сказать «работаю вне штата» – это просто фигура речи). Но тот отдел, с которым я сотрудничаю, настолько меня устраивает, что я раз 30 подряд не отказывался – написать на данную тематическую полосу, написать быстро... В итоге безо всяких провокаций с моей стороны мне удвоили гонорары. Потому что, повторяю, отдельно оплачивается собственно безотказность и боевая готовность. Внештатную работу в современной России любят изящно именовать фриланс. Если посмотреть на гонорарный разрез с другой стороны, то есть воспринять штатные ставки как норматив, то 101 фрилансер из собственного кармана оплачивает дополнительную порцию свободы. Свободу вежливого отказа – хотя бы и без объяснения причин. Фриланс актуален в Москве, где функционируют сотни (если не тысячи) периодических изданий и можно отказаться от не очень приятного заказа из «А» в пять вечера, надеясь на то, что в шесть позвонят из «Б». В небольшом городке, где зарплаты и гонорарные ставки катастрофически отстают от цен, а газет всего 5, считая 2 откровенно экстремистские, отказываться не приходится и, стало быть, нет разумной альтернативы штатной работе. Внештатный стаж чаще всего становится вынужденной мерой или испытательным сроком перед зачислением в штат. Исходя из собственного опыта, могу посоветовать вам на длинной дистанции как можно чаще переключаться. На фрилансе чередовать форматы и издания. Собственно фриланс – со штатной работой (ненадолго). Журналистику – с преподаванием, литературой (хотя это, не устаем повторять, не работа, а занятие), чем-нибудь еще. Лучший отдых для одной группы мышц – работа другой группы мышц. Борьба с монотонностью. Постоянный сброс на начало. Возвращение к белому листу. Где-то мы об этом уже писали. И ведь совсем не случайно законы жизни текста перекликаются с законами жизни автора. РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. 102 ЖУРНАЛИСТСКОЕ МАСТЕРСТВО Здесь место не то чтобы для второго предисловия, а так – для короткого предуведомления. По моему разумению, рост качества журналистского материала с некоторого момента определяется его глубиной. То есть мы из стыдливости долгое время не обсуждали ваши мысли, а лишь очерчивали их наличие и выстраивали высказывание. Шлифование формы может идти и дальше, но все же важнее увидеть еще один план предмета. Мы уже «определили» журналистику как искусство видеть в единичном типическое, теперь же попробуем различить в типическом всеобщее, посмотреть, как перетекают одна в другую модификации неких вечных конфликтов и расстановок. Ну и бегло перечислим категории своеобразного культурного ликбеза. ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВСТРАИВАНИЕ МАТЕРИАЛА В КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ. Тема 1. Мнение оппонента. Припомним одно хрестоматийное стихотворение Анны Ахматовой: ...Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну черный стыд, Я новым именем покрою Боль поражений и обид». 103 Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух. Не повторяйте только ошибку нерадивого школьного учителя, считая, что мы процитировали этот шедевр целиком. У Ахматовой начинается иначе (Когда в тоске смертоубийства...); интересующий же нас голос появляется в девятой строке. Но это, конечно, побоку, а приводим мы данный фрагмент, чтобы обратить внимание: речь «голоса» в высшей степени достойна. Он не говорит, например: Иди сюда, оставь свой край нищий и хамский. Я помогу тебе устроиться в фирму Microsoft, где ты заработаешь порядка $70.000 в год... Или даже: Иди сюда, оставь свой край кровавый и опасный. По крайней мере, сохранишь шкуру, а там видно будет. Мотивация эмиграции поставлена невероятно высоко. По сути – сохранение образа Бога в человеке, то есть Ахматова в 1917 году предугадывает основные тезисы программной речи Бунина о миссии русской эмиграции, прочитанной им в 1924 году. Мотивация неэмиграции, дальнейшего сосуществования с большевиками не вполне даже на родине, уже не в России, а в грядущем СССР, дана через жест (замыкание слуха руками). Она запредельно высока именно за счет гениального выражения позиции идейного оппонента. Ему (оппоненту) уже нечего возразить. Чем уважительнее и точнее вы представляете себе позицию вашего противника, тем сильнее и убедительнее становится ваша аргументация, тем достойнее и выше выглядит ваша позиция. 104 Почитайте статьи наших современных «демократов» и «патриотов» – без кавычек тут не обойтись. Корень их космического убожества – в представлениях друг о друге. «Патриот» в глазах «демократа» – ничтожный, обозленный, замученный комплексами черносотенец с декоративным крестом на волосатой груди, мутнокрасными от водки глазами и свастикой на запястье. «Демократ» в глазах «патриота» – вор, комсомолец-расстрига, предатель, американский агент, приспособленец и холуй. Надо ли теперь уточнять, что: 1) уровень дискуссии значительно ниже нуля, потому что западло вообще базарить с таким оппонентом; в рожу ему! в хайло, чтобы неповадно!.. 2) люди, мало похожие на обозначенные абзацем выше фигуры, постепенно вымываются из диалога, потому что просто не к ним обращаются, и по прошествии нескольких лет глядишь – и действительно лицо совпадает с портретом. Перефразируя известную поговорку, медаль нашла героя (выбитого на медали). Давайте чуть-чуть помечтаем. Вот на трибуну выходит патриот и говорит: Я искренне уважаю своего оппонента. Более того, мне не хотелось бы утверждать монополию на звание патриота, потому что я вижу, насколько мой сегодняшний собеседник любит Отечество. Я чрезвычайно высоко ценю свободу личности и вижу, какие просторы на этом пути открывает путь западной цивилизации. Главное ее достоинство – трудом и кровью добытый иммунитет против всякого фундаментализма, оборачивающегося очередным геноцидом. 105 Демократия и глобалистская тенденция привлекательны. Мир без границ симпатичен. Но давайте взвесим возможные потери... Демократ, выйдя на трибуну, пару минут с улыбкой аплодирует патриоту, затем вступает: Я искренне уважаю своего оппонента. Более того, мне не хотелось бы утверждать монополию на звание демократа, потому что я хорошо знаю традиции, например, Новгородской Руси. Я чрезвычайно высоко ценю рафинированный опыт национальной культуры. Я отдаю себе отчет в особом месте России в современном мире, ее срединном положении между Востоком и Западом. Я понимаю, что слепое копирование западного опыта здесь обречено на неудачу. Но давайте спокойно рассудим, есть ли сегодня разумная альтернатива объединению европейских стран и не сделает ли нас простая нерешительность аутсайдерами исторического процесса... Смешно? Смешно... Но над кем мы смеемся – над тем, кто есть, или над тем, кого нет? Или над собой? Тут есть, о чем подумать. Сама фигура убеждения предполагает читателя-оппонента. Читатель как бы пробует сесть в кресло напротив вашего. И выражая неуважение к оппоненту, непонимание и преступное упрощение его позиции, вы тем самым оскорбляете читателя. Сажаете его в негодное кресло. Он с отвращением встает и уходит. Другое дело, когда убеждение переходит в откровенную ругань. Никому не хочется быть объектом ругани, комфортнее к ней присоединиться. Потявкать, так сказать, вторым голосом. Возникает феномен партийной прессы в формально свободной стране. Патриот покупает «Завтра», демократ – «МК». Убеждать никого ни в чем не надо. Публицистическая задача свелась к 106 нулю. Надо просто облаять мыслящего инако и получить удовольствие. Убожество... Поднимая (а не опуская) оппонента, вы автоматически поднимаете и читателя, и себя. Есть темы, где позиция оппонента вообще не проявлена. Они кажутся выгодными только очень неопытному журналисту. На деле же они почти безнадежны. Как бой с тенью – по морде, конечно, не получишь, но и выиграть тяжеловато. Или футбол в одни ворота, да еще и противник на поле не вышел. Закатили мяч при молчаливых трибунах. Что дальше?.. Какие темы? Извольте: экология и наркотики. В этих случаях оппонент не вступает в словесную перепалку. Он утверждает свою правоту иначе. В верховьях реки находится завод, который еле-еле сводит концы с концами. Денег на очистные сооружения у него нет. Если он закроется, тысяча человек останутся без работы и той нищенской зарплаты, которая помогает им не околеть с голоду. Завод пыхтит и гадит в реку. Рыба плывет кверху пузом, ее ловят браконьеры, вымачивают в марганцовке и по три рубля килограмм сдают оптовикам. Допустим, мы с вами надели гринписовские майки и приперлись к директору завода. Чего мы от него хотим? Чтобы он обрек на гибель пресловутую тысячу человек, а сам сделал себе харакири? Он даже не вправе закрыть завод. 107 Давайте докажем очередной раз, что чистая вода чище грязной, а живая рыба живее ста дохлых. Получилось подозрительно легко. Кто спорит? Никто. Это и плохо. Есть дядя Махмуд... Неполиткорректно. Хорошо, есть дядя Ваня. Чеховщина какая-то. Ладно. Есть дядя, пожелавший остаться неизвестным, делающий на наркотиках 1000% прибыли. Давайте перестанем зубоскалить и подумаем всерьез: мы хотим ему что-то доказать своей антинаркотической статьей? (Для справки – 4 Евангелия пробуксовали.) Наш сценарий развития событий: дядя устыдился, свой склад сжег, а последнюю выручку отнес в детский дом? Минута на раздумье. Если ваш ответ «да», отложите наш учебник и займитесь фантастикой. Если все-таки «нет», задумайтесь всерьез о природе зла, а также о предмете публицистики. Вы ставите своей целью настроить общество против наркотиков. Прекрасно. Оно против. Наркотиков, террористов, войны, клонирования, олигархов, разграбления недр. Есть отдельные (немногочисленные, но довольно могущественные) индивиды, которые за. Общество не должно их переубеждать. Оно – в зависимости от собственного уголовного законодательства – либо вынуждено их терпеть, либо должно с ними бороться. Четвертая власть не нужна там, где ей нечего добавить к трем первым. Тема 2. Позитив и механизм. Позиция критика практически неуязвима, покуда он критикует. Как это ни парадоксально (вспоминайте), неуязвима – значит, не сильна. Публицист может сделать действительно сильное 108 высказывание, только рискнув и представив позитив. Вариант выхода из кажущегося тупика. Именно прекрасные, поэтому двойственное сверхэмоциональные впечатление репортажные оставляют работы насчет бомжей, нищих, сельских школ, вымирающих деревень. (О войне мы уж не говорим.) Они бередят душу читателя. Однозначно. Точно так же ее бередят сами явления. Где тут искусство – хотя бы искусство журналистики? Другой пример – отчего не показать с возмущением и гневом смерть молодой девушки от белокровия или другой неизлечимой болезни? Речь, заметим, не идет о врачебной ошибке. Просто смерть в ее отвратительной наготе. Но... позвольте, а в чем тогда публицистический пафос материала? Гнев, так сказать, и возмущение? Мира Божьего не принимаем? Лавры Вани Карамазова прельстили журналиста? Позвольте, позвольте еще раз. Все-таки бомж не умирающий больной. Налицо массовая социальная проблема. Все (ну, многие) к ней неравнодушны. Так. Но проблема начинается по сути там, где одни говорят гнать этих вонючих ублюдков к чертовой матери на сто первый километр, пусть там себе вымирают, а нас не заражают своими вшами и палочками Коха, а другие – давайте разберемся, чем мы можем им помочь. Репортаж в данном случае только возгоняет температуру; публицистика начинается с предложенного позитива. Заметим кстати, что курсив в данном абзаце – еще не варианты позитива, а лишь раздражение в процессе его поиска. Мне запал в память один из эпизодов московской жизни. Наши отечественные антисемиты пришли к посольству Израиля с плакатами ЕВРЕИ УБИРАЙТЕСЬ В ИЗРАИЛЬ! Там они встретили демонстрацию палестинцев с плакатами ЕВРЕИ ВОН ИЗ ИЗРАИЛЯ! Несмотря на противоположные 109 направления лозунгов, две толпы радостно побратались на почве общей нелюбви к евреям. Мораль этой истории проста: описанный выше пафос единения не имеет ничего общего с публицистическим пафосом. Деревни вымирают. Им (не всем, а тем, которые вымирают) осталось лет 20-30. Это грустно. Грусть нас объединяет, но само существо этого объединения поверхностно, потому что одни скажут: А) Этого допускать нельзя. Надо эти деревни дотировать, а если все равно будут оттуда уезжать, не выпускать никого, вплоть до того, что паспорта отбирать, устраивать там альтернативную военную службу, так как это государственное дело, считай – фронт, и личные интересы должны быть в крайнем случае принесены в жертву; а другие скажут: Б) Да, грустно. Но еще грустнее просидеть там не старому еще человеку эти 20-30 лет и остаться у совсем уже расколотого корыта. Надо создать им в городах рабочие места и буквально эвакуировать их оттуда. Дать такую возможность, создать реальную свободу выбора. Так как свобода личности, причем действительная свобода превыше всего, а интересам государства противоречить она не может, потому что в здоровом государстве и есть важнейший интерес. И, уверяю вас, грусть отойдет на второй план, когда позиция А схлестнется с позицией Б. Но и позитив иногда бывает обманчиво прост. Не надо быть ясновидящим, чтобы ясно видеть: главная проблема нашей современной средней школы – уровень зарплаты учителя. Так что ж – увеличить ее!!! (Как говорил один из героев «Острова Сокровищ», пустить ему кровь!). Но простое, росчерком пера увеличение одной бюджетной цифры может идти только за счет других бюджетных 110 цифр. У кого собираетесь отнимать – у врачей? У пенсионеров? Или вы придумали, как заработать кучу денег? Тогда с этого следовало начинать. Я пишу эту главку 31 декабря 2003 года. Дату привожу не для того, чтобы вы сюда капали шампанским из шприца, а чтобы вспомнить о только что прошедших выборах в Думу и мэра Москвы. Может быть, мои слова покоробят читателя демократического направления, но меня порадовал провал «Яблока» и СПС. Не потому что я против демократических сил, как раз наоборот, просто лучшие роли достались в этом спектакле худшим актерам. Например, в метро висела программа «Яблока» в виде анкеты на манер известного рассказа «Что я люблю и чего не люблю». Расставленные галочки «за» и «против». Впрочем, их так же расставила бы любая бабушка. Рост пенсий и зарплат – за. Ввоз ядерных отходов – против. Антитеррор – за. И т.д. Одного взгляда достаточно, чтобы обобщить эту «программу» до уровня тоста – за все хорошее! Второй взгляд дает: Явлинский и его советники за все расходные статьи бюджета и против всех доходных статей. Оно, конечно, тратить деньги веселее и приятнее, чем зарабатывать. Все-таки радует, что наш народ, при всей его заскорузлости, не заглатывает пустой крючок такого бессовестного популизма. Каким местом он (народ) голосует за «Единую Россию», которая даже этого не сумела произнести, – это выше понимания... Сформулируем итог без комментариев: аргументация демократов-2003 оказалась значительно ниже нуля. Позитив становится фикцией без реального механизма действия. Нормальная ситуация – журналист приводит вариант механизма, пусть схематичный. Хорошо, если при этом журналист не рожает его из головы, как Зевс Афину, а использует свой именно журналистский опыт: он видел нечто подобное там-то тогда-то. В ответ специалист (экономист, политик, аналитик), вздохнув, поясняет, где тут узкое место 111 и почему полезнее сделать иначе. Журналист не спас мир (он не Брюс Уиллис) и даже не спас Россию (скользкое это занятие). Но он вывел диалог на конструктивный уровень, за что ему и спасибо. Иначе мы бы остались на уровне писем в газету – иногда талантливых, стильных, интересных. Ничего плохого в них нет. Просто возможно большее. Тема 3. Новизна высказывания. Постарайтесь представить себе, сколько уже написано всего на Земле на порученную вам сегодня тему. Если смириться с тотальной вторичностью, то не лучше ли идти по пути дайджестов и только переносить информацию с контекстные сочетания?.. места (Такой на место, создавая журналистский новые аналог постмодернизма.) Но попробуем организовать сопротивление. Давайте прикинем, как фактор времени действительно меняет базовые жизненные категории. Многое неизменно. Люди рождаются, любят, страдают, болеют, обзаводятся потомством и умирают. Что за гранью смерти, принципиально неизвестно. Верность, измена, деньги, слава, власть, путешествие, иллюзии – мы в плену вечных сюжетов. Войны, угнетение человека человеком. Исторический опыт отчего-то не накапливается. Ну, совершенствуется оружие, хотя применяются по большей части старые добрые автоматы. Фантасты семидесятых активнейшим образом осваивали космические пространства. Однако коллизии их романов составляли: верность, измена, далее везде. Что ж трепыхаться теперь, когда космос мы только слегка ковырнули? Давайте сдадимся и скажем: календарная дата меняет только антураж жизни, не затрагивая глубинных констант. 112 И все же. Персональные компьютеры и Интернет позволили миллионам людей работать дома – или в деревенской избе, в то же время ворочая огромными массивами информации. Пустяк? Нет. Подвергаются сомнению сразу две многовековые категории – провинция и рабочее место. Впервые за сто лет (после создания кино) Интернет повернул массовое сознание от картинки к тексту. Пустяк? Нет. Глобализм – только слово, но давайте посмотрим на человека среднего достатка, прошивающего все мировые границы. Планета впервые становится круглой и относительно небольшой. Космоса не понадобилось. Просто пара людей с мобильниками на двух разных континентах уславливается встретиться к вечеру на третьем. Пустяк? Нет. Одна мать зачала тебя в своей яйцеклетке, другая выносила и родила. Пустяк? Нет. Если вы сумеете развернуть вашу тему в действительно современном ракурсе, вы «сбросите с хвоста» 99% как бы однородных материалов. Хор стал во сто раз тише и теперь не оглушает, а гудит, как комарье. И все-таки для разумного диалога этого многовато. Задействуем фактор места. Например, Москва = российский менталитет + комплекс столицы + мегаполис. Думаю, любой из вас, даже не москвич, в два счета отличит Москву как от Нью-Йорка, так и от Саратова. А также от помеси Нью-Йорка с Саратовом и от Москвы двадцатилетней давности. Выйдите на улицу, медленно повернитесь на 360. Нашли деталь, характеризующую именно Москву? Если нет, повторите процедуру. Лет 15-20 назад московский быт в сильной степени определяла категория дефицита, странное диалектическое сочетание наличия и отсутствия. Однажды в 113 метро мы с моим другом Мишей Новиковым увидели счастливую женщину, как пулеметными лентами, увешанную рулонами туалетной бумаги. – Гляди, Лёня, – сказал Миша с отвращением, – нигде этого в мире нет и быть не должно. Либо туалетная бумага есть, либо ее нет – и люди привыкли обходиться без нее. Сегодня в Москве есть всё, везде и всегда. Курсируя в три часа ночи из одного круглосуточного магазина в другой, мы как бы находимся в представлении советского гражданина о Западе. Заметим, однако, что реальный европейский город (лично я наблюдал Франкфурт-на-Майне, но слышал о многих) в 8 вечера вымирает. Уникальность места и времени выпирает с неожиданной стороны. Один кляйне эпизод. Пару лет назад я зашел в крохотное кафе у метро Тимирязевская. В меню значились черный кофе (5 рублей) и кофе со сливками (6). До конца не определившись, я попросил кофе со сливками. Мне дали чашку кипятка и три пакетика: со сливками, кофе и сахаром. – Знаете, – сказал я, – пожалуй, можно черный. – Черный кофе закончился. Жизнь вообще абсурдна. Но время и место придают этому мировому абсурду неповторимый колорит. Так Шерлок Холмс определял районы Англии по типу глины на ботинках посетителя. Впрочем, пора менять шрифт. Внимательность! Господь не повторяется. Одна живая, говорящая деталь – и проблема новизны высказывания отступает на второй план. Молодой человек поджидает подружку у зеленоватого памятника Пушкину и читает при этом Дарью Донцову. Продолжайте, коллега! Ну и, конечно, фактор личности. О самоопределении – вообще и применительно к выбранной теме – уже говорилось выше, поэтому не будем повторяться. Исключение сделаем для важнейшего совета; повторим его другими словами. 114 Не пытайтесь во время написания материала преодолеть свои недостатки (на это нет времени) или скрыть их (наш козырь – полная открытость и искренность). Старайтесь развернуть эти недостатки если не в ракурс достоинств, то хотя бы индивидуальных черт. Слабое знание предмета, инфантильность позиции – что ж, это такой ракурс, такой угол. Со временем он изменится. Кажется, что сделать высказывание новым поможет формальный ход. Это не так. Форма не допускает такой быстрой и тонкой нюансировки, как содержание (при всей условности деления на содержание и форму). Человек, не чувствительный к музыке, считает, что получится очень свежо и круто, если он просто сядет задом на клавиши. Но это делали уже сотни, и он своим задом лишь повторяет футуристические зады. А талантливый композитор по старинке (пальцами) исполняет новую музыку. Так что пусть ваш формальный ход будет не жестким и не самоценным. Пусть он ведет читателя к смыслу материала, а не отвлекает от него. И всё (дай Бог) получится. Тема 4. Навык обобщения. Талант журналиста позволяет ему увидеть за единичным типическое. Глубина материала определяется всеобщим, встающим за типическим. Можно сформулировать своеобразный принцип удаления деталей – расшатывая, изменяя, отбрасывая подробности, мы находим опорные гвозди проблемы (конфликта). Часто они вообще не в социальной сфере. Социальное (недостаток денег, пьянство, идиотизм 115 повседневности) всегда присутствует фоном, но на этом фоне происходят разные истории. Был такой роман и одноименный фильм «Интердевочка» о представителях редкой и важной профессии – проститутках. Созданный на изломе советской эпохи, фильм будоражил зрителя неслыханной новизной материала, продергивал маразм совка (торговать телом можно, а менять валюту нельзя и т.п.), но в итоге значащими оказывались все те же человеческие качества – верность, подлость, любовь. В частности, гибельным для главной героини становилось то, что она вышла замуж без любви. Антураж явственно отходил на второй план. Это слегка раздражало и в художественном объекте (стоило ли столько всего городить, если оно несущественно?), но журналистский материал угробило бы. Отсюда мораль: глубина журналистского высказывания определяется неким социальным всеобщим, вечно возобновляющимся конфликтом, встающим за типичной историей. Если же возникает всеобщее психологическое или биологическое, значит, мы взяли неправильный галс. Для примера: «Преступление и наказание», «Бесы», «Отцы и дети» отзываются в литературной критике ХIХ века полемикой, в сущности своей, журналистской. Как если бы на месте героев стояли живые люди (в случае Петра Верховенского более чем оправданное допущение) – а теперь обсудим наши проблемы. «Идиот» и «Братья Карамазовы» не слабее в художественном отношении, но их оптический фокус не социален. Пафос «Анны Карениной» более сложен. Но теперь, из ХХI-го века, видно: нет ничего трагического в том, что семейная женщина, мать, полюбила другого мужчину. Это неприятная коллизия. Если в ней (на любом месте) окажутся психопаты, может кончиться очень плохо. Но ни Анна, ни Вронский, ни Каренин не психопаты. В толерантном обществе «Анна Каренина» трансформируется в «Крамер против Крамера». Никто не погибает. Так, попробовав убрать архаичный институт брака из сюжета романа (и оставив любовь, ревность, совесть 116 и т.п.), мы обрушили несущую конструкцию. Следовательно, «Анна Каренина» – социальный роман. Извините, конечно, за схематизм и в корне неверное (не-художественное) отношение к художественному тексту. Обычно журналист до знакомства с ситуацией имеет гипотезу, вытекающую из его опыта и здравого смысла. Честное и непредвзятое исследование часто заставляет его поменять свое мнение и увидеть, например, чисто личные мотивации там, где он предполагал увидеть экономические. Много конкретных наблюдений складываются в новый опыт, противоречащий исходному, да (частично) и здравому смыслу. Пример. В августе 1998 года в России произошел дефолт. В сентябре ОНЭКСИМ-Банк закрывает «Русский Телеграф». История выглядит абсолютно прозрачной: нынче не до жиру. Но два грамма внимания меняют акценты. ОНЭКСИМ не связывался с ГКО (тем, на чем погорели другие банки) и не обеднел, а разбогател на дефолте. Мотивация закрытия газеты другая. Мы не знаем, какая точно (чтобы узнать это, надо опросить действующих лиц). Скорее всего, газета просто недостаточно радовала заинтересованных субъектов. Хотелось и расхотелось – как ни наивно выглядит такое объяснение. Богатый человек имеет право быть нелогичным и не вписываться в схему. Он, более того, оплачивает это право. Так не будем пытаться рационально и до конца объяснять его невынужденные решения. Человек действия навязывает миру свои представления о нем. Философ творческим усилием создает картину целого, которая подтверждается некоторыми фрагментами реальности. Журналист – умный наблюдатель, один из психологических типов. Его козыри (еще раз) – уважение к людям, внимательность, недоверчивость. ГЛАВА ВТОРАЯ. «ОБЩЕСТВО» – НЕКОТОРЫЕ ВЕЧНЫЕ ОППОЗИЦИИ. 117 Тема 5. Конфликт. Давайте попробуем придерживаться строгой логики. Предмет журналистики мнений – мнения. Мнения подразумевают альтернативные мнения. Где не может быть двух мнений, одно оставшееся – уже не мнение. Вариативные мнения вступают в конфликт, который и есть двигатель сюжета журналистского текста. Поднимемся на горку и скатимся еще разочек. Где есть мнение, там есть и его выразитель. Носитель. Субъект. Столкновение мнений – всегда столкновение людей и групп людей. Конфликт приобретает интонацию и характер. Возникают союзники и противники. Организуется диалог. Мир – театр, люди – актеры (Шекспир). За конфликтом актеров, если срезать поверхностный слой (Еременко), просвечивает конфликт ролей в мировой пьесе. Чтобы аккуратно зачистить несущественные детали, иногда полезно провести такой эксперимент: представим себе неких двоих, которые никогда не сойдутся, ну, почти никогда, никогда по важному поводу. Христос и Великий Инквизитор, Иешуа и Воланд, Жеглов и Шарапов, наконец. Последняя пара выглядит по сравнению с остальными фарсово, но, может быть, она и самая удачная, потому что не так очевидно, кто из них прав. Теперь «запустим» наших двоих в сиюминутный конфликт и посмотрим, кто какую сторону примет. Другой способ вывести время в вечность – спроецировать конкретную ситуацию на начала Инь и Янь (если кто в них разбирается; я – нет), на 118 стихии огня и воды, на опорный конфликт старого и нового. Он настолько важен, что заслуживает отдельной главки. Все живое колеблется. Вот тут вы напрасно будете гадать, кто это сказал. Это сказал мой товарищ Владимир Берштадт. И попал, признаем, в самую точку. То есть и живой человек, и живое мнение, и живой текст существуют в колебательном, становящемся режиме. В биении некоторого внутреннего конфликта. Декарт: я мыслю, я сомневаюсь, следовательно, я существую. Одна неподвижная, тождественная себе мысль – еще не жизнь. Камень содержит в себе идею камня – сумеем мы ее выразить в словах или нет. Колебательный контур возникает из мнения и сомнения, их конфликта. С точки зрения того, что говорилось несколько главок тому назад, – впустить оппонента внутрь себя, постараться понять и прочувствовать его позицию, поднять ее возможно выше. Ощутить настоящий драматизм конфликта. Соцреализм высмеивали за то, что он в основе своей имел конфликт хорошего с отличным (а надо бы вроде как хорошего с плохим). Соцреализм в основном убог, но и противники его не совсем правы. Конфликт хорошего с плохим неинтересен и идейно заранее решен. А вот замечательного с превосходным раз за разом получается кровавый и трагически неразрешимый. Любви, например, к человеку и любви к Богу в человеке. Отчего утопии, то есть мыслимые идеальные общественные структуры, которые мы представляем себе достигнутыми, практически неотличимы от антиутопий? А оттого, что общество тоже способно 119 существовать только в режиме колебания, не состоявшись окончательно, не схватившись, как забытый в бадье цемент. Как правило, объектом современной антиутопии становится та или иная диктатура. Это кинематографически удобно: несимпатичному и безликому кумиру противопоставляется Личность, Герой. Но давайте представим себе некую Абсолютную Демократию, торжество гарантированных личных прав и свобод. Мир, в котором вы не можете поставить в угол собственного ребенка. Сама Демократия превращается в кумир; наступает диктатура демократии. Московская городская дума чуть не ввела Закон о правах животных, согласно которому нам с вами пришлось бы отвечать за один замах тапком на таракана. Об осуществлении намерения я уже не говорю. Лучше сразу связывайтесь с адвокатом (сперва с адвокатом таракана, потом со своим). Теперь – чуть конкретнее. Тема 6. Конфликт старого с новым и его модификации. Почему практически любой идейно-общественный конфликт перелагается в конфликт старого и нового? Схематически это можно объяснить так: одна тенденция господствует; другие же противопоставляются ей, а не друг дружке. (Когда власть в России захватили большевики, анархисты и монархисты начали соединяться во временные альянсы.) Стало быть, существующее спорит с предлагаемым, альтернативным. И, если ситуация не оговаривается особо, пресловутое альтернативное позиционируется как новое по отношению к старому, т.е. существующему. Нет нужды говорить, что носители идей связаны с поколениями и их грустным конфликтом – отцы уже имеют некий контрольный пакет акций (деньги, авторитет, власть, комплекс идей), детям же предстоит им овладеть – неуклонно, но не автоматически. Если же ситуация оговаривается особо, альтернативное выступает как старое, традиционное, в сравнении с существующим как 120 бы новым, апеллирует к опыту дедов через голову отцов. Естественно, опыт дедов чаще всего умозрителен и карикатурен. Мы уже набили себе оскомину, тщательно располагая Россию между Востоком и Западом. А вот одна важная деталь, размещающая ее принципиально иначе: западная культура по-своему патриархальна (через, например, институты частной собственности и наследования, не только денег, но и дела, профессии), восточная же откровенно патриархальна. Россия же традиционно отвергает опыт отцов. Ее традиция состоит в прерывании традиции. Конфликт поколений протекает обостренно. У Андрея Битова в замечательном «Пушкинском Доме» есть важная сцена, где Лёва Одоевцев приезжает к вернувшемуся из лагерей деду и изъясняется ему во всевозможных симпатиях, жалуясь по-интеллигентстки на отца, на непонимание, на разрыв поколений... Реакция деда на первый взгляд парадоксальна – он в гневе выгоняет Лёву, крича ему: – Мне – отцу! Про отца – такое!.. Если вдуматься, это абсолютно здоровая реакция правильно понятой традиционности на традиционность карикатурную, «полосатую», через голову ближайшего поколения. Читатель уже ждет, когда же я покажу фокус и все животрепещущие проблемы (глобализм, терроризм, эвтаназия, смертная казнь) переведу на язык старого и нового. Я это сделаю – чуть позже. А пока что присмотримся к конфликту старого и нового с философской точки зрения. Конфликт между прошлым и будущим невозможен. Старое и новое – два принципиально разных взгляда на саму категорию времени. На момент, если угодно, настоящего, преломления времени, перехода будущего в прошлое. 121 Сторонник старого, традиции как бы говорит: нет никакого драматизма в моменте настоящего, это просто метафизическая истерика. Момент как момент. Нет самого акта преломления времен; это иллюзия. Есть длящееся мгновение, органику которого можно лишь нарушить неосторожным «новаторским» вмешательством. Тогда начнется цепочка неактуальных, неподлинных, тупиковых по сути событий, ошибок, которые постепенно зарастут. Существующий сейчас мировой порядок неизмеримо глубже уровня его очевидных несовершенств. Сторонник нового, перемен как бы говорит: сам феномен времени в отличии прошлого от будущего, в неизменности первого и вариативности второго. Только ежеминутно творя будущее, мы реализуем свободу воли, верховный закон человека. Протягивая по инерции прошлое, мы лишь тормозим мировую пьесу; подлинное время мерится не годами, а поступками. В «Войне и мире» традиционное начало в чистом виде представлено фигурой Кутузова. Новаторское, конечно, Наполеоном. Очевидно, что симпатии автора на стороне Кутузова, традиции. Постепенно подчинение глубокому порядку вещей становится образом жизни Андрея, Наташи, Пьера. Создается апология традиции. Очевидно, что симпатии Грибоедова на стороне новатора Чацкого. Автор не наделяет косную московскую традицию ни одной положительной черточкой. Но Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Софья самим фактом своего существования возражают автору и его бойкому герою. Как справедливо кто-то заметил, именно фамусовы отстояли Россию в 1812 году. Молчалин, слишком презираемый автором, вернется в русскую литературу в виде Глумова, неоднозначного и уж по меньшей мере главного героя пьесы Островского. Скалозуб будет 122 служить, Софья выйдет замуж и родит детей. Какое будущее ожидает Чацкого, человека будущего? Не праздные вопросы. Апологии новации все же не получается. По крайней мере, тотальной. Тургенев деликатен и не расставляет акценты в «Отцах и детях». Но он парадоксально поворачивает сюжет: Павел Кирсанов против логики поколений физически переживает Базарова, после смерти которого нет альтернативы традиции. В немного иных терминах старое и новое – эволюция и революция. Эволюционные ресурсы развития сложившегося общества постепенно исчерпываются, затем исчерпываются и ресурсы простого инерционного существования. Дряхлая структура не в состоянии себя модифицировать; она выпадает из внешнего контекста. Крах дома Романовых в феврале 1917 года был так же неизбежен, как и крах СССР в конце 80-х. Революция возникает как альтернатива прозябанию, потом становится единственно возможным вариантом будущего. Своеобразие заката СССР заключалось в том, что его лозунгом с начала до конца была революция. Это было не пустое слово. Традиции действительно не закладывались. Сталинский строй был разительно непохож на хрущевский, а хрущевский – на брежневский. Для маркировки же конца эпохи, то есть объективно революционного момента Горбачев подбирал слова, синонимичные эволюции – реформы, перестройка, перемены. И это был не чистый лозунг. Наиболее революционный по результату политический деятель конца ХХ-го века действительно предпочитал компромисс, эволюционность, медленный естественный ход. Понятно, что обрушившаяся плотина и хлынувшая вода быстро смыли эту промежуточную фигуру. Но, если вдуматься, он смягчил удар, насколько сумел. 123 Тема 7. О том же. В позапрошлом веке обозначился конфликт западников и славянофилов. Очевидно, что протекал он и раньше, неназванный. Опросите 20 человек – и, я уверен, большинство свяжет западничество с новацией, а славянофильство с традицией. Но почему? Понятно, что когда Владимир Красное Солнышко чуть больше тысячи лет назад крестил Русь, это был новационный разворот к Западу, его христианской культуре. Но за тысячу лет западничество могло успеть стать традицией. Более того, чрезвычайно редко славянофильская традиция апеллирует к язычеству; она тоже христианская (с поправкой на православие – при том, что многие славянофилы не в состоянии сформулировать, чем православие отличается от католичества, и обижаются, если им напоминают национальность Иисуса Христа). Западничество каждый раз – отвергнутая, не прижившаяся на русской почве новация. Предлагаемое вновь и вновь, оно не опирается на прошлые попытки, потому что не хочет наследовать опыт неудачи. Оно опирается на сегодняшний опережающий опыт Запада. Славянофильство – попытка пережить прерванную, несуществующую традицию как состоявшуюся. Это сентиментальная эмоция, а не идея. Пока эклектика славянофильства вбирает в себя язычество, христианство, изверга Ивана Грозного и отчетливого западника Петра Первого, это еще неплохо. Но вот оно впитывает советский опыт. На демонстрациях современных патриотов рядом портреты Николая Второго и Иосифа Сталина, хоругви и свастики. Понятно, что осмыслить это может лишь темная и мутная философия, в которой не будет недостатка. Русский большевизм начала ХХ века – отчетливо интернациональное учение, вытекающее из перечисленных Лениным европейских источников и 124 опирающееся на отъявленного западника Герцена. Ленин ненавидит и отвергает все посконно русское; вынашиваемый им СССР многонационален, как США. Но одно дело состав инъекции, другое – состав преображенной им крови. Игорь Клямкин в своей знаменитой статье блестяще аргументировал, что большевизм – предельное состояние русской интеллигенции. В условиях изоляции советский народ начинает осознавать себя как «новую историческую общность», т.е. нацию. Сталин реанимирует буквальную национальную идею, ослабляет гонения на церковь и по сути возрождает монархию. Хрущев гробит все сталинские начинания, кроме одной важной детали: он управляет империей, влияющей на судьбы мира. Нет настоящей национальной идеи, объединяющей Ивана, Петра, Ленина, Сталина и Хрущева. Разве что – имперская идея, национальная гордость. И то Ленин немного выпадает из ряда. Так его современные патриоты и мусолят меньше, чем остальных. Последние лет 300 западничество отчетливо ассоциируется с буржуазностью и свободой личности. Конфликт между обществом и личностью, конечно, тоже модифицированный конфликт между старым и новым. Общество может выступать как иерархическая структура, где личность подчиняется правителю, или классическая демократия, где личность подчиняется решению большинства, или религиозная общность, где личность подчиняется кодексу и ритуалу. Новый Завет по отношению к Ветхому утверждает скорее глубокую ответственность личности и лишь косвенно – свободу. Очень постепенно возникает и крепнет гуманистическая тенденция, утверждающая права человека не потому, что они чему-то способствуют, а в качестве самоцели, вершины общественного прогресса. Нам сложновато понять различие между республиканцами и демократами. И те, и другие любят США и ненавидят рабство; и те, и другие за демократическую республику. В некоторых советских вузах 125 вплотную намекали на мнимость американской двухпартийной системы, на театральный характер выборов. Но разница все же есть. Республиканцы – те самые северяне, янки, которые сперва одолели англичан, а потом – рабовладельцев-южан. За республиканцами стоит некий избранный ими уклад, которому подчиняется личность. За демократами стоит свобода уклада. Теперь прокрутите 5-6 семейных ситуаций (сын заявляет о своей нестандартной ориентации, сын говорит, что ненавидит армию США, дочь уезжает с компанией хиппи) и проследите за реакциями отцадемократа и отца-республиканца. Уверяю вас, они будут различны. Не реализует ли фигура правителя абсолютную свободу личности? Исторический опыт показывает, что нет. Свободный правитель – плохой правитель; его своеволие расшатывает поддерживающий его уклад, и его ликвидируют внешние или внутренние силы. Хороший правитель олицетворяет государственную власть, исполняет роль той самой безличной силы, противопоставленной личности. Он не свободен в том смысле, в каком может быть свободен индивид. Исключение – фигура Наполеона. Как правитель он лишь повторил с незначительными вариациями опыт Александра Македонского, Чингис-Хана и Атиллы. Уникальность Наполеона в его изначальной безродности; впечатляет не свобода императора, а свобода корсиканского капрала. Наполеон реализует путь силы, где личность актуализирует себя через подавление других личностей, через насилие. Своеобразное стяжание свободы. ХХ век уродливо преображает опыт Наполеона в фигуры Ленина, Сталина, Гитлера, Мао, Пол Пота и т.д. Единственное ограничение эскалации личной свободы, добавленное в ХХ-м веке, – 126 пока она не подавляет свободу другого. (Уместное преложение нравственного императива Канта.) В конфликте личности и общества наши симпатии чаще на стороне личности. Будь то благородный разбойник Робин Гуд, или сумасшедший идальго Дон Кихот, или страховой агент Юрий Деточкин. Это открытая форма; чаще же конфликт реализуется через невостребованность. Общество не нуждается в яркой, непредсказуемой личности. Оно нуждается в служении укладу, фигурах стабильности. Вот почему герой своего времени = лишний человек. Онегин, Печорин, Базаров, Чацкий, Войницкий – со всем космосом в их душах – не востребованы. Это, впрочем, не относится к их создателям. Культура за счет некоторой своей виртуальности, полигонности, вынесенности за рамки real life, допускает полную реализацию личности. Впрочем, общество предстанет более привлекательным, если мы обратим внимание на фигуру добровольного служения. Атос, д’Артаньян, Гринев, магистр Кнехт из “Игры в бисер” Гессе, тот же Жеглов. Свобода – очевидная категория, и когда мы противопоставляем ее несвободе, конфликт уж очень картонный. Гораздо менее очевидная категория – честь. И конфликт свободы и чести – самый глубокий и болезненный из вариантов конфликтов старого и нового. Честь, долг, верность – это примерно одно и то же. Это значит, что ты в какой-то момент сделал решающий выбор, дал присягу и добровольно ограничил свою свободу. Это ограничение позволит тебе преодолеть искушение предательства. А если ты искренне изменил взгляды? Это тоже измена? А вечный поиск истины – не противоречит чести? (Противоречит.) А 127 разочарование в том, чему ты служил? Что ж, ты готов был отдать жизнь за предмет служения. В момент полного разочарования ты лишь констатируешь: да, отдал. Но только иначе. В один из самых черных дней российской истории, 14 декабря 1825 года, на Сенатской площади одни хорошие люди стреляли в других хороших людей, потому что одни избрали свободу, а другие – честь. Пушкин, как известно, примыкал к кругу декабристов. Если бы не историческая случайность, он вышел бы, наверное, на Сенатскую площадь. Но, глубоко пережив эту конфликтную ситуацию, он пишет «Капитанскую дочку», где возвращает нас к расстановке ХVIII века. Главный герой, Гринев, олицетворяет тут честь, служение долгу. Темное обаяние свободы – Пугачев. Легко угадать, на какой стороне был бы Гринев 14 декабря 1825 года. Главный конфликт классицизма – между долгом (честью) и сердечным влечением (свободой воли). Чуть-чуть обобщим: влечение может быть и мозговым. Но если честь выражается через служение, то свобода неминуемо принимает форму бунта. Заметим, что декабристы служили идее свободы, а не реализовывали свою личную свободу. По своему устройству это тоже были люди чести. Огромным усилием воли и ума они изменили объект присяги, но изменить все свое мировоззрение не хотели и не могли. Осип Мандельштам пишет в 1915 году пророческие строки: – Я свободе, как закону, Обручен, и потому Эту легкую корону Никогда я не сниму. По сути, это присяга свободе. Причем именно как закону – поэт и человек обязан быть свободным, если даже это опасно и почти невозможно. 128 В тридцатые годы корона уже не легкая, но слово сказано. И Мандельштам, по натуре своей человек робкий, не героического склада, чуть ли не единственный во всей империи бросает открытый вызов тирану: Мы живем, под собою не чуя страны... – и погибает. Мы видим два пути преодоления конфликта: свободный выбор чести и свобода как объект служения. Между тем, за общественной тенденцией как правило стоит мировоззрение, а за ним проглядывает глубокая философская идея. Тут апология личности, гуманизм обнажает свою относительную нищету. Его мировоззренческая основа – антропоцентризм, а за ним нет философской подкладки. Иными словами, нет космогонии, нет гипотезы мироустройства, которая ставит человека в центр всего. Эта система координат чисто волюнтаристская. Что это значит? Это значит, что гуманистический уклад неминуемо будет буксовать в самых важных экзистенциальных точках – он окажется бессилен против смерти, он опошлит идею подвига, порекомендует аборт девчонке, которая просто боится рожать. Старость гуманизм постарается запудрить и не заметить, как позорную болезнь, в крайнем случае, отнесется к ней с сочувствием и с жалостью. Не имея решимости вглядываться за край жизни, гуманистическая культура и не опрашивает часовых, не пользуется мудростью стариков. Гуманизм по существу отвергает религию – потому хотя бы, что всякая религия отменяет гуманистическую шкалу ценностей, утверждая более высокую шкалу. Читатель уже заметил, что я намекаю на американскую культуру. Конечно. Обильные комментарии тут излишни, но обратите внимание на огромный 129 пантеон языческих божков: Горец, Бэтмен, Супермен, Капитан Америка, герои боевиков. Хочется в кого-то верить, только не в Бога, потому что это ко многому обязывает. Вот и плодятся суррогаты. Эвтаназия? Что ж – конечно, это еще одно расширение прав личности. Право на распоряжение собственной жизнью в определенной ситуации. Поэтому новое за эвтаназию. Отмена смертной казни – это, в свою очередь, ущемление прав общества. Зеркало этой отмены – индивид обретает возможность убивать и не быть убитым, по крайней мере, через механизм правосудия. Само собой, новое за отмену смертной казни. С терроризмом немного сложнее. На первый взгляд, террорист – бунтовщик-одиночка, вступающий в неравный бой с обществом. Но все же чаще террорист – фигура, служащая действительно мощной и иерархичной общественной структуре. А объект его ненависти – расплывчатое общество, реализующее свободу личности. И с этой точки зрения (как ни странно) террорист представляет общество (ислам, присягу, отчетливый жизненный уклад), а его противники и жертвы – личность. Получается, террорист представляет старое, а глобалистский современный мир сплачивается на основе антитерроризма. Достаточно. Нашей целью было не исчерпать тему, а лишь показать простейшие формы перехода одних категории в другие, соседние. Тема 8. Гражданское общество. Давайте задумаемся о роли оппозиции в государстве. С точки зрения реальных механизмов власти, это группа политиков и 130 управленцев, временно оказавшаяся вне игры. Впрочем, что считать игрой. Оппозиция публична, на виду, занимается активной и пристрастной критикой существующей власти. Цель этой критики – убедить общество в негодности сегодняшних властителей и – через тот или иной механизм перемен – занять руководящие позиции. Что мы скажем об оппозиции, не стремящейся захватить власть? Сканируя современный российский опыт, мы подвергнем такую оппозицию резкому осуждению. Ваша критика голословна, потому что не предполагает позитива. Вы живете достаточно сытно на народные деньги, занимая откидные места в Думе или организуя опереточные партии, и не несете никакой ответственности за происходящее в стране. Удобно устроились! Но давайте подойдем к проблеме с другой стороны. Представим себе уважаемого и авторитетного человека, с очевидностью не нуждающегося в добавочных деньгах и популярности. Известный режиссер, писатель, ученый. Действующий, не бывший. Его свободные высказывания о государственной политике, реформах, финансах – вообще о социуме крайне ценны. Допустим, он заявил, что не намерен менять образ жизни и впрямую заниматься политикой. Просто он имеет мнение и высказывает его. Допустим, этот уважаемый человек делает еще один шаг навстречу обществу (нам с вами) – бесплатно и в свое свободное время раз в неделю исполняет некоторые общественные обязанности. Земство, суд присяжных, попечительские советы. Теперь усилие фантазии: представим себе, что таких людей довольно много. Так как этим людям незачем врать, они становятся чем-то вроде золотого обеспечения власти. Их (хотя бы и молчаливое) одобрение гарантирует популярность и действенность политических ходов. Их свободная критика, наоборот, делает эти ходы конфликтными и 131 вынуждает властные структуры отступать, искать компромисс. Так как оппозиция не обязана автоматически облаивать каждое решение властей, то эти люди – классическая оппозиция, не стремящаяся к власти. Объединяют их не политические пристрастия, а, скорее, неравнодушие к судьбе своей страны, отказ от активной политики и бескорыстие. Теперь (мысленно, мысленно, все это фантазии!) наделим этот эфирный человеческий слой институтами для выражения мнений: газетами, журналами, залами заседаний. Эти структуры с соответствующей человеческой начинкой – гражданское общество. Механизмы демократии предполагают обратную связь: не только народ зависит от правителя, но как бы и правитель от народа. Если правитель непопулярен, его заменяют. Плохо лишь то, что разработана целая система самостоятельных (не связанных с реальностью) ходов, возгоняющих эту самую народную любовь. Эти ходы называются популистскими, а система – PR-м. Как я слышал, PR даже иногда преподают на журналистских факультетах, тем самым впервые в истории мировой культуры утвердив в качестве науки совокупность навыков, намеренно уводящих человека от истины. Впрочем, у каждой эпохи свои заморочки. Гражданское общество (если оно есть) является, переходя на современный язык, тем самым искомым фильтром для базара. Рафинированное по своему составу, оно не верит популистским ходам. Бескорыстное по целям, оно их и не производит. Ориентируясь на мнение гражданского общества (а не на лозунги политиков и их наемных работников), народ как бы надевает очки на свои «минус одиннадцать» и видит картинку, близкую к реальности. Политик, подобно покойнику, не имеет стыда. Но, как муха обладает внешним пищеварением, так и гражданское общество навязывает политику внешний аналог стыда. Если он (политик) 132 нарушил свои обязательства или совершил неблаговидный поступок, гражданское общество осуждает его – и он вынужден уйти, как бы застеснявшись. Без гражданского общества этого не происходит. Ельцин всенародно обещал не допустить не помню, честно говоря, чего, а если что – лечь на рельсы. Не помню что мгновенно произошло. Ельцин на рельсы не лег, по крайней мере, не афишировал этот поступок. Ничего не случилось; народ похихикал – и все. Потому что как-то не обозначился слой людей, всегда выполняющих свои обязательства, а пока их нет, все дозволено. «МК» назвал министра обороны Грачева убийцей. Ну и что? Ничего. И правильно, потому что уголовное делопроизводство – прерогатива прокуратуры, а не газеты. Есть факты и доказательства – несите прокурору. Нет – незачем и шуметь. Важно, что здесь мы выпадаем из области мнений. Безотносительно к фигуре Грачева – «МК» показал в этой истории свою неадекватность и неполную ответственность за слова. В следующий раз вес его высказываний стал еще меньше. Доренко на глазах у всей страны донимал Лужкова абсолютно бредовыми обвинениями. Гражданское общество в данном случае подвергло бы остракизму фигуру Доренко; впрочем, бледная тень этого акта обозначилась через осуждение Доренко цехом журналистов. Человека, похожего на Скуратова, засняли в женской парной. Отлично. Но в чем нравственные различия между этим человеком, снимающими его исподтишка операторами, транслирующими эту порнуху работниками общедоступного канала и плотоядно смеющимся телезрителем? Давайте пошлем этот вопрос в клуб знатоков, может быть, они обнаружат то, чего я лично не замечаю. Мы все слышали, что СМИ – «четвертая власть». Но всякая власть без кавычек имеет свой механизм действия. Если бунтовщик заявляет, что плевал он на решение Думы, министра или суда, находится способ заставить его пожалеть о своих словах. Некоторым недальновидным людям кажется, что механизм четвертой власти – просто типографская машина. Что ее аппарат давления – печатное 133 слово как таковое. Это не так. Газета (как и постановление суда) – просто бумажка. Вес ей придают последствия. Механизм четвертой власти – общественный стыд. Он, повторяем, не устраняется через личное бесстыдство нарушителя. Он овеществляется через институты гражданского общества. В нормальной ситуации с одной стороны, журналист – представитель гражданского общества, от его имени обращающийся к народу, с другой – гражданское общество – высший адресат журналиста, так или иначе реагирующий на его сигнал. В переходной ситуации СМИ не являются реальной четвертой властью. Их высшая общественная цель – формирование гражданского общества. В царской России гражданское общество рекрутировалось из дворян, чей кодекс чести и принцип общественного служения идеально соответствовали задаче. В ХХ-м веке место дворянина занимает интеллигент. Он рафинирован, жертвен и бескорыстен. У него есть представления о чести и общественном благе. Но в его менталитет вплетены сомнение (в качестве базовой категории), комплекс вины и идея служения народу. Все это мешает интеллигенту свободно изъявлять свое мнение, осуществлять что-то вроде нравственной правки и диктатуры общества. Каждый вердикт дается интеллигенту с трудом. Народ любил Сталина. Умный и зоркий человек не мог не понять, что Сталин – тиран и изверг. Мы исключаем фактор страха. Может ли феномен народной любви изменить что-то в твоей очевидной оценке происходящего? Оказывается, может, если ты интеллигент. Включается сомнение, включается иррациональный механизм вины и невозможность пойти против своего народа. 134 Возникает что-то вроде подозрения: а вдруг они, наделенные прямым духовным зрением, идущим от утерянной мной простоты, видят то, чего я, виноватый, не вижу?.. Именно тут корни сталинских од, в разных жанрах выполненных Пастернаком, Мандельштамом, Ахматовой и Булгаковым, – а вовсе не в страхе. Отличие Мандельштама в том, что он – через прямое сумасшествие – вытравляет из себя интеллигентский менталитет и выращивает дворянский, после чего обретает способность судить уверенно и окончательно. Для сравнения – Бунину в «Окаянных днях» на сходную проблему достало одной фразы: «Народ пошел против Бога – тем хуже для народа». Бунин был природный дворянин, а вовсе не интеллигент. Сегодня на смену интеллигенту приходит интеллектуал западного толка. Нет нужды говорить, что это – еще худший исходный материал для создания гражданского общества. Лишенный иллюзий, интеллектуал охотнее займется пресловутым PR-м за хорошие деньги, чем будет бесплатно исполнять роль общественного регулятора. Наверное, выход расположен не в области эволюции ментальных типов, а в зарождении и развитии класса, объективно заинтересованного в нормальном функционировании общества, в коммерческой и политической честности и прозрачности. На первый взгляд, это практически все. На второй, отсекаются политические и финансовые верхи (те, кто обманывает) и абсолютные низы (те, кого обманывать незачем и невозможно). Остается после такого вычитания средний класс. Его признаки – средний уровень доходов, идущих от малого бизнеса или квалифицированной наемной работы, собственная инфраструктура (умеренно платные школы, поликлиники, курорты, институты, гостиницы и т.п.), многочисленность. Нормальное общество похоже на веретено, толще в середине. Средний класс в нем влиятелен. У нас в России сегодня средний класс маргинален, а 135 общество похоже на песочные часы. Средний доход москвича порядка $300, но я крайне мало встречал людей с таким доходом – либо выше, либо ниже. Многие медицинские процедуры либо стоят порядка $200, либо проводятся бесплатно. Это нездоровый признак. Хотелось бы закончить главу оптимистично, что ж, чем хуже наше положение, тем богаче перспективы. Это все-таки частично шутка, а всерьез – положение не катастрофично. В современной России человек может реализовать свободу воли в чрезвычайно широком диапазоне. (Я бы сузил, да Бог со мной.) Это интересно и поучительно. ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КУЛЬТУРА – ТО, ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО Тема 9. Разница и даже противоречие между культурой и искусством. Все мы привыкли оперировать противоречием между цивилизацией и культурой. Под словом «культура» мы привыкли понимать нечто расплывчато-хорошее, по крайней мере, лучшее, чем бескультурье. Вилку в левую руку, нож – в правую! Почему бы нет? Но примерно к середине ХХ-го века актуализируется и обостряется противоречие между культурой и искусством. В момент создания произведение искусства строго единично, вырвано из культурного контекста. Напомним – писатель 136 противостоит белому листу; цель его – создание принципиально нового. Это уже потом другие постараются вправить творческий итог в культурный диалог. Добавим, что сознание автора в момент творчества изменено. Наконец, уже дописанный шедевр еще не принадлежит культуре. Он пока лежит на письменном столе. (Понятно, что писатель – привычный для нас пример; тут его легко заменить художником или композитором.) В момент восприятия – если происходит настоящий контакт – произведение искусства поглощает читателя (слушателя, зрителя). Воспринимающий находится в тоннеле единичного и не нуждается в контексте. Характерное ощущение, возникающее при чтении сборника стихов настоящего, великого поэта, – других поэтов сейчас не существует, вся поэзия сосредоточена здесь. Этот эффект достаточности подразумевается, когда говорят «мир Заболоцкого» или «поэтика Тарковского». Впрочем, первое обобщающее слово сейчас сильно опошлено сочетаниями типа «Мир водки». Культура – это осмысление единичных артефактов, своеобразное приручение их, обобщение, организация контекстов, классификация. Это условно полезная функция культуры. Вторая же, необходимая функция – посредничество между автором и читателем (ограничимся для простоты литературой, всегда подразумевая возможность обобщения). Собственно, организация контакта – публикация, издание, культурная реакция, привлечение внимания. Премии, вечера, интервью. Культура – среда, вбирающая в себя произведения искусства. Культура – это структура, иерархия, пробующая расставить феномены искусства по местам. Культура, наконец, – обслуживающий аппарат 137 искусства. Иначе говоря, культурная среда – та атмосфера, в которой произведения искусства живут (или умирают). Человек искусства создает новое и никогда не уверен в результате. Уже созданное косвенно давит на него. Человек культуры, начиная с какого-то уровня эрудиции и опыта, более или менее свободно ориентируется в предмете. Осмысляя и так или иначе располагая и связывая уже существующее, человек культуры заведомо получает тот или иной результат. Уже созданное помогает ему. Человек культуры более уверен и здоров, чем человек искусства. Человек искусства зависит от культуры, от ее общего состояния, а также от конкретных решений людей культуры. Человек культуры зависит от нового в искусстве, насколько... хочет от него зависеть. Это первое сильное высказывание в данной главке, поэтому подкрутим фокус. Искусство не общедоступно. Оно нуждается в культурном посреднике. Даже лучшие 10 рассказов и 20 стихотворений года, собранные под одной обложкой, не вызывают немедленный фурор в широкой аудитории. В лучшем случае, их оценят сами заинтересованные лица. Допустим, человек культуры выпускает литературный журнал. Допустим, автор лучшего рассказа года приносит ему в мартовский номер пресловутый рассказ. Автор зависит от издателя. Насколько издатель зависит от автора? Представим себе худшее. Издатель журнала устал, расстался с идеалами (или иллюзиями – смотря откуда смотреть). Растерял живой вкус, заменил его мертвыми установками. Гениальный рассказ плохо вписывается в уже отлаженные установки – на то он и гениальный. 138 Впрочем, вкус точно так же мог отказать – на то он и вкус. Издатель отклоняет рукопись. Ну и что? Его ошибка условна и ненаказуема. Два варианта – через три месяца (или через три года) рассказ напечатали в другом месте, об отказе вспомнили мельком или вовсе не вспомнили. Ничего страшного не произошло. Или рассказ так и сгинул – произошло, вообще говоря, страшное, но его никто не заметил. (Сейчас, при функционировании Интернета, второй вариант становится архаикой.) Так или иначе, редактор журнала не платит за свои ошибки. Сама категория ошибки для него туманна. Для сравнения – голливудский продюсер, не сумевший с первого взгляда оценить идею сценария «Звездных войн», вошел в легенду и уволен с волчьим билетом. Потому что его хозяева упустили огромные деньги. Так или иначе, возможна ситуация, когда редактор, издатель, критик сами себе определяют конусы неких культурных обусловленностей. Нас интересует разветвленный психологизм. А нас интересует умеренный абсурд. При этом, что характерно, никого не интересует новое, неожиданное, плохо описывающееся на этом омертвелом языке. Получит ли человек культуры тот продукт, который ожидает? Если отвлечься от вкуса, различающего живое и неживое, если исключить понятие классификационными и восторга, разумными если ограничиться внутренними категориями культуры, то, конечно, получит. Есть продукт любого характера среднего уровня качества, выше среднего уровня и гораздо выше среднего уровня. Талантливый человек может смастерить его, в том числе, специально, уловив фактор спроса. Как определить этого человека? Как человека искусства, перешедшего на сторону культуры? Ну, это слишком конфликтно, в терминах военного положения. К тому же, у нас нет сведений, что 139 автор раньше работал иначе. Ограничимся имеющейся информацией. Объект не создан, а смастерен. Об искусстве речь вообще не стоит. Вдохновение, белый лист, абсолютный риск, тоннель восприятия – тут эти категории просто излишни. По культурному запросу создан культурный объект для культурного пользования. Так функционирует массовая культура, производя глянцевые романы. Точно так же работают современный элитарный художник, критик-эксперт и галерейщик. Присмотревшись, мы видим мощнейший инерционный момент практически во всех областях культуры. Это можно назвать бунтом культуры против искусства. Культура отказывается от трудных для осмысления, внутренне насыщенных, изначально единичных объектов искусства и заменяет их объектами культуры, играющими роль объектов искусства. Для них есть даже специальный термин – симулякры. Человек культуры обыкновенно брюзжит насчет падения уровня произведений искусства – современное, дескать, гораздо хуже классического. Так как в ретроспекции этого падения не наблюдается, то мы квалифицируем данные сетования как плач по собственному вялому вкусу. Человек культуры чаще всего не в состоянии искренне и ответственно приобщить сегодняшние высоты к пантеону классики. В последние пятьдесят примерно лет (конкретная цифра варьируется в зависимости от рода искусства и от национальной культуры) критик хнычет над им же самим организованным потоком симулякров. Эту скорбную ситуацию он склонен называть кризисом культуры. При раскрытии терминов обозначается двойная ложь: во-первых, речь идет о кризисе искусства, а критик (не дурак) намеренно путает эмблемы; во-вторых (что важнее), никакого кризиса искусства, смерти автора и т.п. нет, искусство остается вынесенным за скобки рассмотрения, происходит культурный бунт. Сколько приходилось мне читать обзоров, где критик сперва очерчивает некий круг авторов и произведений, а потом монотонно сообщает нам, что это глубоко средние авторы и произведения. Но зачем ты так очертил? И зачем занимаешься делом, которого в принципе не любишь? Проклятые вопросы. 140 Когда Виталий Пуханов в 1995-м году издал замечательную книгу стихов «Деревянный сад», несколько критиков устно, чуть не на ухо, долго говорили ему комплименты и обещали отрецензировать – но никто этого не сделал. А один, мыслящий и честный, прямо сказал: – Знаешь, старичок, по моей концепции современная поэзия – дерьмо, а ты выламываешься из концепции. Я предпочту тебя не заметить. Вот так. Недостижимым идеалом для сегодняшних критиков является пушкинский Сальери, по концепции, установке которого праздный гуляка Моцарт не мог писать состоятельную музыку, но живой вкус Сальери протестует против установки и Сальери доверяет вкусу. Не может не замечать. Мы подвергаем сомнению только действенные выводы Сальери; как критик, субъект восприятия, он идеален. Повторим: бунт культуры. Ерофеев (Виктор), Пригов, Сорокин. Отчетливее всего этот процесс происходит в изобразительном искусстве. В специальной главке мы к нему (процессу) и вернемся. Тема 10. Базовые принципы рецензирования. Мы не зря в предыдущей главке оперировали довольно абстрактными категориями, стараясь как можно тщательнее их развести. Теперь постараемся снять сливки с молока доморощенной теории. Итак, рецензия – культурный объект, отсылающий нас к новому объекту искусства. Если мы с вами решаем противостоять бунту культуры, то рецензия – не самоценный, а служебный текст. Определим его целевую функцию. Будем говорить для определенности о литературной рецензии, пока различие между родами искусств будет не важно. Поставим два важных вопроса. 1. Читал ли наш адресат книгу, которую мы рецензируем? 2. Советуем ли мы ему ее прочитать? Первый вопрос был актуален в СССР, где журнальный и издательский процессы были довольно узки. Где «все» (имелся в виду 141 широкий читательский круг) листали «Новый мир», «Юность» и «Литературную газету», и имело смысл поговорить, например, на страницах «Литературки» о романе, только что вышедшем в «Новом мире». Сегодня жанр послесловия (а наш первый опорный вопрос как раз отделяет предисловия от послесловий) не мотивирован. Ежедневно выходят десятки книг, в Сети функционируют сотни литературных сайтов. Литературный процесс невероятно обширен. С вероятностью 99% ответ на первый вопрос – нет. Второй не предполагает вероятностной оценки, а решается волевым усилием. Я для себя так определяю место отрицательной рецензии в современном процессе: подойди к 637-му стеллажу, залезь на 8ю полку, найди 268-ю книгу. Нашел? Так вот, не бери ее. Негативная ориентация в океане изданий абсурдна. Кроме того, положительная рецензия имеет в своей основе впечатление читательского восторга, говоря иначе, глубокий литературный контакт или, говоря проще, литературу. Факт искусства. Отрицательная сообщает нам об отсутствии контакта. Отсутствии чуда. В поле возле Белгорода сегодня ночью не спустилось НЛО. Ну и что? Ситуация меняется, если, скажем, мы говорим о театральных рецензиях в небольшом городке. Три театра, каждая премьера на виду. Тут обретает некий смысл и отрицательная рецензия (не ходите!), и послесловие (сходили? обсудим). И все же наводка на удачу – самый ценный вариант, поскольку он множит контакты произведений искусства с воспринимающими субъектами. В литературе возможна отрицательная рецензия на модное явление, которое изначально выделено, на слуху. Возможна = культурно осмыслена. В отношении простого существования возможно все. Высказанное выше настолько элементарно, что вроде бы и не нуждается в артикуляции. Не тут-то было. Если почитать рецензии, 142 выходящие в разных изданиях, мы найдем образцы, по сути, совершенно разных жанров, решающие разные задачи. 1. Развернутые аннотации, в излагающие мне вещи. сюжет безоценочной Этакие интонации «объективки». Достаточно написать такие «рецензии» на «Анну Каренину» и «Братьев Карамазовых», чтобы оценить полное бессилие самого подхода. Мы договорились, что нас интересует художественный фактор, искусство, вертикаль. А тут нас тщательно ориентируют на плоскости. Кому нужен текст, принципиально не отличающий «Анну Каренину» от глянцевого женского романа? А вот не побоимся пафоса и заклеймим: он нужен культурному бунту. 2. Есть рецензии-интерпретации, так или иначе трактующие произведение искусства. Я как читатель рецензии и потенциальный читатель самой вещи в смятении. Может быть, я оценил бы мастерство интерпретации, если бы прочитал саму вещь. Хотя навряд ли: как умные осмысления мало интересуют автора, так же мало они обычно интересуют благодарных читателей. Те чаще просто делятся восторгом. Ответил ли автор рецензии для себя на первый базовый вопрос? Вряд ли. Он на всякий случай пересказывает повесть, что нездоровый признак: это не нужно ни читавшим, ни не читавшим. Это нужно, чтобы оценить интерпретацию. Обобщим: аннотации и интерпретации не ставят своей целью наводку читателя на произведение. Они не говорят нам о художественном факторе, поскольку он проявляется в последнюю очередь через сюжетные ходы. Они самоценны и 143 являются частью этикеточной культуры, когда каждый любитель кроссвордов знает, что Огиньский написал полонез, но каждый второй не в состоянии напеть первые три такта этого полонеза. 3. Самоценные юмористические тексты, которые приятно читать и которые топчутся на трупе какого-то плохого романа. No comments. Чтобы оценить бездну культурной неадекватности, представьте себе такую ситуацию – театральный критик рецензирует два спектакля: один, сыгранный гастрольной труппой из другого города на только что прошедшем фестивале, другой – местный, идущий в городском театре. В чем разница? Вы, конечно, отвечаете мгновенно: на местный спектакль пишется рецензия в полном смысле слова: я (не) советую. На прошедший гастрольный спектакль сквозная мысль рецензии другая: жаль, что вы вряд ли увидите это зрелище, давайте хотя бы я вам о нем расскажу. Внимательный студент сообразит, что это по сути репортаж. Так вот: из 6 театральных критиков примерно 5 этой разницы не ощущают. Просто реагируют на импульс. Помимо пересказа, не имеющего никакого культурного смысла, критики подчас совершают другие столь же очевидные ошибки. Например, лет 5 назад Глеб Шульпяков отрецензировал в «НГ-Экслибрисе» томик Георгия Адамовича в том отношении, что он, Шульпяков, не в восторге от стихов Адамовича, и Ходасевич ему нравится больше. Вкус уважаемого Шульпякова – его личное дело, но рецензируется событие литературного процесса. Событием процесса в конце ХХ-го века являются не стихи Адамовича, умершего в 1972 году, а книга – составление, комментарии, лакуны. Читатель скажет, что издание давно написанных стихов – не факт искусства. Читатель будет прав. Очередное издание классики – явление культуры и, тем самым, не лучший объект для рецензирования. Но уж если рецензировать, то новое, привнесенное теперь. 144 Доводов против изложенной выше концепции рецензирования, как правило, два: это субъективно и это трудно. Второй мы оставим без комментариев. Впрочем, скорее согласимся, конечно, трудно. Говорить об искусстве, о единичном, о художественности, вне привычных схем. Однако, только это важно. Чтобы стало чуть-чуть легче: не бойтесь показаться не только субъективными, но и предельно наивными. Начинайте прямо по-человечески: мне понравилось (ну, чуть изящнее). Дальше Николай Степанович Гумилев советовал переходить к придаточному: потому что... То есть осмыслить свои впечатления. Помоему, полезнее их изложить – как именно понравилось, на что похоже и так далее. Субъективно? Предельно субъективно. На то и фигура критика, обладающего вкусом. Вертикаль качества, повторим, не проецируется на плоскость объективных классификаций. Тема 11. Литература. Многое уже сказано. Давайте еще раз, немного в других терминах обозначим литературного критика. Это фигура культуры на службе искусства (литературы), посредник. Его дело – умножать читательские контакты с лучшими явлениями современной литературы. Как правило, уже изданными, хотя критики обычно принимают то или иное участие и в издательском деле, и в премиальных сюжетах. Главные достоинства критика – вкус и культурная вменяемость. Первое нужно, чтобы отличать живое от неживого, второе – чтобы фильтровать вторичность, пусть и невольную. Представим себе молодого одаренного поэта, не очень любящего читать чужие стихи. Он бесконечно далек от осторожной культурной вторичности, сознательного развития и преложения чужих тем и интонаций. Но, двигаясь наугад по языковому полю в сторону того или иного сгущения, той или иной удачи, 145 молодой наивный поэт буквально вплывает в уже освоенную поэтику и становится вторым, например, Багрицким, слыхом не слыхав о первом. Для поэта это вроде профнепригодности; для критика не заметить пресловутой вторичности – профнепригодность в квадрате. Собственно, в этом и состоит профессионализация, совершенствование критика – в накоплении культурного опыта, в освоении сложившихся поэтик и в твердеющей ответственной способности различать новое. Так косвенно рафинируется вкус. Это школа критика, университет же – своеобразная центровка вкуса. Об этом хорошо писал Юрий Иваск: Фет и Николай Некрасов настолько разные поэты, что трудно представить себе человека, равно их принимающего. История, однако, утвердила их примерно на одном уровне. И идеальный критик должен постараться полюбить их обоих. Впрочем, школу бы окончить... Вкусу противопоставлена установка, концепция. Тут возникает довольно серьезная ситуация. Без концепции нельзя. Усилие обобщения мозг производит мгновенно и рефлекторно. Нельзя не думать о том, чем живешь. Концептуальное мышление лучше, чем просто мышление, потому что всякий итог украшает процесс. Тут дело не в критике. Возьмем человека, по роду занятий совсем не призванного обобщать, скажем, актера, и спросим его о состоянии современного театра. Умный актер ответит умно, глупый – глупо, но, уверяю вас, никто не откажется отвечать только потому что имеет право на не-обобщение. Критик как человек культуры (принимающий или не принимающий бунт) склонен и обязан приручать единичные факты искусства, так или иначе вводить их в нечто стройное. Это все прерогатива установки, концепции. Итак, на каждое новое явление искусства возникает двойная реакция – вкусовая и установочная. Как левая и правая части уравнения, где одно проверяет другое. Аналог вычисления и замера. 146 Если эти оценки слишком часто расходятся, значит, установка (именно для данного критика) неверна. Она, наверное, усвоена где-то в процессе учебы, за красоту, но плохо обобщает личный вкусовой опыт. Если оценки практически совпадают, то, стало быть, вкус умер, осталось фантомное ощущение, эхо установки. Нормальное состояние – конфликтное сближение оценок. Недопустимо пользоваться чужими концепциями и установками: они в лучшем случае отвечают вкусу их создателя, в худшем – висят с потолка. С недоверием относитесь к разнообразным школам, направлениям, течениям, группам. Это грубые обобщения. Даже одно имя автора слишком неточно обобщает разные его произведения. Гениальное пастернаковское «Годами когда-нибудь в зале концертной...», его же по-другому гениальный «Ветер» и чудовищные «Разведчики» – нет ничего общего между этими тремя стихотворениями. Вообще, по-моему, настоящий разговор о произведении искусства примерно на треть сопоставителен, в терминах типического, культурных и ассоциативных связей; на две трети – индивидуален, в терминах единичного. Каждый критик считает своим долгом усвоить классический опыт. Музыковед, не слышавший музыку Вивальди, – персонаж анекдота. Но классика обрывается примерно 50 лет назад. И важнейшая обязанность критика – восстановить мосты, очень плотно проштудировать последние полвека отечественной литературы (музыки, живописи, театра и т.п.). При этом объемы сопоставимы со всем классическим наследием предыдущих столетий, поскольку мы 147 имеем дело не с сухим остатком (он еще не подсох), а с влажной материей. Я литератор и немного литературный критик. Поэтому могу дать «наводки» в литературе конца ХХ-го века. Если этот учебник переживет меня на столетия, данный список устареет. Риск, согласимся, невелик. Начинаем с 50-х. Итак, поэзия: Тарковский, поздний Заболоцкий, поздний Пастернак, поздняя Ахматова, Окуджава, Галич, Высоцкий, Бродский, Красовицкий, Вс.Некрасов, Холин, Сапгир, Сатуновский, Кривулин, Шварц, Рейн, Лиснянская, Кленовский, Чиннов, Лосев, Цветков, Кенжеев, Айзенберг, Кибиров, Иртеньев, Ю.Кузнецов, Чухонцев, Жданов, А.Еременко, Искренко, Арабов, Бунимович, Дашевский, Седакова, Николаева, Кекова, Самойленко, Пуханов, Гуголев, Гандельсман, Анашевич, Медведев, Воденников, Гронас. Проза: Ю.Казаков, Солженицын («Архипелаг ГУЛАГ»), Анчаров («Самшитовый лес»), Битов («Роль», «Пушкинский Дом», «Человек в пейзаже»), Вен.Ерофеев («Москва-Петушки»), Саша Соколов («Школа для дураков»), Трифонов («Дом на набережной», «Старик», «Время и место»), Шукшин, Газданов, Довлатов, Вал.Попов (книга «Две поездки в Москву»), Маканин, Г.Семенов («Городской пейзаж», «Ум лисицы»), Вл. Орлов («Альтист Данилов»), Бакин, Скоробогатов («Земля безводная»), Вишневецкая («Опыт сада»). Преподаватели ИЖЛТ не включены в список из соображений деликатности. Само собой, списки минимальны. Претензии насчет лакун не принимаются – дописывайте каждый на свой лад. Начали читать, не пошло – откладывайте. Переходите к следующему. Набирайте постепенно свой вариант маршрута. Бонус журналиста, пишущего о литературе, – возможность цитирования. Помните: здесь ваше преимущество перед музыкальным или театральным критиком. Цитирование, в отличие от пересказа, культурно осмыслено. И в выборе прозаических или стихотворных фрагментов критик как посредник контакта проявляет себя наиболее 148 адекватно. Он руководствуется исключительно вкусом и не примешивает к нему искуса самовыражения. Тема 12. Театр. В следующих трех темах я откровенно не специалист. Пафос приведенного в них ликбеза таков: уж если неспециалист свободно оперирует этими категориями, специалист не имеет права проходить мимо них. Первое, что приходит в голову при слове «театр», это система Станиславского. Она проецируется на наши базовые категории (особенно из психологии творчества) таланта и вдохновения. Ситуация спектакля описывается через некоторое противоречие: и без вдохновения нельзя (получится холодновато), и ждать вдохновения неопределенное время по понятным причинам невозможно. Происходит стимуляция – или сублимация – вдохновения. Наше отношение к результату двояко. С одной стороны, замечательно, что Станиславский не удовлетворился высшей мерой профессионализма в сочетании с талантом и насильственно ввел в систему категорию вдохновения. С другой стороны, этот опыт невозможно «пересадить» в музыку (создание музыки), живопись или литературу именно из-за сублимационного характера вдохновения. Поучительна фигура Импровизатора из «Египетских ночей» (нас не должно удивлять, что Пушкин осмысляет систему Станиславского). Это поэт, работающий в режиме актера. Он стимулирует вдохновение, в том числе, через актерский кураж, через обмен энергиями с залом. Между тем, первое его слово в собственном творческом манифесте – талант (всякий талант неизъясним). Мандельштам как максимально удаленную от поэта фигуру называет актера, имея, вероятно, в виду именно разные роды вдохновения. 149 Так или иначе, система Станиславского основана на глубоком вживании в образ и на том, что актер испытывает те же эмоции, что и его персонаж. Выражение тут становится как бы вторым делом. Очевидно, что сама система «отцентрована» под определенный род драматургии, в первую очередь, под психологический реализм Чехова и Горького (МХАТы) и наследующих им по-разному Розова, Володина, Арбузова, Вампилова. Постановка, например, Шварца в традиции театра Станиславского становится парадоксальным решением. (Это, разумеется, не означает невозможности.) Полезно знать, что бывает иначе. Во-первых, существовал русский театр до Станиславского. До нас главным образом он дошел в виде драматургии Островского и Малого театра, несущего его традицию. Очень приблизительно традицию Островского можно описать как бенефисную – актер фактурно соответствует определенному амплуа и профессионализируется в нем. Пьеса и постановка стремятся не столько к жизнеподобию, сколько к повышению яркости типических фигур. Великий Евгений Лебедев и по фактуре, и по таланту никогда не вписывался во мхатовскую традицию. В изумительном ансамбле товстоноговского БДТ он блистательно исполнял роли в брехтовских пьесах, сыграл Холстомера в инсценировке Толстого. Но показательно, что и Чехова (Серебряков в «Дяде Ване»), и Горького (главная роль в «Мещанах») Лебедев переложил, скорее, в достаниславскую традицию. Он «вчитал» туда фигуры театра Островского, усилил яркость, собственно театральность происходящего. Во-вторых, как прямая альтернатива вживанию существует принцип изображения: режиссер и актер как со-творец роли выступают в качестве «совокупного художника», пластика актера становится материалом. Это не определенная система, можно сказать, что примерно так функционирует и театр Кобуки, но в ХХ-м веке знаковыми для нас становятся система Брехта и театр Вахтангова. 150 Существует театральная легенда: Вахтангов ставил знаменитую «Принцессу Турандот» якобы по системе Станиславского; актеры изо всех сил любили, ревновали, страдали, но игровая фактура Гоцци как бы плохо пропускала это внутреннее свечение, итог, доходивший до зрительного зала, оказывался ничтожен. И Вахтангов, доведенный до отчаяния, вдруг командует актерам действовать наоборот: не вживаться, а лишь изображать. Извне, а не из внутреннего переживания, находятся решающие жесты и интонации, строится и закрепляется рисунок спектакля. В итоге актер, исполняющий, скажем, тупого злодея, чувствует себя не тупым злодеем, а радостным художником, сопричастным театральному целому. Светлая энергия излучается из каждой точки сцены. Показателен тут разворот на 180 – наоборот. Так было в действительности или не совсем так, но эта деталь примечательна. Она позиционирует театр Вахтангова по отношению к театру Станиславского. Чтобы почувствовать стстему Брехта (соприродную вахтанговской), лучше всего пересмотреть «Карьеру Артуро Уи». Фишка не в том, что в истории взлета нью-йоркского гангстера прозрачно зашифрована история Гитлера, а в том, что здесь Брехт помещает зеркальце собственной системы. Артуро Уи (Гитлер) берет урок риторики у старого актера. Тот совершенно не грузит бандита вживанием и осмыслением. Рекомендации предельно просты: правую ногу немного вперед, подбородок чуть выше, руки скрестите вот здесь... У нас на глазах возникает характерная пластика Гитлера. И у нас на глазах срабатывает система Брехта. Посмотрите этот спектакль с Лебедевым в главной роли. Впрочем, побоку историю театра. Давайте лучше изложим его азбуку. Спектакль создается трижды: в виде пьесы (полуфабрикат, где заложен спектр дальнейших прочтений), режиссером за репетиционный период и здесь и сейчас. Последнее – главное. Зрители – соучастники действия. Удачу спектакля не спутать ни с чем. Это резонансный эффект – зал реагирует одновременно и сходно. Взрывается смехом, замирает в ожидании, ахает. Возникает обмен энергиями. 151 В отсутствии тотальной удачи можно отметить индивидуальные интерпретации, отдельные яркие места, актерские прорывы. Но главная функция театрального критика все-таки – отслеживать тотальную удачу и сообщать о ней. Тема 13. Музыка. Давайте я сделаю одно важное и грустное признание. Я никогда не писал о музыке. То есть писал десятки статей о литературе, воспитании, образовании, семье, социальных проблемах, культуре вообще, кино и ТВ, отметился насчет наркотиков, политики, войны, спорта, карт, живописи, театра. Выступал с позиций свекрови, тещи, бабушки (это отдельная история). Но вот о музыке... разве что о музыкальном образовании – на основе общего с музыкантами педагогического опыта. И вот что понял. В музыке, в отличие, например, от литературы, существует совершенно четкая дифференциация родов, направлений, сред и целей. То есть в рафинированном литературном обществе нет-нет да и вспыхнет темка: а почему у нас не миллионные тиражи? а почему нас не листают в метро? Потом выясняется, что это разные институции: массовая и серьезная литература. Ах да. Так вот: около музыки я не встречал этого артикулированного ах да. Иначе говоря, продвинутый исполнитель Баха совершенно не вспоминает о Филиппе Киркорове и не сравнивает тиражи дисков. По крайней мере, вслух. Фэны тяжелого рока всячески клянут попсу. Но сами рок-исполнители поминают эстрадников только понукаемые журналистами. Видно, что их не гложет внешний контекст. Можно обобщить так: музыка не знает национальных границ. Если ты погружаешься, например, в фолк-культуру, она образует очень 152 обширное информационное пространство, где актуализируются все важные связи. Вывод, собственно, один – музыкальный критик силен своей специализацией. Если он пишет о поп-музыке, он должен (пусть временно) полюбить поп-музыку как род ну хотя бы деятельности, должен оценивать ее по веселым и поверхностным канонам попсы. Должен – некрасивое слово, можете его мысленно заменять не очень уклюжим оборотом, замешенным на хорошо, если. Смысл, впрочем, сохраняется. Критик исключает фоновое отношение ко всему рецензируемому роду, центрует свое восприятие. Тезис Пушкина о том, что художника следует судить по им самим выбранным законам, тут действует на полную катушку. Это не значит, что сама, допустим, конкретная рок-композиция не может вобрать в себя блюзовую интонацию (пишу наугад, для примера) и обогатиться ею. Это значит, что мы читаем репортажи с рок-фестиваля, написанные человеком, четко осознающим задачи и достоинства рок-музыки и не навязывающим ей внешних, неактуальных целей. Я не буду писать о том, что музыкальный критик должен обладать музыкальной культурой, которой сам я не обладаю. Просто не буду, потому что это прозвучало бы довольно дешево и банально. Но въедливый студент, собирающийся меня упрекнуть за то, что я этого не написал, может это прочитать в начале данного абзаца, откинув вводную полуфразу, как крышечку с банки. А мы двигаемся дальше. Тема 14. Изобразительное искусство. Вот тут мы с вами приблизились к самому очерченному очагу культурного бунта. Достаточно посетить любой музей современного 153 искусства, чтобы непосредственно визуально оценить степень обнаженности короля. Он не просто голый, он уже местами освежеванный. И этот мясной нарез выдается за чудесное новое платье. Если вас привлекает искусство демагогии как таковое, обратитесь к специалистам типа Екатерины Деготь. Они в два счета изложат вам культурное значение Кулика (это такой художник, который лает собакой и совокупляется с домашними животными) или Бренера (это другой художник, который демонстрирует свой голый зад (отчетливая отсылка к голому королю) и какает под художественными полотнами). Если нет, то волей-неволей поднимем скромный флаг дилетантизма и обратимся к здравому смыслу. Испокон веку – ну, уточним, издавна – критерием мастерства художника было его умение запечатлеть действительность. Несколько базисных живописных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт) основаны на этом умении. Не будем столь наивны, чтобы сводить искусство живописи к копированию натуры. Потрясающе важны смещения – цветовые, смысловые, пространственные. Художник всегда создает новое, а не только выхватывает и останавливает кусок пространства. Тем более, что есть лезвие Оккама – общезначимый философский принцип, запрещающий умножать сущности без необходимости. Впрочем, есть авторитеты и покруче Оккама. Вспоминаем: Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли... Это говорит Бог Моисею на горе Синай, казалось бы, намертво обрубая корни реалистическому искусству. Но человек своеволен. Так или иначе, изобретение фотографии в середине ХIХ века высвободило руки художникам. Искусство копирования натуры становится объективно менее востребованным; не может не возрасти амплитуда авторских смещений. Общедоступный критерий 154 жизнеподобия, однако, утерян. Прижизненный неуспех Ван Гога или Гогена неприложим к Рафаэлю или Гойе, да и к Айвазовскому или русским передвижникам, которые в конце ХIХ века приципиально придерживаются изобразительной тенденции. Художник уходит от широкой публики. Еще несколько соображений, слишком очевидных, чтобы мы всегда о них помнили. Картина – плоское цветное изображение на холсте – объективно хорошо передает цвет, форму, предметность; плохо – объем, перспективу, движение, ход времени, сюжет, а также – абстрактную мысль, температуру, звук и так далее, в зависимости от вашей фантазии. Загвоздка, однако, в том, что трудная, почти неразрешимая задача гораздо конструктивнее легкой. Вертикаль искусства как правило возникает там, где художник выражает невыразимое. Второй перечислительный ряд намного лучше первого характеризует цели и направления развития живописи. Так и художественная проза, например, передает не мысли, а цвет, звук, запах, безусловную реальность, для чего, казалось бы, знаковая природа языка не очень годна. Картина – искусство вне тиража. Это определяет невероятную свободу бытования живописи в культуре. Для сравнения – есть Дарья Донцова. С точки зрения литературных достоинств, ее произведения чудовищны. Но она действительно легко читается в метро, а если бы читалась трудно, ее не смогли бы впарить миллионам читателей. Допустим, что есть некое абсолютное мошенничество. Мы зовем обезьяну – и она просто брызжет из пульверизатора на холст. 155 Потом приглашаем эксперта-посредника, и он либо объясняет, почему это гениально (хоть какой-то труд, но довольно несложный – надо просто запомнить несколько культовых слов типа дискурс, деррида, ролан барт, позиционировать, инсталляция, гендер и, скажем, дихотомия. Задача облегчается тем, что нормальный человек просто плюнет и уйдет, а участник культурной игры не заинтересован в череде разоблачений), либо просто устанавливает табличку с ценой и выписывает сертификат. Выслушав эксперта и кивнув, чудак коллекционер вынимает $10.000 и приобретает шедевр. Машина работает! Суть ее, повторяем, в том, что гораздо труднее уговорить 10.000 человек потратить по $1, чем одного – $10.000. Вы скажете, что это мошенничество. В основе своей – да, но пройдемся вдоль цепочки и попробуем поймать жуликов за руку. Эксперт действительно окончил с отличием искусствоведческий факультет Гарварда, Кембриджа или МГУ. Диплом подлинный. Насчет частицы души художника, творческих мук и т.п. речь не стояла, а если бы вдруг и стояла – этого не замерить. Гости нашего миллионера пожимают плечами возле свежеприобретенного полотна, дети от него шарахаются. Но никто не говорил, что настоящий шедевр должен быть доступен для профанного восприятия. На взрослых гостей действует сертификат. Он поддельный или настоящий? Формально говоря, настоящий, потому что он утверждает только авторство (например, художника с уже раскрученным именем) и цену, которая впоследствии действительно заплачена. Доллары настоящие. Круг замкнулся. Как же любители живописи, не-миллионеры? Очень просто. К 60-летию наш художник устроит выставку всех своих произведений, в 156 частности, любезно одолженных ему на время из частных коллекций. Любитель ошарашенно смотрит на этот парад уродов. Не нравится – не ходи. Кто ее ужинает, тот ее и танцует. Распишись только вот здесь, что ты не понимаешь в современном искусстве. Сейчас распишемся. Но сперва чуток повременим. Помните, нас пытались намеренно сбить с толку, говоря о кризисе культуры, а имея в виду (несуществующий) кризис искусства? Мы тогда, современно выражаясь, не купились на фуфло. Тут нам подставляют те же грабли. В музее, констатируем мы, выставлены объекты современной визуальной культуры. Реплики вымороченного диалога, события вымороченного коммерческого арт-процесса. Черный квадрат Малевича – крупное событие культуры, обобщившее тысячу проливающее свет тенденций (несмотря на и зачавшее свою тысячу черноту) на новых, многие последующие события. Вот и мы о нем вспомнили. Но с точки зрения искусства он – нуль. Унитаз Дюшана, ведро сушеного дерьма за миллион баксов, пресловутые голые зады и люди-собаки, коллективные действия, перформансы, хэппенинги, акции, инсталляции, ready made, объекты и пр. имеют культурный смысл – вам его охотно и за умеренные деньги изложат разнообразные жулебины или кусковы, жабановы или зимиано. И я бы мог, как шут, да что-то неохота. Но искусства тут нет. В смысле – создания-рождения, тоннеля восприятия. Поэтому – мы прекрасно разбираемся в современной визуальной культуре в той минимальной степени, в которой она заслуживает того, чтобы мы в ней разбирались. И мы действительно ни в зуб ногой в современном изобразительном искусстве (расписываемся), потому что хозяева галерей и другие координаторы арт-процесса сделали все, 157 чтобы зритель не встретился с художником. Разве что на маргинальном вернисаже, на юбилее художественной школы, в районном ДК. Опыт восприятия современной живописи накапливается очень постепенно и как бы случайно, в непредсказуемых ситуациях. Что же до художественной фотографии, то это искусство успело обрести пространство условности, то есть стать искусством в полной мере, но еще не полностью заменено культурными симулякрами. Иначе говоря, если в вашем городе проходит выставка всемирно известного фотографа, то, скорее всего, вы получите удовольствие от ее посещения. (В случае с художником, скорее всего, нет; в лучшем случае, посмеетесь.) Можно сказать так: возле фотографии еще возможен открытый диалог эксперта и дилетанта. Идет в целом здоровый процесс. И снова не боимся быть банальными: в искусстве фотографии не может не быть натуры (того, что перед объективом). Это образует животворную предметную основу. Тема 15. Кино, видео, ТВ. Кино – всегда зрелище и история. Это два направления разговора о современном фильме; сочленяются два полученных фрагмента довольно узко. Чаще всего либо зрелище подчинено истории, либо наоборот. Сейчас ситуация в кинематографе определяется чрезвычайно жестким голливудским стандартом. То есть если мы и нарушаем его, то все равно держим в уме и именно его нарушаем. Стандарт Голливуда – это в первую очередь жанровая схема восприятия, воспитывающая в кинозрителе буквально условные рефлексы. Многократное следование одним и тем же психологическим маршрутом (по разным 158 тематическим поводам) образует отчетливое мозговое клише, скажем, триллера. Страх, условно говоря, возникает не потому что страшно, а потому что пришла пора испугаться. Это приводит к довольно странной возможности. Сегодня шедевры в кино могут быть созданы в стандарте и вне стандарта. Четко следуя схеме и располагая в ее узловых точках не пустышки, а насыщенные художественные сообщения, создатели фильма добьются классного итога – глубины в сочетании с массовым успехом. Примеры: «Шоу Трумана» и «Красота по-американски». Из отечественного арсенала – «Белое солнце пустыни». Смещая сами узлы и намеренно путая их начинку, мы получаем, например, «Твин Пикс». Как бы игнорируя саму схему, мы уходим в сторону Вуди Аллена. Но полностью игнорировать ее не удается. Во-первых, если на 35-й минуте психологической драмы зрителя по привычке протрясло (тут должен быть расположен первый поворотный пункт: у героя все было хорошо, а оказалось плохо, или наоборот), то режиссер не может не среагировать на эту тряску, хоть и намеренно ее не замечая. Во-вторых, никакая история не может обойтись без драматической амплитуды, скольжения по эмоциональной вертикали, и простое нарушение количественных неумение. характеристик В-третьих, сам воспринимается накопленный опыт как досадное Голливуда есть легитимизированное кассовыми сборами коллективное бессознательное – все наши встроенные надежды и фобии. Культурный пласт, отличающий рафинированного зрителя, менее глубок, чем этот. О глубочайшей укорененности стереотипов массовой культуры писал еще Брехт. Если кино по типу восприятия соприродно театру (исключая, естественно, обратную связь), то видео-культура намеревалась 159 побороться с книжной. Достаточно взглянуть на форму кассеты в обложке, чтобы понять намек. Особенно если на этой обложке значится "Война и мир" или «Унесенные ветром». Видеокассета гораздо технологичнее книги, а стоят они почти поровну. То, что при этом культура видео не вытеснила книжную, есть некоторое чудо, культурный контрпроцесс. То есть находятся еще люди, предпочитающие чтение визуальному восприятию, иначе говоря, собственную интерпретацию знаковой информации навязанной. Если сопоставлять кино и видео (это тем более оправдано, что речь может идти буквально об одном и том же фильме в разных версиях), то традиционные козыри кино – эффект большого экрана, мощный звук, резонанс массового восприятия (впрочем, для этого необходим аншлаг). Козыри видео, как это ни парадоксально звучит, – в отсутствии козырей кино. Видеовоплощение фильма не агрессивно, и если оно удерживает нас возле телевизора с раскрытым ртом, то уж не шумовыми или ослепляющими эффектами. Характерный пример, скажем, «Сибирский цирюльник», где из кинопремьеры устроили грандиозное шоу с фуршетом, а видео- и телеверсии обнажили убожество и шаблонность продукта. Телевизионная культура тем нам дорога, что она является общим информационным полем для широкого читателя. Если мы апеллируем к общему опыту более, чем городской аудитории, то он может быть только телевизионным. При этом ТВ может тиражировать (фильм), транслировать (футбол) или создавать собственный продукт (шоу, сериалы). Но, так или иначе, аукаемся мы не веселым именем Пушкина и даже не «Кавказской пленницей» (это – старшее поколение), а – рекламными слоганами и интонациями телеведущих. 160 Продолжаем эксплуатировать феномен широкой известности, поскольку именно он определяет исключительную ценность ТВэфира – буквальную и переносную. Важное уточнение – один раз засветиться на ТВ – это еще не значит прославиться. При обилии каналов однажды = никогда. Осесть в массовом сознании можно только планомерно. Отсюда – важность культуры шоу и сериалов, продольных волокон ТВ-культуры. Если вы будете писать о том или ином шоу или сериале (лично я только о «Я самой» и «Санта-Барбаре» писал по три раза), мой вам совет – как можно решительнее освободитесь от снобизма по отношению ко всему жанру. Никому не интересно, что вы вообще не интересуетесь сериалами или ток-шоу – этим сообщением вы не находите общего поля интересов ни с теми, кто этим интересуется, ни даже с вашими коллегами по отрицанию жанра. (Тавтологии в предыдущей фразе намеренны.) Если вы ругаете конкретный сериал, то держите в уме хотя бы 5-6 сериалов, которые вас увлекли. Иначе это будет голословная ерунда, подход к одному жанру с лекалами других. Сериалы, если уж пошла о них речь, вырабатывают некий особый сквозной язык, специфика которого – в сочетании очень большого жизнеподобия (полчаса пустоватого разговора = полчаса драгоценного телеэфира) и гигантской условности (близнецы, амнезия, возвращение памяти, (мнимая) слепота, (мнимая) неподвижность, поиск отца, мнимая смерть и т.п.). Смысл этого языка не тривиален. Скорее всего, это те самые надежды и фобии коллективного бессознательного, воплощенные в фигурах сюжета. Вообще, сюжет сериала линеен. Хоть ему тянуться 500 серий, но с самого начала светится хэппи энд – свадьба вполне определенной пары. В этом отношении, показателен новый тип сериала, больше 161 похожего на шоу, где нет этой поступательности. Таковы, например, «Санта-Барбара», «Скорая помощь», а также блистательные «Симпсоны» и «Бивис и Батт-Хед». Что касается тележурналистики, мы осторожно касались ее в предудыщих главах учебника. Тут, как объект разговора, она не выигрышна. Не стоит журналисту писать о журналистах. Интервью – другое дело. Что ж, основной текст «учебника» завершен. Я приготовил для вас два приложения – классные журналистские материалы моих добрых знакомых с краткими комментариями и небольшой авторский курс по психологии творчества. Теперь я надеюсь на диалог с вами – в устной или письменной форме. Я готов углубиться в любое место основного текста – не потому что уверен в непогрешимости собственного суждения, а потому что интересно. С уважением, РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. СТАТЬИ МОИХ ДОБРЫХ ЗНАКОМЫХ Тут, вероятно, тоже нужно какое-то предуведомление. Вот оно. Я обратился к своим добрым знакомым с просьбой украсить мой самодеятельный учебник своими любимыми статьями (колонками, интервью). Слово любимый, по-моему, хорошо отводит в субъективную сторону немного размытое лучший. Выбор я просил кратко аргументировать. Мне же остается как-то пояснить выбор не материалов, а самих персоналий, поскольку его сделал я. 162 Что ж – я вел пальцем по страницам своей записной книжки и набирал тот номер, на который реагировал кончик пальца. То есть орудовал пресловутым пальцем чисто интуитивно. Но в итоге обозначилась тенденция. Мой учебник (делаю усилие, чтобы не брать это гордое слово в кавычки) – взгляд литератора на журналистику. И большинство моих абонентов тоже отчегото оказались литераторами, более или менее ввязанными в журналистику. А если учесть, что мои добрые знакомые натуральные журналисты отозвались на приглашение без энтузиазма и в итоге не вписались в срок, тенденция приняла неукоснительный характер закона. Судите сами. Сергей Гандлевский, Михаил Айзенберг, Николай Байтов и Ян Шенкман – поэты, Николай Байтов, Сергей Гандлевский и Дмитрий Стахов – прозаики, Рустам Рахматуллин – эссеист, Елена Иваницкая – литературный критик. Вместе с тем 6 из 7 моих корреспондентов имеют штатный опыт журналистской работы, а Елена Иваницкая к тому же журналист по образованию и преподает журналистику на журфаке МГУ. Взаимопроникновение родов деятельности налицо. Между тем, любимое все же о своем. Айзенберг, Гандлевский, Байтов пишут все же о литературе. Впрочем, у Николая Байтова, не скрою, я попросил – в нарушение общего правила – именно эту статью. Ее предельная сосредоточенная искренность поразила меня. Также я добавил к выбранной Сергеем Гандлевским статье заказ на Льва Лосева с мыслью о боковой пользе – пусть студенты узнают еще об одном замечательном поэте. Постепенно переходя к моему выбору. Дмитрий Стахов дал мне на выбор 5 статей; меня привлек «Парк нашего периода» сочетанием ностальгической ноты и едкой, фельетонной детальности. У Яна Шенкмана из 10 материалов я не смог не отобрать 4. Два интервью, по-моему, прекрасны сами по себе, да еще с великолепными журналистами. Как бы двойная польза. И два «армейских» материала – легко о серьезном. Лучшее сочетание. Материалы Николая Байтова и Рустама Рахматуллина маргинальны в журналистике. Однако, «Независимая газета» охотно опубликовала их и публиковала им подобные. В Москве время от времени находятся печатные органы, плодотворно расширяющие свои жанровые и видовые границы. Остальные 163 материалы раздела вполне классичны. Любопытно будет вам соотнести «географию» Стахова с «географией» Рахматуллина. Итак. Дм. Стахов: "Информационный повод совпал с моими собственными ностальгическими привязанностями". Парк нашего периода Признаюсь сразу – с этим заведением у меня личные счеты. Поэтому – прочь объективность, прочь! Если кто и может писать о Парке культуры и отдыха им. Горького с хладным сердцем – пусть пишет, но мне подобное недоступно! Все во мне вскипает и бурлит. Здесь же меня гоняли по кустам какие-то гопники. А всего-то пришел покататься на конёчках! Здесь также была славная молотиловка во «Временах года», со швырянием салатниц и выводом особо отличившихся в отделение. Где на них составляли акт. Со всеми вытекающими. Во всех смыслах. Здесь я познакомился с девушкой, которая оставила адрес и пояснила, что ехать к ней надо электричкой до Святошино. Только через много лет я узнал, что это направление возможно исключительно из города Киева, ныне столицы суверенного государства. Одним словом – все здесь проникнуто личным духом. На том, собственно, и стоим. Но начать надо с того, что одного моего близкого родственника обули в знаменитой бильярдной ЦПКиО, во времена почти былинные. Теперь, насколько мне известно, бильярдная располагается на каком-то мифическом «третьем этаже». Так, во всяком случае, гласит объявление. Родственник же мой слыл игроком искусным. В том провинциальном городе, где он проживал, его умение вогнать своячка ставилось высоко. К тому же, родственник был уже в годах, имел брюшко, папиросы доставал исключительно из солидного серебряного портсигара, а шляпа у него была австрийской, с маленьким перышком, что в те – повторюсь: во времена почти былинные, – было высшим шиком. Одним словом, когда ему предложил сыграть какой-то, годящийся в сыновья, столичный хлюст, родственник согласился только потому, что других партнеров не было. Сыграли раз, сыграли два, родственник наживку заглотил и вернулся, как сейчас помню, к нам в коммуналку без портсигара, шляпы, даже вроде без брюшка. Деньги, естественно, были спущены все. До копейки. 164 Кого, как вы думаете, родственник винил в своих несчастьях? Хлюста? Себя? Бильярд? Нет и нет! Во всем был виноват пресловутый ЦПКиО! Вероятно, в этом особая статья эпохи Большого стиля: винить во всевозможных грехах кого угодно, но не себя. И уж конечно – лучше всего винить того или тех, кто ответить не может. Однако, если приглядеть попристальнее, то подобные обвинения не так уж безосновательны. Обстоятельство места значимее прочих. Кто сейчас помнит Большой стиль, то время, когда создавался ЦПКиО? Пионеры (темный низ, белый верх, галстуки), передовики (на брюки – метры и метры, вата под плечи) и прочее. Очереди за мороженым. Впряженные в тележки пони. Лодочки в пруду. Милиция в портупеях и скрипучих сапогах. Ресторан «Кавказ». Кафе «Времена года». Это, правда, ближе к нашему времени. Пивняк «Пльзень». Почти наше время.… Все это забыто. Все быльем поросло. «Времена года» ныне напоминают что-то вроде «Атомного дома» из Хиросимы. Бурьян, да разбитые стекла. «Кавказ» и выглядит по-кавказски, то есть так, как многие из популярных когда-то курортов: все загажено, разбито, порушено. Лодок больше нет, остались только водные велосипеды. Они и скользят по водной глади, а напротив пиратского вида парни прилаживают рискового посетителя к «тарзанке». Вот сейчас его зарядят как следует и запустят в августовское московское небо. Не забудьте вернуться назад, товарищ! «Пльзень» снесли («За меня в Пльзене выпей кружечку хоть раз – надписал когда-то на там-издатовской «Школе для дураков» Саша Соколов, – я икну и вспомню вас!…»). На месте его – какие-то кафушки, душный запах углей, «кокакола», крышечки от «Балтики», новый узор патриотического ковра. Нетрезвые милиционеры, кажется, в свободное от дежурства время, нещадно матерясь, стреляют в тире. Мажут безбожно. Но заискивающе улыбающаяся девушка, хозяйка над мишенями и пульками, обязательно отдаст приз милиционерам. Тут можно быть спокойным. Как бы – авансом. Ведь будь они при исполнении, уж они бы попали в яблочко. А единственное место, где пользователь обязательно получит на руки билет, – платный сортир. Во всяком случае, на многих аттракционах, на колесе обозрения, в частности, вы суете свои пятнадцать рублей в руки «сотруднику», совершаете один оборот и – свободны. Никакого учета. Вам он, естественно, и ни к чему. Вы же свое получили: вид, эмоции и радость существования. 165 Которая усиливается во сто крат от созерцания собственного отражения в кривых зеркалах. А вот Большой стиль требовал сокрытия зеркал в Комнате смеха. Смеяться у всех на виду считалось как-то неприличным. Да еще надо было платить. А потом смеяться за плату. Новая эпоха вынесла зеркала к людям. Значение жеста этого крайне велико. Этот жест окончательно перечеркивает весь Большой стиль. Но это же и единственное послабление. Теперь за искаженное отражение платить не надо. Смех сближает. Смеются рядом «новые русские», жители глухих провинций, кислотные девчонки, московские интеллигенты, туристы из ближнего (этих мало) и дальнего зарубежий (этих мало очень). Смех естественный, громкий. Рядом – человек с удавом. Хочешь подержать удава в руках? Только плати. Согласия удава не требуется. И действительно во всем окружающем чувствуется тяжелая и последовательная поступь рынка. «Смотрящие» за рынком подъезжают к аттракционам – прямо по аллеям, сигналя непонятливым, особо непонятливых наподдавая бампером – в спортивном «Понтиаке» и выходят в народ. У смотрящих мужского пола – прошу прощения за общие места, – низкие лбы, шеи что бедро тяжелоатлета Жаботинского, цепи по полкило, браслеты, тупоносые башмаки, у женского – необъятные бюсты, калькуляторы в руках, цепи, браслеты и так далее. Видимо это такие же люди распорядились перегородить весь парк чудовищным металлическим забором с так загнутыми штырями, что невольно хочется предложить опутать забор колючкой и пустить ток. «Чудо-городок» что концентрационный лагерь средней руки. Пока у «смотрящих» еще есть деньги на «Понтиак» и цепи. Как бы то ни было, они свой источник существования найдут, но, судя по всему, «отдых» в Парке доживает последние дни. При условии, что «культура» давно почила в бозе. Большой стиль ушел, другой на его место не поставили. В бесстилье и раздрае все цэпэкэ-и-ошные прибамбасы выглядят словно вздыбленные баррикады. То ли чтото после путча, то ли остатки со съемок нового варианта «Сталкера». А тут еще – «Буран». Приобщайтесь к космосу, господа-товарищи! Миллионы, которые вынимали из карманов несчастных советских людей, воплотились в этом странном объекте, который наконец-то нашел свое применение. Сеанс – 60 рублей. Вы поднимаетесь в салон «Бурана», стартуете, вас кормят космической едой… Нет, нет не будем фантазировать! У вашего 166 корреспондента не было свободных средств на посещение этого чуда развлекательно-познавательного бизнеса, посему что происходит там, в этом «Буране», тайна. Снующие вокруг охранники стерегут ее пуще тайн настоящего «Бурана». Которого уже в природе нет… Кстати, где-то была информация, что в Москве более полумиллиона охранников. Так вот, создается впечатление, что львиная доля этих хранителей покоя несут вахту именно в ЦПКиО. Куда ни глянь – везде их черные мундиры, нашивки, рации, береты. Они да «девчушки-билетерши» – это целая армия. Армию надо кормить. Кормить ее можно только за счет посетителей. Посетителей же все меньше. Те времена, когда в аллеях сиживали бабушки с внучками, канули в Лету. Мороженщицы вздыхают: раньше только подвози тележки. Теперь целый день стоишь, а половина тележки остается нераспроданной. И то правда: мороженое по пятерке. Дешевле нет. Сахарная вата – в ту же цену. Еще ни разу не прокатившись ни на одном из аттракционов, а только войдя в парк, съев мороженое, вату, отправив естественные надобности, вы тратите около пяти условных единиц. При учете того, что самый дешевый билет стоит три У.Е., отдых становится накладным. Впрочем – есть и аттракцион «Африка». Там вас за пять рублей посадят в странную круглую лодочку и пустят по каким-то каналам. По музыку джунглей. Лодочки двигаются неторопливо, одна за одной. В каждой лодочке – пара. Только женщины. На посетителя-мужчину билетерша смотрит с некоторым удивлением. Ничего не бойтесь! Плывите! Ведь по мере движения вы сможете увидеть – в планы устроителей аттракциона это не входило – верхушку памятника великому пролетарскому писателю. Подойдите напоследок к этому памятнику. Задайтесь вопросом – почему парк носит его имя? Вы не найдете ответа. Так же вы не поймете, почему Горький стоит в такой позе, будто в левой руке зажал пойманного им вялого московского комара. Собственно это пустые вопросы. Прочь отсюда! Сфотографируйтесь напоследок с обезьяной в обнимку. Обезьян для съемки здесь много. В основном макаки, но есть и шимпанзе. Вашим фотоаппаратом – 60 руб., фотоаппаратом хозяев приматов – 30 руб. Плевать на деньги! Делайте снимок на фоне фонтана, излюбленного места купания десантуры, погранцов и прочих столпов нашей безопасности. Делайте снимок и идите прочь! Вспоминается градоначальник из 167 «Истории одного города». Хочется все здесь снести. Безнадежно загнанные парки пристреливают, не правда ли? Ян Шенкман: «Собственно, весь секрет в том, чтобы точно написать то, что ты хочешь. Но это получается так редко...» Альтернатива Под разговоры об альтернативной службе закончился весенний призыв. И хотя провели его по действующему законодательству, это ничего не меняет: нынешний призыв, как и предыдущие, прошел под знаком альтернативы. Что я, собственно, имею в виду? А то, что у нас очень альтернативное государство. В нем всегда – положено так, но в принципе можно и эдак. СалтыковЩедрин отчеканил по этому поводу: «Строгость российских законов отчасти смягчается необязательностью их исполнения». Причем необязательность исполнения и на граждан, и на власти распространяется в одинаковой мере. Воинская повинность – не исключение. Она тоже альтернативна, просто это иная альтернатива, чем имеют в виду наши законодатели. Вот, например, в этот раз – министр обороны обещал, что не будет облав на уклонистов, и будто в подтверждение его слов милиция гоняется за молодыми людьми от 18 до 27 лет, ловит их у метро и тащит в военкомат. Гонялись и раньше, но сейчас – с особенным рвением. Ведь похоже, что закон об альтернативной службе будет всетаки принят, а значит, будет, что нарушать, будет альтернатива. Это подтверждает и моя собственная история. Она полна того специфического абсурда, который делает нашу жизнь даже чем-то похожей на норму. Военная специальность, которой обучали меня в МГУ, таинственна и опасна. Офицер спецпропаганды – радиоперехват, дезинформация и тому подобные хитрости. С военной кафедрой мы подписали контракт. В нем говорилось, что призвать нас могут только в случае мотивированного указа президента и только в страну изучаемого языка, в Германию. Вот если будет война с Германией, говорили полковники, тогда вы и пойдете служить, заниматься спецпропагандой. Вроде бы, гарантия безопасности, да? Но только на первый 168 взгляд. Знающие люди объяснили мне, что каждый указ президента о призыве является мотивированным. А насчет страны изучаемого языка, это просто безответственный треп. Короче, подписал я контракт. Тут-то и началась настоящая альтернатива. Учили нас на совесть, но экзамены принимали за бутылку водки «Смирнов». Пугали сборами в Коврове (там, говорят, один студентик повесился, не выдержав дедовщины), а в итоге оставили на факультете, где дневальные играли в очко и завхоз обучал нас правилам ношения противогаза. Кончилось тем, что приказ о присвоении нам офицерского звания потерялся где-то в кабинетах минобороны. Так и остались мы представленными, но не присвоенными. Шли годы. Когда мне звонили из военкомата, я говорил, что работаю над диссертацией и лучше буду защищать ее, чем рубежи нашей Родины. Получал соответствующую справку в аспирантуре и отсрочку до следующего призыва. Так продолжалось несколько лет, пока я не вышел из призывного возраста. Вот тогда я с гордо поднятой головой и заявился в военкомат. Но я забыл, что у нас альтернативное государство. – Ну что, – сказал мне майор, – звание не проблема. Мы тебя в одну секунду сделаем лейтенантом. Станешь ты у нас военнообязанным аж до 35-ти лет и пойдешь в сапоги, может, даже и на этой неделе. Но есть, конечно, альтернатива. Неси бумагу для ксерокса (желательно подороже!), а я тебе дам один очень хороший совет. Майора, конечно, тоже можно понять. Зарплата, наверно, маленькая. Материальной базы считай, что нету совсем. И призывники для него – альтернативный вариант. Сделка состоялась и составил я по его подсказке хитрое заявление: отказываюсь, мол, от звания офицера и хочу быть простым солдатом, берите меня с потрохами. Да только возраст непризывной, что поделать. Окончательно добило меня то, что военный билет получал я в кабинете для ветеранов ВОВ. Это был уже абсурд с перехлестом. Не верю, как говорят режиссеры. Но общаясь с представителями закона («О воинской повинности», например) перестаешь чему-либо удивляться и усваиваешь этот закон лучше, чем в юридической академии. Закон альтернативы, хронического абсурда. Оттого и забавно бывает наблюдать заседания Думы. Ведь пока они принимают там строгие, но необязательные постановления, страна живет своей, 169 альтернативной жизнью. Ничего хорошего в этом нет. Но мы привыкли так жить. Ян Шенкман Дикая дивизия Это было в МГУ лет десять назад. «Шенкман, почему на вас джинсы вероятного противника?», – спрашивал полковник военной кафедры, и весь взвод покатывался со смеха. На этот вопрос есть несколько вариантов ответа. Можно было сказать, что я противника замочил и в качестве трофея снял с него джинсы «Rifle». Или что я не считаю США своим вероятным противником. Или рассуждать о качестве отечественного швейного производства… Мы шутили, а полковник не обладал чувством юмора. Лишь теперь, спустя десять лет, я осознал его правоту. Разве должен защитник отечества быть безразличным и циничным чурбаном? Разве может ему быть все равно, что и от кого защищать? Ну вот. А ему все равно. Не спешите делать вывод о моей умственной неполноценности. Я искренне считаю, что беды российской армии происходят не от дедовщины и плохого снабжения. Не от коррупции в силовых министерствах и беззаконных призывов. Все дело в политической подготовке. Это сочетание слов дискредитировано советской властью. Но если вдуматься, в нем есть смысл. Политподготовка – не разговоры о вероятном противнике и не набор патриотических штампов. Это лишь подтверждение и закрепление ценностей, уже существующих в обществе. Ценностей, который всякий нормальный гражданин считает себя обязанным защищать. Другое дело, что их у нас нет, и всякий политпросвет заведомо превращается в фарс. Не только с общественными, но и с личными ценностями с армии полный привет. Мой знакомый, служивший сержантом связи, рассказывал, что солдат, как малых детей, приходится оберегать от них же самих. Инстинкт самосохранения отсутствует в войсках начисто. Солдат может запросто пьяным уснуть на морозе. Или из любопытства дернуть за оголенный провод. Или выкинуть чеку от гранаты, чтобы было удобней нести. При такой армии должна быть еще одна, чтобы ее защищать. А чем, собственно, дорожить солдату? Он приехал на службу из глухой деревеньки или провинциального городка, куда раз в год приезжает с концертом 170 Киркоров, и, кроме вытрезвителя, нет других жизненных перспектив. Армия для него – это продолженье гражданки. Какие уж тут ценности. Что личные, что общественные… Первого октября начался осенний призыв. Борис Немцов с упорством дурака или святого начинает очередную кампанию за переход на систему контрактов. Он говорит, что армия укомплектована людьми, не годными к прохождению службы. Больными, уголовниками, наркоманами. Как в стихотворении поэта Всеволода Емелина: «И врач сказал в военкомате, / Куда привел меня конвой: / – Дистрофик, гепатит, астматик. / И вывод – годен к строевой». Этой армии нечего терять. Она представляет серьезную опасность для общества. Немцов, разумеется, прав. Только беда не в том, что войска укомплектованы люмпенами. И не в том, сколько они получают. Наши контрактники отличаются от призывников только материальным обеспечением. И те, и другие в сущности не понимают, зачем служить в армии и не хотят этого делать. Проблему контрактами не решить. Пока в стране отсутствует четкая шкала ценностей, ее будут охранять дикие дивизии и вороватые генералы. Неоткуда в этой стране взяться другим дивизиям и другим генералам. Елена Иваницкая: «Этот текст дорог мне тем, что в нем прорезалось чувство юмора, которое, как мне казалось, у меня отсутствует». Стрелы гламура Как в лаковом журнале лакируют действительность В кембриджском толковом словаре одно из значений слова «glamour» – привлекательность человека или места. Насчет человека – врать не буду, не встречала, а вот второе совершенно справедливо. Место в штате гламурного издания престижно не престижно, но что денежно – это точно… Мне удалось устроиться корректором в один из гламурных журналов и понаблюдать за его обитателями, так сказать, в живой природе. В гламуре работают только красивые и двадцатидвухлетние мальчики и девочки с более чем проблематичной русской грамотностью, но с обязательным «английским и немецким (или французским) свободно». Молодцы. Чем они столь упорно и напряженно занимаются на рабочем месте – загадка, вгоняющая в столбняк. Все известные мне редакции 171 работают этак с 12 – 13 часов, со свободным посещением и с творческим днем для пишущего народа, хотя объемы материалов там несопоставимо большие. В «моем» гламуре было сто тридцать страниц. Больше трети (пятьдесят две страницы – нарочно пересчитала) уходит на рекламу. Оставшиеся семьдесят чем-то заполнены – преимущественно фотографиями. Текст – страничек двадцать пять – тридцать. Их ваяют пять штатных работников и неограниченное количество внештатных («фрилансов»). При этом две самые большие статьи, аж по две страницы, – переводы из французского или немецкого глянцевого аналога. Строго с десяти утра (в десять ноль одну минуту генеральный директор, назовем его Хенрик, обозревал присутствующих суровым взглядом и вносил опоздавших в штрафной список) юная братия начинала стучать по клавишам и стучала, не переставая, до девяти-десяти вечера. Дважды в месяц редакция в полном составе трудилась в субботу и воскресенье. Что, помилуйте, что они выстукивали? Сразу нужно отвести подозрения, что народ просто играл в стрелялки или гулял по интернету. Нет, руководство неусыпно следило, чтобы сотрудники не занимались ничем посторонним. И не переговаривались. Вообще. Ни о чем. Даже о текущих рабочих вопросах. Услышав голоса, появлялся Хенрик, возглашал: «Too much talking! Stop talking!» – и вносил болтунов в штрафной список. Разумеется, и к редакционному телефону, и к собственному мобильному разрешалось прикасаться только по редакционным делам. Было одно исключение: сотрудница с маленьким ребенком получила по специальному заявлению персональное позволение один раз в день позвонить домой и задать один вопрос: все ли в порядке. «Only this question». Через месяц такой работы каждый способен предъявить по меньшей мере повесть. Вместо повести мальчики и девочки выдавали в итоге три-четыре странички. Неужели их-то и сочиняли целый месяц в поте лица, в полном молчании, ни на что не отвлекаясь и не отрываясь от клавиатуры? Загадка. С другой стороны, сколько мне, корректору, нужно времени, чтобы привести в божеский вид орфографию, пунктуацию, грамматику и стилистику на тридцати страницах? Один вечер. Чтобы сто раз перечитать и каждую букву языком облизать – два. Предыдущий корректор, как мне сообщили, ушел, не выдержав «страшных перегрузок». Очень его понимаю: перегрузки бездельем изнурительны. Так как непрофильные занятия на рабочем месте пресекались строго, мне, судя по всему, следовало смотреть в пространство. Пресекали, собственно, только 172 меня: не получив работы в первый день, во второй я нагло принесла диктофон, надела наушники и взялась было расшифровывать интервью, поскольку работы не предвиделось. «Немедленно выключите музыку, – потребовал ответственный секретарь, – вы мешаете людям работать!». Пространство было уютным, в серебристо-серых и кремовых тонах, обширным и высокотехнологичным. Каждому, само собой, полагался отдельный стол с новейшим «макинтошем» в прозрачном корпусе изумрудно-зеленого и темно-фиолетового цвета. Принтеры и сканеры – в избыточном количестве. Неограниченный выход в интернет, куда, впрочем, никто не выходил. Кроме меня. Лишившись изгнанного диктофона, я засела в Журнальном зале. Гнать меня оттуда юный ответсек уже не решался, потому что у него над душой висел мой настырный вопрос: «Когда будет работа?». Я ведь взялась подсчитывать строчки, выданные за день на правку, и перед уходом сообщала: «Двенадцать... Двадцать одна... Сегодня ни строчки не было». Бедный ответсек, изгрызаемый Хенриком, и сам знал, что не было. На столах – девственная чистота. Никакой горы бумаг, книг и газет, громоздящейся в других редакциях. «Нельзя. Хенрик не любит». Разумеется, сотрудники не имели права принимать личных гостей. Деловые посетители замирали в коридоре у дверей, вздрагивая от громкого шепота: «Переступать порог запрещено!». Почему? Чтобы входящие не мешали творящим? Или чтобы «макинтоши» не покрали? Как и следовало ожидать, работа появилась однажды поздно вечером. Через два дня после строго утвержденной самим Хенриком даты окончательной сдачи номера. Тексты поступали рывками и порциями. Метро закрылось, возникла проблема, как добираться домой. Но – какая забота! – у редакции специальный договор с таксофирмой о развозе по домам засидевшихся за полночь сотрудников. Больше того, выяснилось, что добрая половина редакции если не ежедневно, то через день сидит до двух, до трех часов ночи. Это меня, бездельницу, отпускали в девятьдесять, а народ продолжал трудиться. Бедные дети отчаянно не высыпались. «Бывало и так, что придем в четверг, а уйдем в субботу!» – то ли гордо, то ли обреченно сообщил трудяга. Впрочем, когда грозный Хенрик со строгим напутствием отбывал восвояси, работа продолжалась с выпивкой и громкой музыкой. Многострадальный номер наконец-то сдали, и он улетел в Польшу, потому что печатался именно там. Если верить объявленным цифрам – тиражом 150 000 экземпляров. Но нет, напрасно я думала, что многострадальный: «Все нормально, всегда так». Всегда так тратить 173 собственное время я отнюдь не хотела даже за обещанные корректору шестьсот долларов и потребовала свободного посещения: пусть меня вызывают тогда, когда для меня есть дело! Хенрик не отказал. Пожалуйста. За половинную оплату. Я посмеялась вслух и открыто: если бы за каждой безударной гласной я лезла в орфографический словарь и за каждой запятой ныряла в Розенталя, убивая на двенадцать строчек полный рабочий день, тогда бы мне платили вдвое больше? Неожиданностью оказалось другое. И даже не подзабытые нравы советской конторы, а абсолютная, наивная серьезность юных работников. Я почему-то думала, что там сидят веселые циники и левой пяткой гонят ерунду для дурочек. А там искренние, добросовестные люди ответственно и упорно, за очень, конечно, и очень хорошую зарплату создают «востребованный журнал». Конечно, они до слез тяжело переносят грубейшие методы Хенрика, но очень держатся за свою работу не только ради денег, но и потому, что для них это живое, интересное, трудное дело. Да, наблюдать и терпеть, как Хенрик обращается с сотрудниками, было вполне отвратительно. Мои русские уши не воспринимали его немецких ругательств на ежедневных летучках (от которых сама себя освободила явочным порядком), но доведенные до натуральных рыданий девочки говорили, опуская глаза, что ругательства – самые площадные. Впрочем, они признавали, что виноваты. Тексты опять не сданы вовремя. Опять выбились из графика. «Потому что опять были опоздавшие! Но нельзя же вот прямо так: квач, квач». «Квач» – это «дерьмо». Как пишется по-немецки, не знаю. После накачек Хенрика бедные ребята собирали собственные собрания, ссорились и каялись, давали слово совсемсовсем не опаздывать и работать еще упорнее. Понятно, что Хенрик организовал работу из рук вон плохо, а мальчики и девочки элементарно непрофессиональны. Понятно, что мне привычен совсем другой образ: человек одной рукой набирает текст, другой держит телефонную трубку, третьей сигарету, четвертой листает книжку, а пятой жестикулирует, потому что болтает с приятелем. Я и сама такая. При этом полновесные статьи, а не двенадцать строчек он сдает в срок, не сидит в редакции до трех ночи, а редакция за ненадобностью не заключает договор с таксофирмой. Но каждый из ребят мог мне сказать с полным правом: вы-то сюда нанялись в обслугу, потому что со своими «полновесными статьями» нормально заработать не можете! Верно, строча в месяц больше, чем все авторы гламура, вместе взятые, шестисот долларов я не зарабатываю. Понятно, что ребята писать вовсе не умеют. С единственного номера я собрала урожай стилистических и 174 смысловых анекдотов, как со вступительных сочинений целого потока. Орфографию-пунктуацию мне разрешено было править самостоятельно, а более существенные изменения следовало обязательно согласовывать с авторами. И я шла объясняться. Модную кофейню автор хвалил в таких выражениях: «Это наилучший уголок для задумчивости после внезапного свидания». Что вам приходит в голову? Вот и мне то же самое. О певице, не то манекенщице другой автор сообщал: «У всех есть черные дыры, прикосновение к которым вызывает боль. Есть своя дыра и у Такой-то». Третий автор – о модном адвокате (тот нашел нужным запечатлеться в гламуре в докторской шапочке и с самурайским мечом, и теперь удивляешься, что за клоун «защищает интересы правительства в Верховном суде»): «На кухне за приготовлением суши у Такого-то выстроился план диссертации по конституционному праву. И через два дня он ее блестяще защитил!». Разбирательство выявило: автор не подозревал, что диссертацию нельзя защитить через два дня после выработки плана. И – во что уже трудновато поверить, но тем не менее: автор вообще не знал, что такое диссертация. В просветительском порыве я чуть было не начала растолковывать, но вовремя одумалась: это я со своей «блестяще защищенной» диссертацией хожу у девочки в обслуге, а не она у меня. Выставили меня через месяц. Вежливо, впрочем: «Вы же сами понимаете, что мы не сработались». Как не понять. Сергей Гандлевский: "А можно, я не буду придумывать объяснение? У меня уйдет на это масса времени и сил…" Из-за спины авторитета Есть такой удобный способ думать и говорить, вернее, говорить, не думая, – из-за спины авторитета. Правда, спина эта широка и загораживает текущие обстоятельства, но “думающему” это даже на руку: ничто не отвлекает. Вот один уважаемый человек, издатель философских сочинений, как о чёмто само собою разумеющемся говорит об угрозе буржуазности. Через запятую жалуется на трудности издательского дела, связанные с совершенно социалистическими навыками труда и делопроизводства. Переходя за разговором улицу, мы едва уворачиваемся от наших добрых буржуа, которые проносятся в 175 джипах на красный свет пострелять друг в друга. Так буржуазность нам сегодня в первую очередь угрожает или отсутствие её? Ещё пример. В Екатеринбургском университете на стене в уборной нацарапано: “Бог умер”. Что так скоро? Эти граффити, я знаю, не редкость в американских учебных заведениях. Но в Америке, вероятно, официальная пресная религиозность в зубах навязла, а у нас ещё десять лет назад Библию изымали при обыске. Не рано ли цитировать Ницше? Или. Эмигранты-интеллектуалы с двадцатилетним стажем жизни в той же Америке жалуются на политическую корректность: цензура, ползучий тоталитаризм и т. д. Им виднее. Но почему отечественные газетчики время от времени подтрунивают над политической корректностью? И это в стране, где на заборе можно прочесть “бей жидов”, “пидорас” – расхожее уличное ругательство, и достаточно быть брюнетом с трёхдневной щетиной, чтобы тебя поманил пальцем постовой милиционер. Не рано ли надмеваться? Во всех приведённых случаях, а у меня таких наблюдений немало в запасе, люди говорят разное, но роднит эти разношёрстные высказывания одно: говорится всегда понаслышке, из-за спины авторитета, собственный опыт в расчёт не принимается. Константин Леонтьев действительно не любил западную “пиджачную цивилизацию”. Но это было давно, он не знал, что альтернатива “пиджачной цивилизации” – цивилизация телогреек с номерами, а мы знаем, должны бы знать: ведь мы старше на целую советскую историю. Чтобы снисходительно, как к ребячеству, относиться к демократическим ценностям и пренебрежительно о них отзываться, их надо хотя бы иметь; нам до этого далеко. Поэтому и снисхождение, и пренебрежение – ни что иное, как басенное “виноград зелен”, ущерб, насмешка над недосягаемым. Я не обольщаюсь: демократические ценности – не мировоззрение; они – средство общественной гигиены. Но без мыла случаются эпидемии. Предвзятому взгляду на вещи, неумению “разуть глаза”, как невежливо выражались в моём детстве, мы обязаны существованием и других предрассудков: например, расхожего мнения, что главная доблесть интеллигента – пикироваться с властями, независимо от того, что за власть и каковы её цели. Или убеждения, что поэт просто обязан быть поэтичным в карикатурно-обывательском смысле слова, 176 даже если предмет, занимающий внимание поэта, далёк от поэзии. Но это убеждение тоже не своим умом добыто, а взято напрокат у Серебряного века. В начале нашего столетия искусство, точно старуха из “Сказки о рыбаке и рыбке”, захотело невозможного: стать всем – и бытом, и взаимоотношениями людей, и религией. Закончилось всё тем же, чем и сказка. Символизм растаял ещё при жизни современников, не выдержав собственной неопределённости. Оттуда, а не из классически-определённого ХIХ века и досталось нам представление, что нет такой причины, которая позволила бы поэту изменить поэтичности, что поэту противопоказан житейский здравый смысл, гражданская практичность. Не Пушкин, а, в лучшем случае, трогательный романтик – Ленский-Пастернак – вот представление обывателя о настоящем Поэте. Революция оборвала русскую культуру на Серебряном веке и сделала его запретным плодом. Когда идеологическое послабление позволило оглянуться назад, многие засмотрелись прежде всего на Серебряный век. Заезженный школьной программой ХIХ век – Золотой – даже несколько померк в глазах первооткрывателей русского декаданса. Пряность декадентского быта охотно приняли за поэтичную поэтическую цельность и горение. Валерий Брюсов, поэт и маг, с умыслом подарил своей брошенной и склоняющейся к самоубийству любовнице револьвер, которым она вскоре и воспользовалась. С точки зрения рутинного романтизма Брюсов поступил поэтично: имморализм декадентской поэзии он впустил в будничную жизнь. Но известно и другое творческое поведение. В одних мемуарах я прочёл письмо старого человека к племяннице. Дядя поздравлял её с окончанием психиатрических курсов и радовался, что она будет лечить людей от безумия, возвращать их к нормальной жизни. Письмо ничем не замечательно, кроме подписи: Лев Шестов. Получается, что блистательный мыслитель, ненавистник разума, наделённый смелостью и силой воображения дай Бог всякому поэту, не считал идейным двурушничеством в философских трудах бороться с нормой, а в быту одобрять её. Если это и двурушничество, то с традицией: “кесарево кесарю, а Божие Богу”. Показательно, что Брюсов был не более, чем стихотворцем, а Шестов – великим философом. И это почти закономерность: чем смелее вымысел, чем удачнее приводит человек в исполнение свои фантазии понарошку, в искусстве, тем разумнее и будничнее его житейские притязания, включая гражданские. И 177 наоборот: у недотёп от искусства фантазия удержу не знает на общественном поприще: диктаторы нашего столетия – крайний, но символичный пример. Бесчеловечно требовать от общества воплощения в жизнь чьей-либо поэтической неврастении или даже высокого вдохновения – “тогда б не мог и мир существовать...” Совершенное искусство имеет очень мало точек соприкосновения с обыденной жизнью; совершенство и предполагает самодостаточность. А вот недоискусство как раз любит вторгаться в жизнь. Вконец изменяя своей идеальной природе, оно в то же время привносит в материальный мир привкус иллюзорности, чтобы не сказать бреда. Коэффициент “полезного” действия “Смерти Ивана Ильича” очень сомнителен, а романа “Что делать?” – безусловен. Стихотворение Пушкина “Из Пиндемонти” – шедевр поэзии, а не шпаргалка. Им можно наслаждаться, с него нельзя “делать жизнь“: оно противоречиво. Мы-то, с нашим тоталитарным опытом, должны бы знать, что для существования хотя бы умозрительной возможности “не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи”, “по прихоти своей скитаться здесь и там” и трепетать “пред созданьями искусств”, необходимы – нравятся они нам или нет – все те пошлые свободы, о которых Пушкин так скептически отозвался в начале стихотворения. Без них мы уже “скитались” вместе с программой “Клуб кинопутешествий”, с “созданьями искусств” знакомились за ночь с четвёртой машинописной копии, а на жестоковыйность нашу управа мигом находилась, да мы гусей особенно и не дразнили. Поэзия – сильнодействующее снадобье. В состав её входят впечатлительность и чувство меры; она и от читателя требует тех же качеств. Без культурного иммунитета можно впасть в зависимость от вымысла, как впали в зависимость от водки народы Севера. У Пушкина и поэтов его круга и уровня была поэтическая гордость, а не декадентская гордыня. Они в рифму писали в надежде на “читателя... в потомстве” и “хоть одного пиита” в далёком будущем, не ожидая от стихов пользы и отдачи. Но и о гражданской выгоде не стеснялись заботиться, правда, в соответствующих назначению жанрах. Кто-кто, а Пушкин неукоснительно следил за уместностью высказывания: “...риторические фигуры в каком-нибудь ином сочинении могут быть дурны или хороши, смотря по таланту писателя; но в словаре они во всяком случае нестерпимы.” Разночинско-декадентская путаница понятий во времена 178 Пушкина ещё не была распространённым явлением. Пушкин “Поэта и толпы” и официальной записки о “Народном воспитании” не двуличен, а культурен. Хорошо бы соответствовать – в меру отпущенных каждому способностей. Чтобы не писать скромных прикладных куплетов и выспренних никчёмных заметок. Иначе не видать нам, как своих ушей, ни ”куцей конституции”, ни вдохновенного “всемирного запоя”. Надо позволить себе роскошь думать на свой страх и риск. Сергей Гандлевский Нежестокий талант Скорее всего, у каждого из нас есть добрые знакомые и товарищи. Но с одними из них, при прочих равных, мы чувствуем себя легко и непринужденно, а общение с другими стоит известного напряжения и дается не без труда. То же и в поэзии. Бывают стихи – и талантливые, – от которых почти физически устаёшь, будто долго смотрел на почётный караул. Кажется, что автор взял на себя важные обязательства, встал в позу, причём неудобную, а сменить её – выше его сил. Не такова лирика Льва Лосева. Первое, что бросается в глаза читателю, – Лосев не позирует. Его интонация – эта жестикуляция речи – совершенно соразмерна настроению поэта; он нигде не пережимает, не кричит попусту «волки, волки» – иными словами, ведет себя естественно. Лосев припозднился на праздник поэзии, до поры ему хватало, по его же признанию, «чудных сочинений» ленинградских друзей и сверстников. Но Лосева не смутило, что он пришёл в самый разгар события. У него хватило бодрости духа и весёлости сесть за стол, как ни в чём не бывало, даром что коронные блюда малость заветрились, салаты разворочены, десерт уже подан, кое-где окурки в шпротах, а в воздухе висит такой густой застольный галдёж, что, кажется, слова невозможно вставить. Но именно эта стадия празднества Лосеву и сделалась мила: строй нарушен, всё без чинов, разговор представляет собою гремучую смесь учёности и похабщины, цитаты из классиков перемежаются с дворовыми прибаутками, речь педанта-эрудита перебивают глумливые замечания ёрника и 179 акустика беседы насыщена литературными ассоциациями. Праздником именно такой словесности делится с читателем поэт Лев Лосев. Лосев пишет на языке «дружеских врак». На диковинном наречии советского социального отщепенства. Этим языком он владеет в совершенстве. Вереницу беспечных лирических героев русской поэзии – «праздных гуляк», повес и хулиганов – Лосев дополнил ещё одним обаятельным и новым для неё персонажем – интеллигентом-забулдыгой. Поэт пожалел и приветил речьполукровку – гибрид «классической розы и советского дичка». Существует таинственная связь между поэзией и жалостью. Набоковский Джон Шейд на вопрос, что для него, поэта, слово-пароль, ответил, не задумываясь: «жалость». Есть подозрение, что в поэтическом участии нуждаются, в первую очередь, затрапезные явления – жизнь с приметами ущерба: проходные дворы, пересуды в трамвае, будничная нервотрёпка, редкие минуты беспечности, Внезапный в тучах перерыв, неправильная строчка Блока, советской песенки мотив среди кварталов шлакоблока А совершенство доводить до ума средствами искусства нет надобности: оно уже совершенно. Капустничество, кураж, малогабаритный карнавал – шутовское облачение такого серьёзного и сущностного для лирики качества, как непринужденность. Стихи Лосева застрахованы от стремительного старения и пародирования. Этот стиль трудно перерасти, подытожить и передразнить – он и без постороннего вмешательства подмигивает каждым словом. Удельный вес современного фольклора велик здесь чрезвычайно. Отчего эти беспризорные речения придают литературе привкус достоверности, я сказать не берусь, но только это так. Советское народное творчество просвечивает сквозь многие строки Лосева. Соображения благопристойности делают для критика затруднительным прилюдный подробный разбор некоторых речевых прототипов лосевской лирики, поскольку среди них – даже надписи в общественных туалетах, но внимательному читателю с советским прошлым придёт на память и 180 детсадовское детство, и пионерское отрочество, и армейская или студенческая юность. И вся эта разношерстная, подчас скоромная лексика интонируется автором по-своему, звучит очень на лосевский лад. Для пишущего обретение своей интонации, собственного голоса – событие, равносильное освобождению: теперь он волен говорить о чём заблагорассудится. Уже не преходящая тема будет делать произведение значительным, не прилежное следование литературному канону современной поэту поры, а одно только «личное присутствие» автора, то есть произнесение им чего бы то ни было. В литературе появляется поэтическая личность, и литература незамедлительно даёт утвердительный ответ на наш главный, требовательный и тревожный, вопрос: «Есть здесь кто живой?» Поэзия умеет вбирать в лёгкие израсходованную речь и выдыхать её, оживив, обогатив кислородом. Оправдав и воскресив утилизированный было язык, а значит и то, что за ним стоит. И читателю уже не важно: в первосортную эпоху трудился поэт или во второсортную – всюду жизнь, жизнь как-никак. А раз так – поэты реабилитируют свое время и его обитателей. Вот и Лев Лосев, получается, замолвил слово за довольно посредственные времена. Надо иметь подлинное дарование, чтобы в кухонном многоглаголании и зубоскальстве – в сотрясении водуха – различить лирическую ноту, которую – теперь она и нам слышна – мы уже не забудем. Сама камерность лосевского писательства – вызов русской литературе, знаменитой громадьём своих намерений, издевательство над школьной темой «О назначении поэта». Он, Лосев, и есть заклеймённый Лениным «пописывающий писатель». Но, как это ни парадоксально, лучший из известных мне образец гражданской лирики за последнее время принадлежит перу Льва Лосева. В том числе и потому, что написаны стихи не трибуном-профессионалом в сознании собственного долга и общественной значимости, а частным лицом, дилетантом. Вообще, к слову сказать, я убеждён, что психический дилетантизм – хорошее противоядие от нарочитости, и всякого рода вкусовых издержек узкой специализации – и залог внутренней свободы. Привожу помянутое стихотворение полностью: 181 «Извини, что украла», – говорю я воровке; «Обязуюсь не говорить о верёвке», – говорю палачу. Вот, подванивая, низколобая проблядь Канта мне комментирует и Нагорную Проповедь. Я молчу. Чтоб взамен этой ржави, полей в клопоморе вновь бы Волга катилась в Каспийское море, вновь бы лошади ели овёс, чтоб над родиной облако славы лучилось, чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось. А язык не отсохнет авось. Читатели Лосева становятся свидетелями замечательного и многозначительного превращения: стихи на случай, обаятельные пустяки, филологические дурачества на наших глазах выплёскиваются за переплёт альбома и впадают в течение отечественной поэзии, отчего она только выигрывает. Еще Честертон заметил, что множество начинаний, замышлявшихся на века, забывалось до обидного скоро, а затеянному от нечего делать, смеха ради случалось пережить поколение – и не одно. От родительского жанра – альбома – стих поэта унаследовал щегольство, склонность к словесной эквилибристике, делающей лирику Лосева, помимо всего прочего, наглядной энциклопедией русской версификации. Эмиграция, может статься, вопреки советскому предрассудку, помогает слогу быть в форме. Чужбина прививает бережность к родному языку – ведь он под угрозой забывания – и, в то же время, оделяет дополнительным зрением, взглядом на родной язык, как на иностранный; на живой, как на мёртвый. Бродский сказал: «Именно в эмиграции я остался тет-а-тет с языком». Пускает пузыри, развивается и мужает недоросль-язык, конечно, дома, но лоск и вышколенность, случается, приобретает «в людях», заграницей. 182 Творчество Льва Лосева имеет непосредственное отношение к старинной смеховой традиции. А у неё в обычае проверять на прочность окружённые безоговорочным почитанием культурные авторитеты и установления. Посылать их, простите за выражение, «путём зерна». Подлинным ценностям такое унижение идёт только на пользу, участь дутых величин – незавидна. Артистичное глумление Лосева, отсутствие у него благочестивого – с придыханием – отношения к великой литературе прошлого объясняется предельной насущностью её содержания, а всё предельно насущное стоит очистительной ереси. В стихотворении «Джентрификация» исторический процесс предстал Лосеву безрадостным замкнутым кругом: Как только нас тоска последняя прошьёт, век девятнадцатый вернётся и реку вновь впряжёт, закат окно фабричное прожжёт, и на щеках рабочего народца взойдёт заря туберкулёза, и заскулит ошпаренный щенок, и запоют станки многоголосо, и заснуёт челнок, и застучат колёса. Ответом на такой мировоззренческий мрак могут быть или отчаяние или мрачная весёлость. Лев Лосев выбрал второе. Он действительно очень весёлый и мрачный писатель. Лирика по большей части ведёт речь о грустном – об одиночестве, утратах, ущербе и скоротечности жизни. Но та же лирика даёт и уроки мужества, научает терпению, примиряет с жизнью. Этот парадокс верен и применительно к поэзии Льва Лосева. Редкий и драгоценный дар: утешать, не вводя в заблуждение, ничего особенно утешительного не сообщая. «Чем же претворяется горечь в утешение?» – 183 задался вопросом Ходасевич. И сам себе ответил: «Созерцанием творческого акта – ничем более». Меланхолическая наблюдательность, восприимчивость к постороннему эстетическому опыту, историко-культурное чутьё исключают для Льва Лосева представление о себе, как о первооткрывателе, о собственной речи – как о первозданной. Для него само собою разумеется, что пишущий складывает «чужую песню», главное – произнести её «как свою». У лирики Лосева длинная литературная предыстория, каждое его стихотворение надежно и сознательно укоренено в словесности. Вот, например: Жизнь подносила огромные дули с наваром. Вот ты доехал до Ultima Thule cо своим самоваром. Щепочки, точечки, всё торопливое (взятое в скобку) – все, выясняется, здесь пригодится на топливо или растопку. Сизо-прозрачный, приятный, отеческий вьётся. Льётся горячее, очень горячее льётся. Прекрасные стихи, обычное лосевское хитросплетение: всего-то три четверостишия – но здесь и античность, и русская поговорка, и каламбур, и грубая идиома, и явная отсылка к Державину, и неявная, но, на мой взгляд, ключевая – к «Самовару» Вяземского. Может быть, некоторый биографический параллелизм дружб и судеб, отстоящих друг от друга на полтора столетия, привлек внимание автора и он понарошку, по-писательски присматривается к этой симметрии. Жанр здравицы, который я сегодня осваиваю, менее всего предполагает педантизм и препирательство с чествуемым лицом. Хозяин – барин, Вяземский так 184 Вяземский. Во любом случае, одна, самая общая, причина для подобного сближения очевидна сразу, без литературоведческих разысканий. Вспомним трогательные строки из седьмой главы «Евгения Онегина»: У скучной тетки Таню встретя, К ней как-то Вяземский подсел И душу ей занять успел... Талант Льва Лосева занимает душу. Михаил Айзенберг: «Любой литературный текст, кроме прочего, должен заключать в себе какую-то фигуру: ритмическую и сюжетную. (Идеально, если они совпадают). В данном случае такую фигуру образует, как мне кажется, естественное – без швов и разрывов – изменение угла зрения: от «новостного повода» к достаточно широкому обобщению». Вакация поэта В этой статье вопросов будет больше, чем ответов. Возможно, ответов не будет вовсе. И это немного неожиданно, потому что темой обсуждения являются именно ответы: ответы ста литераторов на предложение «Русского журнала» (колонка «Курицын-weekly») назвать десять лучших современных поэтов, пишущих на русском языке. Из числа живущих и – желательно – активно работающих. Мне тоже прислали такой запрос, но я почему-то не отозвался. Предприятие показалось мне сомнительным. Состязательность не идет стихам, она здесь некстати. На мой взгляд, «поэзия» – одно из тех слов, значения которого никак не определены заранее и порой несовместимы. Кто-то играет темами, кем-то владеет Тема: постепенно подчиняет себе, меняет состав, делает своим орудием. Как их сравнивать? Это совершенно разные профессии. Но потом ругаешь себя за чистоплюйство. Может, твой голос – «сотым до сотни» – мог на что-то повлиять? Только на что? Опубликованные списки представляют картину довольно странную. То есть картины и нет, она не 185 складывается, есть рассыпанный puzzle. Самым предсказуемым оказался выбор ведущих критиков: в основном лауреаты последних конкурсов. Грустно, что люди, чьей профессией по определению являются личный вкус и смелость суждений, боятся на шаг отступить от устоявшегося корпоративного мнения. В других ответах заметно, как художественные предпочтения борются с дружескими чувствами и чувствами иного рода. Часто имена используют как орудия, поднимают как штандарт своего полка. Молодые называют молодых, петербуржцы петербуржцев, и т.д. Это не радует, плодотворно, на мой взгляд, только перекрестное опыление. Порой невозможно понять, какой эстетический закон соединяет такие разные имена в один список. Некоторые фамилии мне не знакомы (что, разумеется, ни о чем не говорит), некоторые знакомы, но я не знал, что их носители пишут стихи. Кое-кто вносит в список свое имя. По-моему, не смешно. Между тем, смотреть на результаты довольно интересно. Нужно только переставить акценты и задать какие-то дополнительные вопросы. Например, откуда взялась эта цифра – 10? Может быть, из знаменитой статьи Юрия Тынянова «Промежуток», где тоже названы десять поэтов-современников? Это увлекательный обзор новой поэзии по состоянию на 1924 год, перечень авторов вполне представителен, но не вполне – на сегодняшний взгляд – объясним. Есть Сельвинский, Тихонов, Асеев, нет Кузмина, Клюева, Цветаевой, не говоря уже о Белом или Сологубе. Поэтому не стоит удивляться, что в нашем опросе Шиш Брянский опережает по числу голосов Всеволода Некрасова, а Ярослав Могутин – Михаила Еремина или Сергея Стратановского. Результаты общественных опросов вообще не предмет удивления или, не дай Бог, возмущения. Но при желании – предмет рассмотрения. Если такое желание есть, можно предварительно заглянуть в тыняновскую статью и прикинуть, сколько еще авторов мы смогли бы добавить к десяти его фаворитам? Ну, еще десять. Предполагая необычайный разброс мнений – еще двадцать (это уже с Городецким и Пястом). А теперь я сообщаю о количестве авторов, которых некая экспертная группа (не важно, насколько компетентная) готова считать лучшими поэтами: чуть меньше двухсот пятидесяти. Только тех, чья фамилия начинается на К, – двадцать девять человек. Что бы это значило? Правда, Лев Лосев (один из призеров опроса) пишет, что в России никогда еще не было такого количества хороших поэтов. Язвительности в его высказывании не заметно, но конечно же он имеет в виду, 186 скорее, техническое умение и владение навыками версификации. То есть даже определение «хороший» надо бы взять в кавычки. Но экспертов-то запрашивали не о хороших (даже без кавычек) авторах, но о лучших. Дикая цифра нуждается, на мой взгляд, в каком-то объяснении. У меня таких объяснений два, первое восходит к внешним обстоятельствам, второе к внутренним. Первое: в России, как известно, ничего не кончается, одна современность не спешит сменить другую и не замыкается в собственных границах. (Сравнительно недавно в молодежном поэтическом клубе шел разговор о концептуализме, самые горячие – но не самые умные – головы призывали просто к физическому устранению основных фигурантов, и никакие указания на почтенный возраст явления их не охлаждали). Искусство занимает все большее пространство. Вероятно, какие-то фигуры не различимы для тебя не потому, что их нет, а потому что они – за линией горизонта. На другом конце поля. Да, это можно предположить. Только поверить в это невозможно. Невозможно смириться с таким пониманием искусства, которое замыкает его в границах личного восприятия – исторически ограниченного и индивидуально дефектного. Но есть, увы, и второе объяснение. «Где умный человек прячет лист? – спрашивал патер Браун, – В лесу. Если нет леса, он его сажает. И если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес». Есть, воля ваша, что-то пугающее в небывалом количественном росте «лучших поэтов». Такой рост подходит только призраку. Похоже, что большинство людей, участвовавших в опросе, так и считают: поэзия – призрак. Упраздненная реальность, условность. Им кажется, что это просто так. Что стихи – это буквы на бумаге: все черненькие, все прыгают. Все приблизительно одинаковы. И наши арбитры выглядели бы не глупее честертоновского героя, если бы под сотнями фамилий действительно закапывали что-то мертвое. Но они закапывают живое, и живому – там, внизу – уже трудно вздохнуть. Есть деятели культуры, понимающие культуру как архитектурную декорацию на задах исторической сцены. Медленно, но верно вращается поворотный круг, на смену одним расписным выплывают другие, а то, что недавно было в центре, уже почти за кулисами. Но кое-что еще можно разглядеть. Различима, например, культурная ниша с надписью «поэзия». Она пуста, но ее можно заполнить какой-либо аллегорической фигурой. Не важно, какой. 187 Этот слишком широко понятый эгалитаризм на самом деле достаточно опасен. Результаты арбитража – не просто и не только столкновение разных вкусов. Это еще таблица популярности, график растущего или убывающего успеха. Но в такой толкучке и неразберихе успех не обязательно завоевывать: его можно распределять. По взаимной договоренности (а желающие, поверьте, найдутся, – уже нашлись). Поэтический успех становится «вещью без свойств», – пустой вещью. Когда «вакансия поэта» занята условно, опасность, о которой говорил Пастернак, меняет свою природу. Условно занятая клеточка-вакансия несет в себе другую (мнимую) жизнь, разрастаясь и пожирая здоровые ткани. Это, к счастью, не диагноз. Поэзию никак не удается поместить в литературную кунсткамеру. Она не угасает и сейчас как будто приходит в себя после недолгого обморока. «Наступающая ныне эпоха будет эпохой бунта упраздненных реальностей. Мы переживаем возврат времен» (О.Пас). И когда они вернутся, «лучших поэтов» окажется, я уверен, на порядок меньше. Николай Байтов: «Я написал этот текст для устного доклада, но его не сделал, потому что в тот день Инна попала в аварию. Ничего страшного в итоге не случилось, просто такое совпадение обстоятельств. Тут, конечно, есть некоторое полемическое заострение...» ВНУТРЕННЯЯ ЛИТЕРАТУРА КАК БОЛЕЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ Когда мы говорим о «внутренней литературе» как о болезненном состоянии, нам первым делом приходит в голову термин «графомания». С формальной стороны, это хорошее слово: «одержимость письмом», – а его вторая половина включает в себя и представление о болезненных изменениях в психике пишущего. Но если взять в полноте обиходное значение этого термина, то оно совсем неудовлетворительно, ибо сопряжено в бытующих употреблениях с массой посторонних оттенков. Попробуем перечислить хотя бы главные из этих лишних (т. е. необязательных) обертонов: графоман пишет много; графоман уверен, что он пишет хорошо или, по крайней мере, не хуже таких-то и таких-то образцов; 188 графоман обязательно желает славы, признания, публикаций – и т.д.; графоман морально ущербен в предыдущем пункте: он обижен и уверен, что ему недодают – славы, признания, публикаций – и всего подобного; суммарный пункт: графоман смешон, и в его осмеянии присутствует оттенок жалости: он жалок и смешон; отрицательный пункт: в силу влияния предыдущего пункта, никогда никем не ставился вопрос о действительной болезненности графомана, о его психической неадекватности и тем более о возможных способах его лечения или – за отсутствием таковых – о способах его социальной защиты. Теперь, перечислив эти пункты, я вижу, что моя задача проста: я должен описать графоманию в точном значении этого слова, т. е. устранив все эти усвоенные бытовым сознанием примеси. И здесь, естественно, я буду прежде всего опираться на собственный писательский опыт. Для начала мне следует оговориться. – Я отнюдь не считаю, что все или хотя бы большинство писателей – графоманы. Наоборот, внимательно наблюдая литературу, я прихожу к мнению, что большая часть пишущих контролирует себя тем или иным способом и остаётся в рамках психической и социальной нормы. И однако же, число «изменённых» людей достаточно велико для того, чтобы я мог уверенно обобщить свой феномен. Именно это и побуждает меня к производству данного текста: уверенность, что он будет опознан и принят многими. Мне было примерно десять лет, когда у меня сложилось отчётливое убеждение в том, что главной деятельностью всей моей последующей жизни будет писательство. Откуда взялось это убеждение – неизвестно, его истоки мне не удаётся проследить. В моё время большинство детей хотело стать космонавтами. Я могу высказать только спекулятивное предположение, что, быть может, русская читательская традиция в большей мере присваивает автору его текст, чем любая другая. Автор вполне видимо стоит за текстом и им управляет. Автор обращается к читателю. Он имеет своё выразительное лицо, претендующее на читательское внимание и уважение. Автор, следовательно, есть лицо «героическое». Для сравнения можно представить ребёнка, рассматривающего комиксы или играющего в компьютерные игры. Рискну утверждать, что мечта о жизненном пути автора комиксов или компьютерных игр характеризуется вероятностью на несколько порядков меньшей, чем мечта о писательстве, – по крайней мере, в русском её 189 варианте. Я повторяю, что это лишь предположение, и я не берусь сейчас исследовать статус автора в европейской или американской читательских традициях. Есть у меня чувство, что графоманов – как и предпосылок к графомании – в западной литературе намного меньше, чем в русской. В восточных литературах – арабской, китайской, индийской – их, пожалуй, и совсем нет. Итак, я постулировал, что истоком графомании является некая детская героическая мечта. Однако этого совсем не достаточно. Мало ли какие мечты посещают ребёнка и проходят, как облака, не оставляя следов. Необходимы, наверное, другие предпосылки в виде особенностей характера и психики, за которые мечта могла бы зацепиться. И здесь я становлюсь в тупик. Соображения тщеславия, очевидно, недостаточны, ибо тогда ничего не стоило бы удовлетвориться образом какого-нибудь артиста или, опять же, космонавта, или тех же Битлов, которые были в то время повсюду и представлялись столь же легендарными, как Солженицын. Может быть, у истоков графомании лежит детская заинтересованность языком, которая впоследствии при каких-то условиях переходит в одержимость. А при каких условиях?… – Ничего не берусь ответить. Мои родители не приветствовали мою писанину. В лучшем случае они настороженно молчали, в худшем высмеивали. Когда я стал постарше, они принялись повторять мне, что писательство не может быть профессией: оно допустимо только как маргинальная деятельность, параллельная с какой-нибудь – научной, например, – работой. Теперь я вижу, что в этом утверждении содержится бездна смыслов. Не знаю, удастся ли мне их все разложить в отчётливый спектр. – Прежде всего, мои родители были весьма далеки от конформизма – как бытового, так и политического. Они были инакомыслящими и инакоживущими. Когда они высказывались о писательстве как профессии, они, в первую очередь, имели в виду образ советского писателя-функционера, лауреата и члена, ангажированного идеологией, а сказать грубее, то попросту стукача, ангажированного КГБ (в то время много печатался и читался Кочетов). «Этот путь для тебя закрыт», – жёстко говорили они, и я, даже в пятнадцать лет, очень хорошо понимал, что они подразумевают. Во всяком случае, для меня очень рано героический образ сместился в «солженицынскую» сторону: т. е. писатель-герой стал гонимым, отверженным и непечаты-уа-емым, – а стало быть, будучи «подпольщиком», он, конечно, нуждался в некоем социальном камуфляже в виде посторонней профессии, которая взгляду советских органов могла быть 190 представлена как «основная» (ведь был же прецедент осуждения Бродского за тунеядство! Это – одна область смыслов, содержавшихся в родительских увещаниях. Впрочем, они её не конкретизировали, а говорили кратко и подходя, по видимости, совсем с другой стороны: «если писатель будет только писателем, то ему не о чем будет писать», – я же, повторяю, понимал всё так, как сказано в предыдущем абзаце. Но есть и другая область, которую мои родители совсем не учитывали и которую я и сам начал осознавать только недавно. – Возьмём этого самого писателя-функционера, советского члена- корреспондента человеческих душ. Ведь он же никак не может быть графоманом, ибо подлежит пристальному контролю и, стало быть, самоконтролю, без которого рискует попросту своей головой. Одержимость языком для него убийственна. Это подтверждено многими примерами: погиб Платонов, Цветаева, погибли Добычин, Булгаков, Хармс, Мандельштам. Погибли все, кто не применяли инженерию в писательстве. Более того, – погибли многие, кто и применял инженерию, но неправильно. Сам термин «графомания» со всеми его привходящими нюансами, перечисленными выше, выкристаллизовался, я думаю, именно в сталинскую литературную эпоху как критическое клеймо, оттиснутое на всём, что не учитывает партийно-идеологического контроля. Или тоньше будет сказать, что до войны это именовалось сознательным вредительством или своего рода «отрицательной инженерией», а уж в пятидесятые годы, когда ослабли радикальные методы исправления, – тогда стали говорить «графомания»: то есть сей человек смешон – и сажать его не стоит мараться, и лечить можно не беспокоиться, пусть себе, дескать, занимается онанизмом. Таким образом, мои родители, когда говорили о запрещённости писательского статуса, сами того не ведая, культивировали во мне «графоманию» как подпольную и невидимую свободу, где язык в частном, домашнем порядке может делать всё, что ему хочется. Именно отсюда, из этих родительских наставлений, хотя и косвенным образом, во мне зародилась и начала развиваться идея о самодостаточности искусства, которая постепенно выросла в настоящий пафос бессмысленного. «Ведь мы играем не из денег, а только б вечность проводить», – думал я, и искусство всё яснее представлялось мне как священная игра, может быть, спортивная, может быть, это даже некий танец перед лицом Божиим, ни к кому, кроме Бога, не обращённый и ни для чего другого не 191 предназначенный. Всякое произведение, преследующее какую-либо цель, кроме чистой игры, со временем стало казаться мне низким и презренным: суетным, неуклюжим, унылым. И я ни в коем случае не хотел уподобляться рабам, не ведающим своего рабства или с удовольствием в нём сидящим и воспевающим его... «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, вспоминая Израиля… Како воспою песнь Господню в земле чуждей?»… – Интересно отметить, что эти настроения очень быстро разрушили во мне всякий юношеский романтизм, и даже вообще лирику, и привели меня к некой разновидности концептуализма, что ли… Но это уже разговор, слишком далеко уводящий за рамки взятой здесь темы… Моих родителей нужно простить: они занимались математикой и естественными науками и потому не знали, что язык есть тиран пострашней Сталина, КГБ или царя Навуходоносора, державшего евреев в вавилонском пленении, – не знали, что язык гораздо быстрее может изломать человека и поработить его. Однако же прошло более пятнадцати лет, прежде чем я почувствовал в себе необратимые и тревожные изменения. – Я окончил математический институт, а филологические науки проходил бессистемно и самоучкой, как и подобает настоящему графоману и «провинциалу» в литературе, – и всё это очень мало меня беспокоило. По временам я бывал довольно сильно увлечён своей «основной» специальностью. Следы математического снобизма остаются во мне до сих пор, хотя я уже и всю математику давно забыл. В своей поэзии и прозе я наслаждался многими минутами самого чистого вдохновения, и оно не омрачалось ни отсутствием публикаций и читателей, ни литературнотусовочным вакуумом, в котором я беззаботно пребывал. Конечно, случайное самообразование и практически никакой кругозор-контекст-обмен сильно тормозили моё продвижение к явственному эстетическому самоконтролю. Но всё же я как-то плыл в этом направлении, а скорость меня не волновала, поскольку не с чем было сравнить. И нельзя сказать, чтобы я писал легко и неряшливо, – напротив, я ставил себе трудные задачи и получал удовлетворение только тогда, когда эта трудность бывала вполне преодолена в соответствии с моим представлением о качестве. Также и оценки мои постоянно менялись. Я не помню случая, чтобы какое-либо сочинение из написанных в тот период нравилось мне дольше пяти лет. Обычно же мои опусы «жили» всего два-три года, а затем браковались мною и приговаривались к забвению или даже уничтожению. Тогда был в моде самиздат, и я тоже печатал себя на машинке, переплетал в книжечки и 192 дарил нескольким друзьям. Вероятно, я вкладывал в это какую-то душевную энергию, потому что самиздатский навык надолго во мне запечатлелся, пережил свою эпоху и впоследствии трансформировался в мой интерес к book-art'у. Но я до сих пор не понимаю, зачем нужно много читателей. Если теперь мне требуется сто экземпляров какой-нибудь моей книжки, а не десять, как раньше, то эта цифра определяется только расширившимся кругом моих знакомых и уважаемых мною лиц, в мнении которых я заинтересован. Все остальные, «умозрительные», читатели для меня вполне абстрактны и не вызывают никаких чувств. Когда в конце 80-х годов начались мои публикации, то они, совершенно неожиданно для меня, не принесли мне никакой радости, – именно потому, что терялись в какой-то расплывчатой безликой массе и не попадали к тем людям, к которым я хотел бы. Первые признаки писательского дискомфорта я почувствовал в возрасте примерно тридцати пяти лет. Только начиная с этого момента можно говорить о заболевании, ибо, по моему мнению, лишь субъективно переживаемые неудобства могут служить объективным критерием «болезненности» того или иного состояния. К этому времени закончилась, по-видимому, фаза моего ученичества и студийной работы, и я уже полностью стал осознавать и контролировать своё письмо. Некоторые мои создания получались такими жизнеспособными, что я не видел для них впереди обычной процедуры переоценки и браковки: они очевидно для меня приобретали устойчивость к любым изменениям моих вкусов и суждений. С этими впечатлениями связаны и гораздо большая затруднённость литературной работы, и гораздо меньшее удовольствие от письма. Вдохновение, которое, которое по-прежнему сопровождало всякий замысел, всё реже и слабее продлевалось в его исполнении. Я стал нервничать. Мне требовалась бoльшая концентрация на проектах, а многие обстоятельства моей жизни, которых я раньше почти не замечал, теперь воспринимались как помехи и раздражали меня. Постепенно я начал деконструировать своё общественное положение, ещё не сознавая, что этот путь не сокращает число помех, а лишь переводит их из внешней области во внутреннюю. Но для человека, который по-настоящему захотел очистить искусство от любых посторонних «интересов», этот путь «житейской редукции», по-видимому, неизбежен. Только надо идти по нему ещё дальше – в совсем безвоздушные и бесчувственные сферы… Итак, я отказался от работы по специальности (впрочем, я никогда и не думал сделать там карьеру) и существенно сократил свои заработки, затем почти вовсе устранился от 193 воспитания своих детей, затем свёл к минимуму все «нелитературные» контакты, прервал общение со многими родственниками и друзьями. При этом, естественно, у меня образовался комплекс вины, какой бывает, наверное, у алкоголиков. Я стал более чувствителен к моим человеческим обязанностям, как я себе их представлял, а переживания, связанные с моей житейской неполноценностью, сделались мне новым препятствием для литературной работы. Всё чаще «спокойствие духа», некое незамутнённое состояние, стало мне мыслиться как обязательное и исключительное условие, необходимое для воплощения тех или иных проектов, и стало требоваться моей душой просто для того, чтобы я мог хотя бы приступить к работе. Это условие не выполнялось. Мне приходилось, чтобы только начать писать, предпринимать множество приготовлений: уединяться, «отключаться», погружаться в безмыслие на протяжении нескольких дней, вести как бы «растительную жизнь», прежде чем я чувствовал себя способным взять карандаш и трепетной рукой нанести несколько слов на белый лист, – слов, в которых я ещё совершенно не был уверен, ещё колебался туда и сюда во всевозможных сомнениях. Какие же нечеловеческие усилия требовались, чтобы написать длинную вещь, допустим, поэму или большую прозу, которую заведомо нельзя сделать «в один сеанс», а нужно прерываться и затем, после ритуала приготовлений, каждый раз заново приводить себя в состояние, от которого что-то тебя отвлекло! Постепенно мне ненавистна стала реальность: всё чаще я стал мыслить её как агрессивную среду, даже хамскую, которая вторгается ко мне, чегото без конца требует, ломает меня, не даёт выполнить то единственное, ради чего я ещё живу, единственное, что у меня ещё осталось в оправдание моего никчемного существования… Вместе с ненавистью к реальности появилась и фобия, которая вскоре привела меня к полнейшей дезориентации и непониманию происходящего. Я утратил способность к самым простым действиям: куда-то пойти, с кем-то поговорить, что-то выяснить, чего-то добиться, – всё это перестало у меня получаться, потому что я абсолютно не знал, куда и в каких случаях мне следует идти, с кем и как говорить. Я стал бояться уже и собственного непонимания: я начал всюду подозревать некую скрытую сторону, не постижимую для меня ни при каких условиях, но которой, тем не менее, есть до меня дело, которая всё время грозит мне чем-то неведомым и отвратительным, хочет поработить меня, – я же перед ней беззащитен, потому что не понимаю ничего. (Похожий, наверное, тип душевного расстройства описан Набоковым в рассказе 194 «Знаки и символы».) Если принять во внимание, что время моего коллапса совпало с временем взрыва – общественного и технологического, – то не увидится ничего странного в любых самых фантастических образах, которыми можно было бы живописать разлом между мной и жизнью, обстоящей меня. Сейчас, вырабатывая этот текст, я сознательно ухожу от всего экстраординарного и чрезмерного, потому что я полагаю, что моё заболевание сравнительно широко распространено и ничего уж такого индивидуально-трагического в нём нет. Поэтому я просто пишу, что вижу себя окружённым пугающими монстрами в виде компьютеров, фильмов, музыки, политики, коммерции, мафии, христианских и нехристианских сект, да и всего остального. Утрачены и разрушены почти все мои связи с внешним миром. С компьютерами я прекратил общение в 87-м году, когда ещё только начинались у нас персональные модели. Я работал на больших машинах серии ЕС, и сейчас даже и не могу заставить себя подойти к экрану и нажать какую-нибудь кнопку.. Слово «картридж», которое то и дело употребляет в разговоре мой сын, вызывает во мне филологическую и моральную панику. Во всех явлениях, с которыми я сталкиваюсь, я начал подозревать двойственность: неравенство, нетождество видимости предмета и его сущности. Когда я вижу нищего, я думаю, что это не нищий. То же самое я думаю, видя милиционера, министра, журналиста, депутата, президента – и так далее. Недавно ко мне домой явились два «свидетеля Иеговы», и, после того, как я с ними беседовал целый час и они ушли, я вдруг, сопоставив все их реплики и действия, отчётливо понял, что это были не люди, а какие-то сущности, чуждые вообще всему человеческому, типа тех «союзников», которых описывал Кастанеда. Самое ужасное – что я их не призывал и не искал с ними встречи, не хотел перенять у них какую-нибудь силу. Они мне абсолютно не нужны, как и всё остальное. Тем не менее, они сами ко мне пришли, вторглись и возмутили мою душу своим часовым разговором до такой степени, что я более суток не мог успокоиться и не мог ни о чём думать кроме всё тех же спорных с ними вопросов. Накапливаясь, нагромождаясь друг на друга, эти страхи и бессилие перед жизнью, то разваливающейся в руках, то ускользающей, словно она издевается надо мной, – привели к тому, в свою очередь, что я уже совершенно стал неспособен что-нибудь написать. Как будто уже не я, а само письмо во мне покорёжилось: от обид и боязней, происходящих от бесконечных насильственных вторжений в него, оно перестало принимать любые предметы себе в пищу: как 195 будто письмо отравилось и его рвёт непрерывно от всего, что ему ни дай: всё отвратительно, чужеродно и ненавистно. Посему вся моя графомания к настоящему времени свелась к одному перманентному, «чистому» состоянию: это состояние ненависти, злобы и отчаяния по поводу того, что я ничего не пишу… Да, я попытался в этом беглом очерке дать себе отчёт в том, как это произошло со мной и как это, возможно, происходит с другими. Быть может, я упустил из виду многие важные детали, но трудно самому больному, особенно с изменённой психикой, определять свой диагноз, анамнез, эпикриз – или что ещё там бывает? Тем более, что я не вижу никаких способов лечения и никаких путей, выводящих из этого тупика, – а не вижу, наверное, потому, что не соглашусь ни при каких условиях отказаться от своей мании. Ибо эта мания – больше, чем привычка, больше, чем образ жизни, даже больше, чем наркотическая зависимость: эта мания – единственное, что вообще у меня осталось. Ян Шенкман: «Насчет интервью я согу сказать вот что: окончательный текст должен быть макимально удален от расшифровки. Однажды я выяснил, что мой диктофон умер в самом начале беседы. Несколько минут было отчаяние, а потом я понял: надо написать пьесу с этим героем. В результате он сказал, что нигде еще его мысли не были выражены так точно». Метр семьдесят и метр девяносто Широкой публике о Дмитрии Быкове известны вещи яркие, но не вполне стыкующиеся друг с другом: состоял в Ордене куртуазных маньеристов и подвергся физическому нападению за одну из своих публикаций; получил благодарственное письмо от Ельцина и судился с Кобзоном по делу о клевете; ведет на ТВЦ программу «ХОРОШО БЫков» и является автором романа «Оправдание», одной из самых значительных книг этого года. Вокруг «Оправдания» разгорелись целые общественно-политические баталии. Людям с тоталитарными взглядами больше всего понравилась первая половина этой нетолстой книги. Либералы же хвалили разоблачающую концовку романа. Остальные – их как всегда 196 большинство – ждут, чтобы критики разъяснили им позицию автора. Артемий Троицкий так высказался по этому поводу: – Поначалу книга Быкова вызвала у меня активное неприятие и даже отвращение. Его теория о подготовке суперкадров из особо стойких зеков – жуткий бред. Но когда я дочитал до конца, оказалось, что это и есть бред персонажа, страдающего навязчивой идеей. Автор настолько иезуитским способом доказывает невозможность оправдать террор с помощью ницшеанства, что на каком-то этапе начинаешь верить в возможность этого оправдания. Такая ситуация почти со всеми текстами Быкова. Если читать этого автора отрывочно, легко принять его не за того, кем он является, и услышать совсем не то, что он хочет сказать. Больше десяти лет я знаком с Дмитрием Быковым. Все это время он поражал меня разнообразием своих взглядов. С завораживающей непоследовательностью высмеивал он власть предержащих, после чего брал у них комплиментарные интервью. Обрушивался на антисемитов и делал намеки на существование еврейского заговора. Критиковал мещанство и обывательщину, призывая в то же время следовать консервативным ценностям. Легче всего на основании этой неразборчивости обвинить Быкова в цинизме и даже продажности. Так и поступают его оппоненты. Но мне кажется, тут дело сложнее. Ведь Быков лишь формально защищает противоположные точки зрения. На самом же деле проповедует определенное отношение к жизни, в которой кроме черного и белого есть масса других цветов. Несмотря на обилие публицистических выступлений, у него до сих пор не было возможности изложить свои взгляды на жизнь безотносительно информационного повода. Первой попыткой сделать это и является роман «Оправдание». Есть и еще аргумент в его пользу, основанный на жизненных наблюдениях. Быков набирает свои статьи со скоростью профессиональной машинистки, это я видел собственными глазами. Только машинистка перепечатывает чужое, а Быков сочиняет свое. Выдавать дватри значительных текста в день физически почти невозможно. Чтобы все-таки делать это, надо иметь четкие нравственные установки и не выяснять каждый раз «что же я думаю по этому поводу». У Быкова установки есть. Потому и плодовит он необыкновенно. За последние годы Быков выпустил несколько полновесных стихотворных сборников, не считая ошеломляющего количества статей в периодике и перманентного присутствия на телеэкране. Плюс роман, о котором сказано выше. И если раньше можно было мириться с тем, что позиция Быкова не до конца проговорена и может быть истолкована каждым в зависимости от его убеждений, то теперь ситуация изменилась. Дело, похоже, идет к тому, что он будет признан одним из самых значительных, а значит авторитетных литераторов 197 поколения. Авторитет – вещь ответственная. Она обязывает Быкова объясниться с читателем начистоту. Это я и предложил ему сделать. – Литератор рано или поздно задумывается о масштабах своей аудитории. В России этот вопрос всегда считали особенно важным. Некоторым кажется, что к ним прислушивается вся страна. Другие с гордостью заявляют, что пишут для узкого круга. Третьи творят для вечности. Как ты решаешь эту проблему? – Сегодняшние тиражи в 10-30 тысяч точно отражают процент людей, всерьез интересующихся литературой. Это процентное соотношение в стране не менялось со времен Пушкина. Я восхищаюсь писателями, которые думают, что пишут для вечности. Но вечность – капризная дама. Приведу пример. Во времена Константина Вагинова и Леонида Добычина было много писателей как минимум не хуже, чем они. Однако именно Вагинов и Добычин стали сейчас символами ленинградской литературы конца 20-х – начала 30-х. – Выходит, литературные достоинства – не самое главное? – Выходит, так. Не меньшую роль, чем сам текст, играет личное обаяние писателя. Юнна Мориц рассказала мне замечательную историю. Она приехала в дом творчества, и ее посадили за стол с очень старой писательницей, с которой никто не хотел сидеть, потому что у нее не было зубов и она некрасиво ела. Но Мориц три недели просидела с ней рядом и не обратила на это внимания. То, что писательница говорила, было само по себе так красиво, что неважно, как она ела. Человек, который живет литературой, по определению красив. – Когда-то ты произнес странную фразу: «Писать, как и мочиться, надо обильно». Что имелось в виду? – То, что и было сказано. Писать надо много и часто. Это, кстати, влияет и на качество. Разумеется, в лучшую сторону. У меня осторожное отношение к писателям, которые годами вынашивают свои сочинения. Скажем, «Кысь» – роман, который писался 14 лет. Я очень уважаю Татьяну Толстую, но нечего там было писать 14 лет, так мне кажется. Шостакович говорил: «Зачем мучиться, когда можно написать плохое сочинение, а потом хорошее?». Можно написать плохой роман, потом хороший, потом еще лучше. Антон Чехов поучал молодого Бунина: «Если вы начнете хорошо, куда вам тогда расти?». – А лично ты много в своей жизни написал барахла? 198 – Порядочно. Но я не делаю вид, что мои статьи – литературные шедевры. Самое главное в них – оперативность. У меня и рубрика в «Русском журнале» называется «Быков-quickly» по аналогии с «Курицын-weekly». Там я выдаю мгновенную реакцию на события. Пишу и тут же отсылаю, иногда даже не перечитывая. – Когда пишешь с такой скоростью, проскакивает огромное количество брака. – Но это брак словесный, а не идейный. Я не вру, ошибаясь. Ошибаюсь, но при этом не вру. – Наш с тобой учитель Игорь Волгин говорил мне: «Литература – это такая странная штука, где что и есть как. А как есть что». Он, выходит, не прав? – Прав. У идейно слабых вещей не бывает блестящей формы. Достаточно сказать, что «Майн Кампф» – очень скучная, слабая книга. – Из твоего романа можно сделать вывод, что террор тридцатых годов оправдан великой литературой. Это так? – Странная задача для литературы – оправдывать террор. Роман мой как раз о том, как герой попытался оправдать террор и был за это наказан. Идея простенькая: у убийства нет оправдания. – А ведь в своих статьях ты и сам периодически оправдываешь сильных мира сего… – Террор я не оправдывал никогда. Государство, согласен, бывало. – Можно сказать, что этим романом ты ударил сам себя по рукам? – «Оправдание», конечно, борьба с самим собой, со своим имперским комплексом и массой других заблуждений. «Война и мир» – ведь тоже борьба Толстого со своими комплексами. Лев Николаевич, как известно, поначалу очень верил в роль личности в истории и был уверен, что ему, Толстому, предназначено перевернуть мир. Так что в романе он не с Наполеоном спорит, а, скорее, с самим собой. Впрочем, и либерал Сперанский ему так же несимпатичен, как французский диктатор. С гораздо большей приязнью он сосредотачивает свое внимание на жертвах истории, жертвах идеологии. – Получается, что в спорах между тоталитарной и либеральной идеологиями рождается не истина, а что-то совсем иное? – К этому я и веду. Не так давно в «Новом мире» Владимир Бондаренко 199 писал: «Чем не верить ни во что, лучше верить в «Спартак»». То есть лучше быть фанатом Спартака, чем не быть фанатом вообще. Критик Никита Елисеев, последовательный либерал, ему возражает: «Конечно, лучше не верить ни во что. Тогда гораздо меньше соблазнов замарать себя большой кровью». Но верить в «Спартак» или не верить ни во что – это выбор дьявола, выбор из двух одинаковых зол. Отсутствие веры и рождает веру в «Спартак». Фашизм, я считаю, подготовлен релятивизмом. Нынешний апофеоз Никиты Михалкова подготовлен такими людьми, как Иван Охлобыстин. Любой человек диктаторского толка подготовлен релятивистами. Об этом писал еще Томас Манн: эстет расчищает дорогу варвару. Отсюда моя ненависть к демократии, которую мы имеем. Но это не значит, что я когда-нибудь сочту нормальными идеи Проханова. Это две омерзительные крайности. – И обе они, замечу, одинаково далеки от той веры, которая содержится в Библии. – Библия Библии рознь. На мой взгляд, существует неразрешимое противоречие между Ветхим и Новым Заветом. Наиболее внятно обозначено оно в книге Розанова и Флоренского «Осязательное и обонятельное отношение евреев к крови». Книга – о деле Бейлиса. Книга по сути своей черносотенная. Как к ней ни подходи, эту книгу оправдать нельзя. Но мысль, высказанная в ней Флоренским, – великая мысль. Заключается она в следующем. Адресатом Ветхого завета является избранный народ, евреи. И тема его – как выжить еврею. Адресат Нового завета – все человечество. Тема – как выжить человеку в изначально неправильном мире. Если для Ветхого Завета мир постулируется как единственно возможный, то для Нового мир лежит во зле. И единственное наше оружие, как писал Синявский, – наша смерть, которую мы можем бросить в лицо этому миру. Мы лучше умрем, чем будем жить по его законам. – Выходит, Новый Завет не слишком позитивная книжка. – Попытки внести в нее позитив обречены на провал. Розанов писал, что всю жизнь хотел «вырастить кормящие груди на теле христианства». В итоге получился у него странный гермафродит, чего в принципе быть не может. Не может быть плодородной кормящей груди у религии, которая вся устремлена к гибели, к самопожертвованию. – Что же в этом хорошего? Разве не полагается кормящая грудь женщине, а мужчине – мужское достоинство? И разве нормально для 200 человека желание умереть? – Норма, если зашел о ней разговор, заключается в том, чтобы противоречить тупому природному выживанию. Чтобы максимально отличаться от червяка, у которого нет ничего, кроме тела. Михаил Веллер написал замечательную, по-моему, книжку «Все о жизни». Главная ее мысль: жизнь – это хорошо, но есть вещи и поважнее. Взгляды Быкова непросто объяснить людям, для которых выживание – проблема не умозрительная. Но нет в них ничего и от декадентства с его любовью к распаду. Быков руководствуется, вероятно, рассуждением из собственного романа: «Мучительство – единственный способ дать человеку сверхличную цель. Ведь в благополучии он способен заботиться только о личной, а человек устроен так, что на метр семьдесят он прыгнет, только если планка поставлена на метр девяносто». В этом, видимо, цель явно провокативных статей Быкова и его не менее провокативного «Оправдания». В том, чтобы вывести сознание читателя за грань возможного, за пределы здравого смысла. Согласно его концепции, только за этой гранью человек становится человеком, существом, свободным от вериг обстоятельств. Для этой цели, считает Быков, годятся любые средства. Такова его точка зрения. Цель, которую преследует Быков, несомненно благородная. Но важно отдавать себе отчет в ее чисто литературной, художественной природе. Ведь, как ни крути, а логика искусства плохо соотносится с социальными реалиями, моралью и вообще логикой жизни. И если, скажем, жить по «Герою нашего времени» или картинам Босха, недолго сойти с ума, тем более в наши дни. Мне кажется, что сегодня, когда от понятия нормы и так почти ничего не осталось, ежедневно испытывать его на прочность – занятие странное и несколько неуместное. Иллюзия цельности и осмысленности происходящего и без дополнительных усилий не выдерживает напора времени, развившего такую скорость, будто кто-то нарочно задался целью вызвать у нас головокруженье и выбить остатки разума из наших голов... 201 Интервью Яна Шенкмана Прогулка с Гребенщиковым Дмитрий Дибров очень любит Гребенщикова. Он часто приглашает его в прямые эфиры, берет интервью, а теперь вот снял кино с рабочим названием «Питерский рок», где БГ исполняет роль гида по Ленинграду. О Гребенщикове и месте в истории сняты десятки полнометражных фильмов. Зачем нужен еще один? – В конце восьмидесятых, – объясняет Дибров, – русский рок был, мягко говоря, недооценен телевидением, несмотря на усилия супругов Максимовых в «Музыкальном ринге» и Белы Курковой из «Пятого колеса». Цензура не дала запечатлеть это явление в полном объеме. А потом натура ушла, и теперь, сколько не снимай – все мало. Перебора здесь быть не может. Надо сделать не десятки, а сотни фильмов, чтоб наверстать упущенное и осознать, что же на самом деле происходило тогда в Петербурге. – Когда Оливер Стоун снял фильм «The Doors», было ощущение, что он пропустил золотые шестидесятые, пока воевал во Вьетнаме, дико завидует и пытается отыграться средствами кинематографа. Может, и вас была такая же мотивация? – Не может. Нельзя сказать, что я жил на другой планете, пока шли ревущие восьмидесятые, и хочу компенсировать это. Те годы я прошел вместе со всеми и был единственным корреспондентом ТАСС, который сообщил о четвертом фестивале рок-клуба, а это дорогого стоит, ведь тассовка – официоз, узаконивание явления. Много лет я разрушал представление о попсовости телевидения, первым показал Чижа в эфире «Свежего ветра» и вообще вел себя альтернативно. А что касается зависти… Я никогда и не скрывал, что завидую, но не временам и людям, а конкретному человеку – Борису Гребенщикову. Так же, как ему, завидую еще только троим: Достоевскому, Пастернаку и Бродскому. – Чтобы сказать сегодня нечто новое о БГ, надо или стебаться, или придумать какой-то сверхнеожиданный поворот, как сделал Тихомиров в фильме «БГ. Лев Толстой». По какому пути пошли вы? – Стебаться над Гребенщиковым у меня язык бы не повернулся. А идея была простой: мы с Борисом ходим по Ленинграду, и он показывает мне места боевой славы. Например, поляну возле Смольного монастыря, где они с Майком воткнули 202 палку в болотистый грунт, прикрутили изолентой микрофон и записали первый альбом русского рока – «Все братья-сестры». Или скамейку возле факультета прикладной математики ЛГУ. Недалеко от этого места находится психбольница, и пациенты выходили к скамейке беседовать с аквариумистами, ожидавшими репетиции. Шаг за шагом из гребенщиковских рассказов встает история ленинградского рока. Мы видим странные разрушенные здания с отшелушенной штукатуркой. БГ говорит, что эти экстерьеры, оскорбительные для европейского глаза, – лишь декорации драмы духа, а дух, как известно, живет, где хочет, и земного притяжения не имеет. Убогая обстановка рождает желание быть богом, такая у него мысль. – Убожества в России полно. Но отчего именно Питеру так сказочно повезло с рок-н-роллом? – Для меня ответ прост: там родился Гребенщиков. Родился, прожил пятьдесят лет и написал массу гениальных песен. Принято считать, что Питер – мрачный суицидальный город, непонятно зачем построенный на болотах. Таково расхожее мнение, но лично мне он всегда казался солнечным, доброжелательным и открытым. – С чего это вдруг? – Объясню. До того, как стать ведущим, я лет шесть проработал режиссером на телевидении. И когда нас просили снять что-нибудь фирменное, мы понимали это так – нужен желтый цвет. В российской архитектуре этот цвет практически не встречается. Какие угодно есть: коричневый, синий, салатовый, невообразимые цвета, которыми выкрашены панели детских садов и провинциальных школ… Все, кроме желтого, а в Питере он на каждом шагу. И еще – Петербург всегда был краеугольным камнем отечественной чувственности. Как только у московского ловеласа заводилась душенька, он первым делом вез ее в Питер. Так было всегда: в Москве Россия работает, в Петербурге живет душой. – Фильм, как я понял, вышел у вас ностальгический, благо есть о чем ностальгировать. А вот, скажем, лет через двадцать будет о чем снимать такое кино? – Да все о том же, о Господи! Ничего ведь не изменилось, как повторял Боря во время съемок. Есть в фильме характерный эпизод, подтверждающий это: меня и Гребенщикова милиционер прогоняет с Охтинского моста, когда мы цитируем песню из «Треугольника»: 203 Со злым тараканом один на один Ты бьешься бесстрашен и прост. Среди осьминогов, моржей и сардин, Прекрасный, как Охтинский мост. И в эту секунду подходит милиционер. Я робко интересуюсь: «Нельзя снимать?». «Нельзя». «Почему? Это что, военный объект, часть противоракетной обороны страны?». «Не знаю, а только нельзя». На таких вот вещах и рождается русский рок. – Будь это так, страна кишела бы гребенщиковыми, башлачевыми, цоями. Но на убогой почве чаще рождаются «Отпетые мошенники» или «Стрелки». Такое безрыбье сейчас, что хоть «Мумий Тролль» слушай. – В этом безрыбье сам Борька и виноват. Русский рок-н-ролл – целиком и полностью его произведение, а люди поняли Гребенщикова так: можно писать песни, смысл которых непонятен даже их автору. Ошибочка! Борис оттого не понимает своих текстов, что им руководит Господь. А его подражателям тексты диктует Маммона. Сегодня за петербургский рок в ночных клубах Москвы платят примерно столько же, сколько попсе за их нехитрые двухходовки. И петербургские рокеры думают о московских долларах с таким же остервенением, как их эстетические оппоненты. Сочиняя песню, они спрашивают себя только об одном: пройдет или не пройдет в эфир, формат или не формат? По сути это та же цензура, просто идеология сменилась коммерцией, вот и все. Когда рокеры поют сегодня что-то вроде: «Нашла коса на камень, идет борьба за память лет», – ими руководит доллар. А если так, то чем они отличаются от попсы? Да ничем. – Ну вот. А говорите, что ничего не меняется. Психология изменилась, изменился, кстати, и Питер. Карты города, по которой Гребенщиков путешествовал лет тридцать назад, уже просто не существует. Нет «Сайгона», давно закрылся пивбар «Аквариум», давший название группе, а то, что осталось, само на себя не похоже. Тем более в юбилейные дни... – Грешным делом и у меня мелькнула такая мысль: все ушло, как вода сквозь песок. Когда мы зашли в помещение рок-клуба на Рубинштейна, то обнаружили, что там теперь базируется театр «Зазеркалье». И в знаменитом овальном зеркале, где отражался Борька и Майк, во время детских спектаклей мелькают ребячьи физиономии. Я расстроился и спросил Бориса: «Неужели все 204 было зря?». А он говорит: «Как же зря? Песни-то наши остались». – Гребенщиков, как известно, терпеть не может двух вещей: давать интервью и сниматься в кино. Тем более в ностальгическом. Неужели ваша затея не вызвала у него раздражения? – Боюсь, вы не знаете Борю. Боря – живой махатма. Ничто у него сегодня не может вызвать раздражение. Мы имеем дело с совершенно уникальным психофизическим аппаратом. – Но что же в сухом остатке: этот аппарат доволен своим городом или нет? – Судите сами, вот цитата из фильма: «У Петербурга очень мрачная аура. Но когда поднимаешься на вертолете метров на триста, аура уходит, и город такой милый, такой захолустный». Я бы не сказал, что это очень благостное заявление. Чем-то оно сродни стихам Бродского: «Лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик». Хотя я не знаю человека, который боготворил бы Питер сильней, чем Боря Гребенщиков. – Как же объяснить это противоречье? – Так же, как и большинство поступков Бориса. Я думаю, что причина в топографии Петербурга. Его геометрически правильные формы рождают непреодолимую тягу к абсурду, к парадоксу, к противоречию. Боре, как всем рок-нролльным людям, скучно, когда мир вокруг слишком правильный. Он обожает делать непредсказуемые заявления и вообще то, чего от него не ждут. Так вели себя классики жанра: Моррисон, Боуи, Леннон. Будда, кстати, был тоже не чужд абсурда. Рустам Рахматуллин: «Здесь мне более, чем в других своих изысканиях, удалось поговорить не о камнях, а о людях. Развернуть материал к читателю». СРЕТЕНКА ГЕРОЕВ 1. Домовладельческая фабула История домовладений изучает встречи в пространстве событий и людей, не обязательно встречавшихся во времени. Есть интуиция, что каждый дом находит и 205 переменяет своих жильцов, от малых до великих, по сложно сочиненной фабуле. Назовем ее домовладельческой. Большая Лубянка, древняя Сретенка, 14 – точка встречи судеб и событий, разведенных во времени на две сотни лет. Ровно на две – эту ровность мы помним со школы, когда выучивали даты изгнания поляков и французов. Краевед Тастевен еще в 1911 году писал: «Не напрашивается ли само собою сопоставление, на расстоянии двух веков – 1612 – 1812, – громких имен князя Пожарского, который избавил Россию от ига поляков, и графа Ростопчина, который своим знаменитым распоряжением жечь Москву, чем он лишил Великую Армию продовольствия, принудил последнюю к отступлению?» Отнюдь не очевидное сопоставление (ведь не московский губернатор Ростопчин, а князь Кутузов равняется с Пожарским званием спасителя Отечества) немедля обосновывается Тастевеном: «Но совпадение еще любопытнее от того факта, что дом графа Ростопчина находился (мы скажем: находится. – Авт.) как раз на месте бывшего владения князя Пожарского. Таким образом получается тесная связь между событиями 1612 и 1812 годов». То есть связь, видимая лишь историку домовладений. ЧАСТЬ I 2. Пожарский двор Стилистически дом на Лубянке отмечает середину этого двухвекового срока. Здесь перезрелое (как резные гроздья винограда, обвившего колонки второго этажа) нарышкинское барокко служит архитектурным знаком петровского рубежа эпох. Знаком 1700-го, а лучше 1712 года – равноудаленного от двух освободительных кампаний года извержения столицы в Петербург. Жаль, мы не знаем точно, кто (Нарышкины? Голицыны? Хованские?) были заказчиками этого программного фасада, где предчувствие барокко европейского сильно настолько, что романтическое краеведение XIX века назначает автором постройки самого Растрелли. Куда яснее представляем мы предшествующую и последующую историю этого дома. Именно дома, а не только домовладения, ибо современные исследователи склонны думать, что палаты Пожарского частично сохранились в 206 составе дома Ростопчина. Наружная стена этого дома – зеркало барокко, в котором видят друг друга два героя и их эпохи. Оговорим подробности топографические. Пожарский двор был втрое больше: ростопчинский занимает его среднюю треть. Двор разделился еще в XVII столетии. Треть дальнюю по улице (№ 16) вероятно сам Пожарский передал подворью Макарьева монастыря, и в глубине двора стоят палаты этого подворья. Оставшееся разделили надвое наследники пресекшихся Пожарских Голицыны. Ближняя половина (№ 12) застроена теперь значительным в истории архитектуры домом «Динамо» по проекту Фомина. Снесенный ради этой «пролетарской классики» прекрасный дом 3-й Мужской гимназии, прежде голицынский, имел наружность XVIII века, но мог быть и пожарской древности. Тем драгоценней части XVII века в средней трети Пожарского двора, в доме Ростопчина. Эти камни могут помнить и 1611 год, а в нем - два дня Страстной недели в марте, девятнадцатое и двадцатое, когда Пожарский во главе восстания Москвы возвысился в глазах России. 3. Московское восстание Иноплеменный гарнизон уже полгода стоял в Москве, вместе с синклитом седьмочисленных бояр напрасно ожидая на престол польского королевича. Время достаточное, чтобы прочая Москва успела пожалеть о клятве Владиславу, готовясь разрешиться от нее, как разрешилось приближавшееся ополчение земли, отряды Ляпунова, Трубецкого и других. Они приблизились; все изменилось для поляков – и для московитов. Первые решили укрепиться на стенах Белого города - вторые восстали против этого намерения. «...Здесь посад обширнее и народ воинственнее, – пишет, разумея Белый город, Самуил Маскевич, автор Дневника событий с польской стороны. – Русские свезли с башен полевые орудия и, расставив их по улицам, обдавали нас огнем. Мы кинемся на них с копьями; а они тотчас загородят улицу столами, лавками, дровами; мы отступим, чтобы выманить их из-за ограды; они преследуют нас, неся в руках столы и лавки, и лишь только заметят, что мы намереваемся обратиться к бою, немедленно заваливают улицу и под защитою своих загородок стреляют по нас из ружей; а другие, будучи в готовности, с кровель, с заборов, из окон, бьют нас самопалами, камнями, дрекольем. Мы, т.е. всадники, не в силах ничего сделать, отступаем; они же нас преследуют и уже припирают к Кремлю. <...> Часть наших 207 сошла с коней и, соединясь с пехотой, разбросала загороды; москвитяне ударились в бегство; только мы мало выиграли; враги снова возвратились к бою и жестоко поражали нас из пушек со всех сторон <...> Мы не могли и не умели придумать, чем пособить себе в такой беде, как вдруг кто-то закричал: «Огня! Огня! Жги дома!» Прервем цитату, чтоб, во-первых, узнать в этих находчивых подсказчиках кого-то из кремлевского синклита (вероятно, Михаила Салтыкова, собственноручно запалившего свой дом), а во-вторых, чтобы взглянуть на те же происшествия глазами летописцев, с другой стороны баррикады. Действительно баррикады, или острожка, устроенного против Введения на Сретенке, то есть поперек улицы между этой церковью и домом Пожарского: «На Устретенской же улице совокупишась с пушкари князь Дмитрий Михайлович Пожарский, и нача с ними <литовскими людьми> битися и их отбиша и в город втопташа, а сами поставиша острог у Веденья Пречистыя Богородицы. <...> Видя жь они Литовские люди мужество и крепкостоятельство Московских людей, начаша зажигати в Белом Городе дворы». «...Подожгли один дом, - продолжает со своей стороны Маскевич: - он не загорелся; подожгли в другой раз, нет успеха, в третий раз, в четвертый, в десятый – все тщетно. <...>Я уверен, что огонь был заколдован.» В летописи гасителем огня выступает Пожарский: «...Там же с ними бился у Введенскаго Острожку и не пропустил их за каменный город прежереченной князь Дмитрий Михайлович Пожарской через весь день (уже второй день восстания. Авт.), и многое время тое страны (той стороны города. - Авт.) не дал жечь, и изнемогша от великих ран паде на землю, и взем его повезоша из города вон к живоначальныя Троице в Сергиев монастырь.» ЧАСТЬ II 4. Имя Пожар Тогдашние раны Пожарского и заставляют его сидеть, вытянув ногу, в знаменитом монументе на Красной площади, где Минин из памяти тех же ран вручает ему меч освободителя. И те же раны позволяют князю, уже на роли аллегории 1812 года, держать кутузовскую паузу, глядя, как все свершается само собой. Действительно, Пожарский предпочел штурму Кремля выжидательную осаду; польский гарнизон закончил людоедством и сдался. 208 «Красная площадь есть приличнейшая для монумента», - настаивал Иван Петрович Мартос. Вряд ли скульптор знал, что Красная рождалась как пожарный плац, долго звалась Пожаром и что изваяние героя с именем Пожарский, став на этой площади лицом к Кремлю, на расстоянии, отмеренном еще Иваном Третьим, – станет ее телесной аллегорией, гением места. Все слова от слова пожар носят страдательный характер, означая либо защиту, либо жертву. Пожарные – гасители, пожарники – погорельцы. Пожарские, ведущие фамилию от погорелой волости, суть погорельские. Князь Дмитрий в 1611 году предстал гасителем, пожарным; но на следующий год его уделом как соправителя страны станет сожженная Москва. В Москве XVII века пожаром, видимо, именовался – а точнее, нарицался этим несобственным именем – оборонительный отступ от всякой крепостной стены. Так, перепись московских дворов, произведенная по миновании Смуты, в 1620 году, не раз употребляет это слово применительно к окрестностям Пожарского двора, от Красной площади довольно удаленным: «Спереди с пожару от колодеза, против Пушечнаго Двора» (Пушечный двор XV века существовал поблизости Пожарского двора почти до ростопчинских лет); «На белом месте от Софеи Премудрости Божии к Стретенской улице спереди с пожару» (церковь Софии, что у Пушечного двора, стоит и сегодня на Пушечной улице); «От Стретенской улицы, против Никольских ворот с пожару дворы» (имеются в виду ворота Китай-города, а не кремлевские того же имени). Едва ли речь идет о погорелье от литовцев. Никольские ворота, Пушечный двор, церковь Софии – все это круг Лубянской площади, а площадь – часть оборонительного плаца Китайгородских стен. Пожаром нарицается теперь кольцо пустот вокруг Кремля и Китай-города, а площадь, разобщающая эти части, скоро возьмет сегодняшнее имя Красной. Казанская икона, сопровождавшая Второе ополчение, пришла в собор своего имени, поставленный на Красной площади, из церкви Введения на Сретенке. В этом переходе прочнеет чувство, что Пожарский своеместен на Красной площади, как на своем дворе; у Казанского собора, как у своей приходской церкви; против Никольских ворот Кремля – как за Никольскими Китая-города. Так мартосовский монумент, знак встречи и воспоминания двух войн, мог быть уместен на Лубянке, против домовладения Пожарского – Ростопчина, в естественном сплетении тех же воспоминаний. 209 Дистанция между Введенским острожком и Красной площадью скрадывается не только в нарицании лубянской местности пожаром, но и в рассказах летописцев и Маскевича о контратаке москвичей, которые с переносными загородками жмут поляков к Кремлю – «в город втопташа». Кремль охраняем противопожарной ширью от огня, но Кремль играющий с огнем наталкивается на собственное охранение. Скажем теперь: аллегорический Пожарский есть защитник всякой части города от всякой загоревшейся. Он гений площадных и уличных пустот, стогн града. Недаром князь Пожарский дан хронистами особенно объемно на картине московского восстания, вызван вперед из сонмища повстанцев. Ампирный александровский аллегоризм изваянного князя Пожарского оказывается согласен со средневековой хроникой Пожарского живого. Изнеможение последнего от ран значит успех литовского поджога и поражение восстания. Поляки жгли Москву четыре дня. (Добавим наперед, что при французах она горела шесть дней.) «Мы были тогда безопасны, – завершает Маскевич, – нас охранял огонь. <...> Смело могу сказать, что в Москве не осталось ни кола, ни двора.» ЧАСТЬ III 5. Растопча Предлагая сопоставить имена князя Пожарского и графа Ростопчина, старинный краевед Тастевен не расслышал собственно имен. А между тем, такое сопоставление упрочивает связь наших героев с жесткой очевидностью. Родоначальником Ростопчиных является Андрей (по другим сведениям Борис) прозванный Растопча, татарин, перешедший на московскую службу в середине XV века. «Растопча» значит именно то, что слышится: Андрей / Борис был истопник великой княгини. Растопча действует огнем и на огонь, а не против и не после огня, как Пожарский. Не будет преувеличением сказать, что память Растопчи стала ядром фамильной памяти Ростопчина. Прибавить и татарский стиль растопки, когда от целых городов не оставалось пня лошадь привязать. 6. Растоп 210 «После отъезда моей семьи я перебрался в свой городской дом, – вспоминает Ростопчин. Семья графа 31 августа эвакуировалась с дачи в Красном Селе, где провела лето). И продолжает: «...Он (Кутузов. – Авт.) оказал мне большую услугу, не пригласив меня на неожиданный военный совет; потому что я тоже высказался бы за отступление<...>. Он написал мне письмо, которое один из его адъютантов <...> привез мне около 8 ч. вечера. Я тотчас призвал обер-полицеймейстера <...> для направления войск кратчайшим путем на рязанскую дорогу; самому же оберполицеймейстеру велел, собрав всех находившихся под его начальством людей, на самом рассвете выйти из Москвы, увозя с собою все 64 пожарные трубы, с их принадлежностями...» Граф не объясняет, зачем это. Историки добавят, что ночью на 2 сентября в доме Ростопчина (а не в казенном губернаторском, что на Тверской) был сбор доверенных агентов московской администрации, распределивших между собой места поджогов. 7. Неопален «Через два дня после нашего прибытия начался пожар... – диктовал Наполеон в изгнании. – На следующий день <...> я выехал верхом и сам распоряжался его тушением. <...> Чтобы увлечь других, я подвергался опасности, волосы и брови мои были обожжены, одежда горела на мне. Но все усилия были напрасны, так как оказалось, что большинство пожарных труб испорчено. Их было около тысячи, а мы нашли среди них, кажется, только одну пригодную. Кроме того, бродяги, нанятые Ростопчиным, бегали повсюду, распространяя огонь головешками, а сильный ветер еще помогал им. Этот ужасный пожар все разорил. Я был готов ко всему, кроме этого. Одно это не было предусмотрено: кто бы подумал, что народ может сжечь свою столицу?» Прыткий поп пустил Москву в растоп – сочинил поговорку москвовед Андрей Балдин. Поговорка следует традиции – известна другая, анаграмматическая: «Был Наполеон неопален, а из Москвы вышел опален». История 1812 года в Москве оказывается историей борьбы Растопа с Неопаленом, чьи волосы и брови обожжены, а одежда горит. Французский император был готов ко всему, кроме того, что его имя, помещенное в русский язык, перевернется, обнажив огненный корень. 211 Язык доказывает нам и невиновность этого Неопалена в гибели города: пожар 1812 года был не палением – топлением. Корень фамилии Ростопчина относится к огню и воде сразу. А топится (в обоих смыслах: разжигается и разжижается) твердое тело, земля. Наконец, сказав «натоплено», мы говорим о воздухе; протопить воздух есть прямое дело растопчи, истопника. Итак, слово «топить» описывает обращение всех четырех стихий. Именно так рисует алхимическое зрелище топления Москвы Наполеон: «Это было огненное море, небо и тучи казались пылающими, горы красного крутящегося пламени, как огромные морские волны, вдруг вскидывались, подымались к пылающему небу и падали затем в огненный океан. (Курсивы наши. – Авт.) О! это было величественнейшее и самое устрашающее зрелище, когда-либо виданное человечеством!!!» Человечество в лице Наполеона наблюдало это зрелище из окон Петровского дворца, на расстоянии около мили от Москвы, прикладывая руку к каменной стене, раскаленной насквозь. 8. Вороново Тем временем граф Ростопчин, проходя с маневрирующей русской армией через собственную подмосковную Вороново на Калужском тракте, сжег там усадебный дом. Услышав дальнюю перестрелку с настигающим Мюратом, граф запалил от костра несколько факелов, вопреки возражениям бывшего тут Ермолова, роздал офицерам, попросил поджечь за него в дорогой ему спальне, сам поджигая в остальных местах, – и через полчаса дом был охвачен пламенем. Запиской на дверях пощаженной церкви Ростопчин заверил неприятеля, что оставит в Воронове только пепел. Из записки Мюрат мог также ведать, что всю московскую недвижимость и ценности на миллион рублей граф оставлял нетронутыми. В самом деле, не горели ни Лубянка, ни Красное село. По мнению французов, граф льстил себя надеждой, что император остановится в его лубянском доме. ЧАСТЬ IV 9. Огнем и мечом 212 Продолжать следить игру зеркал мешает приступ двух решительных вопросов. Во-первых, как это может быть, что совершенно частное домовладение, на совершенно частном месте, выходит центром противостояния обеим оккупациям, местом победных залогов? Во-вторых, как может быть, что это частное домовладение на частном месте держит под контролем распространение огня, то укрощая, то напуская его? (Первый вопрос при этом оттенен, или, напротив, затемнен, загадкой о соседстве странного домовладения с французским и польским костелами; но до загадок ли, когда явилась подлинная тайна?) Второй вопрос поддержан новыми примерами. Не из военной истории взятые, они не позволяют двум тайнам совершенно слиться в одну, военностратегическую тайну. Как военная, тайна раскрывала бы себя в следующих словах: если враг идет с огнем от сердца города, Пожарский двор противится мечом от внешнего пространства; если враг идет с мечом от внешнего пространства, Пожарский двор противится огнем от сердца города; в обоих случаях огонь Москвы сердечен, хотя бы даже внешний враг или изменник (Салтыков) владеет им. Так; но вот невоенный пожар 1737 года был остановлен у иконы Знамения со столба. Икона принадлежала Введенской церкви, что на Сретенке, а столб входил в ограду голицынского дома, ближней трети Пожарского двора. Поистине, Пожарский двор – ограда. Что до средней трети, то уже в эпоху фотографии дом бывший Ростопчина запечатлен под вывеской Правления московского Общества страхования от огня. Пусть эта вывеска снимает пафос тайны и напряжение проникновения в нее. Снять саму тайну она не в состоянии, как, впрочем, и раскрыть ее. Но имена тайны у нас в руках и облегчают путь, бросая на него свой свет. ЧАСТЬ V 10. Огнем и мечом (продолжение) В пятно таинственного света возвращаются герои: Пожарский, светлый человек, душа которого потемки, ибо он не рассказал нам о себе, – и непрерывно 213 говорящий о себе, вообще много говорящий и пишущий Ростопчин, с душой не искренней, но ясной в самой неискренности. Щит и меч против огня, Пожарский несомненен – Ростопчин сомнителен, ибо он есть огненные щит и меч. Сомнительна не жертва города – нет, жертва выше поединка и дает победу, если не дал победу поединок, как Бородино; сомнительно орудие победной жертвы, ибо слепо и не может возвратиться в ножны. Самоопределение Ростопчина в его Записках есть лучшее определение московского пожара: покинутый на произвол судьбы импровизатор, которому поставили темой: «Наполеон и Москва». 11. Сцена с Верещагиным В день оставления Москвы 2 сентября 1812 года перед палатами Ростопчина сошлись люди простого звания, желавшие то ли присутствовать при губернаторском отъезде, то ли сопровождать градоначальника на бой с французом. Как будто бой с литвой, случившийся на этом месте двести лет назад, искал себе зеркального подобия. Все-таки князь Пожарский бился здесь против огня и меча сразу, бился мечом. Граф Ростопчин, действуя огнем против меча, хотел бы думать, что действует и мечом. Вне непосредственного соприкосновения с противником таким мечом сделалась сабля конвоира, таким противником – известный Верещагин и забытый учитель фехтования Мутон. Случившееся памятно благодаря Толстому, хотя его интерпретация события слишком литературна. Честнее было бы послушать самого Ростопчина, хотя бы сам он был не вовсе честен с нами: «...Все они при моем появлении обнажили головы. Я приказал вывести из тюрьмы и привести ко мне купеческого сына Верещагина, автора наполеоновских прокламаций, и еще одного французского фехтовального учителя, по фамилии Мутона, который за свои революционные речи был предан суду и, уже более 3-х недель тому назад, приговорен уголовной палатой к телесному наказанию и к ссылке в Сибирь <...> Обратившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из всего московского населения захотел предать свое отечество; я объявил ему, что он приговорен Сенатом к смертной казни и должен понести ее, – и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова. Тогда, 214 обратившись к Мутону, который, ожидая той же участи, читал молитвы, я сказал ему: «Дарую вам жизнь; ступайте к своим и скажите им, что негодяй, которого я только что наказал, был единственным русским, изменившим своему отечеству». Я провел его к воротам и подал знак народу, чтобы пропустили его. <...> Я сел на лошадь и выехал со двора и с улицы, на которой стоял мой дом». У Льва Толстого эта сцена превратилась в самосуд толпы, возбужденный испугавшимся графом, чтобы самому уехать с заднего крыльца. По справедливости сказать, Толстой передает здесь отношение к Ростопчину самой Москвы, вернувшейся на пепелище. Все чувствовали, что несчастный Верещагин был не так агент французов, как своих, «вечных» французов Кузнецкого Моста, вроде учителя Мутона, против которых все лето принимались меры подозрительности. Улица Кузнецкий Мост кончается у Сретенки, церковь Введения стояла на их углу. Граф Ростопчин словно бы развернул древний острожек Пожарского лицом к Кузнецкому Мосту, так, как развернут самый дом. Граф отвечал на боковые предательские выпады Кузнецкого Моста как на атаку лобовую. Была еще опасность тыловая: французский костел Людовика Святого до сих пор глядит на задний двор графского дома. Больше того: в костеле вопреки желанию супруга и во вред его реноме окормлялась губернаторша, графиня Екатерина Петровна. Настоятель храма, духовник графини аббат Сюрюг не был бонапартистом, но едва ли Ростопчину от этого легчало. Память места, память Введенского острожка не простила Ростопчину профанации. Кроме того, импровизатор должен был остаться автором представления о Наполеоне и Москве, а не вводить себя на роль. Пожар Москвы был ходом этого авторства, причем решившим пьесу ходом. Но автор захотел сыграть какую-нибудь сцену со своим героем. Поскольку выход заезжего французского премьера не предполагался в этом действии, импровизатору подыгрывали два статиста, из которых один не смог сказать ни слова, а другой вспомнил молитву. Сцена не понравилась публике как лишняя, испорченная кроме прочего преждевременным выходом автора. А Ростопчин в своих записках часто произносит слово публика. Произносит по-актерски, не по-губернаторски, разумея зрителей, а не общество. Губернаторство Ростопчина после войны сделалось невозможным, хотя еще два года, даже бойкотируемый светом, он пытался поднимать Москву. Но 215 растопча не действует против и после огня. Против и после действуют пожарные: еще тридцать лет Пожарский стоял у самых важных дел. Ростопчин же от горькой славы поджигателя уехал в реставраторский Париж, где та же слава сделалась сладка, где он ходил русским Нероном и великим патриотом. А возвращаясь умирать в Россию, снова отрицал все - письменно, в брошюре «Правда о пожаре Москвы». 12. Двенадцатые годы Кажется, Ростопчин как человек ни в чем не сходен с тем героем, сравнение с которым диктуется нам зеркалом домовладельческой фабулы. Но дело в том, что и несходен он зеркально. Это смотрятся друг в друга столь похожие и столь различные двенадцатые годы. Ярче всего на разнице двенадцатых годов читается фигура Верещагина. Смутное время принадлежало Верещагиным. Граф Ростопчин, напротив, действовал во время, которое не назовешь сколь-нибудь смутным. Была ли в нашем прошлом минута здоровей, когда единственный, почти необъяснимый Верещагин отыскался в нации Пожарских? Однако нация Пожарских милосердна, а Ростопчин был только справедлив. Пожарский стал во главе войска и народа прежде всего как светлый человек. К исходу Смуты это было чудом. Мы мало знаем о военном гении Пожарского, хотя бы потому, что непонятны и непредставимы эти битвы в городе как в поле, на укрытой снегом или проступившей травами золе Москвы. Но вот кремлевский польский полк, сдавшийся князю Трубецкому, был перебит, а полк, сдавшийся князю Пожарскому, распущен восвояси. Прежде того Пожарский не позволил Трубецкому грабить отпущенных поляками из осажденного Кремля боярынь и детей (среди которых были Михаил Романов с матерью); больше того, распорядился проводить каждых к родным. Первое ополчение не удостоилось победы по недостоинству этого Трубецкого и других вождей. Граф Ростопчин заигрывает этикетное начало дворянской войны, которое усваивал ей, в частности, Пожарский. Так же, как громкими кликами и жестами утрирует немногословный патриотизм князя. Нет, Ростопчин не первый, кто заигрался, ибо заигрался целый XVIII век, где история о Верещагине смотрелась бы безупречно. Но вкус у публики переменился в минуту, на которую граф опоздал: это наступило новое столетие. Нельзя сказать, что граф закрыл собою 216 старое – эта двусмысленная честь досталась декабристам. 1812 год был не концом, а кульминацией дворянских войн, но кульминацией, по драматическому правилу приближенной к развязке 1825 года. Ростопчин был действователь этой кульминации, утрировавший ритуальный, церемониальный аспект войны. Таков же на масштабе европейской карты Бонапарт - тоже позер, актер. Наполеон и Ростопчин нашли друг друга, ибо держались общих правил. Свидетель московского пожара Стендаль, который «с уважением обошел загородный дом графа Растопчина», писал, что «видел деяние, достойное Брута и римлян, достойное своим величием гения того человека, против которого оно было направлено». 13. Золотой дом И в подозрении, что Ростопчин оставил дом Наполеону, и в узнавании другого императора, Нерона, за самим Ростопчиным вновь проявляется действительная исключительность нашего дома. Его, скажем теперь, неявно царский статус. Дому Ростопчина на карте Рима отвечает Золотой дом императора Нерона. Нерон распорядился о поджоге Рима из Золотого дома. С высоты холма и дома император читал стихи, когда пожар взял силу. Собственно, пожар и был затеян в жажде поэтического вдохновения. Для Золотого дома Нерон оставил Палатин. Сказать иначе, Палатинские дворцы продлились Золотым домом, с которым были соединены ходами. Продлились на соседний холм: дворец служил, а подземельные его остатки и ныне служат знаком Эсквилинского холма. Во всяком случае, знаком его отрога, выделяемого с именем Оппий. В Москве Сретенский холм один на роли Оппия и Целия. Принадлежность дома Ростопчина неглименскому стоку питает интуицию, что два холма Москвы – Страстной и Сретенский – прообразуют римские четыре (по другому счету, пять) своими взятыми раздельно склонами. Нас не должно смущать неравенство фигур Нерона и Ростопчина: граф и его дом суть степень проявления знаков «Нерон» и «Золотой дом» в Семихолмии Москвы. 14. Аллегория пожара 217 Римская аналогия подсказывает то же, что и московская домовладельческая фабула с ее зеркальной логикой: граф Ростопчин есть аллегория московского пожара и в этом смысле гений очага. Все свойства графа огненные: театральность, артистизм, позерство, переменчивость, непредсказуемость, подвижность. Ростопчин держал себя живой ампирной аллегорией, произведением наполеоновского, александровского времени. И преуспел – остался аллегорией в культуре, в мифе. Равно в русском и французском мифах, согласно называющих Ростопчина организатором московского пожара. Подобным образом аллегоричен современник графа – монумент Пожарского. И, шире, персонаж национальной мифологии по имени Пожарский. 15. Двор и дом Растоп не вчуже городу, увиденному в полноте материальности, домовья, а не в пустоте дворов и площадей. Городу избяному, где изба есть древнее «истьба», от слова «истопить». Городу теплых очагов и затепленных свечей. Но очаг бывает оставлен, свеча – опрокинута. Вырвавшись из дома, огонь питается домами, телом города, и сдерживается пустотами. Огонь не ходит пустотой (если она не деревянного мощения), а перекидывается через нее от дома к дому. Две противоположности, растоп и пустота, умели, вместе с тем, понять друг друга в русском городе. В нем деревянные дома были окружены дворами, и это тем верней, чем старше времена или чем дальше от столиц. И если в старых временах огонь распространялся в городе из-за избытка деревянного жилья, хотя бы и расставленного редко, то в новых временах – от умаления дворов, от новой плотности жилья, хотя б и каменного. Неслучайно сам язык предпочитает говорить: «Пожарский двор» – но «дом Ростопчина». Пожарский, гений уличного боя, есть гений, аллегория самоё улицы, двора и площади – что называется, стогн града. Уличный бой подле Пожарского двора был из важнейших в жизни князя. Граф Ростопчин, напротив, лучшую минуту своей жизни проживает в доме, вечером, на совещании невидимых агентов, распоряжаясь о растопе города, как собственного очага. Как, позже, собственного дома в Воронове. 218 Следующая минута – уличная сцена с Верещагиным – станет его худшей. На дворе граф растерялся, как растерялся бы на поле боя. Ибо огонь теряется на стогнах града. Тем паче на дворе Пожарского. Растоп, уйдя (а по Толстому, тайно вырвавшись) из дома, превращает городскую материальность в пустоту и так теряет силу. Чем больше воли взял растоп, тем больше силы заберет потом и пустота. И тем сильнейшим вырастет на ней будущий гений уличного боя, выжидательной осады и мирного восстановления. Недаром о Пожарском говорили «вождь земли», об ополчении 1612 года – «поднялась земля». ЧАСТЬ VI 16. Пожар и потоп Как поднимается земля, трактует монумент Пожарского и Минина. Старейший в городе и установленный на главной площади, он ближе прочих к роли изваянного гения Москвы. Конечно, это бесконечное приближение, коль скоро Медный Всадник – то есть демиург целого города – в Москве невозможен. Но московский памятник был утвержден на погорелье 1812 года, когда площадью Пожар могла бы называться вся Москва. Она жила тогда единым духом воссоздания, строительным пожарским духом. Он ослабевал по мере сокращения пожарища под новостройками, локализуясь вновь на Красной площади и площадях центрального полукольца, когда-то также слывшего Пожаром, – на площадях, устроенных благодаря новому погорелью. И все-таки на несколько послевоенных лет московский памятник сравнялся с Медным Всадником по силе представительства за город. Замечено, что Петербург тогда ответил на пожар Москвы потопом, знаменитейшим из всех благодаря Пушкину. Недаром петербургская Комиссия строений отличалась от московской добавлением к названию: «...И гидравлических работ». Недаром гений места Петербурга утвержден не на обычном - на волнообразном камне. Притом что Петр, по смыслу имени, уже есть камень. В монументе это камень на волне, причем бушующей, потопной. Пушкин по 219 примеру Фальконета утвердил кумир Петра на таковой же. На потопе, происшедшем после утверждения московского кумира на пожаре. 17. Последняя встреча героев Князя Пожарского отпели в церкви Введения на Сретенке, графа Ростопчина – в церкви Введения на Лубянке. Это была одна и та же церковь, одна и та же улица. Это была все та же встреча. Последняя встреча героев. * ПРИМЕЧАНИЯ 1: - Краевед Тастевен... в 1911 году говорил - Ф.И. Тастевен. Большая Лубянка и прилегающие к ней улицы в XVII и XVIII столетиях. «Старая Москва», (см. «Белый кречет храма», прим. 3), вып. 2, стр. 83. 3: - ...Пишет... Самуил Маскевич, автор Дневника событий с польской стороны... - в переводе Н.Г. Устрялова (Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Ч. 5, СПб., 1834). Цит. по: «Московский летописец», вып. 1. М., Московский рабочий, 1988, стр. 24. 3: - «На Устретенской же улице совокупишась с пушкари...» - Цитата из «Нового летописца» по: Тастевен, указ. соч., (см. прим. 1), стр. 81. 3: - ...В летописи гасителем огня выступает Пожарский... - Цитата из «Нового летописца» по указ. соч., стр. 83. 4: - ...Настаивал Иван Петрович Мартос... - В письме 1814 года (см. «Явленное средокрестие», прим. 34.) 4: - ...Перепись московских дворов, произведенная по миновании Смуты... - Цитаты по: Тастевен, указ. соч., стр. 80. 6: - ...Вспоминал Ростопчин... - В своих «Записках о 1812 годе» («Русская старина», 1889, № 12, пер. с французского). Цит. по изд.: Ф.В. Ростопчин. Ох, французы! М., «Русская книга» («Советская Россия»), 1992, стр. 305, 308. 6: - ...Историки добавят, что... в доме Ростопчина... был сбор доверенных агентов московской администрации, распределивших между собой места поджогов... - См.: Москва. Энциклопедия. Изд. 2-е, БРЭ, 1997, стр. 643. 7: - ...Диктовал Наполеон в изгнании... - Мемуары Наполеона, продиктованные его врачу О. Меару. - Цит. по: «Московский летописец» (см. прим. 3), стр. 64-65. 220 7: - ...Сочинил поговорку москвовед Андрей Балдин... - См. в его книге «Москва: портрет города в пословицах и поговорках». М., Радуга, 1997, стр. 15. 8: - Поджог Воронова описан очевидцем, английским военным атташе Вильсоном, рассказ которого приводится Лидией Андреевной Ростопчиной (внучкой Федора Васильевича) в «Семейной хронике». Цит. по: О.Ю. Захарова. «Восемь лет я украшал это село...» - Сборник «Мир русской усадьбы» (см. «Шапка и корона», прим. 39), стр. 184-185. 9: - ...Пожар 1737 года был остановлен у иконы Знамения со столба... - См. Паламарчук П.Г. Сорок сороков. Т. 2. М., Книга и бизнес - Кром, 1994, стр. 248 (со ссылкой на М.И. Александровского и Н.А. Гейнике). 10: - Самоопределение Ростопчина в его Записках... - там же (см. прим. 6), стр. 278. 11: - Честнее было бы послушать самого Ростопчина... - Указ. изд. (см. прим. 6), стр. 312 - 313. 12: - Свидетель московского пожара Стендаль, который «с уважением обошел загородный дом графа Ростопчина», писал... - Цит. по: А.Д. Михайлов. Стендаль и Москва. Сборник «Москва в русской и мировой литературе». М., Наследие, 2000, стр. 63. * Газетный вариант: «НГ», 11.01.99. АВТОР: ЛЕОНИД КОСТЮКОВ 221