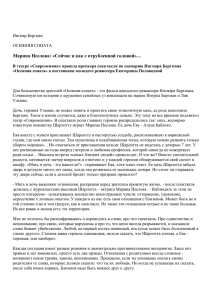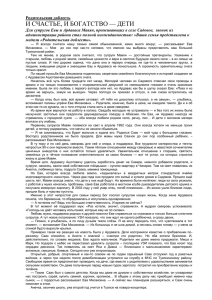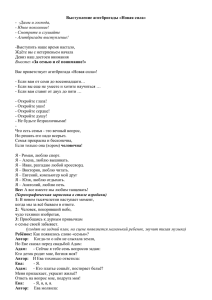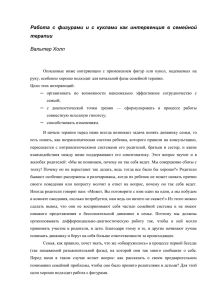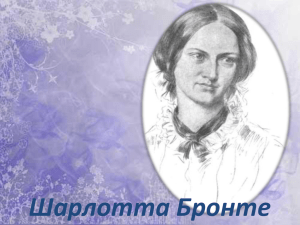Ингмар Бергман
реклама
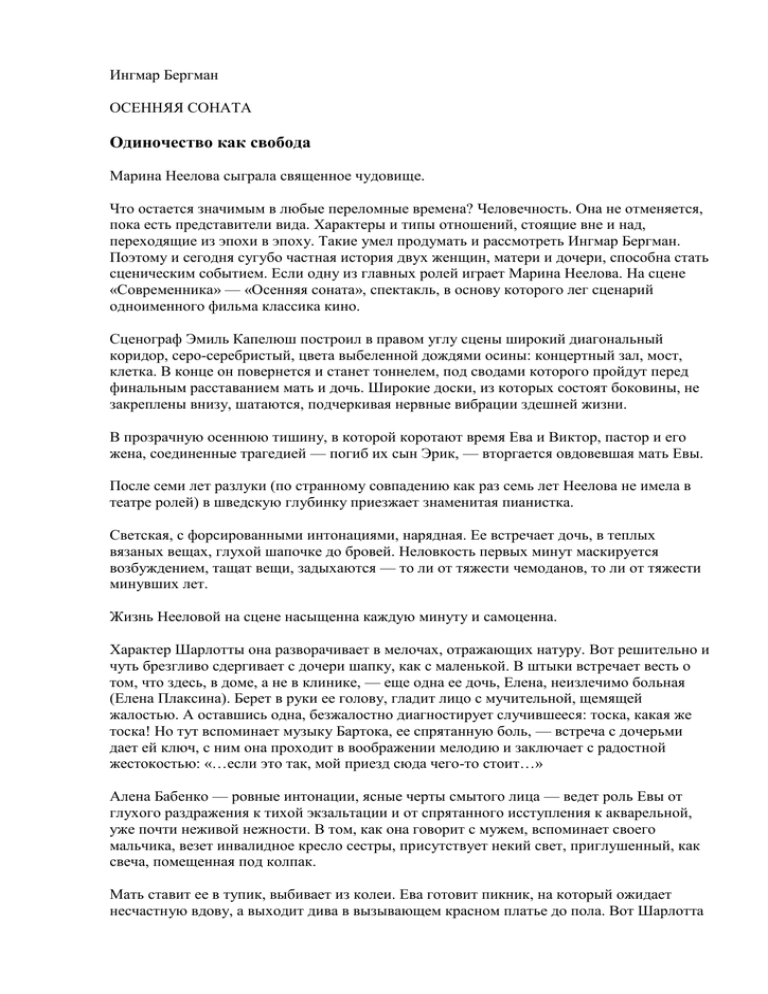
Ингмар Бергман ОСЕННЯЯ СОНАТА Одиночество как свобода Марина Неелова сыграла священное чудовищe. Что остается значимым в любые переломные времена? Человечность. Она не отменяется, пока есть представители вида. Характеры и типы отношений, стоящие вне и над, переходящие из эпохи в эпоху. Такие умел продумать и рассмотреть Ингмар Бергман. Поэтому и сегодня сугубо частная история двух женщин, матери и дочери, способна стать сценическим событием. Если одну из главных ролей играет Марина Неелова. На сцене «Современника» — «Осенняя соната», спектакль, в основу которого лег сценарий одноименного фильма классика кино. Сценограф Эмиль Капелюш построил в правом углу сцены широкий диагональный коридор, серо-серебристый, цвета выбеленной дождями осины: концертный зал, мост, клетка. В конце он повернется и станет тоннелем, под сводами которого пройдут перед финальным расставанием мать и дочь. Широкие доски, из которых состоят боковины, не закреплены внизу, шатаются, подчеркивая нервные вибрации здешней жизни. В прозрачную осеннюю тишину, в которой коротают время Ева и Виктор, пастор и его жена, соединенные трагедией — погиб их сын Эрик, — вторгается овдовевшая мать Евы. После семи лет разлуки (по странному совпадению как раз семь лет Неелова не имела в театре ролей) в шведскую глубинку приезжает знаменитая пианистка. Светская, с форсированными интонациями, нарядная. Ее встречает дочь, в теплых вязаных вещах, глухой шапочке до бровей. Неловкость первых минут маскируется возбуждением, тащат вещи, задыхаются — то ли от тяжести чемоданов, то ли от тяжести минувших лет. Жизнь Нееловой на сцене насыщенна каждую минуту и самоценна. Характер Шарлотты она разворачивает в мелочах, отражающих натуру. Вот решительно и чуть брезгливо сдергивает с дочери шапку, как с маленькой. В штыки встречает весть о том, что здесь, в доме, а не в клинике, — еще одна ее дочь, Елена, неизлечимо больная (Елена Плаксина). Берет в руки ее голову, гладит лицо с мучительной, щемящей жалостью. А оставшись одна, безжалостно диагностирует случившееся: тоска, какая же тоска! Но тут вспоминает музыку Бартока, ее спрятанную боль, — встреча с дочерьми дает ей ключ, с ним она проходит в воображении мелодию и заключает с радостной жестокостью: «…если это так, мой приезд сюда чего-то стоит…» Алена Бабенко — ровные интонации, ясные черты смытого лица — ведет роль Евы от глухого раздражения к тихой экзальтации и от спрятанного исступления к акварельной, уже почти неживой нежности. В том, как она говорит с мужем, вспоминает своего мальчика, везет инвалидное кресло сестры, присутствует некий свет, приглушенный, как свеча, помещенная под колпак. Мать ставит ее в тупик, выбивает из колеи. Ева готовит пикник, на который ожидает несчастную вдову, а выходит дива в вызывающем красном платье до пола. Вот Шарлотта с мокрым подолом впархивает на веранду — в глуши ее нашел импресарио. Берет трубку — и ею завладевает ее мир, где важны сроки репетиций, гонорары, комфорт. Она скидывает ватник и галоши и делает зятю (Сергей Гирин) знак: помогите надеть туфли. Растерянный пастор неуклюже топчется вокруг, и, поняв бесполезность просьбы, Шарлотта машет рукой: оставь, бедняга! Она вся уже там, где ее имя многое значит и куда так спасительно сбежать от здешнего неустройства. Согретая перспективами, она вместе с Виктором уговаривает дочь сыграть «что-нибудь». Ева играет Шопена. Шарлотта сидит спиной к пианино и может не «держать лицо»; на нем все написано. Мастер слушает дилетанта, и он — из безнадежных. Ее преувеличенные похвалы режут ухо, Ева, оскорбившись, идет в атаку. Что не так?! И Шарлотта сбрасывает маску любезности. Она говорит о Шопене сильно и просто, деланая интонация сменяется жесткой, мимоходом рождается замечательная формула «это должно быть сыграно как-то неправильно трудно»… В момент, когда Неелова обнаруживает перед нами истинную Шарлотту, она ведет тему, прочувствованную до дна: священное чудовище, мастер и ученик одновременно. Ева опускает голову: ее бесцветное вялое исполнение на фоне монолога матери выглядит почти преступно. …Шарлотта укладывается спать: кресло, плед, ноги на чемодане — все подчеркивает временность ее присутствия здесь. Натягивает ночные очки и начинает напевать, убаюкивать сама себя, чуть-чуть — и соскользнет в спасительное забвение… Но тут Ева является проявить о ней заботу. Шарлотта пугается — бессонница теперь гарантирована. И так все, что происходит между ними, — перпендикулярно, некстати. Ева заговорит об Эрике, своем погибшем сыне, о Боге… Она будет говорить о том, что мать передает музыкой, — но Шарлотта не узнает этих смыслов, не поймет, отшатнется, как от помешанной. Второй акт. Шарлотта в ужасе от сна-кошмара, слепо тычется в углы, зовет дочь. Прибегает Ева. И начинается самая важная сцена спектакля. Ночной дискомфорт перерастает в скандал, некрасивый, стыдный. «Ненавижу тебя!» — кричит Ева, и мать отшатывается: уверенная дама средних лет вмиг съеживается до пожилой измученной женщины, сламывается линия спины, затылок как-то жалко взъерошивается. Сгорбившись, она бредет к чемодану, тянет его за ручку куда- то… Ева рыдает. Словно осев под грузом воспоминаний, обе садятся спинами друг к другу на этот чемодан и начинают говорить. Прошлое накидывается на них и пытается уничтожить. Счет, который предъявляет матери дочь, — из непрощаемых: любые поступки причиняли боль: и когда мать уезжала, и когда оставалась, и когда вмешивалась в ее жизнь, и когда держалась в стороне. Но о чем бы ни шла речь — причинах страшной болезни Елены или несчастливой попытке любви Евы, она идет о главном — грозном даре Шарлотты, который выталкивал ее из дома в музыку, из нормы в аномалию, требовал бесчисленных жертвоприношений, давая взамен единственное — мучительный и счастливый поиск гармонии. Все движение спектакля — от несчастья в несчастье — построено на непримиримой разности природы матери и дочери. Разности, порождающей зависимость, в которой перемешаны ненависть и любовь. Неелова безукоризненно точно играет сложный состав человеческого эгоизма; его сибаритские радости и болезненные уколы. Ее героиня беседует сама с собой, отделяет себя от любого фона: трагедии дочерей, смерти любимого человека. Ее одиночество и есть ее свобода, на все она смотрит со спасительной дистанции длинного и бурного прошлого и уже короткого будущего. «Современник» дал режиссеру-дебютанту Екатерине Половцевой большую сцену. И она сумела выстроить на ней чистую и сильную партитуру. Если бы ей еще хватило бесстрашия сделать спектакль короче, убрать из него сцены-иллюстрации (они, едва родившись, уже истлели в художественной вторичности), расчистить сцену для трагического диалога героинь, — выиграли бы и актеры, и спектакль, и репутация постановщика. — Я никогда ее больше не увижу, — говорит Ева, уходя с матерью в глубину коридора. И все покрывает звук настраиваемых в оркестре инструментов. Марина ТОКАРЕВА