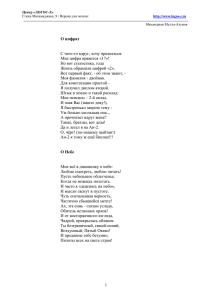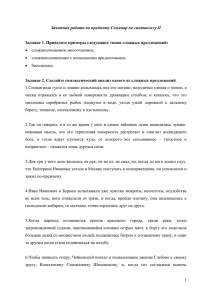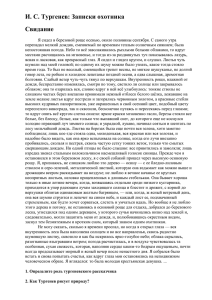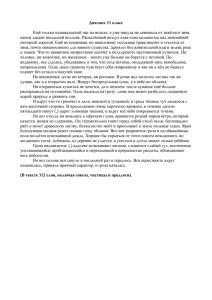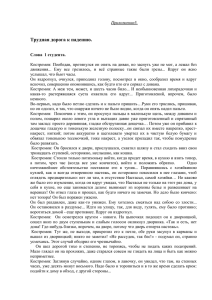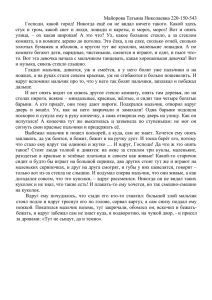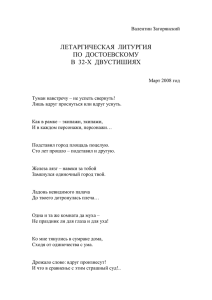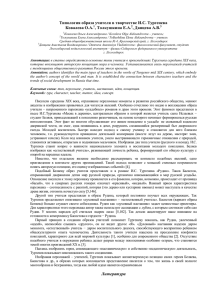И. Вольская В мире книг Тургенева Москва,2008 г Аннотация
реклама
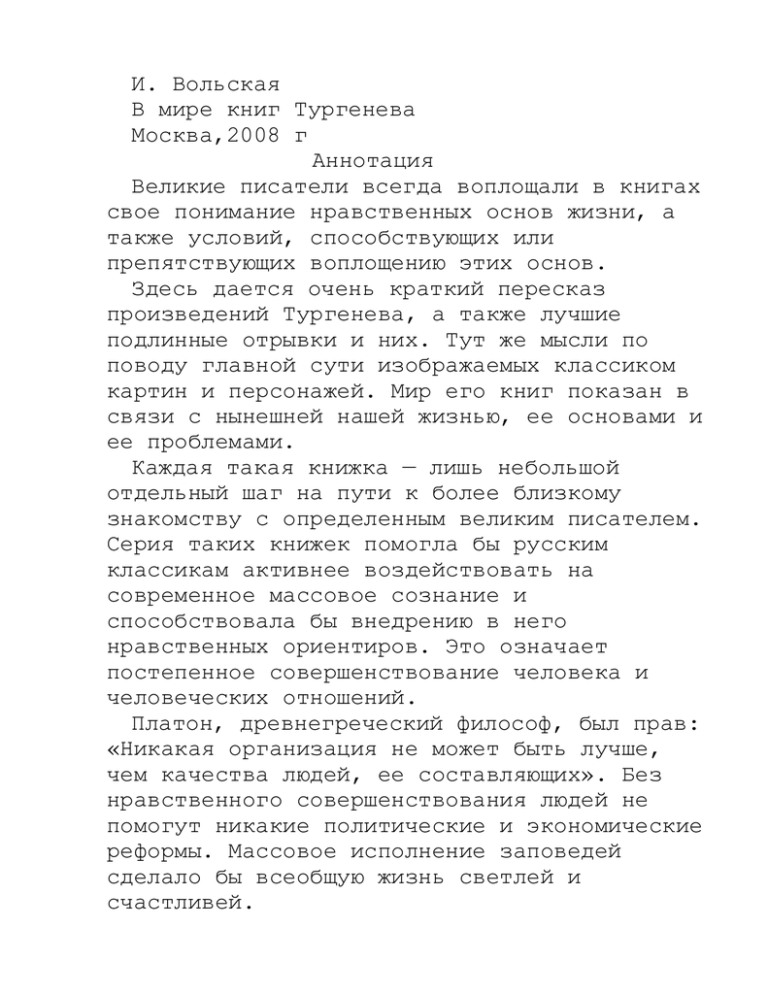
И. Вольская В мире книг Тургенева Москва,2008 г Аннотация Великие писатели всегда воплощали в книгах свое понимание нравственных основ жизни, а также условий, способствующих или препятствующих воплощению этих основ. Здесь дается очень краткий пересказ произведений Тургенева, а также лучшие подлинные отрывки и них. Тут же мысли по поводу главной сути изображаемых классиком картин и персонажей. Мир его книг показан в связи с нынешней нашей жизнью, ее основами и ее проблемами. Каждая такая книжка — лишь небольшой отдельный шаг на пути к более близкому знакомству с определенным великим писателем. Серия таких книжек помогла бы русским классикам активнее воздействовать на современное массовое сознание и способствовала бы внедрению в него нравственных ориентиров. Это означает постепенное совершенствование человека и человеческих отношений. Платон, древнегреческий философ, был прав: «Никакая организация не может быть лучше, чем качества людей, ее составляющих». Без нравственного совершенствования людей не помогут никакие политические и экономические реформы. Массовое исполнение заповедей сделало бы всеобщую жизнь светлей и счастливей. Вольская Инна Сергеевна ..... О Тургеневе написано много, а о его произведениях еще больше. Как сказать мало о многом? Как в немногих словах выразить главную суть? Огромное наследие! Тома, тома…Торопливый современный человек, массовый читатель Тургенева редко читает. Как привлечь его внимание к главной сути этих драгоценных томов? Может быть, подготовить для него очень краткий, но, хотелось бы! увлекательный, благородно— сдержанный пересказ, включив туда лучшие отрывки из тургеневского текста? И собственные мысли по поводу главной сути изображенных картин. Показать мир книг Тургенева в связи с нашей нынешней жизнью и ее проблемами? Конечно, Тургенева, как и других классиков, надо читать в подлиннике, в полном объеме. Эта книжка о нем — лишь небольшой шаг на пути к более близкому, более полному с ним знакомству. ----Итак, о Тургеневе много писали. Книги, письма, статьи, высказывания. Интересная книга о нем (Н. Богословского) вышла в серии «Жизнь замечательных людей» в 1959 году. А главное, облик любого писателя всегда невольно возникает из его собственных произведений. Иван Сергеевич Тургенев родился в Орле 28 октября (9 ноября) 1818 года, умер 22 августа (3 сентября) 1883 года. Несколько слов о его родителях. Мать — Варвара Петровна Лутовинова пережила тяжелые детство и юность. Издевательства отчима заставили ее бежать из дома в 16 лет; приютивший ее дядя тоже оказался деспотом. В его имении, Спасском, она жила в полном одиночестве, почти взаперти. Вдобавок была некрасива, лишена малейшего обаяния. Может, в ней росла постепенно обида, тайная злоба? Вполне возможно. И вдруг, когда ей было около тридцати, дядя внезапно умер и она стала богатейшей помещицей: получила в наследство несколько имений, тысячи душ крепостных! Став богатейшей невестой, она тут же вышла замуж за красивого, но весьма обедневшего молодого офицера кавалергарда Сергея Николаевича Тургенева. Он был из старинного дворянского рода, моложе ее на шесть лет и отнюдь не влюблен в нее, но условия тогдашней жизни по-своему калечили души и судьбы. Отец говорил молодому кавалергарду: «Женись, ради Бога, на Лутовиновой, а то мы скоро пойдем с сумой». Вот подоплека этой свадьбы. Один за другим родились три сына: старший стал офицером, средний — великим русским писателем, а младший — парализованный калека, умер, будучи подростком. Через год после смерти младшего сына вся семья отправилась в заграничное путешествие. Сначала Москва, Петербург, Рига, затем Германия, Швейцария, Франция. Вернувшись в Спасское, они зажили там обычной дворянско-помещичьей жизнью. Двухэтажный господский дом, фруктовые сады, оранжереи, теплицы... Парк у пруда с бескрайними аллеями, веселыми рощицами. Все управление усадьбой Варвара Петровна взяла на себя. Муж в хозяйственные дела не вникал, был занят охотой, кутежами и, увы, ухаживанием за девушками. Свои отношения с отцом и отчасти отношения в семье Тургенев потом в какой-то мере отразил в повести «Первая любовь». Вот главное жизненное правило Сергея Николаевича Тургенева, отца писателя: «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать — в этом вся штука жизни». Он умер сорока двух лет. К обиде и тайной злобе, в свое время, возможно, развившимися в одинокой, исстрадавшейся душе Варвары Петровны, добавились потом терзания ревности: муж, в которого она была влюблена, страшно унижал ее своими любовными похождениями, невниманием, равнодушием к ней. А еще вдобавок нечаянно свалившееся на нее колоссальное богатство, власть над тысячами крепостных! Все это превратило ее в даму капризную, беспощадную. Жестокий отчим, потом дядя, тиранивший ее долгие годы, вероятно, этому способствовали, сами того не ведая. Она мучила даже собственных детей, которых, конечно же, от души любила. «Матери я боялся, как огня ... — вспоминал впоследствии Тургенев. — Редкий день проходил без розог». Что касается крепостных... «Хочу казню, хочу милую», — главная заповедь Варвары Петровны. Людей страшно секли розгами на конюшне, подвергали умышленно всевозможным издевательствам. Многочисленная прислуга, приказчики, дворецкие, управляющие... В своей «господской конторе» она чувствовала себя царицей. Люди ей низко кланялись, дрожали от страха. Сколько разбитых судеб, искалеченных жизнью душ. Вот когда зародилась ненависть Тургенева к самовластию и крепостному праву. «Конюшня была близко, и я все слышал». А как разлучали семьи! Как ссылали в дальние деревни! Как топтали таланты, красоту, доброту! Эта страшная зависимость калечила и господ и рабов. Можно ли было рассчитывать, что отмена крепостного права сразу переменит и тех и других. Сотни лет понадобятся, чтобы каждый человек стал наконец действительно свободным; и таким, чтобы его можно было «возлюбить, как себя самого». А до тех пор... Сколько еще предстояло мучительства, тирании, издевательств, сколько борьбы за блага, несправедливости, лжи! Вся литература об этом и о том, какой может быть жизнь, какой она должна быть (если все станут исполнять христианские заповеди). Как ни странно, Варвара Петровна, при всем своем зверстве, любила книги (особенно французских авторов), много читала. И юный Тургенев с удовольствием приобщился к домашней библиотеке. Игрушки его не интересовали совершенно. И еще влекла к себе природа. Он рано увлекся охотой; лесники научили его стрелять, рассказывали о повадках птиц. Затем надолго пришлось уехать из Спасского. Родители купили дом в Москве и отдали детей в пансион. После выхода из пансиона Тургенев занимался с домашними учителями, готовясь в университет. В Московском университете он пробыл год, затем родители решили переехать в Петербург: старший сын поступил в гвардейскую артиллерию. Летом 1834 года Тургенев перешел на филологическое отделение Петербургского университета. В том же году умер отец от удара. 2 Под влиянием чтения Байрона Тургенев стал писать стихотворения, затем драматическую поэму «Стено». Сюжет ее был взят из итальянской жизни. Это была фантастическая мелодрама, которую он впоследствии (вероятно, вполне справедливо) назвал «нелепым произведением». Чем вызвано было его решение продолжать образование в Берлинском университете после окончания Петербургского? Он говорил матери, что это нужно для карьеры, что источник настоящего знания находится за границей. Но в действительности главной причиной была среда — «помещичья, крепостная», к которой он принадлежал. Среда эта возбуждала в нем чувства негодования, отвращения. «Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... я другого пути перед собой не видел...» — писал он впоследствии. 15 мая 1838 года молодой человек уехал из России. Мать очень волновалась за него. И не зря. Через несколько дней после отплытия на корабле вспыхнуло «темно-красное зарево». Пожар! «Два широких столба дыма пополам с огнем поднимались по обеим сторонам трубы и мачт; началась ужасающая суматоха...» Несколько человек погибли, остальные спаслись, в их числе 19-летний Тургенев. В сентябре 1838 года он уже посещает лекции в Берлинском университете. Логика, философия, древние языки... Общение с молодыми соотечественниками, среди которых были Станкевич, Грановский. Потом, в конце лета возвращение в Россию, три месяца в Спасском, и поздней осенью отъезд в Петербург. Там он встретил случайно Лермонтова — в знаменитом салоне княгини Шаховской, а потом в ночь под Новый, 1840 год на балу в Дворянском собрании. Тогда была кратковременная «мода на Лермонтова» в светском обществе, где, как он утверждал, столько «пошлого и смешного», где легко создают кумиров и потом беззастенчиво их топчут. Вскоре Тургенев отправился в дальнюю дорогу. Предстояла поездка в Рим, путешествие по Италии, возвращение в Берлин к занятиям в университете. В январский мороз он проехал в кибитке по снежным российским равнинам, посетил затем Вену. Весной прибыл в Рим. А потом поездка по Италии. Неаполь, Сорренто... Весна 1840 года. Впоследствии в одном из рассказов он писал: «Что значит молодость! Помню, раз я ночью поехал кататься по заливу. Нас было двое: лодочник и я... Что это была за ночь и что за небо, что за звезды, как они дрожали и дробились на волнах...» Денег оставалось мало. По Швейцарии он уже путешествовал не как богатый турист, а преимущественно пешком. В середине мая Тургенев приехал на родину Гете — во Франкфурт-на-Майне. Он бродил по городу, в шестом часу вечера зашел в какуюто скромную кондитерскую выпить стакан лимонада. Необыкновенная красавица, дочь хозяйки, попросила его помочь привести в чувство ее брата, лежавшего в обмороке. И Тургенева, усталого, давно одинокого, охватило вдруг чувство пламенной влюбленности. Через 30 лет (в совершенно измененном виде) эта встреча была использована для повести «Вешние воды». Из тысяч воспоминаний, эпизодов, оттенков рождается потом новая жизнь, изображенная в книгах. И осмысление этой нарисованной жизни передает какую-то главную суть жизни подлинной... 3 В Берлине Тургенев познакомился с известным впоследствии революционером и теоретиком анархизма Бакуниным, который приехал слушать лекции в Берлинском университете. Они очень подружились, даже поселились в одной квартире и работали оба целыми днями, с утра до позднего вечера. Весной 1841 года, прослушав цикл университетских лекций, Тургенев поехал в Россию, в Спасское. Варвара Петровна из-за больных ног почти не могла уже самостоятельно передвигаться. Тургенев иногда возил ее в коляске по саду. Она теперь сына буквально обожала. В деревенской степной глуши Тургенев скучал и случайно встретил милую девушку по имени Авдотья Ермолаевна. Она была из московских мещанок, работала в Спасском швеей. О женитьбе не могло быть и речи. К тому же «в помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может...». Связь с барином обернулась несчастьем для Авдотьи. Невзирая на беременность, Варвара Петровна гневно выгнала ее из Спасского. Одинокая швея вернулась в Москву, сняла где-то комнату. Ее молодость была погублена. Песня Варламова отчего-то возникает в памяти... Зачем ты утренней порою Одна выходишь на крыльцо? Зачем горючею слезою Туманишь тусклое кольцо?.. Ребенка у нее забрали, увезли в Спасское, девочка потом росла вдали от нее. Но Тургенев долгие годы добровольно выплачивал бывшей возлюбленной «пенсию». Тогда одинокие матери не получали алиментов, а у этой тем более и ребенка отобрали. А пока что Иван Сергеевич не угомонился. Душа жаждала любви. Он уехал из Спасского в Москву. Неизвестно, виделся ли он с Авдотьей, но он вскоре познакомился с родной сестрой Бакунина Татьяной. Ей уже был 27-й год. Она была образованна, музыкальна, возвышенна. И несколько сентиментальна. Тургенев стал называть ее своей Музой, в письмах сообщал, что ее жизнь «может приобрести и для других высокое и святое предназначение». «Дайте мне Вашу руку, — писал он Бакуниной — и, если можете, позабудьте все тяжелое...» В его стихотворениях также содержались подобные «полупризнания». Верь: смущен и тронут я глубоко, И к тебе стремится вся душа... Не на шутку влюбившись, бедная Татьяна, как и пушкинская героиня — объяснилась первая: «...Расскажите кому хотите, что я люблю Вас, что сама принесла к ногам Вашим мою непрошенную, мою ненужную любовь». Ответ был довольно уклончивым: «Я никогда ни одной женщины не любил более Вас, хотя не люблю и Вас полной и прочной любовью». В общем, как говорила впоследствии сама Татьяна Бакунина, у него была не любовь, а «фантазия разгоряченного воображения». В сущности, это было время поисков настоящей единственной возлюбленной; поисков своего, настоящего пути в жизни. Он был свободен, богат, независим; он мог себе позволить эти неторопливые поиски методом проб и ошибок (иногда тяжелых для окружающих). В 1843 году вышла в свет его поэма «Параша». Но Тургенев недолго обольщался. «Я чувствую, — писал он впоследствии, — положительную, чуть не физическую антипатию к моим стихотворениям и не только не имею ни одного экземпляра моих поэм, но дорого бы дал, чтобы их вообще не существовало на свете». Он попробовал было поступить на службу — в канцелярию министра внутренних дел. Его начальником оказался Владимир Даль, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка». Даль был директором канцелярии, а Тургенев — чиновником особых поручений. Но чиновник из Тургенева не получился. В свой департамент он приходил от случая к случаю, на работе читал французские романы, писал стихи, рассказывал анекдоты. Профессиональная литературная деятельность? Варвара Петровна отзывалась о ней без восторга: — Писатель... Что такое писатель? Писатель и писарь — одно и то же. И тот и другой за деньги бумагу марают. Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомаранием. Затем, став писателем, Тургенев сначала даже считал унизительным брать деньги за свои сочинения. Белинский был этим возмущен: — Так Вы считаете позором сознаться, что Вам платят деньги за Ваш умственный труд? Стыдно и больно мне за Вас, Тургенев! 4 Осенью 1843 года в Петербург приехала итальянская опера и ее звезда — Полина Виардо. На портрете она кажется некрасивой: нос с горбинкой немного длинноват, толстые губы слегка выпячены... Но стоило ей выйти на сцену, запеть, как по залу мгновенно пробегала электрическая искра, людей охватывала блаженное оцепенение, восторг. Ей было 22 года, у нее был муж, Луи Виардо... Едва ее увидев, Тургенев почувствовал сразу, что это единственная, которую мечтает встретить каждый человек. «Я ничего не видел на свете лучше Вас, — писал ей в дальнейшем Тургенев. — Встретить Вас на своем пути было величайшим счастьем моей жизни...» Он уже стал «отставным коллежским секретарем» и теперь свободно, беззаботно путешествовал по свету. Голландия, юг Франции, Пиренеи. Потом снова Петербург, общение с выдающимися друзьями. Стихи, первые прозаические опыты. Каким он был? Голубоглазый, высокий, темнорусый. Незлобив, прямолинеен, умен. Мягкий, добрый, способен безоглядно увлекаться. Счастливый человек! Вот что о нем говорил Достоевский в ту пору: «Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет...» У этого молодого счастливца большая часть жизни была еще впереди: создание великих книг, путешествия, любовь. Кто бы смог тогда разглядеть в предстоящей его судьбе за далекой, далекой чертой — страдания, беспомощность, страшные муки. Он еще был в расцвете, жизнь сияла. Лето и осень 1846 года Тургенев провел в Спасском, в охотничьих скитаниях по лесам и болотам. Родная природа, глухие деревеньки, усадьбы степных помещиков. Близкая душе народная речь, хорошо знакомый крестьянский и помещичий быт... В октябре, когда началась долгая, холодная осень, он уехал в Петербург. «Я теперь много работаю и почти никого не вижу», — сообщил он в письме Полине Виардо. Его поглотила, бесконечно увлекла работа над «Записками охотника». А когда в журнале «Современник» появились первые охотничьи рассказы, они вызвали восторг. Но Тургенев уже вскоре был в Германии. «Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца — с чем я поклялся никогда не примириться...» И ведь Тургенев был отнюдь не в числе жертв крепостного права; напротив, он при нем благоденствовал! Здесь не было личной заинтересованности, выгоды. Следует отдать должное его уму и самоотверженной честности. И какая великая мысль — под определенным именем собрать, сосредоточить все, против чего он решил бороться! В сущности, можно под одним «именем» собрать гораздо больше, чем крепостная зависимость крестьян от помещиков. Всякая унижающая человека зависимость от власти других людей, от денег, страха, всех форм угнетения, от собственных предрассудков и недостатков. Каким именем все это назвать? «Человеческое несовершенство» на долгом пути превращения животного в человека? Это враг более могущественный, его крепкие позиции расположены повсюду. С ним, в сущности, борется вся подлинная литература в течение долгих веков. Что означает Божий план спасения людей, о котором говорит Библия? Видимо, он означает совершенствование человека. В сущности, на это и направлена религия, послужившая основой развития искусства и литературы. В таком именно смысле следует, наверное, понимать заповедь: «Царство Божье не придет приметным образом — оно внутри нас». У несовершенных людей невозможно вполне справедливое и счастливое общество, «Царство Божье», сколько бы они ради его достижения ни уничтожали врагов. 5 В Германии он продолжал работать, в Зальцбрунне в 1847 году читал друзьям (в их числе Белинскому) новый рассказ «Бурмистр». В своем обзоре русской литературы за 1847 год Белинский писал: «Не все его рассказы одинакового достоинства: одни лучше, другие слабее, но между ними нет ни одного, который бы чем-нибудь не был интересен, занимателен и поучителен». Затем три года (с 1847 по 1850 год) Тургенев провел во Франции, все время писал рассказы. Безотчетная радость им владела. И постепенно прояснилась главная цель рассказов: «показать, как в русском человеке зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития». Речь, наверное, не о мировом господстве и подавлении остальных, а, скорее всего, о великой роли будущей России в совершенствовании мира. В те же годы, кроме «Записок охотника», были написаны его главные пьесы, он в них изобразил быт и нравы русского провинциального дворянства и столичных мелких чиновников. Он по-прежнему любил Полину Виардо, ждал ее, когда она уезжала на гастроли, был счастлив, когда она возвращалась. Она была для него родным человеком, он ничего важного не предпринимал без ее советов. Дочь Тургенева, которую в Спасском обижали, с восьми лет жила в ее доме и воспитывалась с ее детьми. После смерти Варвары Петровны и раздела наследства Тургенев отпустил дворовых на волю и существенно помог всем своим крестьянам. А поскольку он был довольно беспомощен в практических делах (да и некогда было ими заниматься), его имением по его просьбе всегда управляли другие. Зимой 1852 года умер Гоголь, Тургенев был в это время в Петербурге. Стремясь раскрыть общественный смысл утраты, он написал статью для «Петербургских ведомостей», но цензурный комитет запретил ее печатать. Удалось ее поместить в «Московских ведомостях», но за Тургеневым установили секретное наблюдение, а затем решено было посадить его на месяц под арест и, наконец, выслать на жительство в Спасское. Находясь под арестом «на съезжей», он написал знаменитую повесть «Муму». В ноябре 1853 года Тургенев получил извещение от шефа жандармов об окончании ссылки. Он сразу уехал из Спасского, а дела по имению принял на себя его дядя по отцу. В обществе росло недовольство правительством, самодержавно-крепостническим строем, строгой цензурой. На арену борьбы выходила разночинная интеллигенция. В феврале 1885 года умер Николай I. Появились новые надежды, росли революционные настроения, ослабела цензура. В разгар Крымской кампании Тургенев в Спасском приступил к работе над романом «Рудин» о людях сороковых годов. Он сначала хотел назвать его «Гениальная натура». Еще раньше в отдельных рассказах он изображал «лишних людей», передовых дворянских интеллигентов, не находивших себе подлинного применения. Прототипом Рудина был Михаил Бакунин, удалось показать его характер, внешность, его сильные и слабые стороны, Бакунин послужил тут прототипом. «Рудин — это и Бакунин, и отчасти сам Тургенев», — утверждал впоследствии Максим Горький. До начала работы над романом был составлен подробный план. Долго затем шла доработка характера героя, его взаимоотношений с окружающими. Образ, взятый из жизни, становился типом. Прежде чем печатать роман, Тургенев познакомил с ним друзей по журналу «Современник». Он редко теперь печатал свои произведения, не выслушав мнения авторитетных для него писателей. Всю жизнь общение с выдающимися людьми своего времени. Встречи, встречи... Это счастье. Были размолвки, споры, подчас — глубокие расхождения во взглядах. Но все встречи, письма, споры, обмен мыслями, вероятно, сыграли свою роль в общественно значимом творчестве Тургенева. Белинский, Некрасов, Достоевский, Лев Толстой, Салтыков-Щедрин, Гончаров, Григорович, Герцен, Огарев, Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Он, хотя и мимолетно, видел Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Кольцова, разговаривал с Гоголем. И общение с зарубежными писателями — Жорж Санд, Флобер, Гонкур, Доде, Золя, Мопассан, Мериме. Как могли, они все стремились понять свое время, пути развития общества, смысл и значение литературы. Хотя подчас общение даже с самыми выдающимися людьми — не так уж и легко, далеко не всегда безболезненно. 6 Дружба с Львом Толстым сыграла важную роль в его жизни. Все началось с переписки. Потом, приехав в Петербург, Толстой остановился у Тургенева. В тот же день они поехали к Некрасову. Мы обычно представляем себе Льва Толстого мудрым старцем, смиренным проповедником христианских основ жизни. Но явившийся тогда в Петербург молодой офицер еще был совсем другим. «Милый, энергический, благородный юноша — сокол!.. а может быть, и орел...» — говорится о нем в одном из писем Некрасова. А через несколько дней к Тургеневу зашел Фет и узнал от слуги, что Толстой спит в гостиной. «Вот все время так, — рассказывал ему потом с усмешкой Тургенев, — вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукою...» Между Толстым и Тургеневым пошли затем размолвки, споры; видимо, сказывалась разница в возрасте, во взглядах, в характерах. Но с течением времени оба поняли, что любят и высоко ценят друг друга. При жизни классики, подобно любому смертному, не лишены обычных человеческих недостатков, даже ссорятся иногда. Ну, те, с кем Тургенев расходился во взглядах, вполне могли его не понять, осуждать. Но даже, казалось бы, единомышленники... В конце мая 1861 года к Тургеневу в Спасское приехал Лев Толстой, они вместе отправились к Фету в его имение. И вот столовая на следующее утро. Хозяин, хозяйка, гости — Толстой и Тургенев, интеллигентный разговор. Хоть картину пиши — «Властители дум». Тургенев упомянул между прочим, что гувернантка, воспитательница его дочери, требует, чтобы та собственноручно чинила рваную одежду бедняков. О дальнейшем поведал Фет в своих воспоминаниях. — И это вы считаете хорошим? — спросил Толстой. — Конечно, это сближает благотворительницу с насущной нуждой. — А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену. — Я вас прошу этого не говорить! — воскликнул Тургенев. — Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, — отвечал Толстой. Потеряв самообладание и бледный от волнения, Тургенев воскликнул: — Так я заставлю вас молчать оскорблением! За оскорблением, пожалуй, вполне могла последовать дуэль. К счастью, Тургенев сумел себя обуздать, извинился перед хозяйкой за свой, по его словам «безобразный поступок» и уехал; а из Спасского отправил затем письмо Толстому, в котором просил извинения. Примечательно, что эта пустяковая ссора надолго разъединила двух классиков. Лишь много лет спустя Толстой вдруг написал Тургеневу, что хотел бы возобновить прежние отношения, забыть о ссоре. Вполне в духе Евангелия, которое учит не гневаться, по возможности мириться даже с врагом. Надо все-таки отдать должное обоим классикам. Агрессивности они не проявили, просто расстались на долгие годы, и, когда состоялась наконец их встреча, Тургенев затем написал Толстому: «Я почувствовал очень ясно, что жизнь, состарившая нас, прошла и для нас недаром — и что Вы и я — мы оба стали лучше, чем шестнадцать лет тому назад, и мне было приятно это почувствовать». А вот ссора между Тургеневым и Гончаровым. Иногда Гончаров с увлечением рассказывал о своих литературных замыслах, о своей подготовительной работе. А потом, ему показалось, что в «Дворянском гнезде» есть персонажи и ситуации, схожие с теми, о которых он рассказывал Тургеневу, что Тургенев кое-что заимствовал из его будущего романа «Обрыв». Однажды Гончаров сказал критику, приглашенному на обед к Тургеневу: «Это на мои деньги будете обедать», — подразумевая полученный автором «Дворянского гнезда» гонорар. Тургеневу об этом сообщили, и он послал Гончарову письмо, где потребовал третейского суда или дуэли. Третейский суд состоялся в конце марта 1960 года; эксперты нашли, что возникшие на одной и той же русской почве произведения обоих авторов должны были «случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны». Тургенев побледнел, заявил Гончарову о прекращении с ним дружеских отношений и ушел. «Задушевной откровенности между нами существовать уже не может с этого дня!..» Впоследствии они помирились, преодолев обиды. Как трудно, пока еще даже самым великим, «возлюбить» друг друга. Что уж говорить о менее великих. Нравы писателей, соответствие этих нравов тем идеям, которые писатели выражали... Как затем утверждал в своих «воспоминаниях» П. Д. Боборыкин: «Все они могли иметь честные идеи, изящные вкусы, здоровые понятия, симпатичные стремления, но они все были продуктом старого быта...» Случалось, Тургенева упрекали в бесхарактерности и беспринципности. Может быть, ему просто были свойственны миролюбие и доброта? Один модный светский кавалер якобы рассказывал Боборыкину, как Тургенев на каком-то рауте «сначала ругательски ругал весь этот высший монд; а когда одна великая княгиня сказала ему несколько любезностей, то весь растаял». Ну, может быть, не «растаял», а лишь ответил на любезность любезностью? Зимой Тургенев болел невралгией, летом отправился на воды в Германию в маленький городок Зинциг. Там, одновременно с лечением, была почти написана повесть «Ася», которую он завершил уже в Риме. Он по-прежнему много ездил по свету. Летом — опять в Куртавнеле, собирается в Петербург. «Нет, уже точно: этак жить нельзя, — писал он Некрасову. — Полно сидеть на краюшке чужого гнезда. Своего нет — ну и не надо никакого». Затем он вдруг вместо Петербурга отправился в Рим с Боткиным, своим старым другом. И попрежнему он писал письма Полине Виардо. Есть что-то странное в пребывании Тургенева «на краюшке чужого гнезда». В наши задачи не входит исследование отношений Полины и Луи Виардо, а также их отношений с Тургеневым. Просто дружба? Вряд ли. Тут была любовь. И возлюбленная была не только талантлива и прелестна, но еще, видимо, и умна. А отчего она не рассталась с Луи Виардо? Может быть, влияли нравы парижского «света», не слишком строгие, или тот «карнавал», что в пору успеха окружал знаменитую певицу? Или, может быть, возлюбленной Тургенева она была вначале. А потом лишь другом? Это все лишь мимолетные предположения. Летом 1858 года он вернулся в Россию. Еще будучи за границей, приступил к работе над «Дворянским гнездом», но работа шла трудно. Теперь в Спасском дело пошло. 7 Это был триумф! Роман сразу признали огромной удачей, классическим произведением русской литературы. Но жизнь шла вперед, уже требовались новые герои, посвятившие себя общественному служению. Следующий роман — «Накануне», где герои — провозвестники новой жизни. В основе — «мысль о необходимости сознательногероических натур», — писал Тургенев. Весной 1859 года он стал составлять план нового романа — список действующих лиц, главные факты из их биографий, короткие характеристики, привычки, особенности этих людей, а осенью 1859 года роман был закончен. Критики писали о его общественной значимости. В ожидании смены одной формы общества другой росли революционные настроения, вспыхивали бунты, шли споры о будущем общественном устройстве России. Вслед за романом Тургенев написал статью «Гамлет и Дон Кихот». Два героя мировой литературы. В статье Дон Кихот, личность героическая, самоотверженная, противостоит нерешительному, вечно колеблющемуся Гамлету. «Когда переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга истории! В ней нечего будет читать», — утверждал Тургенев. Но к этому времени среди авторов журнала «Современник» наметился раскол. Чернышевский и Добролюбов, например, энергично призывали к революции, другие были против резкой ломки и потрясений. По этой причине от журнала отошли Григорович, Островский, Лев Толстой и вслед за ними — Тургенев. Весной 1860 года Тургенев уехал на воды за границу из-за болезни горла, затем отправился в Париж и в это время работал над новым романом — «Отцы и дети». В главном герое, Базарове, он хотел воплотить определенные взгляды разночинной интеллигенции шестидесятых годов, «то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма». Нигилизм (от лат. — «ничто»), отрицание общепринятых ценностей — прежних идеалов, морали, культуры — в кризисные эпохи, когда рушится прежнее общественное устройство... Во времена Тургенева это прежде всего отрицание крепостнических традиций. В апреле 1861 года он вернулся в Россию и летом закончил «Отцы и дети». Началу работы над каждым произведением обычно предшествовала большая подготовка. Во-первых, список действующих лиц. Это не просто перечисление. На каждое действующее лицо составлялись характеристики: кто были родители персонажа, его возраст, какое получил воспитание, образование. В этом методе были свои минусы. (Иногда ведь без всякого плана, из смутного хаоса рождается вдруг откровение.) Подготовленный материал, попадая в текст, подчас выглядит схематично: длинные отступления, посвященные истории жизни персонажа, факты, подробности — деловито, просто, как будто биография для отдела кадров... Но чаще всего талант, искренность, вдохновение все преодолевали. Во-вторых, краткое содержание будущего произведения. Наконец, в-третьих, замечания и мысли. Многие он использовал в тексте. Например, замечание под номером один к роману «Отцы и дети»: «Падающий мертвый лист похож на спускающуюся бабочку. Самое мертвое и самое живое». В главе двадцать первой встречаем: «Посмотри, — сказал вдруг Аркадий, — сухой кленовый лист оторвался и падает на землю, его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое сходно с самым веселым и живым». Огромный, почти непрерывный труд, увлеченность, сомнения... Обстановка в стране к тому времени осложнилась. Вместо освобождения крестьян с землею их теперь заставляли арендовать землю у помещиков. В стране создалась революционная ситуация, шла идейная борьба. Когда напечатали роман Тургенева, нападки посыпались со всех сторон. Он стремился объективно, честно, в меру своего понимания показать людей и жизнь. Но, по мнению одних читателей, это идеализация «отцов» и осуждение молодежи, по мнению других — идеализация молодежи и клевета на «отцов». Одни якобы «с хохотом презрения» сжигали фотографии писателя за оскорбление молодежи, другие обвиняли его в низкопоклонстве перед той же молодежью. Но Тургенев утверждал, что содержание и ход романа диктует жизнь, что писатель должен изображать, а не проповедовать. Да, в душе писателя-реалиста жизненная правда побеждает его личные пристрастия, предрассудки; от жизненной правды он идет к идее, к теме. «Мне кажется, — писал Тургенев, — главный недостаток наших писателей — и преимущественно мой — состоит в том, что мы мало соприкасаемся с действительной жизнью, то есть с живыми людьми...» Он был счастлив, когда работал над книгами, но потом... Сколько противоречий, нападок... После всех трудов сколько стрессов, болезненных разочарований! Он признавался Достоевскому: «...Люди, которым я очень верю... серьезно советовали мне бросить мою работу в огонь... Как тут прикажете не усомниться и не сбиться с толку? Автору трудно почувствовать тотчас, насколько его мысль воплотилась — и верна ли она, и овладел ли он ею — и так далее. Он как в лесу — в своем собственном произведении». Достоевский считал «Отцов и детей» лучшим из всех произведений Тургенева и приравнивал этот роман по значению к «Мертвым душам» Гоголя. Какое это было для Тургенева счастье! Если бы мог он тогда прочитать будущий отзыв Чехова: «Боже мой! Что за роскошь «Отцы и дети»! Просто хоть караул кричи. Болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел, и было такое чувство, что я заразился от него. А конец Базарова? А старички? А Кукшина? Это черт знает как сделано. Просто гениально!» 8 В мае 1862 года Тургенев отправился из Парижа в Лондон для встречи с Бакуниным, бежавшим из сибирской ссылки. Старые друзья — Герцен, Огарев, Бакунин и Тургенев — несколько дней увлеченно беседовали и очень много спорили о путях общественного развития. Отвергая революционный путь, Тургенев считал, что к прогрессу и свободе может лишь постепенно привести распространение знаний и культуры среди народа. Вскоре Тургенев поехал в Петербург, а затем в Спасское. В августе он уже снова был за границей. Затем через русского посланника в Париже его вызвали в Петербург на допрос из- за его связей с Лондонскими изгнанниками. О своих взглядах, независимых, но умеренных, Тургенев написал Александру II. Герцен был этим возмущен, восприняв это как «раскаяние». Наконец, в январе 1864 года Тургенев приехал в Россию для дачи показаний в Сенате. Все обошлось благополучно, и летом он уже был в Бадене. Это было для Тургенева нелегкое время. Поредел круг друзей; в России, как бывает всегда в переходный период, ломка общественных отношений. Как писал впоследствии Тургенев: «Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло...» В 1864 году Полина Виардо и ее семейство поселились в предместье Баден-Бадена в Германии, купили себе там виллу. Тургенев приобрел участок рядом с ними. Дочь его, Полина вышла к этому времени замуж за владельца стекольной фабрики Гастона Брюэра. А в конце семидесятых Тургенев писал брату: «Зять мой до последнего сантима просадил приданое моей дочери и, вероятно, в скором времени принужден будет объявить себя банкротом...» Потом дочь ушла от мужа к отцу и, наконец, поселилась с детьми в Швейцарии. А пока что Тургенев работал над новым романом — «Дым». За этот роман его потом дружно ругали все. Гончаров, например, встретившись с автором, сказал: — Начал было читать, но скучно показалось. Эти генералы — точно не живые, а деланные, как фигуры восковые. Да и кучка нигилистов по трафарету написана. Изменило вам на этот раз перо, изменило оно вам и искусству... А Достоевский объявил в пылу спора с Тургеневым: — Эту книгу надо сжечь!.. И великосветские генералы, и «нигилисты» в романе, скорее, сатира, пародия, чем живые люди. В их изображении не чувствуется свойственное обычно Тургеневу умение проникать в сознание персонажа; святое умение понять чужую душу, ее устремления и несовершенство; искренне пожалеть. Может быть, здесь у Тургенева сатирическая манера как-то не вполне согласуется со всем стилем романа, с изображением других персонажей. Зато главные герои — люди живые, реальные, через них очень важные проблемы становятся ясней. 9 Во время войны между Францией и Германией Тургенев и семейство Виардо находились в Баден-Бадене. Тургенев писал оттуда: «По ночам здесь ясно слышно бомбардирование Страсбурга... Железный век все еще не прошел — и мы все еще варвары!..» Когда Виардо на время отправились в Лондон, Тургенев поехал с ними. Там он стал работать над повестью «Вешние воды». Зимой он уже был в России. А весной во Франции — восстание, революционное правительство, Парижская коммуна. Вернувшись в Лондон, а затем вместе с семьей Виардо в Париж в конце 1871 года, Тургенев дорабатывал «Вешние воды». Огромный успех повести весьма удивил автора, ведь он вроде бы не решал в ней социальных проблем. И уже он вынашивал сюжет и план романа, где хотел отразить новый этап — народничество, движение разночинной интеллигенции. В Париже он встречался с идеологом народничества Лавровым, с Кропоткиным и другими революционными деятелями. Он помогал эмигрантам, старался облегчить их жизнь. Одновременно он составлял подробные характеристики своих будущих персонажей, конспекты глав и отдельных сцен. В 1876 году он в течение трех месяцев написал свой роман, работая буквально с утра до ночи. Теперь обществу не нужны были Базаровы. Не нужны и особенные таланты. Требовались терпение, самоотверженность, повседневное трудолюбие. Все это воплощал в себе Соломин в романе «Новь». Изображая народничество, приходилось о многом умалчивать... Вскоре, как обычно, посыпались упреки. Демократы полагали, что автор исказил облик революционной молодежи; противники демократии возмущены были осмеянием высших кругов. Отдельные неудачи, бесконечные нападки не могли помешать. Всю жизнь изо всех сил он делал свое настоящее дело. «Люди, подобные ему, — говорил Мопассан, — стяжают любовь всех благородных умов мира». Постоянно теперь живя в Париже вместе с семейством Виардо, он лето проводил в Бужевале на своей даче, расположенной рядом с их усадьбой. Начиная с 1877 года стали появляться тургеневские «Стихотворения в прозе», многие из них стали хрестоматийными. Летом 1880 года в Москве был установлен памятник Пушкину на Тверском бульваре. Три дня продолжались торжества, и, по свидетельству очевидцев, Тургенев был «главным живым героем этих торжеств». Через год он снова приехал на родину — в последний раз. Он вернулся в Париж, замышляя окончательный переезд в Россию. Но было уже поздно. 10 У каждого когда-то настает время прощания с жизнью. Пробил час и для Тургенева. Рак спинного мозга. Разрушение нескольких позвонков. И невольно вдруг вспоминаются слова Достоевского: «Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет...» Все проходит. Лежал больной, старый человек. Беспросветные страшные муки... «Я страдаю так, что по сто раз в день призываю смерть. Я не боюсь расстаться с жизнью», — говорил он теперь. Ох, как прав был иранский поэт Омар Хайям: Все трудней становится дорога, Все короче долгой жизни нить. Легкой жизни я просил у Бога, Легкой смерти надо бы просить. А вдруг земная жизнь — наказание за какието грехи в иных мирах, лишь этап долгого, мучительного совершенствования? Впрочем, грехов почти каждый совершает немало и в земной жизни (зачастую сам того не понимая). Говорят, писатель — не тот, кто может писать, а тот, кто не может не писать. И теперь, терзаемый болью, страхом, отчаянием, он все же думал об очередных произведениях. Он диктовал Полине Виардо, неизменному своему другу, рассказ и очерк, а затем начал подготовительную работу к большому роману. Виардо знала русский язык, но Тургенев ей диктовал на французском, немецком, итальянском, а она затем все излагала пофранцузски. Лишь по-русски не диктовал: слишком любил этот язык; он бы стал подбирать каждое слово, фразу, отрабатывать ритм и мелодию, зримые картины... А на это уже не было сил! Задуманный роман остался ненаписанным, удалось лишь продиктовать имена действующих лиц. Он просил похоронить его в России. Его похоронили в Петербурге, на Волковом кладбище. Это была достойная и, пожалуй, счастливая в общем жизнь: ведь он почти вполне реализовал свои внутренние возможности, чтобы чуть-чуть светлей становились человеческие души. Итак, посмотрим, как выразил Тургенев свое восприятие мира. Откроем, том за томом, его книги. Хорь и Калиныч Автор «Записок» познакомился в поле с калужским мелким помещиком Полутыкиным, «страстным охотником и, следовательно, отличным человеком». Полутыкин пригласил его к себе, но сначала предложил зайти к Хорю. — А кто такой Хорь? — А мой мужик... Он отсюда близехонько. Одинокая, крепкая усадьба Хоря возвышалась посреди леса на расчищенной поляне и состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами. — Скажите, пожалуйста, — спросил я Полутыкина за ужином: — отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков? — А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет 25 назад у Хоря сгорела изба, он пришел к покойному отцу своего нынешнего барина и попросил разрешения поселиться в лесу на болоте. — Да зачем тебе селиться на болоте? — Да уж так.., а оброк положите какой сами знаете. — Пятьдесят рублев в год! — Извольте... Постепенно Хорь разбогател. — Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком... Человек он предприимчивый, деятельный, умеет использовать любую возможность. Потом автор знакомится с еще одним крестьянином Полутыкина — Калинычем: «Меня занимали мои новые знакомцы... Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними». Как важно это — наблюдать и осмысливать окружающее! Это умение каждому бы не помешало в жизни! Хорь — старик, «лысый, низкого роста, плечистый и плотный... Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос». Калинычу лет сорок. Высокого роста, худой, голубоглазый. Хорь «себе на уме». Человек «положительный, практический, административная голова, рационалист». Калиныч — веселый, кроткий. Идеалист, романтик, восторженный и мечтательный. И жили они совсем по-разному. «Хорь понимал действительность, то есть обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел господина Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином». Калиныч, «усердный мужик», свое хозяйство «в исправности» содержать не мог. Барин сам признавал: «Я его все оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит... Какое уж тут хозяйство...» Но Хорь со своим здравым смыслом заметил и другое. — А что ж он тебе сапогов не сошьет? — Эка сапоги!.. на что мне сапоги! — оправдывал доброго барина Калиныч. — Я мужик... — Ну хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что ни день, то лапти. — Он мне дает на лапти. — Да, в прошлом году гривенник пожаловал. Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом... Узнав, что гость бывал за границей, Хорь о многом его расспрашивал. Занимали его вопросы административные и государственные. — Что у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Изредка он замечал, что «это у нас не шло бы, а вот это хорошо — это порядок». Калиныча больше трогали «описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов». «Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал». Калиныч «всему верил слепо», «не любил рассуждать». Хорь читать не умел, Калиныч — умел. — Этому шалопаю грамота далась, — заметил Хорь... У него было семеро красивых, рослых сыновей, но «грамоту знал» только младший, Федя. Как ни умен Хорь, у него свои предрассудки и предубеждения. «Баб он, например, презирал “от глубины души”». «Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом». Такие разные, они все же друг друга искренно ценили, в обоих была душевность. Оба интересны и талантливы, каждый посвоему. Многое сумел увидеть автор «Записок» в двух, случайно встреченных крепостных мужиках середины девятнадцатого века. Какие же мысли рождает у читателя этот рассказ? Тут вечных два человеческих типа: идеалист, доверчивый мечтатель и практик, реалист, воплощенные во всем их конкретном жизненном своеобразии. Оба все же могли как-то проявлять свои природные склонности, сохраняли индивидуальные черты. Оттого, что их барин «отличный человек»? Или им просто повезло? В основном ведь «Записки охотника» (почти все остальные рассказы) о том, как топчут личность, интересы крепостных, как им не дают дышать и, тем более, стать такими, какими они могли бы при иных условиях, более благоприятных для человеческого развития. Есть заповедь в Нагорной проповеди Христа: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Вся человеческая история — постоянное нарушение этой заповеди и постепенное осознание необходимости ее исполнять. И вся, в сущности, литература — главным образом об этом. 1847 Продолжим путешествие вместе с Тургеневым. Вот уже перед нами замаячило какое-то незнакомое село. Льгов Льгов — большое степное село. Вблизи от него — пруд, заросший тростником; там водились утки. За лодкой охотники обратились к местному жителю по прозвищу Сучок. «Босой, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым лет шестидесяти». Разговор с ним автора проясняет многое во всей окружающей обстановке. — Скажи, пожалуйста, — начал я: — давно ты здесь рыбаком? — Седьмой год пошел, — отвечал он, встрепенувшись. — А прежде чем ты занимался? — Прежде ездил кучером. — Кто ж тебя из кучеров разжаловал? — А новая барыня. — Какая барыня? — А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алена Тимофеевна, толстая такая... немолодая. — С чего ж она вздумала тебя в рыболовы произвести? — А Бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего, не серчает... А потом и стала по порядку нас расспрашивать: чем занимался, в какой должности состоял. Дошла очередь до меня; вот и спрашивает: ты чем был? Говорю: кучером. — Кучером? Ну, какой ты кучер, посмотри на себя: какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей... — Чьи же вы прежде были? — А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел, всего шесть годов. У него-то вот я кучером и ездил... — И ты смолоду все был кучером? — Какое все кучером! В кучера-то я попал при Сергее Сергеиче, а прежде поваром был... — У кого ж ты был поваром? — А у прежнего барина, у Афанасья Нефедыча, у Сергея Сергеичина дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследствию досталось. — У кого купил? — А у Татьяны Васильевны. — У какой Татьяны Васильевны? — А вот, что в запрошлом году умерла, под Болховым... то бишь под Карачевым, в девках... — Что ж, ты и у ней был поваром? — Сперва точно был поваром, а то и в кофишенки попал. — Во что? — В кофишенки. — Это что за должность такая? — А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила. — Твое настоящее имя Кузьма? — Кузьма. — И ты все время был кофишенком? — Нет, не все время: был и ахтером. — Неужели? — Как же, был... На кеятре играл. Барыня наша кеятр у себя завела... Вот меня возьмут и нарядят; я так и хожу наряженный, или стою, или сижу, как там придется. Говорят: вот что говори, — я и говорю. Раз слепого представлял... Тут прекрасный образец несвободы слова! «Говорят: вот что говори, — я и говорю». Крепостное право отменили, царя свергли, еще много всего свершили, а этот нетленный принцип сумели надолго сберечь — и не только в театре. — Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был? — А в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором был, садовником, а то и доезжачим. — Доезжачим?.. И с собаками ездил? — Ездил и с собаками, да убился: с лошадью упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий, велел меня выпороть, да в ученье отдать в Москву, к сапожнику. — Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачие попал? — Да лет, этак, мне было двадцать слишком. — Какое ж тут ученье в двадцать лет? — Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер, — меня в деревню и вернули... И слава Богу, что в рыболовы произвели. А другого, «такого же, как я, старика — Андрея Пупыря — в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть...» Его спросили, был ли он женат. — Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница — Царство ей Небесное! Никому не позволяла жениться. Сохрани Бог! Бывало, говорит: ведь живу же я так, в девках, что за баловство! Чего им надо? Еще небольшая деталь. До появления Сучка автор «Записок» случайно встретился с незнакомцем, который представился как «здешний охотник Владимир» и предложил свои услуги. Это был вольноотпущенный дворовый, в прошлом барский лакей, камердинер. Еще одна изуродованная жертва — с нелепыми ужимками, с необоснованными претензиями на изящество, изысканность! «Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой. «Глупый человек-с, — промолвил он, когда тот ушел: — совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с... и все хвастал-с... Где ж ему быть актером-с, сами изволите рассудить-с! Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговариватьс!» И какая красивая вокруг природа. «Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи; золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна... На селе раздавались песни». 1852 Бежин луг В прекрасный июльский день автор «Записок» охотился в Тульской области за тетеревами и, возвращаясь домой, заблудился. Он шел долго и, наконец, увидел, как «под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени... Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга». Охотник благополучно спустился вниз и подошел к людям, сидевшим вокруг огней. Издали он принял их за гуртовщиков, но это были просто крестьянские ребятишки из соседней деревни, которые стерегли табун. Объяснив, что заблудился, охотник подошел к ним, потом прилег и стал глядеть кругом. «Картина была чудесная: около огней дрожало и как бы замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отраженье; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом». Мальчиков было пять. Познакомимся. Федя — лет четырнадцати, стройный, красивый, с тонкими, немного мелкими чертами лица, с кудрявыми белокурыми волосами и полувеселой, полурассеяной улыбкой. Сын богатого крестьянина, он в поле выехал «не по нужде, а так, для забавы». На нем пестрая ситцевая рубаха, новый армячок. «Сапоги его с низкими голенищами» были точно его сапоги — не отцовские. Павлуша — неказист и, как видно, беден. Приземист, неуклюж, всклокоченные волосы, бледное рябое лицо. Вся одежда состояла из простой рубахи да «заплатанных портов». Илюша. Желтые, почти белые волосы «торчавшие острыми косицами»... Горбоносое, подслеповатое лицо «выражало какую-то тупую, болезненную заботливость». На нем «новые лапти и онучи», опрятная черная свитка. Ему, как и Павлуше, на вид лет двенадцать. Костя, мальчик лет десяти с «задумчивым и печальным взором». Его большие черные глаза, «казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, — на его языке по крайней мере, — не было слов». Семилетний Ваня лежал на земле, «смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую головку». В котелке над огнем варилась картошка. Автор «Записок» притворился спящим. «Понемногу мальчики опять разговорились». Разговор отразил их жизнь, понятия, условия. Сначала о завтрашних работах, о лошадях, потом Илюша рассказывал про домового. Двенадцатилетний Илюша работает на бумажной фабрике вместе с братом и другими ребятишками. Как-то раз надсмотрщик не пустил их домой: «завтра работы много...» «Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, как вдруг кто-то над головами у нас заходил, но а лежим-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса». Про таких работяг Тургенев потом упоминал в повести «Первая любовь»: на даче во флигельке барского дома с колоннами помещалась «крохотная фабрика дешевых обоев», где работали дети, «десяток худых и взъерошенных мальчишек в засаленных халатах. Труд их, однообразный, механический, изнуряющий вряд ли рождал в них радостные чувства». Потом Костя рассказал историю Гаврилы, заводского плотника. Этот Гаврила заблудился в лесу и встретил сидевшую на ветке русалку с зелеными волосами. Она смеялась, но когда Гаврила перекрестился, расплакалась и пропала. С тех пор плотник ходит невеселый. — А ведь вот и здесь должны быть русалки, — заметил Федя... Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался звук... Мальчики переглянулись, вздрогнули... — С нами крестная сила! — шепнул Илья. — Эх, вы, вороны! — крикнул Павел: — чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. Картошка была вскоре съедена. Потом Илюша рассказывал, как псарь по имени Ермил ездил в город за почтой, а возвращаясь ночью через плотину, увидел в том месте, где когда-то был похоронен утопленник, белого барашка. Ермил взял его с могилы, стал гладить, приговаривая «бяша, бяша», но баран вдруг оскалил зубы и то же слово повторил. Правда, Ермил, как сообщил Федя, был «хмелен». Вдруг залаяли собаки, лежавшие возле ребят у огня. Было слышно, как заметался встревоженный табун. После всех страшных рассказов суеверные мальчишки перепугались. А Павлуша бросился вслед за собаками, что-то командовал... «Раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки. — Что там? Что такое? — спросили мальчики. — Ничего, — отвечал Павел, — махнув рукой на лошадь: — так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью... — А видали их, что ли, волков-то? — спросил трусишка Костя. — Их всегда здесь много, — отвечал Павел: — да они беспокойны только зимой». «И опять пошли страшные истории. О том, как дедушка Трофимыч однажды встретил покойного барина, искавшего «разрыв-траву»; как баба Ульяна, сидя на паперти, увидела мальчика, Ивашку Федосеева, умершего еще весной. Потом ей померещилось, что сама она идет по дороге... А что творилось во время солнечного затмения... Пошли слухи, «что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку увидят». И ребята стали говорить про «Тришку». Это что-то вроде Антихриста. «Захотят его, например, взять крестьяне, — объяснял Илюша, — выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет — так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют». (Убивать друг друга под воздействием лукавой «нечистой силы» людям еще долго предстояло. Эти мифы не лишены смысла.) Потом говорили про лешего, которого какойто мужичок недавно встретил в лесу. А когда Павел пошел к речке «водицы зачерпнуть» в котелок, заговорили про «водяного», который «за руку схватит да потащит к себе». — А правда ли, — спросил Костя, — что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала? — С тех пор... Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Акулина, которая теперь бродит по деревне с помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, оказывается, кинулась в реку оттого, что ее «полюбовник обманул». Заодно вспомнили про мальчика Васю, утонувшего в реке. С тех пор его мать Феклиста не в своем уме: «придет да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку — помните, Вася-то все таку песенку певал, — вот ее-то и затянет, а сама плачет, плачет...» Вернулся Павел с наполненным водой котелком. — Что, ребята, — начал он, помолчав: — неладно дело. — А что? — торопливо спросил Костя. — Я Васин голос слышал. Все так и вздрогнули. — Что ты, что ты? — пролепетал Костя... — Только стал я к воде нагинаться, слышу, вдруг, зовут меня эдак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул... — Ведь это тебя водяной звал, Павел, — прибавил Федя... — А мы только что об нем, об Васе-то, говорили. — Ах, это примета дурная, — с расстановкой проговорил Илюша. — Ну ничего, пущай! — произнес Павел решительно и сел опять: — своей судьбы не минуешь. Среди благодатной красоты этой природы, этой тихой июльской ночи сколько выплеснулось первобытных представлений, страшных поверий, ужасов. Эти мальчики от рождения крепостные. Они не ходят в школу, не обучены грамоте, не читают книжки. Но в них все же заронили понятие о праведной душе, светлой и чистой, как белый голубок, случайно пролетевший над костром. — А что, Павлуша, — промолвил Костя: — не праведная ли это душа летела на небо, ась? — Может быть... Наряду с привычными, дикими нелепостями, ощущается и тихая душевность. В какой-то момент, когда остальные испуганно молчали, вдруг раздался детский голосок семилетнего Васи. — Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, гляньте на божьи звездочки, — что пчелки роятся! Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились. Федя, сын богатого крестьянина, спросил про Анютку, Ванину сестру, отчего она не приходит. — Ты ей скажи, что я ей гостинца дам. — А мне дашь? — И тебе дам. — Ну нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая. И Ваня опять положил свою головку на землю. А героизм невзрачного, нищего Павла! В самый страшный момент он, в сущности еще ребенок, уцепившись за гриву лошади мчится навстречу опасности. «Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновенье. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!» — думал я, глядя на него». «Павел в том же году убился, упав с лошади», — мимоходом сообщает автор, — ударяя по сердцу читателя. Описания природы в «Записках охотника» — эта живопись, музыка, душевная песня. То в них безысходность, то радостная надежда, яркое утро, потоки света. «Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали... Я проворно встал и пошел к мальчикам. Они все спали, как убитые, вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня. Я кивнул ему головой и пошел восвояси, вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня... сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун». 1851 Бурмистр Молодой помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Павлыч Пеночкин. У него в поместье много дичи, «дом построен по плану французского архитектора, люди одеты поанглийски, обеды задает он отличные, принимает гостей ласково... Он человек рассудительный и положительный, воспитанье получил, как водится, отличное, служил, в высшем обществе потерся, а теперь хозяйством занимается с большим успехом». И внешность у него приятная — небольшого роста, но «весьма недурен», «с его румяных губ и щек так и пышет здоровьем». Он «отлично и со вкусом» одевается; «до чтенья небольшой охотник», но в губернии «считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов»; «дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры». «Дом у него в порядке необыкновенном». Но каким образом удается поддерживать этот необыкновенный порядок? Аркадий Павлыч, по его словам, «строг, но справедлив, о благе подданных своих печется и наказывает их — для их же блага». «С ними надо обращаться как с детьми», полагает он, принимая во внимание их невежество. Но «странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме». Однажды автору «Записок» довелось гостить у Пеночкина. Вечером завитой камердинер в голубой ливрее подобострастно стягивал с гостя сапоги; утром Аркадий Павлыч, не желая отпустить гостя без завтрака на английский манер, повел его к себе в кабинет. «Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца всмятку, масло, мед, сыр и пр. Два камердинера, в чистых белых перчатках, быстро и молча предупреждали наши малейшие желания. Мы сидели на персидском диване. На Аркадии Павлыче были широкие шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фес с синей кистью и китайские желтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлыч налил себе рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился. — Отчего вино не нагрето? — спросил он довольно резким голосом у одного из камердинеров. Камердинер смешался, остановился, как вкопанный, и побледнел». Отпустив его без лишних слов, барин затем позвонил и вошедшему толстому человеку «с низким лбом и совершенно заплывшими глазами» спокойно приказал: — Насчет Федора... распорядиться. Толстый коротко ответил: «Слушаюсь-с» и вышел. Чувствуется какая-то четко отработанная система «репрессий» и всеобщий панический страх. Потом хозяин, узнав, что гость отправляется на охоту в Рябово, заявил, что поедет в Шипиловку, где давно собирался побывать. «Рябово всего в пяти верстах от моей Шипиловки...» Между прочим, он также упомянул, что бурмистр у него там — «молодец, государственный человек». На следующий день они выехали. «При каждом спуске с горы Аркадий Павлыч держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец порядочный трус». Еще раньше упоминалось; что он «осторожен, как кошка и ни в какую историю замешан отроду не бывал; хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить и срезать любит». Дворянин, светский человек, умеет притворяться. И какой за этим благопристойным фасадом скрывается отвратительный, трусливый и наглый хам. Надо было все это увидеть в жизни и раскрыть. И невольно возникает болезненно трудный вопрос. Как тут исполнять христианскую заповедь «Возлюби ближнего своего»? Неприязнь, а не любовь вызывает к себе Аркадий Павлович Пеночкин. Власть одних людей над другими в той или иной мере... Рабовладелец, затем помещик, затем хозяин, директор, начальник... Сама система способствует нарушению заповедей. Еще шла борьба за очередной шаг вперед — отмену крепостного права. Не каждый помещик способен удержаться от самодурства и уж тем более бережно относиться к жизни, достоинству, интересам своих крепостных. Пока люди несовершенны, безнаказанность развращает. Они приехали в Шипиловку вслед за поваром, который «уже успел распорядиться и предупредить, кого следовало». Бурмистр был в отъезде, в другой деревне. За ним тут же послали. Их встретил староста (сын бурмистра). Когда ехали по деревне, навстречу попались несколько мужиков, возвращавшихся с гумна. Они пели песни, но испуганно умолкли и сняли шапки, увидев барина. По селу распространилось «тревожное волнение», почти паника. Изба бурмистра стояла в стороне от других... Бурмистрова жена встретила их «низкими поклонами и подошла к барской ручке... В сенях, в темном углу стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула... Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом: вошел бурмистр. Этот, по словам Аркадия Павлыча, государственный человек был роста небольшого, плечист, сед и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера». Он «должно быть, в Перове подгулял: и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него попахивало. — Ах, вы, отцы наши, милостивцы вы наши, — заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут: — насилу-то позволили пожаловать!.. Ручку, батюшка, ручку, — прибавил он, уж загодя протягивая губы. Аркадий Павлыч удовлетворил его желанье. — Ну что, брат Софрон, каково у тебя дела идут? — спросил он ласковым голосом. — Ах, вы, отцы наши! — воскликнул Софрон: — да как же им худо идти, делам-то! Да ведь вы наши отцы, вы милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили по гроб дней!.. Благополучно обстоит все милостью вашей. Тут Софрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлеченный порывом чувства (притом же и хмель брал свое), в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего: — Ах, вы, отцы наши, милостивцы... и... уж что! Ей-богу, совсем дураком от радости стал... Ей-богу, смотрю да не верю... Ах, вы, отцы наши!.. Аркадий Петрович глянул на гостя, усмехнулся и спросил по-французски: «Разве это не трогательно?» На следующий день встали довольно рано. «Явился бурмистр. На нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Говорил он гораздо меньше вчерашнего, глядел зорко и пристально в глаза барину, отвечал складно и дельно». Все отправились на гумно. «Мы осмотрели гумно, ригу, овины, сараи, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, конопляники; все было действительно в отличном порядке...» Вернувшись в деревню, пошли смотреть веялку, недавно выписанную из Москвы. Выходя из сарая, они вдруг увидели нечто неожиданное. Возле грязной лужи стояли на коленях два мужика, молодой и старый, в заплатанных рубахах, босые, подпоясанные веревками. Они очень волновались, часто дышали, наконец старик произнес: «Заступись, государь!» — и поклонился до земли. Оказалось, они жалуются на бурмистра. — Батюшка, разорил вконец. Двух сыновей, батюшка, без очереди в рекруты отдал, а теперя и третьего отнимает. Вчера, батюшка, последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил — вон его милость (он указал на старосту). — Гм? — произнес Аркадий Павлыч. — Не дай вконец разориться, кормилец. Господин Пеночкин нахмурился. — Что же это, однако, значит? — спросил он бурмистра вполголоса и с недовольным видом. — Пьяный человек-с, — отвечал бурмистр... — неработящий. Из недоимки не выходит вот уже пятый год-с... — Софрон Яковлич за меня недоимку взнес, батюшка, — продолжал старик: — вот пятый годочек пошел, как взнес — в кабалу меня и забрал, батюшка, да вот и... — А отчего недоимка за тобой завелась? — грозно спросил господин Пеночкин. (Старик разинул было рот.) — знаю я вас, — с запальчивостью продолжал Аркадий Павлыч: — ваше дело пить да на печи лежать, а хороший мужик за вас отвечай. — И грубиян тоже, — ввернул бурмистр в господскую речь. — Ну, уж это само собой разумеется... — Батюшка Аркадий Павлыч, — с отчаяньем заговорил старик: — помилуй, заступись, — какой я грубиян?.. Разоряет вконец, батюшка... последнего вот сыночка... и того... (на желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка). — Помилуй, государь, заступись... — Да и не нас одних, — начал было молодой мужик... Аркадий Павлыч вдруг вспыхнул: — А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи... Это что такое? Молчать, говорят тебе! Молчать!.. Ах, боже мой! Да это просто бунт. Нет, брат, у меня бунтовать не советую... у меня... (Аркадий Павлыч шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии, отвернулся и положил руки в карманы.)» Он тут же тихим голосом по-французски извинился перед гостем и, сказав просителям: «Я прикажу... хорошо, ступайте», повернулся к ним спиной и ушел. «Просители постояли еще немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь, восвояси». Потом, уже будучи в Рябове и собираясь на охоту, автор «Записок» услышал от знакомого мужика, что Софрон «собака, а не человек», что Шипиловка лишь числится за помещиком, а владеет ею бурмистр, «как своим добром». — Крестьяне ему кругом должны; работают на него, словно батраки... Выяснилось также, что бурмистр «не одной землей промышляет: и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем. Умен, больно умен, и богат же, бестия! Да вот чем плох — дерется. Зверь — не человек, сказано: собака, пес, как есть пес. — Да что ж они на него не жалуются? — Экста! Барину-то что за нужда! Недоимок не бывает. Так ему что? Да, поди ты, — прибавил он после небольшого молчания: — пожалуйся. Нет, он тебя...» Оказалось, крестьянин, который теперь жаловался барину, в свое время поспорил на сходке с бурмистром. Тот его начал «клевать», отдал его сыновей без очереди в солдаты... «Теперь доедет. Ведь он такой пес, собака». Среди крестьян шло расслоение, появились в деревнях свои богачи, новые «господа». Софрон груб, необразован. Любя «показуху», прилепил к скотному двору «нечто вроде греческого фронтона и под фронтоном белилами надписал: «Построен вселе Шипиловке в тысяча восем Сод сараковом году. Сей скотный дфор». А уж дети, внуки богача после отмены крепостного права пойдут, вероятно, учиться, начнут размышлять, захотят поглядеть на мир. 1852 Контора Бродя осенью с ружьем по полям, охотник добрался до большого села. Он еще издали заметил избу повыше других и решил, что это жилище старосты. Открыв дверь, он увидел несколько столов, заваленных бумагами, два красных шкафа, чернильницы, песочницы, длинные перья. На одном из столов сидел «малый лет двадцати» в сером кафтане, сообщивший, что здесь «главная господская контора». Потом из соседней комнаты явился человек лет пятидесяти, толстый, низкого роста, с «бычьей шеей» и «глазами навыкате». — Чего вам угодно? — Обсушиться. — Здесь не место. — Я не знал, что здесь контора; а, впрочем, я готов заплатить. После этого толстяк, главный конторщик, как выяснилось позднее, пригласил охотника (автора «Записок») в третью комнату, отделенную от конторы перегородкой, предложил раздеться и отдохнуть. — А нельзя ли чаю со сливками? — Извольте, сейчас. Имение принадлежало госпоже Лосняковой. Охотник подошел к окну. Грязь на улице была страшная. Около господской усадьбы «шныряли девки в полинялых ситцевых платьях; брели по грязи дворовые люди; махала хвостом привязанная лошадь; кудахтали куры; перекликались индейки. Тот же малый в сером кафтане, конторский дежурный, притащил самовар, чайник, стакан с разбитым блюдечком, горшок сливок... Автор «Записок» стал расспрашивать и выяснил, что в имении есть немец — управляющий, но распоряжается сама барыня, а в конторе сидят шесть человек — главный кассир и конторщики. — Ну, что ж, ты хорошо пишешь? Малый заулыбался и принес исписанный листок. — Вот мое писанье. «На четвертушке сероватой бумаги красивым и крупным почерком» было написано: «Приказ от главной господской домовой ананьевской конторы бурмистру Михайле Викулову, № 209. Приказывается тебе немедленно по получении сего разыскать: кто в прошлую ночь, в пьяном виде и с неприличными песнями, прошел по Аглицкому саду, и гувернантку мадам Энжени француженку разбудил и обеспокоил? И чего сторожа глядели, и кто сторожем в саду сидел? И таковые беспорядки допустил? Обо всем выше прописанном приказывается тебе в подробности разведать и немедленно конторе донести. Главный конторщик Николай Хвостов». К приказу была приложена огромная гербовая печать с надписью: «Печать главной господской ананьевской конторы», а внизу стояла приписка: «В точности исполнить. Елена Лоснякова». — Это сама барыня приписала, что ли? — спросил я. — Как же-с, сами: оне всегда сами. А то приказ действовать не может. — Ну, что ж, вы бурмистру пошлете этот приказ? — Нет-с, сам придет да прочитает. То есть ему прочтут; он ведь грамоте у нас не знает... А что-с, — прибавил он, ухмыляясь: — Ведь хорошо написано-с? — Хорошо. — Сочинял-то, признаться, не я. На то Коскенкин мастер. — Как?.. Разве у вас приказы сперва сочиняются? — А как же-с? Не прямо же набело писать. Потом гость пару часов поспал, а проснувшись, услышал тихий разговор в конторе за перегородкой. Толстяк, главный конторщик договаривался о чем-то с неким купцом. — Тэк-с, тэк-с, Николай Еремеич, — говорил один голос, — тэк-с. Эвтого нельзя в расчет не принять-с; нельзя-с, точно... — Уж поверьте мне, Гаврила Антоныч, — возразил голос толстяка: — уж мне ли не знать здешних порядков, сами посудите. Они долго торговались. — Так уж и быть, Николай Еремеич, так уж и быть... две сереньких и беленькую вашей милости, а там (он кивнул головой на барский двор) шесть с полтиной. По рукам, что ли? — Четыре сереньких, — отвечал приказчик. — Экой несговорчивый какой, — пробормотал купец. — Эдак я лучше сам с барыней покончу. — Как хотите, — отвечал толстяк... — Ну полно, полно, Николай Еремеич. Уж сейчас и рассердился! Я ведь эфто так сказал. — Нет, что ж в самом деле... — Полно же, говорят... Говорят, пошутил. Ну, возьми свои три с половиной, что с тобой будешь делать. — Четыре бы взять следовало, да я, дурак, поторопился, — проворчал толстяк. — Так там, в доме-то, шесть с половиною-с, Николай Еремеич, — за шесть с половиной хлеб отдается? — Шесть с половиной, уже сказано. — Ну так по рукам, Николай Еремеич... Так я, батюшка, Николай Еремеич, теперь пойду к барыне-с... и так уж я и скажу: Николай Еремеич, дескать, за шесть с полтиною-с порешили-с. — Так и скажите, Гаврила Антоныч. — А теперь извольте получить. Купец вручил приказчику небольшую пачку бумаги, которую тот начал разбирать. Потом приехал Сидор, «мужик огромного роста, лет тридцати, здоровый, краснощекий, с русыми волосами». — Что ж, зачем приехал? — Да слышь, Николай Еремеич, с нас плотников требуют. — Ну, что ж, нет их у вас, что ли? — Как им не быть у нас, Николай Еремеич... Да пора-то рабочая, Николай Еремеич. — Рабочая пора! То-то, вы охотники на чужих работать, а на свою госпожу работать не любите... Вишь, как вы избаловались. Поди ты! — Да и то сказать, Николай Еремеич, работыто всего на неделю будет, а продержат месяц. То материалу не хватит, а то и в сад пошлют дорожки чистить. — Мало ли чего нет! Сама барыня приказать изволила, так тут нам с тобой рассуждать нечего... — Наши... мужики... Николай Еремеич... — заговорил наконец Сидор, запинаясь на каждом слове: — приказали вашей милости... вот тут... будет... (он запустил свою ручищу за пазуху армяка и начал вытаскивать оттуда свернутое полотенце с красными разводами). — Что ты, что ты, дурак, с ума сошел, что ли? — поспешно перебил его толстяк. — Ступай, ступай ко мне в избу... там спроси жену... она тебе чаю даст, я сейчас приду, ступай. Он, видимо, боялся, что охотник за перегородкой уже проснулся и услышит. На улице раздались крики: «Купря! Купря!» Явился низенький, тщедушный человек в стареньком сюртуке со связкой дров за плечами. Его сопровождала шумная ватага дворовых, человек пять, все кричали: «Купря!.. В истопники Купрю произвели, в истопники!» Оказывается, этот Купря, то есть Куприян, — портной; «и хороший портной, у первых мастеров в Москве обучался и на енералов шил». Но барыня приказала... А может быть, Купря еще тем провинился, что не задобрил вовремя контору? Кто знает. — А послушай-ка, признайся, Купря, — самодовольно заговорил Николай Еремеич, видимо, распотешенный и разнеженный: — ведь плохо в истопниках-то? Пустое, чай, дело вовсе? — Да что, Николай Еремеич, — заговорил Куприян: — вот вы теперь главным у нас конторщиком, точно; спору в том, точно нету; а ведь и вы под опалой находились, и в мужицкой избе тоже пожили. — Ты смотри у меня, однако, не забывайся, — с запальчивостью перебил его толстяк: — с тобой, дураком, шутят; тебе бы, дураку, чувствовать следовало и благодарить, что с тобой, дураком, занимаются. — К слову пришлось, Николай Еремеич, извините... — То-то же к слову. Потом толстяк отправился к барыне, шумная ватага удалилась. Остался один дежурный конторщик, но вскоре явился главный кассир, рыжий, с бакенбардами, в старом черном фраке и мягких сапогах. Он похож был на кошку и скорее крался, чем ходил. Вдруг в контору ввалился человек совсем другого порядка: высокого роста, с лицом выразительным и смелым. — Нет его здесь? — спросил он, быстро глянув кругом. — Николай Еремеич у барыни, — отвечал кассир. — Что вам надобно, скажите мне, Павел Андреич: вы мне можете сказать... Вы чего хотите? — Чего я хочу?.. Проучить я его хочу, брюхача негодного, наушника подлого... Я ему дам наушничать! Павел бросился на стул. — Что вы, что вы, Павел Андреич? Успокойтесь... Как вам не стыдно? Вы не забудьте, про кого вы говорите, Павел Андреич! — залепетал кассир. — Про кого? А мне что за дело, что его в главные конторщики пожаловали! Вот нечего сказать, нашли кого пожаловать! Вот уж точно, можно сказать, пустили козла в огород! — Полноте, полноте, Павел Андреич, полноте! Бросьте это... — Ну, Лиса Патрикеевна, пошла хвостом вилять!.. А, да вот он и жалует, — прибавил он, взглянув в окно: — легок на помине... Лицо толстяка сияло удовольствием, но при виде Павла он несколько смутился. — Здравствуйте, Николай Еремеич, — значительно проговорил Павел, медленно подвигаясь к нему навстречу: — Здравствуйте. Главный конторщик не отвечал... — Что ж вы мне не изволите отвечать? — продолжал Павел. — Впрочем, нет... нет, — прибавил он: — эдак не дело; криком да бранью ничего не возьмешь. Нет, вы мне лучше добром скажите, Николай Еремеич, за что вы меня погубить хотите? Толстяк притворился непонимающим, но Павел наступал. — Ну, за что вы бедной девке жить не даете? Что вам надобно от нее? — Вы о ком говорите, Павел Андреич? — с притворным изумлением спросил толстяк. — Эка! Не знаете, небось? Я об Татьяне говорю. Побойтесь Бога, — за что мстите? Стыдитесь: вы человек женатый, дети у вас с меня уже ростом, а я не что другое... Я жениться хочу: я по чести поступаю. — Чем же я тут виноват, Павел Андреич? Барыня вам жениться не позволяет: ее господская воля! Я-то тут что? — Вы что? А вы с этой старой ведьмой, с ключницей, не стакнулись небось? Небось. Не наушничаете, а? Скажите, не взводите на беззащитную девку всякую небылицу? Небось, не по вашей милости ее из прачек в судомойки произвели! И бьют-то ее и в затрапезе держат не по вашей милости?.. Стыдитесь, стыдитесь, старый вы человек!.. — Ругайтесь, Павел Андреич, ругайтесь... Долго ли вам придется ругаться-то! Павел вспыхнул. — Что? Грозить мне вздумали? — с сердцем заговорил он. — Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, брат, не на того наткнулся, чего мне бояться?.. Я везде себе хлеб сыщу. Вот ты — другое дело. Тебе только здесь и жить, да наушничать, да воровать... — Ведь вот как зазнался, — перебил его конторщик, который тоже начинал терять терпение: фершель просто фершель, лекаришка пустой; а послушай-ка его, — фу ты какая важная особа!.. — Слушай, Николай Еремеич, — заговорил Павел с отчаянием: — в последний раз тебя прошу... вынудил ты меня — невтерпеж мне становится. Оставь нас в покое, понимаешь?.. Толстяк расходился. — Я тебя не боюсь, — закричал он: — слышишь ли ты, молокосос! Я и с отцом твоим справился, я и ему рога сломил — тебе пример, смотри! — Не напоминай мне про отца... — Вона! Ты что мне за уставщик! — Говорят тебе, не напоминай! — А тебе говорят, не забывайся... А девке Татьяне поделом... Погоди, не то ей еще будет! Павел кинулся вперед с поднятыми руками, конторщик тяжко покатился на пол. Автор «Записок» в тот же день вернулся домой, а через неделю узнал, что госпожа Лоснякова «оставила и Павла и Николая у себя в услуженье, а девку Татьяну сослала: видно, не понадобилась». В глуши, в имении помещицы — вполне бюрократическое учреждение с доморощенными, примитивными, но по-своему влиятельными чиновниками. Конторщики пишут ненужные бумаги, посредничают, влияют на принятие решений и страшно вредят окружающим, если не получают приличную взятку. В общем, паразитируют и мешают, но, видимо, придают некий вес делам и решениям барыни. Эта контора — словно прообраз будущих неправедных в большинстве своем учреждений; только вместо полновластной барыни появится потом начальство, и все примет иные, далеко не столь примитивные, патриархальные формы. 1852 Бирюк Автор «Записок» ехал вечером с охоты на дрожках. Разразилась гроза. «Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за лесу; надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели». В разгар ненастья появилась высокая фигура лесника, пригласившего охотника к себе. Они ехали довольно долго, наконец, в блеске молний показалась небольшая избушка среди двора, обнесенного плетнем. «Из одного окошка тускло светил огонек». Изба «состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста». Девочка лет двенадцати, открывшая им дверь, присела на скамейку и стала качать люльку. Лесник был «высок, плечист и сложен на славу... Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза». Он сообщил, что имя его Фома, а прозвище — Бирюк. Это прозвище было известно автору «Записок». Все окрестные мужики боялись Бирюка: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, — силен, дескать, и ловок, как бес... И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет». А как сам Бирюк объясняет свое рвение? — Должность свою справляю, — отвечал он угрюмо: — даром господский хлеб есть не приходится. Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину. — Аль у тебя хозяйки нет? — спросил я его. — Нет, — отвечал он и сильно махнул топором. — Умерла, знать? — Нет... да... умерла, — прибавил он и отвернулся. Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня. — С прохожим мещанином сбежала, — произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась; ребенок проснулся и закричал; девочка подошла к люльке. — На, дай ему, — проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. — Вот и его бросила, — продолжал он вполголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся. — Вы, чай, барин, — начал он, — нашего хлеба есть не станете, а у меня окромя хлеба... — Я не голоден. — Ну как знаете. Самовар я бы вам поставил, да чаю у меня нету...» Гроза утихала. «Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии; но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо, звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «Во... вот, — проговорил он вдруг и протянул руку: — вишь, какую ночку выбрал... — Я с тобой пойду... хочешь? — Ладно, — отвечал он... — мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте». Сначала один только Бирюк различал в шуме листьев стук топора, потом слышнее стали мерные удары. «Глухой и продолжительный гул раздался... — Повалил... — пробормотал Бирюк. Между тем небо продолжало расчищаться; в лесу чуть-чуть светлело». Лесник велел спутнику подождать и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Сквозь шум ветра доходили слабые звуки: «топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрипели, лошадь фыркала...». — Куда? Стой! — загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, по-заячьи... — Вре-шь, вре-шь, — твердил, задыхаясь Бирюк: — не уйдешь. Он повалил вора, закрутил ему кушаком руки на спину. Мужик был мокрый, в лохмотьях. — Отпусти его, — шепнул я на ухо Бирюку: — я заплачу за дерево. Но лесник ничего не ответил. Опять стал накрапывать дождь и вскоре полил ручьями. С трудом добрались до избы. Лесник бросил пойманную лошаденку посреди своего двора, ввел мужика в комнату, посадил в угол. Тот сидел неподвижно на лавке, худой, морщинистый, с испитым лицом. — Фома Кузьмич, — заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым: — а Фома Кузьмич. — Чего тебе? — Отпусти. Бирюк не отвечал. — Отпусти... с голодухи... отпусти. — Знаю я вас... вор на воре. — Отпусти, — твердил мужик: — прикашшик... разорены, во-как... отпусти! — Разорены!.. Воровать никому не след. — Отпусти, Фома Кузьмич... не погуби. Бирюк отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно. — Отпусти, — повторял он с унылым, отчаяньем... — Ей-богу, с голодухи... детки пищат, сам знаешь. Круто, во-как, приходится. — Лошаденку-то, хоть ее-то... один живот и есть... отпусти! — Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится. — Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того... — Э, да что с тобой толковать; сиди смирно... Мужик внезапно выпрямился... — Ну, на, ешь, на, подавись, на... душегубец окаянный, пей христианскую кровь, пей... — Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал? — заговорил с изумлением лесник. — Пьян!.. не на твои ли деньги, душегубец окаянный, зверь, зверь, зверь! — Ах ты... да я тебя! — А мне что? Все едино — пропадать; куда я без лошади пойду? Пришиби — один конец; что с голоду, что так — все едино. Пропадай все: жена, дети, — околевай все... А до тебя, погоди, доберемся! Бирюк приподнялся. — Бей, бей, — подхватил мужик свирепым голосом: — бей, на, на, бей... — Молчать! — загремел лесник и шагнул два раза. — Полно, полно, Фома, — закричал я: — оставь его... — Не стану я молчать, — продолжал несчастный. — Все едино — околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету... Да постой, недолго тебе царствовать! Затянут тебе глотку, постой! Бирюк схватил его за плечо... Я бросился на помощь мужику... — Не троньте, барин! — крикнул на меня лесник. Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку, но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон. — Убирайся к черту со своею лошадью! — закричал он ему вслед: — да смотри в другой раз у меня... — Ну, Бирюк, — промолвил я наконец, — удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый. — Э, полноте, барин, — перебил он меня с досадой: — не извольте только сказывать. Да уж лучше я вас провожу, — прибавил он: — знать, дождика-то вам не переждать... Через полчала он простился со мной на опушке леса. Коротенькая сравнительно зарисовка, но в ней все — и убожество жизни этих нищих мужиков, и смелая удаль, и надежная честность лесного богатыря, и его внезапно вдруг проявившаяся щедрая незлобивость. Вряд ли он испугался угроз. Просто спас человека, сам находясь в нечеловеческих условиях. В таких условиях, при которых даже его достоинства чаще служат не на пользу страдающим, а во вред. 1848 Два помещика Два помещика, люди почтенные, благонамеренные, уважаемые. Один из них отставной генерал-майор Вячеслав Илларионович Хвалынский. Высокий, когда-то стройный, он немного постарел и обрюзг, но еще «выступает бойко, смеется звонко, позвякивает шпорами, крутит усы». У него есть некоторые странности. Разговаривая «с дворянами небогатыми или нечиновными», он как-то по-особому на них глядит, как-то иначе произносит слова. Не может с ними общаться, как с равными себе. А уж с людьми, «стоящими на низших ступенях общества, он обходится еще страннее: вовсе на них не глядит. Зато «с губернатором или каким-нибудь чиновным лицом» очень мил: «и улыбается-то он, и головой кивает, и в глаза-то им глядит — медом так от него и несет...». На войне генерал не бывал, в молодые годы служил «адъютантом у какого-то значительного лица» и, как видно, угодничал. Вдобавок, скуп, «жила страшный» и «ужасный охотник до прекрасного пола». Живет один, до сих пор еще считается женихом, зато у него ключница видная, нарядная, лет 35-ти. Читает он мало, «даром слова» не владеет и длинных разговоров избегает. «Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает... держит речи отрывистые и резкие»: «это, однако, вы пус-тя-ки говорите» или: «вы должны, однако же, знать, с кем имеете дело...» От звания предводителя дворянства «по скупости» отказывается. Объясняет он это тем, что «решился посвятить свой досуг уединению». В общем, как видно, тип, мягко говоря, малосимпатичный: фарисей, хам, проходимец и т. п. Второй помещик, Мардарий Аполлоныч Стегунов — старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур; живет, как говорится, в свое удовольствие; зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате. В одном он только сошелся с генералом Хвалынским: он тоже холостяк». Занимается он «своим именьем довольно поверхностно». С крепостными обращается бесцеремонно, «по-старому». Его главный принцип: «коли барин — так барин, а коли мужик — так мужик». Он сидел на балконе с гостем, автором «Записок», пил чай, но вдруг остановился, прислушался: «звук мерных и частых ударов» раздавался «в направлении конюшни». Патриархальный старичок «произнес с добрейшей улыбкой: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!» — Это что такое? — спросил я с изумлением. — А там, по моему приказу, шалунишку наказывают... Васю-буфетчика изволите знать? — Какого Васю? — Да вот, что намедни за обедом нам служил. «Проезжая через деревню, увидел я буфетчика Васю. Он шел по улице и грыз орехи. Я велел кучеру остановить лошадей и подозвал его. — Что, брат, тебя сегодня наказали? — спросил я его. — А вы почем знаете? — ответил Вася. — Мне твой барин сказывал. — Сам барин? — За что ж он тебя велел наказать? — А поделом, батюшка, поделом. У нас по пустякам не наказывают; такого заведенья у нас нету — ни-ни. У нас барин не такой; у нас барин... такого барина в целой губернии не сыщешь. — Пошел! — сказал я кучеру. «Вот она, старая-то Русь!» — думал я на возвратном пути». Любая форма рабства надолго, на века развращает души рабов и господ. Еще долгодолго, столетиями Васька-буфетчик и его (уже более свободные) потомки будут боготворить своих кумиров, преклоняться перед лжепророками, доверчиво повторять внушенные кем-то лжеидеи, медленно и мучительно с ними расставаясь. И это все не только на Руси. Как ее ни отгораживай от остального, достаточно страшного мира, Царство Божье не построишь в одной, отдельно взятой стране. «Царство Божье не придет приметным образом — оно внутри нас». 1847 Певцы Небольшое, бедное сельцо Колотовка. Несколько тощих ракит, овраг по самой середине улицы. «Невеселый вид», но окрестные жители «ездят туда охотно и часто». Возле оврага стоит отдельно от других крытая соломой избушка. Ее окно «в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводною звездою». Это — кабак, прозванный «Притонным». Торгует здесь целовальник Николай Иванович, толстый, поседевший мужчина «с заплывшим лицом и хитро-добродушными глазками». Что-то в нем есть такое, что привлекает и удерживает гостей. «У него много здравого смысла; ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский». Он знает толк во всем: в лошадях, в лесе, в любом товаре, в песнях и плясках, много видел на своем веку, «знает все, что делается на сто верст кругом», и, как человек осторожный, помалкивает. У Николая Ивановича «бойкая, востроносая» жена, здоровые и умные дети. В жаркий июльский день, когда усталый охотник с собакой подходил к кабачку, на пороге вдруг показался мужчина высокого роста во фризовой шинели, на вид дворовый. Он кого-то звал и уже, по-видимому, успел выпить. — Ну, иду, иду, — раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек, низенький, толстый и хромой... — Кто меня ждет? — Экой ты, Моргач, чудной, братец: тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь: зачем?.. Яшка-то с рядчиком об заклад побились: осьмуху пива поставили — кто кого одолеет, лучше споет... — Яшка петь будет? — с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. — И ты не врешь, Обалдуй? Охотник, он же автор «Записок», не раз слышал об Яшке-турке, «лучшем певце в околотке» и вдруг представился случай «услышать его в состязанье с другим мастером». Но сначала несколько слов об устройстве деревенского кабака. Он состоит обычно «из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой», за которую посетителей не пускают. В перегородке «над широким дубовым столом проделано большое продольное отверстие. На этом столе или стойке продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядком стоят на полках, прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две-три пустые бочки, угловой стол». Здесь собралось уже «довольно многочисленное общество». Николай Иванович стоял за стойкой, в пестрой ситцевой рубахе. За ним в углу виднелась его востроглазая жена. На середине комнаты стоял Яшка-турок, «худой и стройный человек лет двадцати трех», в голубом нанковом кафтане. «Он смотрел удалым фабричным малым... все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волненье...» Рядом стоял «мужчина лет сорока, широкоплечий, широкоскулый». Выражение его смуглого лица было бы почти свирепым, если б оно не было так спокойно-задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма... Звали его Диким Барином. Напротив сидел рядчик из Жиздры, невысокого роста, лет тридцати, с «живыми карими глазками. Он бойко поглядывал кругом» и «беспечно болтал». И еще в углу сидел какой-то оборванный мужичок в «изношенной свите». В этот жаркий, душный день в комнате было прохладно. Охотник спросил себе пива и сел в уголок возле оборванного мужичка. — Жеребий кинуть — с расстановкой произнес Дикий Барин: — да осьмуху на стойку. Николай Иванович поставил на стол «осьмуху». Первым петь выпало рядчику. — Какую ж мне песню петь? — спросил рядчик, приходя в волненье. Ему сказали, чтобы пел какую хочет, «а мы уж потом решим по совести». Мы ждем самого состязания, но еще до его начала здесь некоторые данные о каждом из действующих лиц. Обалдуй, он же Евграф Иванов. Загулявший дворовый, от которого давно отступились собственные господа и который, не работая, не имея ни гроша, «находил, однако, средство каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых...». Моргач «некогда был кучером у старой бездетной барыни», но сбежал, прихватив с собой вверенную ему тройку лошадей. После бедствий бродячей жизни вернулся хромой, бросился госпоже в ноги и потом, заслужив милость примерным поведеньем, попал в приказчики. После смерти барыни Моргач, «неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю», торговал, разбогател. Это человек опытный, расчетливый, «тертый калач». Его глаза «никогда не смотрят просто — все высматривают да подсматривают». Яков, прозванный Турком, действительно происходил от пленной турчанки. Он «по душе художник», «а по званию — черпальщик на бумажной фабрике у купца». Рядчик — с виду изворотливый и бойкий городской мещанин. Дикий Барин, неуклюжий, как медведь, отличался «несокрушимым здоровьем», «неотразимой силой» и «спокойной уверенностью в собственном могуществе». «Не было человека более молчаливого и угрюмого». Никто не знал, из какого он сословия и чем живет, но деньги, правда небольшие, у него водились. «Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной, природной свирепости и такого же врожденного благородства». Рядчик выступил вперед и запел веселую плясовую песню. У него был лирический тенор, все слушали с большим вниманием и он, чувствуя, что имеет дело «с людьми сведущими», «просто лез из кожи». Сначала слушали спокойно, потом Обалдуй вдруг «вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с Моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо!..» Забирай, шельмец!.. Накаливай еще, собака ты эдакая, пес!..» Николай Иванович из-за стойки одобрительно закачал головой... Обалдуй, наконец, затопал, засеменил ногами и задергал плечиком, — а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал, как лист...» Ободренный рядчик «совсем завихрился», и, когда, наконец, «утомленный, бледный», он издал «последний замирающий возглас, — общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею...» Даже «мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! Хорошо, черт побери — хорошо!», и с решительностью плюнул в сторону. — Ну, брат, потешил! — кричал Обалдуй... Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю — осьмуха твоя. Яшке до тебя далеко...». Потом Дикий Барин приказал молчать и скомандовал: «Яков, начинай!» Взглянув кругом, Яков «закрылся рукой». «Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное, легкое беспокойство... Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо, — оно было бледное, как у мертвого... Он глубоко вздохнул и запел... «Не одна во поле дороженька пролегала» пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобной голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый... в нем была и... молодость, и сила... и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны... Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас... Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня... я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну... Николай Иванович потупился, Моргач отвернулся... серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого Барина из-под совершенно надвинувшихся бровей медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился...» Кончилась песня, но все еще какое-то время ждали. — Яша, — проговорил Дикий Барин, положил ему руку на плечо и — смолк. Мы все стояли, как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. — Ты... твоя... ты выиграл, — произнес он наконец с трудом и бросился вон из комнаты... Все заговорили шумно, радостно... Моргач стал целоваться с Яковом, Николай Иванович объявил, что «прибавляет от себя еще осьмуху пива; Дикий Барин посмеивался каким-то добрым смехом... серый мужичок то и дело твердил в своем уголке, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду: «А хорошо вот, будь я собачий сын, хорошо!» В этот миг нельзя не любить их всех, всех без исключения. Вот она, та самая любовь, о которой сказано: «Возлюби ближнего...» Охотник потом уснул на сеновале и когда проснулся, был уже вечер. «По деревне мелькали огоньки; из недалекого, ярко освещенного кабака несся нестройный смутный гам». Он подошел к окошку и увидел «невеселую картину: все было пьяно — все, начиная с Якова». Совершенно «развинченный» Обалдуй «выплясывал вперепрыжку»; бессмысленно улыбаясь, «топотал и шаркал ослабевшими ногами» серый мужичок; язвительно посмеивался Моргач, весь красный, как рак... В комнату набилось много новых лиц, и все были пьяны. Еще недавно — восторг, от всей души доброта! А теперь вовсю разгул! В этом бедламе Дикого Барина вообще не было, а Николай Иванович сохранял свое «неизменное хладнокровье». «Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом». 1851 Свиданье Березовая роща. Середина сентября. «С самого утра перепадал легкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сияньем; была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновенье, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая...» Охотник безмятежно уснул, «угнездившись» под деревцем, «у которого сучья начинались низко над землей» и могли защитить от дождя, а когда проснулся, увидел шагах в двадцати от себя молодую крестьянскую девушку. Она сидела, «задумчиво потупив голову и уронив обе руки на колени». На ней была клетчатая юбка и «чистая белая рубаха, застегнутая у горла и кистей». Узкая алая повязка, надвинутая почти на самый лоб, «густые белокурые волосы прекрасного пепельного цвета...». «Вся ее головка была очень мила; даже немного толстый и круглый нос ее не портил. Мне особенно нравилось выражение ее лица: так оно было просто и кротко, так грустно и так полно детского недоумения перед собственной грустью». Она кого-то ждала; встрепенулась, когда что-то хрустнуло в лесу, несколько мгновений прислушивалась, вздохнула. «Веки ее покраснели, горько шевельнулись губы, и новая слеза прокатилась из-под густых ресниц, останавливаясь и лучисто сверкая на щеке». Она долго ждала. Снова что-то зашумело, и она встрепенулась. Послышались «решительные, проворные шаги». Ну вот, сейчас он придет, ее кумир. Горы книг, тысячи песен об этом... И в XX веке та же беда: Зачем вы, девочки, красивых любите, Одни страдания от той любви! «Она вгляделась, вспыхнула вдруг, радостно и счастливо улыбнулась, хотела было встать и тотчас опять поникла вся, побледнела, смутилась и только тогда подняла трепещущий, почти молящий взгляд на пришедшего человека, когда тот остановился рядом с ней... Это был, по всем признакам, избалованный камердинер молодого, богатого барина. Его одежда изобличала притязанье на вкус и щегольскую небрежность». «Коротенькое пальто бронзового цвета, вероятно с барского плеча», «розовый галстучек», «бархатный черный картуз с золотым галуном, надвинутый на самые брови. Лицо «свежее» и «нахальное». «Он, видимо, стремился придать своим грубоватым чертам выраженье презрительное и скучающее», щурил глазки и «ломался нестерпимо». — А что, — спросил он, присев рядом, но равнодушно глядя куда-то в сторону и зевая, — давно ты здесь? — Давно-с, Виктор Александрыч, — проговорила она, наконец едва слышным голосом. — А!.. я было совсем и позабыл. Притом, вишь, дождик! (Он опять зевнул.) Дела пропасть: за всем не усмотришь, а тот еще бранится. Мы завтра едем... — Завтра? — произнесла девушка и устремила на него испуганный взор. — Завтра... Ну, ну, ну, пожалуйста, — подхватил он поспешно и с досадой, — пожалуйста, Акулина, не плачь. Ты знаешь, я этого терпеть не могу... — Ну, не буду, не буду, — торопливо произнесла Акулина, с усилием глотая слезы. (Его не волновало, предстоит ли им еще увидеться.) — Увидимся, увидимся. Не в будущем году — так после. Барин-то, кажется, в Петербург на службу поступать желает... а может быть, и за границу уедем. — Вы меня забудете, Виктор Александрыч, — печально промолвила Акулина. — Нет, отчего ж? Я тебя не забуду; только ты будь умна, не дурачься, слушайся отца... А я тебя не забуду — не-ет. (И он спокойно потянулся и опять зевнул.) — Не забывайте меня, Виктор Александрыч, — продолжала она умоляющим голосом. — Уж, кажется, я на что вас любила, все, кажется, для вас... Вы говорите, отца мне слушаться, Виктор Александрыч... Да как же мне отца-то слушаться... — А что? (Он произнес это, лежа на спине и подложив руки под голову.) — Да как же, Виктор Александрыч, вы сами знаете... — Ты, Акулина, девка неглупая, — заговорил он, наконец: — и потому вздору не говори... Я твоего же добра желаю... Конечно, ты не глупа, не совсем мужичка, так сказать; и твоя мать тоже не всегда мужичкой была. Все же ты без образованья, — стало быть, должна слушаться, когда тебе говорят. — Да страшно, Виктор Александрыч. — И-и, какой вздор, моя любезная: в чем нашла страх! Что это у тебя, — прибавил он, подвинувшись к ней: — цветы? — Цветы, — уныло отвечала Акулина. — Это я полевой рябинки нарвала, — продолжала она, несколько оживившись: — это для телят хорошо. А это вот череда — против золотухи. Вот поглядите-ка, какой чудесный цветик; такого чудного цветика я еще отродясь не видала... А вот это я для вас, — прибавила она, доставая из-под желтой рябинки небольшой пучок голубеньких васильков, перевязанных тоненькой травкой: — хотите? Виктор лениво протянул руку, взял, небрежно понюхал цветы и начал вертеть в пальцах, с задумчивой важностью посматривая вверх. Акулина глядела на него... В ее грустном взоре было столько нежной преданности, благоговейной покорности, любви. Она и боялась-то его, и не смела плакать, и прощалась с ним, и любовалась им в последний раз; а он лежал, развалясь, как султан, и с великодушным терпеньем и снисходительностью сносил ее обожанье... Акулина была так хороша в это мгновенье: вся душа ее доверчиво, страстно раскрывалась перед ним, тянулась и ластилась к нему, а он... он уронил васильки на траву, достал из бокового кармана пальто круглое стеклышко в бронзовой оправе и принялся втискивать его в глаз; но, как он ни старался удержать его нахмуренной бровью, приподнятой щекой и даже носом, — стеклышко все вываливалось и падало ему в руку. — Что это? — спросила, наконец, изумленная Акулина. — Лорнет, — отвечал он с важностью. — Для чего? — А чтоб лучше видеть. — Покажьте-ка. Виктор поморщился, но дал ей стеклышко. — Не разбей, смотри. — Небось, не разобью. (Она робко поднесла его к глазу.) Я ничего не вижу, — невинно проговорила она. — Да ты глаз-то, глаз-то зажмурь, — возразил он голосом недовольного наставника. (Она зажмурила глаз, перед которым держала стеклышко.) — Да не тот, не тот, глупая! Другой! — воскликнул Виктор и, не давши ей исправить свою ошибку, отнял у ней лорнет. Акулина покраснела, чуть-чуть засмеялась и отвернулась. — Видно, нам не годится, — промолвила она. — Еще бы! Бедняжка помолчала и глубоко вздохнула. — Ах, Виктор Александрыч, как это будет нам быть без вас! — сказала она вдруг. Виктор вытер лорнет полой и положил его обратно в карман. — Да, да, — заговорил он, наконец: — тебе сначала будет тяжело, точно. (Он снисходительно потрепал ее по плечу; она тихонько достала с своего плеча его руку и робко ее поцеловала.) Ну, да, да, ты точно девка добрая, — продолжал он самодовольно улыбнувшись: — но что же делать? Ты сама посуди! Нам с барином нельзя же здесь остаться; теперь скоро зима, а в деревне зимой, — ты сама знаешь, — просто скверность. То ли дело в Петербурге! Там просто такие чудеса, каких ты, глупая, и во сне себе представить не можешь. Дома какие, улицы, а обчество, образованье — просто удивленье!.. (Акулина слушала его с пожирающим вниманьем, слегка раскрыв губы, как ребенок.) Впрочем, — прибавил он, заворочавшись на земле, — к чему я тебе это все говорю? Ведь ты этого понять не можешь. В душе крепостного крестьянина, «мужика», при всей его примитивности, дикости была подчас христианская незлобивость, смиренная простота. Лакей же, хотя бы чуточку соприкоснувшийся с барской роскошью, привилегиями, забавами, но в отличие от богатого барина всего этого лишенный; и вдобавок никогда не учившийся, ну хотя бы как его барин: «чему-нибудь и как-нибудь»; такой лакей зачастую развращался. Темный парень, повидав «обчество» и разные «чудеса», петербургские или еще и заморские, глядит свысока на прежних «братьев по классу» и ради собственной забавы никого не пощадит. Но вернемся к Акулине и камердинеру. — Отчего же, Виктор Александрыч? Я поняла; я все поняла. — Вишь, какая! Акулина потупилась. — Прежде вы со мной не так говаривали, Виктор Александрыч, — проговорила она, не поднимая глаз. Прежде?.. прежде! Вишь, ты!.. Прежде! — заметил он, как бы негодуя. Они оба помолчали. — Однако мне пора идти, — проговорил Виктор и уже оперся было на локоть... — Подождите еще немножко, — умоляющим голосом произнесла Акулина. — Чего ждать? Ведь уж я простился с тобой. — Подождите, — повторила Акулина... Ее губы подергивало, бледные ее щеки слабо заалелись... — Виктор Александрыч, — заговорила она, наконец, прерывающимся голосом: — вам грешно... вам грешно, Виктор Александрыч... — Что такое грешно? — спросил он, нахмурив брови... — Грешно, Виктор Александрыч. Хоть бы доброе словечко мне сказали на прощанье; хоть бы словечко мне сказали, горемычной сиротинушке... — Да что я тебе скажу? — Я не знаю; вы это лучше знаете, Виктор Александрыч. Вот вы едете, и хоть бы словечко... Чем я заслужила? — Какая ты странная! Что ж я могу! — Хоть бы словечко. — Ну, зарядила одно и то же, — промолвил он с досадой и встал. — Не сердитесь, Виктор Александрыч, — поспешно прибавила она, едва сдерживая слезы. — Я не сержусь, а только ты глупа... Чего ты хочешь? Ведь я на тебе жениться не могу? Ведь не могу? Ну, так чего же ты хочешь? Чего?.. — Я ничего... ничего не хочу, — отвечала она, заикаясь и едва осмеливаясь простирать к нему трепещущие руки: — а так хоть бы словечко на прощанье... И слезы полились у нее ручьем. — Ну, так и есть, пошла плакать, — хладнокровно промолвил Виктор, надвигая сзади картуз на глаза. — Я ничего не хочу, — продолжала она, всхлипывая и закрыв лицо обеими руками: — но каково же мне теперь в семье, каково же мне? И что же со мной будет, что станется со мной, горемычной? За немилого выдадут сиротиночку... Бедная моя головушка! — Припевай, припевай, — вполголоса пробормотал Виктор, переминаясь на месте. — А он хоть бы словечко, хоть бы одно... Дескать, Акулина, дескать, я... Внезапные, надрывающие грудь рыданья не дали ей докончить речи — она повалилась лицом на траву и горько, горько заплакала... Все ее тело судорожно волновалось... Долго сдержанное горе хлынуло, наконец, потоком. Виктор постоял над ней, постоял, пожал плечами, повернулся и ушел большими шагами. Прошло несколько мгновений... Она притихла, подняла голову, вскочила, оглянулась и всплеснула руками; хотела было бежать за ним, но ноги у ней подкосились — она упала на колени... Автор «Записок» бросился было к ней, но едва его увидав, она «с слабым криком поднялась и исчезла за деревьями, оставив разбросанные цветы на земле. Я постоял, поднял пучок васильков и вышел из рощи, в поле». Всего лишена. Кроме юности, милой нетронутой прелести. Да и это принесла в жертву случайному проходимцу. А он тоже, в сущности, всего лишен, еще и нравственно искалечен. Попугай, доверчиво глазеющий на «обчество», «образованье» и прочее. А для нее он не только первая любовь, но, быть может, и олицетворение неведомых, далеких «чудес», «каких ты, глупая и во сне себе представить не можешь»; он — из мечты, прекрасной и недоступной. Это не просто о неразделенной любви, это еще и о социальной придавленности. «До вечера оставалось не более получаса, а заря едва-едва зажигалась. Порывистый ветер быстро мчался мне навстречу через желтое, высохшее жнивье; торопливо вздымаясь перед ним, стремились мимо, через дорогу, вдоль опушки, маленькие, покоробленные листья... сквозь невеселую, хотя свежую улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страх недалекой зимы». 1852 Лес и степь «Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе», — утверждает автор «Записок». Его любовь к природе и свободе вполне передается и читателю; талантливые, подлинные картины очищают и вдохновляют душу. Вот читатель вместе с охотником выезжает весной до зари. «Вы выходите на крыльцо... На темно-сером небе кой-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набегает легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью... А летнее июльское утро!.. Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час, другой... Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух...» А вот летний июльский вечер. «Заря заныла пожаром, обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени... Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката... Вот оно бледнеет; синеет небо; отдельные тени исчезают, воздух наливается мглою... А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже не видно; собаки едва белеют во мраке. Вон над черными кустами край неба смутно яснеет... Что это? — пожар?.. Нет, это восходит луна. А вон внизу, направо, уже мелькают огоньки деревни... А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина... Неизъяснимая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны... И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши; их надобно искать вдоль опушки. Ветра движенья; ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над желтыми полями... Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются... Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всей своей душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает — ни солнца нет, ни ветра, ни шума...» (Все это лишь отрывки, лишь короткое, предварительное знакомство с удивительным текстом...) «А осенний, ясный, немножко холодный утром морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уже не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья... Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана... Над вами, кругом вас — всюду туман... Но вот ветер слегка шевельнется — клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редеющий, словно задымившийся пар, золотисто-желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрется в рощу, — и вот опять все заволоклось. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет наконец восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то извиваются и исчезают в голубой, нежно сияющей вышине... Но вот вы собрались в отъезжее поле, в степь. Верст десять пробирались вы по проселочным дорогам — вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоялых двориков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого через необозримые поля, вдоль зеленых конопляников... Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строеньями, старинным мостом над глубоким оврагом... Далее, далее!.. Пошли степные места. Глянешь с горы — какой вид! Круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между лозняками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами... старенький господский дом с своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы все мельче и мельче, дерева почти не видать. Вот она, наконец — безграничная, необозримая степь!.. А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега... А первые весенние дни, когда кругом все блестит.... поют жаворонки, и с веселым шумом и ревом из оврага в овраг клубятся потоки...» В этом месте автор «Записок» прощается с читателем: «весной легко расставаться — весной и счастливых тянет вдаль...» 1848 1 «В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней... Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых...» Но вот Герасима привезли в Москву, дали в руки метлу и лопату, определили дворником. «Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту». Наконец он привык к городскому житью. Старая барыня прислугу держала многочисленную. Однажды ей вздумалось женить своего башмачника, горького пьяницу Капитона. — Может, он остепенится, — сказала она своему главному дворецкому Гавриле. — Отчего же не женить-с! можно-с, — ответил Гаврило, — и очень даже будет хорошо-с. Тут же барыня распорядилась отдать замуж за пьяницу прачку Татьяну. Татьяна — «женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой — предвещанием несчастной жизни... Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле: работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видела; одевали ее плохо; жалованье она получала самое маленькое...» (А ведь ей, «как искусной и ученой прачке, поручалось одно только тонкое белье».) «Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного или, лучше сказать, запуганного; к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других — боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала». А теперь о любви Герасима к Татьяне. «Полюбилась она ему: кротким ли выражением лица, робостью ли движений...» Как-то встретив ее во дворе, он схватил ее за локоть и, ласково мыча, протянул ей пряник — петушка с сусальным золотом на хвосте и крыльях. «С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдет, он уже тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил; да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство». Увидав однажды, что пьяница Капитон «как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай, да ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозился ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной». Теперь Герасим хотел просить у барыни позволения жениться на Татьяне, ждал только нового кафтана, обещанного ему дворецким: хотелось в приличном виде явиться перед барыней. Он ее крепко побаивался при всем своем бесстрашии. Вот так одна глупая, пустая старуха распоряжалась человеческими судьбами. Герасим, Татьяна, Капитон и прочие... Ни образования у них, ни развития, ни смысла в жизни! Социальная обстановка людей калечит. Пьянице Капитону невеста очень нравилась, но все знали, что Герасим к ней неравнодушен. — Да помилуйте, Гаврило Андреич! Ведь он меня убьет, ей-богу, убьет, как муху какую- нибудь прихлопнет; ведь у него рука, ведь вы извольте посмотреть, что у него за рука; ведь у него просто Минина и Пожарского рука. — Ну, пошел вон, — нетерпеливо перебил его Гаврило... Капитон отвернулся и поплелся вон. — А положим, его бы не было, — крикнул ему вслед дворецкий, — ты-то сам согласен? — Изъявляю, — возразил Капитон и удалился. Красноречие не покидало его даже в крайних случаях. Затем дворецкий вызвал Татьяну. Девушка милая, красивая, труженица. Добрая, кроткая душа. Но до какой же степени она забита и унижена! — Что прикажете, Гаврило Андреич? — проговорила она тихим голосом. Дворецкий пристально посмотрел на нее. — Ну, — промолвил он: — Танюша, хочешь замуж итти? Барыня тебе жениха сыскала. — Слушаю, Гаврило Андреич. А кого она мне в женихи назначает? — прибавила она с нерешительностью. — Капитона, башмачника. — Слушаю-с. — Он легкомысленный человек, — это точно. Но госпожа в этом случае на тебя надеется. — Слушаю-с. — Одна беда... ведь этот глухарь-то, Гераська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьет тебя, пожалуй, медведь эдакой. — Убьет, Гаврило Андреич, беспременно убьет. — Убьет... Ну, это мы увидим. Как это ты говоришь: убьет. Разве он имеет право тебя убивать, посуди сама. — А не знаю, Гаврило Андреич, имеет ли, нет ли. — Экая! Ведь ты ему эдак ничего не обещала... — Чего изволите-с? Дворецкий помолчал и подумал: — Безответная ты душа! 2 Надо было выполнять мимолетный каприз старой барыни, но так чтобы не обеспокоить ее каким-нибудь происшествием. «Думали, думали и выдумали наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц... Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы пошатываясь и покачиваясь мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но ее уговорили... Хитрость удалась как нельзя лучше». Герасим потерял к Татьяне всякий интерес, хотя пережил сильное потрясение: целые сутки не выходил из своей каморки и форейтор Антипка видел сквозь щель, как Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча — пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он отошел от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из каморки, в нем особенной перемены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюмее, а на Татьяну и на Капитона не обращал ни малейшего внимания». А через год, когда Капитон окончательно спился и вместе с женой был отправлен в дальнюю деревню, Герасим в момент их отъезда «вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для нее же с год тому назад». И она прослезилась и, «садясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с Герасимом». Он хотел было ее проводить, но потом вдруг остановился, «махнул рукой и отправился вдоль реки». Вечерело. Вдруг он заметил, что в тине у самого берега барахтается белый с черными пятнами щенок и никак не может выбраться. Герасим подхватил «несчастную собачонку», «сунул ее к себе за пазуху», а дома уложил на свою кровать, принес из кухни чашечку молока. «Бедной собачонке было всего недели три... она еще не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, да как засмеется вдруг... Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул, наконец, сам возле нее каким-то радостным и тихим сном. Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей». Понемногу слабенький, тщедушный, некрасивый щенок превратился «в очень ладную собачку». «Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг». Он ее назвал Муму. 3 Прошел еще год. И вдруг «в один прекрасный летний день» барыня увидела в окно Муму и велела ее привести. Лакей бросился исполнять приказание, но лишь с помощью самого Герасима удалось ее изловить. — Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне, — говорила госпожа, — подойди, глупенькая... не бойсь... — Подойди, подойди, Муму, к барыне, — твердили приживалки: — подойди. Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места. Принесли блюдечко с молоком, но Муму его даже и не понюхала, «и все дрожала и озиралась по-прежнему». — Ах какая же ты! — промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить ее, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку... — Отнеси ее вон, — проговорила изменившимся голосом старуха. — Скверная собачонка! Какая она злая! На другое утро она сказала: — И на что немому собака? Кто ему позволил собак у меня на дворе держать?.. — Чтоб ее сегодня же здесь не было... слышишь? — приказала она Гавриле. Получив приказание от дворецкого, лакей Степан изловил Муму в тот момент, когда Герасим внес в барский дом вязанку дров, а собачка, по обыкновению, осталась за дверью его дожидаться. Степан тут же сел на первого попавшегося извозчика, поскакал в Охотный ряд и кому-то продал собачку за полтинник. При этом он договорился, что ее неделю продержат на привязи. Как Герасим ее искал! До самой ночи. Весь следующий день он не показывался, на другое утро вышел из своей каморки на работу, но его лицо словно окаменело. «Настала ночь, лунная, ясная». Герасим лежал на сеновале и «вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу; он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился, но вот опять...». Перед ним была Муму с обрывком на шее, он «стиснул ее в своих объятиях», а она мгновенно облизала ему все лицо. Единственное существо, которое он любил и которое так любило его. Люди ему уже прежде объяснили знаками, как его Муму «окрысилась» на барыню, он понимал, что от собаки решили избавиться. Теперь он стал ее прятать: весь день держал в каморке взаперти, ночью выводил. Но когда какой-то пьяница улегся на ночь за забором их двора, Муму ночью во время прогулки залилась громким лаем. Внезапный лай разбудил барыню. — Опять, опять эта собака!.. Ох, пошлите за доктором. Они меня убить хотят... Весь дом был поднят на ноги. Герасим, увидав замелькавшие огни и тени в окнах, схватил свою Муму и заперся в каморке. Уже ломились в его дверь. Гаврило всем приказал караулить до утра, а сам «через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собаки завтра «в живых не будет, чтобы барыня сделала милость, не гневалась и успокоилась». На следующее утро «целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима». Крики, стук не помогали. В двери была дыра, заткнутая армяком. Протолкнули туда палку... Вдруг «дверь каморки быстро распахнулась — вся челядь тотчас кубарем скатилась по лестнице... Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока; в своей красной, крестьянской рубашке, он казался каким-то великаном перед ними. Гаврило сделал шаг вперед. — Смотри, брат, — промолвил он, — у меня не озорничай. И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки: подавай, мол, ее сейчас... Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукою у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого. — Да, да, — возразил тот, кивая головой: — да, непременно. Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что сам берет на себя уничтожить Муму. — Да ты обманешь, — замахал ему в ответ Гаврило. Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь... — Оставьте его, Гаврило Андреич, — промолвил Степан, — он сделает, коли обещал. — Уж он такой... Уж коли он обещает, это наверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да». Через час Герасим, ведя на веревочке Муму, вышел из дома. Сначала в трактире он взял щи с мясом, «накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на нее; две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз... Он заслонил лицо своей рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и пошел вон...» Он шел, не торопясь, не спуская Муму с веревочки. Проходя мимо строящегося флигеля, взял оттуда пару кирпичей. Потом от Крымского Брода дошел до места, где стояли две лодочки и вскочил вместе с Муму в одну из них. Он «так сильно принялся грести, хотя и против теченья реки, что в одно мгновенье умчался саженей на сто... Он бросил весла, приник головой к Муму...». Единственное существо, которое он любил и которое так любило его. Убить это существо своими руками! Но ему даже в голову не пришло нарушить приказанье барыни. Удалось хотя бы не отдать собачку на мученье в чужие руки. Наконец он выпрямился, «окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее... Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки...». 4 «Вечером на шоссе безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим». Он спешил прочь из Москвы, к себе в деревню, на родину, хотя там его никто не ждал. «Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо туманился последним отблеском исчезавшего дня, — с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, взапуски перекликивались коростели... Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев... но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу, — ветер с родины — ласково ударял его в лицо...». Через два дня он был уже в своей избенке, помолился перед образами и отправился к старосте. Староста удивился, но предстоял сенокос, и «Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки». А в Москве барыня разгневалась и сначала приказала вернуть его немедленно, а потом заявила, что «такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен». И он живет одиноко в своей деревенской избушке. Душа у этого верзилы-богатыря нежная, ранимая. Поэтому он на женщин больше не глядит и ни одной собаки у себя не держит. Власть одних людей над другими. Как она калечит и тех и других. До поры до времени люди еще такие (в подавляющем большинстве), что им требуется узда? И чем менее совершенны эти люди, тем, видимо, крепче должна быть узда. Над ними власть обычно такая, какую они заслуживают. Окажись все или подавляющее большинство такими, как Герасим — честными, душевными, самоотверженными, работящими, возник бы какой-то совсем иной порядок, иная общественная система. Но пока что из всей дворни таким оказался лишь человек «не от мира сего», глухонемой, почти не воспринимающий всей информации, всех сигналов «сего мира». И Татьяна, светлая, в сущности, душа, задавлена этой жизнью и вполне послушна. Ее можно как угодно поворачивать и настраивать. Ею можно манипулировать, как и всей толпой. Получилась грустная, подчас трогательная и вполне реальная (и страшная!) картина жизни. 1852 1 «Было тихое летнее утро». Деревенька на вершине холма, к ней «по узкой проселочной дорожке шла молодая женщина в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке. Казачок издали следовал за ней». Она «шла из собственного своего села», звали ее Александрой Павловной Липиной. Сразу живая картина: и тихое летнее утро, и деревенька на вершине холма, и молодая женщина в белом кисейном платье. Кто она? «Вдова, бездетна и довольно богата», живет с братом, отставным штабс-ротмистром Сергеем Павловичем Волынцевым. «Он не был женат и распоряжался ее имением». А вот о ее человеческих качествах (и заодно кое-что о социальном неравенстве.) Подойдя к ветхой избушке, она послала туда своего казачка спросить о здоровье хозяйки. «Он скоро вернулся в сопровождении дряхлого мужика с белой бородой. — Ну что? — спросила Александра Павловна. — Жива еще... — проговорил старик». В избе тесно, душно, дымно. В полумраке на лежанке стонет больная старушка, укрытая тяжелым армяком. Ее лоб «так и пылал». — Не перевезти ли ее ко мне в больницу? — спросила барыня. — Нет! Зачем в больницу! Все одно помиратьто. Пожила довольно... — полагает старик. — С лежанки не сходит... Ее станут поднимать, она и помрет». Выясняется, что Александра Павловна принесла чаю и сахару. Старушка просит: «Дай, барыня, ручку». Но барыня добра и демократична, без претензий добра и проста, «не дала ей руки, нагнулась и поцеловала ее в лоб». Отдав необходимые распоряжения старику насчет лекарства и чая, она уходит. 2 Ей встретился на обратном пути человек лет тридцати на беговых дрожках — сосед-помещик, Михайло Михайлыч Лежнев, сгорбленный, запыленный, похожий на «большой мучной мешок». Он тут же умчался на своих дрожках, пообещав приехать завтра в гости. Потом встретился ей брат верхом, а рядом с ним «молодой человек небольшого роста» с умильной улыбочкой, некто Константин Диомидыч Пандалевский, живущий у богатой помещицы Дарьи Михайловны Ласунской «в качестве приемыша или нахлебника». Сколько всевозможных нахлебников — с умильными улыбочками или без оных, — но вынужденных приспосабливаться к своим покровителям, крутятся в «дворянских гнездах». И как зачастую искалечены их души, раздавлено достоинство, какие они подчас наглые, самодовольные, недалекие. Какие подчас бессовестные! Брат Александры Павловны отправился в поле, где «сеют гречиху», а Пандалевский «с величайшим удовольствием» отправился ее проводить. «И кому бы не было приятно вести под руку хорошенькую женщину, молодую и стройную? Об Александре Павловне вся ...ая губерния единогласно говорила, что она прелесть, и ...ая губерния не ошибалась. Один ее прямой, чуть-чуть вздернутый носик мог свести с ума любого смертного, не говоря уже о ее бархатных карих глазках, золотисто-русых волосах, ямках на круглых щечках и других красотах. Но лучше всего в ней было выражение ее миловидного лица: доверчивое, добродушное и кроткое, оно и трогало и привлекало. Александра Павловна глядела и смеялась, как ребенок; барыни находили ее простенькой...». Проводив Александру Павловну, молодой человек передал ей приглашение Ласунской «пожаловать к обеду», в этот же день. Оставшись один, Пандалевский как-то сразу переменился, обнаглел. Даже походка изменилась. А потом он вдруг увидел «молодую, довольно смазливую крестьянскую девушку, которая выгоняла телят из овса. Константин Диомидыч осторожно, как кот, подошел к девушке и заговорил с ней. Та сперва молчала, краснела и посмеивалась, наконец закрыла губы рукавом, отворотилась и промолвила: «Ступай, барин, право...» Но... на дороге появились сыновья Дарьи Михайловны Ласунской со своим учителем Басистовым. Это был «молодой человек двадцати двух лет, только что окончивший курс», небрежно одетый, «некрасивый и неловкий, но добрый, честный и прямой». Он любил хорошую книгу, «горячую беседу и всей душой ненавидел Пандалевского». 3 Теперь нам предстоит познакомиться с Дарьей Михайловной Ласунской, чей дом «считался чуть ли не первым по всей губернии. Огромный, каменный, сооруженный по рисункам Расстрелли, во вкусе прошедшего столетия, он величественно возвышался на вершине холма, у подошвы которого протекала одна из главных рек средней России. Сама Дарья Михайловна была знатная и богатая барыня, вдова тайного советника. Хотя Пандалевский и рассказывал про нее, что она знает всю Европу, да и Европа ее знает! — однако Европа ее знала мало, даже в Петербурге она важной роли не играла; зато в Москве ее все знали, ездили к ней. Она принадлежала к высшему свету и слыла за женщину несколько странную, не совсем добрую, но чрезвычайно умную. В молодости она была очень хороша собою. Поэты писали ей стихи, молодые люди в нее влюблялись, важные господа волочились за ней. Но с тех пор прошло лет двадцать пять или тридцать, и от прежних прелестей не осталось и следа. «Неужели, — спрашивал себя невольно всякий, кто только видел ее в первый раз, — неужели эта худенькая, желтенькая, востроносая и еще не старая женщина была когда-то красавицей? Неужели это она, та самая, о которой бряцали лиры?..» И всякий внутренне удивлялся переменчивости всего земного. Правда, Пандалевский находил, что у Дарьи Михайловны удивительно сохранились ее великолепные глаза; но ведь тот же Пандалевский утверждал, что ее вся Европа знает. Дарья Михайловна приезжала каждое лето к себе в деревню с своими детьми (у нее их было трое: дочь Наталья, семнадцати лет, и два сына, десяти и девяти лет) и жила открыто...». Она «не любила стеснять себя в деревне, и в свободной простоте ее обхождения замечался легкий оттенок презрения столичной львицы к окружавшим ее, довольно темным и мелким существам...». Теперь войдем в ее гостиную, куда вскоре пришел и Пандалевский и где «салон уже начался». А вот собравшееся там общество. Хозяйка расположилась на широкой кушетке, «подобрав под себя ноги и вертя в руках новую французскую брошюру»; у окна за пяльцами сидели: с одной стороны дочь Дарьи Михайловны, а с другой — ее гувернанткафранцуженка, старая и сухая дева лет шестидесяти; «в углу, возле двери, поместился учитель Басистов и читал газету, подле него Петя и Ваня играли в шашки, а прислонясь к печке и заложив руки за спину, стоял господин небольшого роста, взъерошенный и седой, с смуглым лицом и беглыми черными глазками — некто Африкан Семеныч Пигасов. Это был человек, озлобленный против всего и всех — особенно против женщин», «все его существо казалось пропитанным желчью. Дарья Михайловна охотно принимала Пигасова: он потешал ее своими выходками». «Пигасову в жизни не повезло — он эту дурь и напустил на себя». Родители были бедны, отец «занимал разные мелкие должности, едва знал грамоту и не заботился о воспитании сына... Мать его баловала, но скоро умерла. Пигасов сам себя воспитал, сам определил себя в уездное училище, потом в гимназию, выучился языкам...» После гимназии он даже поступил в Дерптский университет. «Из честолюбия»: хотелось «попасть в хорошее общество, не отстать от других, назло судьбе». Но «мысли его не возвышались над общим уровнем», талантов не хватило. Ни научной карьеры он не сделал, ни на службе не преуспел. «Года три просидел он у себя в благоприобретенной деревеньке и вдруг женился на богатой, полуобразованной помещице, которую поймал на удочку своих развязных и насмешливых манер. Но нрав Пигасова уже слишком раздражился и окис; он тяготился семейной жизнью... Жена его, пожив с ним несколько лет, уехала тайком в Москву и продала какому-то ловкому аферисту свое имение, а Пигасов только что построил в нем усадьбу. Потрясенный до основания этим последним ударом, Пигасов затеял было тяжбу с женою, но ничего не выиграл... Он доживал свой век одиноко, разъезжал по соседям, которых бранил за глаза и даже в глаза... и никогда книги в руки не брал». Теперь в гостиной он разглагольствовал о своей нелюбви к женщинам и об их недостатках. Затем по просьбе хозяйки Пандалевский «сел за фортепьяно» и сыграл этюд весьма удовлетворительно. — Что вы задумались, Африкан Семеныч? — обратилась хозяйка к приумолкнувшему было Пигасову. — Я думаю, — начал медленно Пигасов, — что есть три разряда эгоистов: эгоисты, которые сами живут и жить дают другим; эгоисты, которые сами живут и не дают жить другим; наконец, эгоисты, которые и сами не живут, и другим не дают... Женщины большею частью принадлежат к третьему разряду. — Как это любезно! Одному я только удивляюсь, Африкан Семеныч, какая у вас самоуверенность в суждениях: точно вы никогда ошибиться не можете. — Кто говорит! И я ошибаюсь; мужчина тоже может ошибаться. Но знаете ли, какая разница между ошибкою нашего брата и ошибкою женщины? Не знаете? Вот какая: мужчина может, например, сказать, что дважды два — не четыре, а пять или три с половиною; а женщина скажет, что дважды два — стеариновая свечка. Не исключено, что и теперь Пигасов себя так проявлял из честолюбия, из желания «покрасоваться». В таком духе продолжалась беседа, когда лакей доложил о приезде Александры Павловны и ее брата. «Дарья Михайловна встала навстречу гостям». 4 До обеда еще оставалось около часу, и все общество отправилось в сад. В саду «было много старых липовых аллей, золотисто-темных и душистых, с изумрудными просветами по концам, много беседок из акаций и сирени. Волынцев вместе с Натальей и ее гувернанткой «забрались в самую глушь сада». Волынцев и Наталья шли рядом, гувернантка немного поотдаль. — Я скоро пришлю вам вашу лошадь, — сообщил между прочим Волынцев. — Она уже почти совсем выезжена. Мне хочется, чтобы она с места поднимала в галоп, и я этого добьюсь. — Однако мне совестно, — заметила Наталья. — Вы сами ее выезжаете... это, говорят, очень трудно. — Чтобы доставить вам малейшее удовольствие, вы знаете, Наталья Алексеевна, я готов... я... и не такие пустяки... Как он выглядел? Прекрасные темно-русые усы; похож на сестру, но в лице меньше игры и жизни; «и глаза его, красивые и ласковые, глядели как-то грустно». В доме «прозвенел колокол», звонили к обеду. А вечером все опять собрались в гостиную. Ждали приезжего барона, камер-юнкера. Наконец «раздался стук экипажа, небольшой тарантас въехал на двор, и через несколько мгновений лакей вошел в гостиную и подал Дарье Михайловне письмо на серебряном блюдечке. Барон сообщал в нем, что получил предписание вернуться в Петербург, но он прислал свою статью с господином Рудиным, своим приятелем. — Дмитрий Николаевич Рудин, — доложил лакей. Ну вот, посмотрим на главного героя! 5 «Вошел человек лет тридцати пяти, высокого роста, несколько сутуловатый, курчавый, смуглый, с лицом неправильным, но выразительным и умным, с жидким блеском в быстрых темно-синих глазах, с прямым широким носом и красиво очерченными губами. Платье на нем было не ново и узко, словно он из него вырос. Он проворно подошел к Дарье Михайловне и, поклонясь коротким поклоном, сказал ей, что давно желал иметь честь представиться ей и что приятель его, барон, очень сожалел о том, что не мог прибыть лично. Тонкий звук голоса Рудина не соответствовал его росту и его широкой груди. — Садитесь... очень рада, — промолвила Дарья Михайловна и, познакомив его со всем обществом, спросила, здешний ли он или заезжий. — Мое имение в Т...ой губернии, — отвечал Рудин, держа шляпу на коленях, — а здесь я недавно. Я приехал по делу и поселился пока в вашем уездном городе... — Вы служите? — спросила она. — Кто? Я-с? — Да. — Нет... я в отставке. Затем Пигасов заговорил о статье барона, посвященной какой-то из проблем политической экономии. — Общие рассуждения, обозрения, заключения! Все это основано на так называемых убеждениях; всякий толкует о своих убеждениях и еще уважения к ним требует, носится с ним... Эх!.. — Прекрасно! — промолвил Рудин, — стало быть, по-вашему, убеждений нет? — Нет — и не существует. — Это ваше убеждение? Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай. Все в комнате улыбнулись и переглянулись. Разговор был длинный, долгий. — Вы ни во что не верите... — продолжал Рудин, — почему же верите вы в факты? — Как почему? Вот прекрасно! Факты дело известное, всякий знает, что такое факты... Я сужу о них по опыту, по собственному чувству. — Да разве чувство не может обмануть вас! Чувство вам говорит, что солнце вокруг земли ходит... или, может быть, вы не согласны с Коперником? Вы и ему не верите? Улыбка опять промчалась по всем лицам, и глаза всех устремились на Рудина. «А он человек неглупый», — подумал каждый. «Стремление к отысканию общих начал в частных явлениях есть одно из коренных свойств человеческого ума», — говорил затем Рудин. И еще: «...все эти нападения на системы, на общие рассуждения и так далее потому особенно огорчительны, что вместе с системами люди отрицают вообще знания, науку и веру в нее, стало быть и веру в самих себя, в свои силы. А людям нужна эта вера: им нельзя жить одними впечатлениями, им грешно бояться мысли и не доверять ей. Скептицизм всегда отличался бесплодностью и бессилием...» Потом хозяйка втянула Рудина в новый разговор, поводом для которого послужила брошюра французского публициста. «Рудин сперва как будто колебался, не решался высказаться, не находил слов, но наконец разгорелся и заговорил. Больше всех были поражены Басистов и Наталья. У Басистова чуть дыханье не захватило... а у Натальи лицо покрылось алой краской, и взор ее, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнел и заблистал... Подали чай. Разговор стал более общим, но уже по одной внезапности, с которой все замолкали, лишь только Рудин раскрывал рот, можно было судить о силе произведенного им впечатления». Потом заставили Пандалевского сыграть на фортепьяно композицию Шуберта. Рудин подошел к раскрытому окну, поглядел в темный сад. «Душистая мгла лежала мягкой пеленою над садом; дремотной свежестью дышали близкие деревья. Звезды тихо теплились. Летняя ночь и нежилась и нежила». Потом Рудина попросили рассказать о его студенческих годах в Германии. Описаниям не хватало красок, юмора. Но он скоро перешел к общим рассуждениям о значении просвещения и науки, об университетах и жизни университетской вообще. Широкими и смелыми чертами набросал он громадную картину. «Не самодовольной изысканностью опытного говоруна — вдохновением дышала его нетерпеливая импровизация. Он не искал слов: они сами послушно и свободно приходили к нему на уста, и каждое слово, казалось, так и лилось прямо из души, пылало всем жаром убеждения. Рудин владел едва ли не высшей тайной — музыкой красноречия. Он умел, ударяя по одним струнам сердец, заставлять смутно звенеть и дрожать все другие. Иной слушатель, пожалуй, и не понимал в точности, о чем шла речь; но... что-то лучезарное загоралось впереди... Самый звук его голоса, сосредоточенный и тихий, увеличивал обаяние; казалось, его устами говорило что-то высшее, для него самого неожиданное... Рудин говорил о том, что придает вечное значение временной жизни человека». Подали ужин, через полчаса все разъехались, разошлись. «Дарья Михайловна упросила Рудина остаться ночевать». 6 На следующее утро Дарья Михайловна пригласила Рудина «пожаловать к ней в кабинет и откушать с ней чай». При этом, обретя достойного собеседника, она с удовольствием стала рассказывать «о себе, о своей молодости, о людях, с которыми она зналась. Рудин с участием внимал ее разглагольствованиям, хотя — странное дело! — о каком бы лице ни заговорила Дарья Михайловна, на первом плане оставалась всетаки она, она одна, а то лицо как-то скрадывалось и исчезало. Зато Рудин узнал в подробности, что именно Дарья Михайловна говорила такому-то известному сановнику, какое она имела влияние на такого-то знаменитого поэта. Судя по рассказам Дарьи Михайловны, можно было подумать, что все замечательные люди последнего двадцатипятилетия только о том и мечтали, как бы повидаться с ней, как бы заслужить ее расположение... Она говорила о них, и, как богатая оправа вокруг драгоценного камня, имена их ложились блестящей каймой вокруг главного имени — вокруг Дарьи Михайловны». (Она скучала в деревне, ей хотелось поговорить.) Вскоре приехал по делу Лежнев, и оказалось, что он когда-то учился вместе с Рудиным в университете, да и потом с ним встречался. Но, как мимоходом, не вдаваясь в детали, упомянул Рудин, они тогда расстались навсегда. 7 Теперь на передней план выступает семнадцатилетняя дочь Дарьи Михайловны, Наталья. С первого взгляда она могла не понравиться: «худа, смугла, держалась немного сутуловато». Она «училась прилежно», «говорила мало, слушала и глядела внимательно, почти пристально, — точно она себе во всем хотела дать отчет». И еще она «чувствовала глубоко и сильно, но тайно». Рудин встретил ее на террасе. — Вы идете гулять? — Да. Мы идем в сад. — Можно идти с вами? Получив разрешение гувернантки, он пошел вместе с ними. («Сердце у ней билось».) Потом они присели на скамью. Не зная, что сказать, Наталья спросила, «долго ли он намерен остаться в деревне. — Все лето, осень, а может быть, и зиму. Я, вы знаете, человек очень небогатый; дела мои расстроены, да и притом мне уже наскучило таскаться с места на место. Пора отдохнуть. Наталья изумилась. — Неужели вы находите, что вам пора отдыхать? — спросила она робко. — Рудин повернулся лицом к Наталье. — Что вы хотите этим сказать? — Я хочу сказать, — возразила она с некоторым смущеньем, — что отдыхать могут другие; а вы... вы должны трудиться, стараться быть полезным. Кому же, как не вам... — Благодарю за лестное мнение, — перебил ее Рудин. — Быть полезным... легко сказать! (Он провел рукою по лицу.) Быть полезным! — повторил он. — Если даже было во мне твердое убеждение: как я могу быть полезным — если б я даже верил в свои силы, — где найти искренние, сочувствующие души?.. И Рудин так безнадежно махнул рукою и так печально поник головою, что Наталья невольно спросила себя: полно, его ли восторженные, дышащие надеждой речи она слышала накануне? — Впрочем, нет, — прибавил он, внезапно встряхнув своей львиной гривой, — это вздор, и вы правы. Благодарю вас... Да, я должен действовать. Я не должен скрывать свой талант, если он у меня есть; я не должен растрачивать свои силы на пустую, бесполезную болтовню, на одни слова... И слова его полились рекою. Он говорил прекрасно, горячо, убедительно — о позоре малодушия и лени, о необходимости делать дело... Он уверял, что нет благородной мысли, которая бы не нашла себе сочувствия, что непонятыми остаются только те люди, которые либо еще сами не знают, чего хотят, либо не стоят того, чтобы их понимали. Он говорил долго и окончил тем, что еще раз благодарил Наталью Алексеевну и совершенно неожиданно стиснул ей руку, промолвив: «Вы прекрасное, благородное существо!» Невдалеке показался Волынцев. — А! Вы гуляете? — Да, — отвечала Наталья, — мы уже шли домой. — А! — произнес Волынцев. — Что ж, пойдемте. После обеда Волынцев велел заложить свою коляску и ускользнул, не простясь ни с кем. Ему было тяжело. Он давно любил Наталью и все собирался сделать ей предложение. А теперь... 8 Тем временем в гости к Александре Павловне явился Лежнев, и, когда хозяйка вздумала убеждать его, что Рудин умен и красноречив, он заявил, что Рудин ему не нравится. — Вас оскорбляет его превосходство — вот что! — заговорила с жаром Александра Павловна, вот что вы ему простить не можете. А я уверена, что, кроме ума, у него и сердце должно быть отличное. Потом она заставила Лежнева рассказать о молодости нового кумира. Родился Рудин в семье бедных помещиков. Отец вскоре умер. Мать все отдавала сыну: «толокном одним питалась и все какие были у ней денежки употребляла на него». Он поступил в университет, познакомился там с Лежневым, потом уехал за границу. Бесконечно любившую его мать он всего один раз навестил, писал ей очень редко. «Старушка и скончалась без него, на чужих руках, но до самой смерти не спускала глаз с его портрета». Потом Лежнев с ним встретился за границей. «Там к нему одна барыня привязалась... Он довольно долго с ней возился и, наконец, ее бросил... или нет, бишь, виноват: она его бросила. И я тогда его бросил. Вот и все». Жизнь Рудина явно представлена была «в неприязненном свете». Александра Павловна справедливо заметила: «Можно жизнь самого лучшего человека, ничего не прибавляя, изобразить в таких красках, «что всякий ужаснется!». 9 Прошло свыше двух месяцев. «Рудин почти не выезжал от Дарьи Михайловны. Она не могла обойтись без него. Рассказывать ему о себе, слушать его рассуждения стало для нее потребностью. Он однажды хотел уехать, под тем предлогом, что у него вышли все деньги: она дала ему пятьсот рублей. Он занял также у Волынцева рублей двести». Рудин часто беседовал с Натальей, давал ей книги, читал ей первые страницы своих предполагаемых статей. Он собирался зимой писать большую статью «о трагическом в жизни и в искусстве». — Впрочем, — говорил он, — я не совсем еще сладил с основною мыслью. Я до сих пор еще не довольно уяснил самому себе трагическое значение любви. В тот же день у Александры Павловны происходил разговор с Лежневым. Она желала знать, почему Рудин ему не нравится. — Он умный человек, — признавал Лежнев. — Еще бы! — Он замечательно умный человек, хотя в сущности пустой... — Это легко сказать! — Хотя в сущности пустой, — повторил Лежнев, — но это еще не беда: все мы пустые люди. Я даже не ставлю в вину ему то, что он деспот в душе, ленив, не очень сведущ... Александра Павловна всплеснула руками. — Не очень сведущ! Рудин! — воскликнула она. — Не очень сведущ, — точно тем же голосом повторил Лежнев, — любит пожить на чужой счет, разыгрывает роль, и так далее... это все в порядке вещей. Но дурно то, что он холоден как лед. — Он, эта пламенная душа, холоден! — перебила Александра Павловна. — Да, холоден как лед, и знает это, и прикидывается пламенным... Дело в том, что слова Рудина так и остаются словами и никогда не станут поступком — а между тем эти самые слова могут смутить, погубить молодое сердце. — Да о ком, о ком вы говорите, Михайло Михайлыч? Лежнев остановился. — Вы желаете знать, о ком я говорю? О Наталье Алексеевне... Помните, я обещался рассказать вам когда-нибудь наше житье в Москве. Видно, придется теперь это сделать. Рано осиротев, Лежнев жил в доме тетки в Москве. — Малый я был довольно пустой и самолюбивый, любил порисоваться и похвастать. Вступив в университет, я вел себя, как школьник, и скоро попался в историю. Я вам ее рассказывать не стану: не стоит. Я солгал и довольно гадко солгал... Меня вывели на свежую воду, уличили, пристыдили. Я потерялся и заплакал, как дитя. Это происходило на квартире одного знакомого, в присутствии многих товарищей. Все принялись хохотать надо мною, все, исключая одного студента... Он взял меня под руку и увел к себе... Это был человек... он уже теперь умер... Это был человек необыкновенный. Звали его Покорским... Это была высокая, чистая душа, и ума такого я уже не встречал потом. Покорский жил в маленькой, низенькой комнатке, в мезонине старого деревянного домика. Он был очень беден и перебивался кое-как уроками... У него я познакомился с Рудиным. В чем состояла разница между этими молодыми людьми? «Рудин превосходно развивал любую мысль, спорил мастерски; но мысли его рождались не в его голове: он брал их у других, особенно у Покорского... Покорский был на вид тих и мягок, даже слаб... и не дался бы никому в обиду. Рудин казался полным огня, смелости, жизни, а в душе был холоден и чуть ли не робок». Их кружок состоял тогда из «недоученных мальчиков». Философия, искусство, наука. Самая жизнь... «Общей связи этих понятий, общего закона мирового мы не сознавали... Слушая Рудина, нам впервые показалось, что мы, наконец, схватили ее, эту общую связь, что поднялась, наконец, завеса! Положим, он говорил не свое — что за дело!.. ничего не оставалось бессмысленным, случайным: во всем высказывалась разумная необходимость и красота». В кружке Покорского Лежнев переродился, «точно в храм какой вступил». «Посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии...» Это время ни для кого из них не пропало даром. Встречая впоследствии прежних товарищей, Лежнев подчас наблюдал: «кажется, совсем зверем стал человек, а стоит только произнести при нем имя Покорского — и все остатки благородства в нем зашевелятся!..» Еще в Москве Лежнев, будучи юношей восторженным, влюбился в девушку («предобренькое и прехорошенькое существо») и поведал обо всем Рудину. Тот пришел в восторг, стал объяснять обоим (совершенно бескорыстно), как нужно отдавать себе отчет в своих чувствах и мыслях, задурил их, сбил с толку и кончилось тем, что Лежнев расстался со своей девицей. «И нехорошо... расстался, оскорбительно, неловко...» А потом, встретив Рудина за границей, Лежнев окончательно в нем разочаровался. «Не сотвори себе кумиров». 10 Утром Наталья «ушла одна в сад... День был жаркий, светлый, лучезарный...». Она «шла вдоль пруда по длинной аллее серебристых тополей; внезапно перед нею, словно из земли, вырос Рудин. Она смутилась. Он посмотрел ей в лицо. — Вы одни? — спросил он. — Да, я одна, — отвечала Наталья, — впрочем, я вышла на минуту... Мне пора домой. — Я вас провожу. Он пошел с ней рядом». Разговор многозначительный, рассуждения Рудина довольно печальны... — Неужели же, Дмитрий Николаевич, — перебила его Наталья, — вы ничего не ждете от жизни? — О нет! Я жду многого, но не для себя... — Я понимаю, — промолвила Наталья, — кто стремится к великой цели, уже не должен думать о себе; но разве женщина не в состоянии оценить такого человека? Мне кажется, напротив, женщина скорее отвернется от эгоиста... Все молодые люди... только собою заняты, даже когда любят. Поверьте, женщина не только способна понять самопожертвование: она сама умеет пожертвовать собою. Щеки Натальи слегка зарумянились, и глаза ее заблестели. До знакомства с Рудиным она никогда бы не произнесла такой длинной речи и с таким жаром. А потом незаметно разговор коснулся будущности Натальи. — Вы стоите на пороге жизни... — рассуждал Рудин. И он похвалил ее выбор! — Он человек прекрасный, он сумеет оценить вас; он не измят жизнью — он прост и ясен душою... он составит ваше счастие. — О ком говорите вы, Дмитрий Николаевич? — Будто вы не понимаете, о ком я говорю? Разумеется, о Волынцеве... Разве он не любит вас? Помилуйте! Он не сводит с вас глаз, следит за каждым вашим движением; да и, наконец, разве можно скрыть любовь?.. — Дмитрий Николаевич! — перебила его Наталья... — мне, право, так неловко говорить об этом; но я вас уверяю... вы ошибаетесь. — Я ошибаюсь? — повторил Рудин. — Не думаю... Что ж значит перемена, которую я вижу в вас, вижу ясно? Разве вы такая, какой я застал вас шесть недель тому назад?.. Нет, Наталья Алексеевна, сердце ваше не спокойно. Наталье стало страшно; Рудин побледнел и заговорил о «новом чувстве», его охватившем. «Наталья вдруг закрыла лицо руками и побежала к дому». Сознает ли Рудин всю ответственность? Готов ли он взять на себя последствия этого разговора? «Она так была потрясена неожиданной развязкой разговора с Рудиным, что и не заметила Волынцева, мимо которого пробежала. Позже, за столом у Дарьи Михайловны, когда Рудин оборвал небрежно очередные рассуждения Пигасова (и при этом упомянул французского моралиста Ларошфуко), простодушный Волынцев неожиданно вскипел: — Позвольте же каждому выражаться, как ему вздумается. Толкует о деспотизме... помоему, нет хуже деспотизма так называемых умных людей. Черт бы их побрал! «Рудин посмотрел было на него, но не выдержал его взора, отворотился, улыбнулся и рта не разинул». 11 «Волынцев уехал скоро после обеда. Раскланиваясь с Натальей, он не вытерпел и сказал ей: — Отчего вы так смущены, словно виноваты? Вы ни перед кем виноваты быть не можете!..» Он добр! В подобной ситуации в разных социальных группах могли быть и другие варианты поведения: от вызова на дуэль до «битья по морде». Кого бить — даму или соперника? Можно и обоих; но это уж, конечно, в других социальных группах, где не слыхали про Ларошфуко. «Наталья ничего не поняла и только посмотрела ему вслед. Перед чаем Рудин подошел к ней и, нагнувшись над столом, как будто разбирал газеты, шепнул: — Все это как сон, не правда ли? Мне непременно нужно видеть вас наедине... хоть минуту». Затем он обратился к ее гувернантке: «Вот фельетон, который вы искали, — и снова наклонясь к Наталье, прибавил шепотом: — постарайтесь быть около десяти часов возле террасы, в сиреневой беседке: я буду ждать вас...» Ну, теперь, видимо, решающее свидание? Кульминация? Нас ждет вечерний сад, красота тургеневского пейзажа... Может быть, увидим подлинную счастливую любовь? «В половине десятого Рудин уже был в беседке. В далекой и бледной глубине неба только что проступали звездочки; на западе еще алело — там и небосклон казался ясней и чище; полукруг луны блестел золотом сквозь черную сетку плакучей березы. Другие деревья либо стояли угрюмыми великанами, с тысячью просветов, наподобие глаз, либо сливались в сплошные мрачные громады. Ни один листок не шевелился; верхние ветки сиреней и акаций как будто прислушивались к чему-то и вытягивались в теплом воздухе. Дом темнел вблизи; пятнами красноватого света рисовались на нем освещенные длинные окна. Кроток и тих был вечер; но сдержанный, страстный вздох чудился в этой тишине. Рудин стоял, скрестив руки на груди, и слушал с напряженным вниманием. Сердце в нем билось сильно, и он невольно удерживал дыхание. Наконец ему послышались легкие, торопливые шаги, и в беседку вошла Наталья. Рудин бросился к ней, взял ее за руки. Они были холодны как лед. — Наталья Алексеевна! — заговорил он трепетным шепотом, — я хотел вас видеть... я не мог дождаться завтрашнего дня. Я должен вам сказать, чего я не подозревал, чего я не сознавал даже сегодня утром: я люблю вас. Руки Натальи слабо дрогнули в его руках. — Я люблю вас, — повторил он, — и как я мог так долго обманываться, как я давно не догадался, что люблю вас!.. А вы?.. Наталья Алексеевна, скажите, вы?.. Наталья едва перевела дух. — Вы видите, я пришла сюда, — проговорила она наконец. — Нет, скажите, вы любите меня? — Мне кажется... да... — прошептала она. Рудин еще крепче стиснул ее руку и хотел было привлечь ее к себе... Наталья быстро оглянулась. — Пустите меня, мне страшно — мне кажется, кто-то нас подслушивает... — Одно мгновенье, — начал Рудин... — Нет, пустите, пустите меня... — Вы как будто меня боитесь? — Нет; но мне пора... — Так повторите по крайней мере еще раз... — Вы говорите, вы счастливы? — спросила Наталья. — Я? Нет человека в мире счастливее меня! Неужели вы сомневаетесь? Наталья приподняла голову. Прекрасно было ее бледное лицо, благородное, молодое и взволнованное — в таинственной тени беседки, при слабом свете, падавшем с ночного неба. — Знайте же, — сказала она, — я буду ваша. — О, Боже! — воскликнул Рудин. Но Наталья уклонилась и ушла. Рудин постоял немного, потом вышел медленно из беседки. Луна ясно осветила его лицо; на губах его блуждала улыбка. — Я счастлив, — произнес он вполголоса. — Да, я счастлив, — повторил он, как бы желая убедить самого себя... А между тем в сиреневой беседке тихонько раздвинулись кусты, и показался Пандалевский. Он осторожно оглянулся, покачал головой, сжал губы, произнес значительно: «Вот как-с. Это надо будет довести до сведения Дарьи Михайловны», — и скрылся». Трудно быть кому-нибудь счастливым, если есть в мире люди с искалеченной душой, которые, сами вовсе не понимая своей низости, запросто растопчут чужое счастье. Пока все человечество этого не поймет, не возьмется всем миром за собственное нравственное совершенствование (непременно всеобщее), счастье вряд ли возможно; лишь мгновения, надежды, иллюзии... А может быть, заодно люди учатся, и нравственное совершенствование давно происходит. Постепенно, шаг за шагом... Учатся улучшать жизнь и самих себя. Без препятствий, без их преодоления, без усилий этому вряд ли научишься. Да еще постоянный поиск единственно верного, все ускользающего пути. Постепенно, шаг за шагом... Так ли? Кто знает. 12 Возвратясь домой, Волынцев был «уныл и мрачен». Вдруг, к его удивлению, слуга доложил о приезде Рудина. Странный последовал между ними разговор. — Я должен вам сказать — впрочем, вы, вероятно, уже догадываетесь (Волынцев нетерпеливо пожал плечами), — я должен вам сказать, что я люблю Наталью Алексеевну и имею право предполагать, что и она меня любит. Волынцев побледнел, но ничего не ответил, отошел к окну и отвернулся. — Вы понимаете, Сергей Павлыч, — продолжал Рудин, — что если бы я не был уверен... — Помилуйте! — поспешно перебил Волынцев, — я нисколько не сомневаюсь... Что ж! На здоровье! Только, я удивляюсь, с какого дьявола вам вздумалось ко мне с этим известием пожаловать... Я-то тут что? Что мне за дело, кого вы любите и кто вас любит? Я просто не могу понять. Волынцев продолжал глядеть в окно. Голос звучал глухо. Оказывается, глубоко уважая Волынцева, его прямодушное благородство, Рудин хотел своей откровенностью доказать ему свое уважение. — Я надеюсь, что вы теперь уже не можете сомневаться в моей искренности... Я хочу, Сергей Павлыч, чтобы мы расстались друзьями... чтобы вы по-прежнему протянули мне руку... И Рудин приблизился к Волынцеву. — Извините меня, милостивый государь, — промолвил Волынцев, обернувшись и отступив шаг назад, — я готов отдать полную справедливость вашим намерениям, все это прекрасно, положим даже возвышенно, но мы люди простые, едим пряники неписаные, мы не в состоянии следить за полетом таких великих умов, каков ваш... Что вам кажется искренним, нам кажется навязчивым и нескромным... Что для вас просто и ясно, для нас запутанно и темно... Вы хвастаетесь тем, что мы скрываем: где ж нам понять вас! Извините меня: ни другом я вас считать не могу, ни руки я вам не подам... Это, может быть, мелко; да ведь я сам мелок. Рудин взял шляпу с окна. — Сергей Павлыч! — проговорил он печально, — прощайте; я обманулся в своих ожиданиях. Посещение мое действительно довольно странно; но я надеялся, что вы (Волынцев сделал нетерпеливое движение.)... Извините, я больше говорить об этом не стану. Сообразив все, я вижу, точно: вы правы и иначе поступить не могли. Прощайте и позвольте по крайней мере еще раз, в последний раз уверить вас в чистоте моих намерений... В вашей скромности я убежден... — Это уже слишком! — воскликнул Волынцев и затрясся от гнева, — я нисколько не напрашивался на ваше доверие, а потому рассчитывать на мою скромность вы не имеете никакого права! Рудин хотел что-то сказать, но только руками развел, поклонился и вышел, а Волынцев бросился на диван и повернулся лицом к стене. Как многие талантливые люди, Рудин, видимо, довольно беспомощен, подчас нелеп в практических делах и отношениях. Он возможно искренен и желает добра, но в житейской суете бывает смешон. Слишком много неуместных слов, пустых фраз, опрометчивых поступков. И при этом он несколько робок в душе. И какая-то отстраненность при внешней активности... 13 Вернулся Рудин домой в состоянии духа «смутном и странном». Его грызло раскаяние. «Черт, меня дернул, — шептал он сквозь зубы, — съездить к этому помещику! Вот пришла мысль! Только на дерзости напрашиваться!..» Дарья Михайловна появилась лишь к вечеру, держалась как-то отдаленно. А когда он шел поздно вечером в свою комнату по темному коридору, горничная Натальи сунула ему в руку записку. У себя в комнате в одиночестве он прочел: «Приходите завтра в седьмом часу утра, не позже к Авдюхину пруду, за дубовым лесом. Всякое другое время невозможно. Это будет наше последнее свидание, и все будет кончено, если... Приходите. Надо будет решиться...» Заброшенный пруд. Две огромные сосны, «ветер вечно шумел и угрюмо гудел в их высокой, тощей зелени...». Придя к Авдюхиному пруду, Рудин стал ходить по плотине. Приближалась развязка, он это чувствовал и волновался. Вот Наталья спешит к нему «прямо через поле по мокрой траве». — Подожди здесь, Маша, у сосен, — велела она горничной и спустилась к пруду. «Рудин подошел к ней и остановился в изумлении. Такого выражения он еще не замечал на ее лице. Брови ее были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядели прямо и строго. — Дмитрий Николаевич, — начала она, — нам время терять некогда. Я пришла на пять минут. Я должна сказать вам, что матушка все знает. Господин Пандалевский подсмотрел нас третьего дня и рассказал ей о нашем свидании. Он всегда был шпионом у матушки. Она вчера позвала меня к себе. — Боже мой, — воскликнул Рудин, — это ужасно... Что же сказал ваша матушка? — Она не сердилась на меня, не бранила меня, только попеняла мне за мое легкомыслие. — Только? — Да, и объявила мне, что она скорее согласится видеть меня мертвою, чем вашей женою. — Неужели она это сказала? — Да, и еще прибавила, что вы сами нисколько не желаете жениться на мне, что вы только так, от скуки, приволокнулись за мной и что она этого от вас не ожидала... — А вы, Наталья Алексеевна, что вы ей ответили? — спросил Рудин. — Что я ей ответила? — повторила Наталья. — Что вы теперь намерены делать? — Боже мой! Боже мой! — возразил Рудин, — это жестоко! Так скоро! Такой внезапный удар!.. И ваша матушка пришла в такое негодование? — Да... да, она слышать о вас не хочет. — Это ужасно! Стало быть, никакой надежды нет? — Никакой... Рудин начал ходить по плотине. Наталья не спускала с него глаз. — Ваша матушка вас не расспрашивала? — промолвил он наконец. — Она меня спросила, люблю ли я вас. — Ну... и вы? Наталья помолчала. — Я не солгала. Рудин взял ее за руку. — Всегда, во всем благородна и великодушна! О, сердце девушки — это чистое золото!.. — Дмитрий Николаевич! — промолвила Наталья, — мы тратим попусту время... Я пришла за советом. — Да какой совет могу я дать вам, Наталья Алексеевна? — Какой совет? Вы мужчина; я привыкла вам верить, я до конца буду верить вам. Скажите мне, какие ваши намерения? — Мои намерения? Ваша матушка, вероятно, откажет мне от дому. — Может быть... Но вы не отвечаете на мой вопрос. — На какой вопрос? — Как вы думаете, что нам надобно теперь делать? — Что нам делать? — возразил Рудин, — разумеется, покориться. — Покориться, — медленно повторила Наталья, и губы ее побледнели. — Покориться судьбе, — продолжал Рудин. — Что же делать! Я слишком хорошо знаю, как это горько, тяжело, невыносимо; но посудите сами, Наталья Алексеевна, я беден... Видно, нам не суждено жить вместе, и то счастье, о котором я мечтал, не для меня! Наталья вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Рудин приблизился к ней. — Наталья Алексеевна! милая Наталья! — заговорил он с жаром, — не плачьте, ради Бога, не терзайте меня, утешьтесь... Наталья подняла голову. — Вы мне говорите, чтобы я утешилась, — начала она, и глаза ее заблестели сквозь слезы, — я не о том плачу, о чем вы думаете... Мне не то больно: мне больно то, что я в вас обманулась... Как! Я прихожу к вам за советом, и в какую минуту, и первое ваше слово: покориться... Покориться! Так вот как вы применяете на деле ваше толкование о свободе, о жертвах, которые... — Вы спрашивали меня, — продолжала она с новой силой, — что я ответила моей матери, когда она объявила мне, что скорее согласится на мою смерть, чем на брак мой с вами: я ей ответила, что скорее умру, чем выйду за другого замуж... — Вам надо успокоиться, Наталья Алексеевна, — начал было Рудин, — нам надо вдвоем подумать, какие меры... — Вы так часто говорили о самопожертвовании, — перебила она, — но знаете ли, если бы вы сказали мне сегодня, сейчас: «Я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвечаю за будущее, дай мне руку и ступай за мной», — знаете ли, что я бы пошла за вами, знаете ли, что я на все решилась? Но, верно, от слов до дела еще далеко, и вы теперь струсили точно так же, как струсили третьего дня за обедом перед Волынцевым!» Краска бросилась в лицо Рудину... — Наталья Алексеевна, вы уходите? Неужели мы так расстанемся? Он протянул к ней руки. Она остановилась... — Боже мой, когда я шла сюда, я мысленно прощалась с моим домом, со всем моим прошедшим, — и что же? Кого я встретила здесь? Малодушного человека... Ах, если бы вы меня любили, я бы почувствовала это теперь, в это мгновение... Нет, нет, прощайте!.. Рудин еще долго стоял на плотине... Он был очень пристыжен... и огорчен. «Какова? — думал он. — В восемнадцать лет!.. Она замечательная девушка. Какая сила воли!.. Она права: она стоит не такой любви, какую я к ней чувствовал... Чувствовал?.. — спросил он самого себя. — Разве я уже больше не чувствую любви? Так вот как это все должно было кончиться! Как я был жалок и ничтожен перед ней!» В какие-то мгновения Рудин любил Наталью. Но ее самоотверженная готовность бороться вместе с ним за осуществление неясных ему самому идеалов... Необходимость отдать ей жизнь, судьбу... действовать, а не говорить. Нищий, но вольный скиталец, возможно, знал в душе: это не его путь! Они могли уехать вдвоем в его деревушку, там обвенчаться. Дело даже не столько в ужасной бедности Рудина, сколько в его неприспособленности к практическим делам. 14 Волынцев страдал. — Он меня оскорбил, — говорил он приехавшему к нему Лежневу, — да! Он оскорбил меня... Я его, проклятого философа, как куропатку застрелю. Но Лежнев отговаривал его от подобных намерений. Вдруг слуга неожиданно подал Волынцеву письмо. — От кого? — спросил Лежнев. — От Рудина, Дмитрия Николаевича. Ласунских человек привез...» «Милостивый государь, Сергей Павлович! Я сегодня уезжаю из дома Дарьи Михайловны, и уезжаю навсегда. Это вас, вероятно, удивит, особенно после того, что произошло вчера. Я не могу объяснить вам, что именно заставляет меня поступить так; но мне почему-то кажется, что я должен известить вас о моем отъезде... В глазах моих вы попрежнему остаетесь благородным и честным человеком; но я полагал, вы сумеете стать выше той среды, в которой развились... Я ошибся. Что делать?! Не в первый и не в последний раз. Желаю вам счастья. Согласитесь, что это желание совершенно бескорыстно, и надеюсь, что вы теперь будете счастливы...» В письме были две приписки. Одна: «Должные мною вам двести рублей я вышлю, как только приеду к себе в деревню, в Т...ую губернию. Так же прошу вас не говорить при Дарье Михайловне об этом письме». И еще была одна «последняя, но важная просьба»: не упоминать «перед Натальей Алексеевной о моем посещении у вас...». Лежнев явился к Александре Павловне. Она всегда радовалась его приходу, и ему было радостно с ней и легко, словно созданы оба друг для друга. Последовал какой-то шутливый, незначительный разговор между ними, и он вдруг сказал: «Да выдьте за меня замуж, Александра Павловна...» «Александра Павловна покраснела до ушей. — Что вы такое сказали, Михайло Михайлыч? — повторила она с смущением. — А то я сказал, — ответил Лежнев, — что уже давным давно и тысячу раз у меня на языке было». Лежнев надежен, добр, умен. Вдобавок богат. Они с Рудиным такие разные... Кто-то однажды писал: счастье не так слепо, как иногда кажется. 15 Написав два письма: одно к Волынцеву, другое — к Наталье, Рудин «позвал человека и велел спросить у Дарьи Михайловны, может ли он ее видеть». Дарья Михайловна приняла его в кабинете. «Донесение Пандалевского очень ее расстроило. Светская спесь в ней зашевелилась. Рудин, бедный, нечиновный и пока неизвестный человек, дерзал назначить свидание ее дочери — дочери Дарьи Михайловны Ласунской!!! — Положим, он умен, он гений! — говорила она, — да что же это доказывает? После этого всякий может надеяться быть моим зятем? Пандалевский тогда тоже удивлялся: «Как это не знать своего места?» А теперь несколько официальных вежливых фраз... Словно дипломаты на какой-нибудь конференции. Искалеченная душа сидевшего тут же Пандалевского ликовала. Совершенно не понимая собственной унизительной роли, не в силах ее понять, он думал: «Ага, брат!.. давно ли ты здесь распоряжался барином...» Конечно, пришлось Рудину упомянуть: «Извините меня... я не могу тотчас выплатить мой долг вам; но как только приеду в деревню...» — Полноте, Дмитрий Николаевич! — перебила его Дарья Михайловна, — как вам не стыдно!.. Но который-то час? — спросила она. Пандалевский достал из кармана жилета золотые часики с эмалью и посмотрел на них, осторожно налегая розовой щекой на твердый и белый воротничок. — Два часа и тридцать три минуты, — промолвил он. — Пора одеваться, — заметила Дарья Михайловна. — До свидания, Дмитрий Николаевич!.. Рудин вышел. Он теперь знал по опыту, как светские люди даже не бросают, а просто роняют человека, ставшего им ненужным: как перчатку после бала, как бумажку с конфетки... Да будь он хоть семи пядей во лбу! Все равно Дарья Михайловна искренне верила в свое превосходство. Она точно знала: главное чин, титул, богатство, а вовсе не конкретная польза, приносимая ею окружающим людям. «Незаметное, но главное дело человека — заслужить Царство Небесное, готовясь к Нему заблаговременно», — сказано в Евангелии. Как заслужить? Обрядами? Вряд ли. «Суть веры важнее внешней формы». А в чем суть? В исполнении Божьих заповедей, т. е. в том, чтобы сделать человеческую жизнь по возможности светлей. С проявления бескорыстной доброты, засиявшей лучом в ветхой избушке, не случайно начинается роман. Александра Павловна, соседка Ласунской, вроде бы недалекая, без претензий и не слишком, кажется, религиозная, все же понимает, чувствует то, что сказано и в Евангелии: «Помощь страдающим — это помощь самому Богу». И не только умирающая старуха нуждается в помощи. «Страдающие» — все люди на земле. Окружение любого человека — «страдающие»; страдающие так или иначе, рано или поздно, в той или иной мере (зачастую по собственному недомыслию.) Наконец подали тарантас Рудина. «Он стал торопливо прощаться со всеми. На душе у него было очень скверно». «Любезная Наталья Алексеевна, — говорилось в письме Рудина, — я решился уехать. Мне другого выхода нет. Я решился уехать, пока мне не сказали ясно, чтобы я удалился. Отъездом моим прекращаются все недоразумения; а сожалеть обо мне едва ли кто-нибудь будет... Да, вы правы: я вас не знал, а я думал, что знал вас! В течение моей жизни я имел дело с людьми всякого рода, я сближался со многими женщинами и девушками; но, встретясь с вами, я в первый раз встретился с душой совершенно честной и прямой. Мне это было не в привычку, и я не сумел оценить вас... Наши жизни могли бы слиться — и не сольются никогда. Как доказать вам, что я мог бы полюбить вас настоящей любовью — любовью сердца, не воображения, — когда я сам не знаю, способен ли я на такую любовь! Мне природа дала много, я это знаю и из ложного стыда не стану скромничать перед вами... да, природа мне много дала; но я умру, не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собою никакого благотворного следа... Мне недостает... я сам не могу сказать, чего именно недостает мне... Я кончу тем, что пожертвую собой за какойнибудь вздор, в который даже верить не буду... Боже мой! В тридцать пять лет все еще собираться что-нибудь сделать!» Письмо ужасно длинное, здесь приведены лишь отрывки. «Я никогда не обманывал себя в свойстве того чувства, которое я внушал Дарье Михайловне; но я надеялся, что нашел временную пристань... Во мне есть какая-то глупая откровенность, какая-то болтливость... Я остаюсь одинок на земле для того, чтобы предаться, как вы сказали мне поутру с жестокой усмешкой, другим, более свойственным мне занятиям. Увы, если б я мог действительно предаться этим занятиям, победить, наконец, свою лень... Первое препятствие — и я весь рассыпался; происшествие с вами мне это доказало. Если б я по крайней мере принес мою любовь в жертву моему будущему делу, моему призванию; но я просто испугался ответственности, которая на меня падала, и потому я точно недостоин вас. Я не стою того, чтобы вы для меня отторглись от вашей сферы...» 16 «Наталья опустила письмо Рудина к себе на колени и долго сидела неподвижно, устремив глаза на пол. Письмо это яснее всех возможных доводов, доказало ей, как она была права, когда поутру, расставаясь с Рудиным, она невольно воскликнула, что он ее не любит! Но от этого ей не было легче». Сколько подчас поэзии в каждой строчке Тургенева. Вот о слезах. Сначала о благородных, которые «отрадны и целебны». А затем о других... «Есть слезы холодные, скупо льющиеся слезы: их по капле выдавливает из сердца тяжелым и недвижным бременем налегшее на него горе; они безотрадны и не приносят облегчения. Нужда плачет такими слезами, и тот еще не был несчастлив, кто не проливал их. Наталья узнала их в этот день». Она «засветила свечку», сожгла в ее пламени письмо Рудина и пепел выкинула за окно. «Потом она раскрыла наудачу Пушкина и прочла первые попавшиеся ей строки (она часто загадывала так по нем.) Вот что ей вышло: Кто чувствовал, того тревожит Призрак невозвратимых дней... Тому уж нет очарований, Того змея воспоминаний, Того раскаянье грызет... Она постояла, посмотрела с холодной улыбкой на себя в зеркало и, сделав небольшое движение головою сверху вниз, сошла в гостиную». Увидев ее, Дарья Михайловна повела ее сразу в кабинет, усадила возле себя, но на все расспросы ответ был один — твердый и непреклонный. — Маменька! — заговорила Наталья тихим голосом, — даю вам слово, что если вы сами не будете упоминать о нем, от меня вы никогда ничего не услышите. Какие девушки есть в романах Тургенева! Сколько в них очарования, благородства, поэзии... Может быть, условия жизни этому способствуют? Они избавлены от повседневной борьбы за существование, страшный мир не топчет их достоинство. — Не забывай, — сказала ей с гордостью Дарья Михайловна, — что ты Ласунская и моя дочь — и ты будешь счастлива. И вот прошло почти два года. Что изменилось? Александра Павловна вышла замуж за Лежнева, у них родился сын. Лежнев с виду прост, помедвежьи неуклюж; но без претензий умен, добр, надежен. Пигасов по-прежнему ездит в гости к соседям и ругает всех вообще женщин. Волынцев сделал наконец предложение Наталье и получил ее и Дарьи Михайловны согласие. А где же Рудин? 17 В тот же день «в одной из отдаленных губерний России тащилась в самый зной, по большой дороге плохонькая рогожная кибитка, запряженная тройкой обывательских лошадей». На облучке «подергивал веревочными вожжами» седой мужичок, а в кибитке «сидел, на тощем чемодане, человек высокого роста в фуражке и старом запыленном плаще. То был Рудин. Он сидел понурив голову и нахлобучив козырек фуражки на глаза. Неровные толчки кибитки бросали его с стороны на сторону...». Заморенные лошади наконец доплелись до почтового двора. Расплатившись с мужиком, Рудин сам внес чемодан в станционную комнату. Заспанный смотритель тут же объявил вялым голосом, что лошадей нет. Потом нашлись какие-то, совсем в другую сторону — к Тамбову, но оттуда можно как-нибудь свернуть... «Рудин подумал. — Ну, пожалуй, — велите закладывать лошадей. Мне все равно... Лошадей скоро подали. Рудин вынес свой чемоданчик, влез на телегу, сел, понурился по-прежнему. Было что-то беспомощное и грустно-покорное в его нагнутой фигуре... И тройка поплелась неторопливой рысью, отрывисто позвякивая бубенчиками». 18 И наконец эпилог. Прошло еще несколько лет. «Был осенний холодный день». Лежнев приехал из деревни в губернский город в связи с рекрутским набором, остановился в лучшей гостинице. Рудин зашел туда случайно, искал одного знакомого. Лежнев сразу его узнал. «Перед ним стоял человек высокого роста, почти совсем седой и сгорбленный, в старом плисовом сюртуке...» — Как вы изменились! — произнес Лежнев, помолчав и невольно понизив голос. — Да, говорят! — возразил Рудин, блуждая по комнате взором. — Года... — Где вы обедаете? — Я? Не знаю. Где-нибудь в трактире. Я должен сегодня же выехать отсюда. — Должны? Рудин значительно усмехнулся. — Да-с, должен. Меня отправляют к себе в деревню на жительство. Лежнев «кликнул слугу, заказал обед и велел поставить в лед бутылку шампанского». После обеда он «запер дверь и, вернувшись к столу, сел прямо напротив Рудина и тихонько оперся подбородком на обе руки. — Ну, теперь, — начал он, — рассказывайтека мне все, что с вами случилось с тех пор, как я вас не видал. В Рудине была теперь «усталость окончательная, тайная и тихая скорбь... — Рассказать вам все, что со мною случилось? — заговорил он. — Всего рассказать нельзя и не стоит... В чем и в ком я не разочаровался, Бог мой! С кем не сближался! Да, с кем! — повторил Рудин, заметив, что Лежнев с каким-то особенным участием посмотрел ему в лицо... — сколько раз я радовался, надеялся, враждовал и унижался напрасно! Сколько раз вылетал соколом — и возвращался ползком, как улитка... Где не бывал я, по каким дорогам не ходил!.. А дороги бывают грязные, — прибавил Рудин и слегка отвернулся. — Вы знаете... — продолжал он... — Послушайте, — перебил его Лежнев, — мы когда-то говорили «ты» друг другу... Хочешь? Возобновим старину... Выпьем на «ты»! Рудин встрепенулся, приподнялся, а в глазах его промелькнуло что-то, чего слово выразить не может. — Выпьем, — сказал он, — спасибо тебе, брат, выпьем. Лежнев и Рудин выпили по бокалу. — Ты знаешь, — начал опять с ударением на слове «ты» и с улыбкою Рудин, — во мне сидит какой-то червь, который грызет меня и гложет и не даст мне успокоиться до конца... Начинал я жить, принимался за новое раз двадцать — и вот видишь! — Выдержки в тебе не было, — проговорил, как бы про себя, Лежнев. — Как ты говоришь, выдержки во мне не было!.. Строить я никогда ничего не умел; да и мудрено, брат, строить, когда и почвы-то под ногами нету, когда самому приходится собственный свой фундамент создавать! Всех моих похождений, то есть, собственно говоря, всех моих неудач, я тебе описывать не буду. Передам тебе два три случая... когда я начинал надеяться на успех...» 19 Что же это за случаи? Рассказанные в конце романа, они должны иметь какой-то особый смысл, чтото важное означать — не только в жизни Рудина, но в жизни вообще. Случай первый Рудин сошелся в Москве «с одним довольно странным господином. Он был очень богат и владел обширными поместьями; не служил. Главная, единственная его страсть была любовь к науке, к науке вообще». Господин этот отличался бездарностью и умением «все легкое делать трудным». Удивительно, что при своей бездарности «работал, писал и читал он неутомимо». Из самолюбия, что ли? — Я поселился у него и уехал с ним, наконец, в его деревню. Планы, брат, у меня были громадные: я мечтал о разных усовершенствованиях, нововведениях... Я навез с собою агрономических книг... правда, я до конца не прочел ни одной... ну, и приступил к делу. Ясно, что дело у них подвигалось плохо. — Начал я уставать, приятель мой надоедал мне, я стал язвить его, он давил меня... Я знал очень хорошо, что я терял уезжая; но я не мог сладить с собой и в один день, вследствие тяжелой и возмутительной сцены... я рассорился с ним окончательно и уехал... — То есть бросил насущный кусок хлеба, — проговорил Лежнев и положил обе руки на плечи Рудину. — Да, и очутился опять легок и гол в пустом пространстве... Эх, выпьем! — За твое здоровье! — промолвил Лежнев, приподнялся и поцеловал Рудина в лоб. Случай второй «Потолкавшись еще по разным местам», Рудин решил сделаться «деловым человеком, практическим» и сошелся с неким Курбеевым. — Ты, пожалуйста, не воображай его себе каким-нибудь пустым болтуном... Это был человек удивительно ученый, знающий... Проекты самые смелые, самые неожиданные так и кипели у него на уме. Мы соединились с ним и решились употребить свои силы на общее полезное дело... — На какое, позволь узнать? Рудин опустил глаза. — Ты засмеешься. — Почему же? Нет, не засмеюсь. — Мы решили одну реку в К...ой губернии превратить в судоходную, — проговорил Рудин с неловкой улыбкой. — Вот как! Стало быть, этот Курбеев капиталист? — Он был беднее меня, — возразил Рудин и тихо поникнул своей седой головой. Они наняли работников, приступили к делу, но встретились, как водится, различные препятствия. «Кончилось тем, что я последний грош свой добил на этом проекте. — Ну! — заметил Лежнев, — я думаю, добить твой последний грош было не мудрено. — Не мудрено, точно». Ну не деловой человек Рудин! Красноречивый, увлекающийся, даже с вдохновением, высокими стремлениями подчас. Слова, слова... Но говорят: слово — тоже дело. Ему бы читать лекции где-нибудь в университете! Неужели не догадался? Случай третий и последний — Вот видишь ли, — начал Рудин, — я однажды подумал на досуге... досуга-то у меня всегда много было... Отчего бы мне не сделаться педагогом... Наконец мне удалось достать место преподавателя в здешней гимназии. — Преподавателя — чего? — спросил Лежнев. — Преподавателя русской словесности. Скажу тебе, ни за одно дело не принимался я с таким жаром, как за это. Мысль действовать на юношество меня воодушевила. Три недели просидел я над составлением вступительной лекции. — Ее нет у тебя? — перебил Лежнев. — Нет: затерялась куда-то... Вторую лекцию я принес написанную и третью тоже... потом я стал импровизировать. — И имел успех? — спросил Лежнев. — Имел большой успех. Слушатели приходили толпами. Я им передавал все, что у меня было на душе... Это очень долгая исповедь. Приведем из нее лишь короткие отрывки. «Я читал гимназистам, как и студентам не всегда читают; слушатели мои выносили мало из моих лекций... факты я сам знал плохо. Притом я не удовлетворялся кругом действий, который был мне назначен... Я хотел коренных преобразований... Я надеялся провести их через директора...» Он спешил что-то там в этой гимназии сломать, менять, хотя был неопытным новичком и в сущности не был подготовлен профессионально. Какой из него реформатор! Ни целеустремленной настойчивости, ни реальной власти, ни достаточных знаний. Да и люди вокруг в большинстве своем далеко не идеальны. Но тут под меня подкопались, очернили... Особенно повредил мне учитель математики, маленький человек, острый, желчный и ни во что не веривший, вроде Пигасова, только гораздо дельнее его... Кстати, что Пигасов, жив? — Жив и, вообрази, женился на мещанке, которая, говорят, его бьет. — Поделом. — О чем, бишь, я говорил... да! Об учителе математики. Он меня возненавидел, сравнивал мои лекции с фейерверком... Инспектор, с которым я сразу не поладил, восстановил против меня директора; вышла сцена, я не хотел уступить, погорячился, дело дошло до сведения начальства; я принужден был выйти в отставку. Я этим не ограничился, я хотел показать, что со мной нельзя поступить так... но со мной можно было поступить, как угодно... Я теперь должен выехать отсюда. Наступило молчание. Оба приятеля сидели, понурив головы. Первый заговорил Рудин. — Да, брат, — начал он, — я теперь могу сказать с Кольцовым: «До чего ты, моя молодость, довела меня, домыкала, что уж шагу ступить некуда...» И между тем неужели я ни на что не был годен, неужели для меня так-таки нет дела на земле?.. И вот еще что: помнишь, когда мы с тобой были за границей, я был тогда самонадеян и ложен... Точно, я тогда ясно не сознавал, чего я хотел, я упивался словами и верил в призраки; но теперь... Я смиряюсь, хочу примениться к обстоятельствам, хочу малого, хочу достигнуть цели близкой, принести хотя ничтожную пользу. Нет! Не удается!.. — Сил в тебе так много, стремление к идеалу такое неутомимое... — Слова, все слова! Дел не было! — прервал Рудин. — Дел не было! Какие же дела... — Какие дела? Слепую бабку и все ее семейство своими трудами прокормить... Вот тебе и дело. — Да; но доброе слово тоже дело. 20 У Рудина от его деревни ничего почти не осталось. «Две души с половиною. Угол есть, где умереть... Смерть, брат, должна примирить наконец...» Очень был задушевный и длинный разговор. — Я возбуждаю твое сожаление, — промолвил глухо Рудин. — Нет, ты ошибаешься. Ты уважение мне внушаешь — вот что... ты сделал, что мог, боролся, пока мог... Приятели чокнулись стаканами... — Вот ты теперь в деревню едешь, — заговорил опять Лежнев. — Не думаю, чтоб ты долго в ней остался, и не могу себе представить, чем, где и как ты кончишь... Но помни, что бы с тобой ни случилось, у тебя всегда есть место, есть гнездо, куда ты можешь укрыться. Это мой дом... слышишь, старина? У мысли тоже есть свои инвалиды; надобно, чтоб и у них был приют. Рудин встал. — Спасибо тебе, брат, спасибо! Не забуду я тебе этого. Да только приюта я не стою. Он не пожелал остаться ночевать, ушел. «А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завываньем, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок... И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам!» Увы, при всех своих талантах, вдохновении, искреннем стремлении к идеалу Рудин в сущности лишен был всегда «руководящей идеи», ясной цели. Метался по жизни, бедствовал и говорил, говорил... Обо всем и ни о чем — без понимания реальной действительности в ее развитии, с ее противоречиями. Без понимания христианских основ поведения и отношений, а также — перспектив страны, человечества. Впрочем, как это свойственно Тургеневу, христианское примирение все же звучит в заключительной главе. — Кто пожил, да не сделался снисходительным к другим, тот сам не заслуживает снисхождения, — говорил Рудину в гостинице Лежнев. — А кто может сказать, что он в снисхождении не нуждается? Даже Рудин с его размахом и грандиозными неясными замыслами, растратив силы и устав от жизни, оценил значение конкретной, повседневной помощи ближним. (Хотя остался по-прежнему неприкаянным и непрактичным.) И вот мы встречаем Рудина в последний раз. «В знойный полдень 26 июня 1848 года, в Париже», когда уже восстание было почти подавлено, батальон линейного войска брал баррикаду. «Несколько пушечных выстрелов уже разбили ее; ее защитники, оставшиеся в живых, ее покидали и только думали о собственном спасении, как вдруг на самой ее вершине, на продавленном кузове поваленного омнибуса, появился высокий человек в старом сюртуке, подпоясанном красным шарфом, и соломенной шляпе на седых, растрепанных волосах. В одной руке он держал красное знамя, в другой — кривую и тупую саблю и кричал что-то напряженным, тонким голосом, карабкаясь кверху и помахивая знаменем и саблей». Он не убегал, не спасался, как другие, остававшиеся еще в живых. «Стрелок прицелился в него — выстрелил... Высокий человек выронил знамя — и, как мешок, повалился лицом вниз... Пуля прошла ему сквозь самое сердце». Сколько было потом в истории болтающих интеллигентов, неприкаянных, но честных и самоотверженных романтиков. Как восторженно они встречали новые идеи, революции, надежды. Как страшно подчас погибали, как трудно жили. 1856 Завтрак у предводителя Столовая. Утро. Накрытый стол с закуской. Действие происходит в имении предводителя местного дворянства. Николай Иванович Балаголаев пригласил с утра кого-то из соседей, судью и бывшего предводителя, чтобы решить спор между Кауровой, 45-летней вдовой подпоручика, и ее братом, помещиком Ферапонтом Беспандиным, отставным коллежским регистратором. Спор тянется уже три года. Обоим, Кауровой и Беспандину, родная тетка оставила свое имение по завещанию, а они, как говорит предводитель: «ну, не могут поделиться, хоть ты тресни...» Оба страшно упрямы и нещадно торгуются; по упрямству сестра — разновидность гоголевской Коробочки из «Мертвых душ», только более агрессивная и наглая. Сам Гоголь присутствовал на чтении комедии; по свидетельству современников он сказал про Каурову: «Женщина хороша!» «До суда дело доходило; высшим властям прошения подавали: долго ли тут до беды? — рассказывает предводитель. — Вот я и решился, наконец, пресечь, так сказать, твердою рукою корень зла, остановить, наконец, вразумить... Я им сегодня у себя свидание назначил, но уж в последний раз; а там я уж другие меры приму... Пусть суд их разбирает». Вначале вдова прикидывается послушной овцой: «Я на все согласна. Я человек смирный... Я не прекословлю, Николай Иваныч, где мне! Я вдова беззащитная: на вас одних надеюсь... А Ферапонт Ильич (ее брат) извести меня хочет... Что ж! Бог с ним! Лишь бы деток малолетних не погубил. А уж я что!» Потом начинается свара. «Вот, видите ли-с в чем главное затруднение: господин Беспандин и сестрица их не желают жить в одном доме; стало быть, усадьбу следует разделить. А разделить ее нет возможности!» — поясняет в ходе споров предводитель. Наконец Беспандин уже готов уступить дом, но надеется на вознаграждение. К а у р о в а. Николай Иванович! Это хитрость. Это с его стороны уловка, Николай Иванович! Он через это надеется получить самую лучшую землю, конопляники и прочее. На что ему дом? У него свой есть. А теткин дом без того куда плох... Б е с п а н д и н. Коли он так плох... К а у р о в а. А конопляников я не уступлю. Помилуйте! Я вдова, у меня дети... Что я буду делать без конопляников, посудите сами. Б е с п а н д и н. Коли он плох... К а у р о в а. Воля ваша... Б е с п а н д и н. Коли он так плох, уступите его мне, и пусть вас вознаградят. К а у р о в а. Да! знаю я ваши вознаграждения!.. какую-нибудь десятинишку негодную, камень на камне, или, еще того хуже, болото какое-нибудь, где один тростник, которого даже крестьянские коровы не едят! Б а л а г а л а е в. Такого болота в вашем имении и нету вовсе... К а у р о в а. Ну, не болото, так другое что-нибудь в этом роде. Нет, вознаграждение... покорно благодарю: знаю я, что это за вознаграждения! Наконец, не выдерживает один из присутствующих, помещик Алупкин, лишь недавно поселившийся в этих местах. — Что у вас в уезде все женщины таковы?» «Бывают и хуже», — отвечает сосед, бедный помещик Мирволин. Каурова Алупкина еще потом отчитает, улучив подходящий момент: «Да что ты это, батюшка, на меня все вскидываешься? Или у вас в Тамбове такой обычай? Откуда вдруг появился, ни знамо, ни ведомо, и что за человек, Господь его знает, а посмотри ты, как петушится!» А позже и не то еще будет: «Вы сумасшедший! Он сумасшедший». Еще и Беспандин в какой-то момент ополчится на него: «Милостивый государь! Позвольте узнать с какого права...» А л у п к и н. Вы заступаетесь за вашу сестру? Б е с п а н д и н. Вовсе не за сестру: мне моя сестра вот что — тьфу!.. а я за честь фамилии. Но предводитель старался все-таки решить проблему: «Господа, господа! Позвольте, позвольте... Я должен вас опять попросить несколько помолчать. Я вот что предлагаю. Мы теперь сообща разделим всю дачу на два участка; в одном будет заключаться дом с усадьбой, а к другому мы несколько лишней земли прибавим, и пусть они потом выбирают». Б е с п а н д и н. Я согласен. К а у р о в а. А я не согласна. Б а л а г а л а е в. Почему же вы не согласны? К а у р о в а. А кому первому придется выбирать? Б а л а г а л а е в. Мы жребий кинем. К а у р о в а. Сохрани, Господи, и помилуй! Что вы это! Ни за что на свете! Али мы нехристи какие? Балагалаев приказывает письмоводителю читать по тетрадке свой первоначальный проект раздела. Но там бесконечные детали... «Направление линии от точки А...» «До точки Б, на углу плотины...» «Владетель первого участка обязывается переселить на свой счет два двора во второй участок; а выселенным крестьянам конопляниками пользоваться два года...» К а у р о в а. Ни крестьян переселять, ни конопляники уступать я не намерена. Долго тянутся эти нелепые, базарные споры. А где же дворянская честь, воспитанность, благородство? Увы, всяко бывает в любом сословии. После долгих споров, нелепых оскорблений читатель готов повторить вслед за предводителем: «Голова как будто кругом идет... Извините меня, господа... я не в состоянии... я ничего не понимаю, что вы мне говорите, я не в силах, я не могу, не могу!» «Что ж, выпьем, Мирволин, выпьем», — зовет судья одного из присутствующих, бедного помещика. — Вот тебе и полюбовный дележ!..» Быт и нравы помещичьей среды. Обстановка тяжелая, невеселая. Борьба за свои интересы лютая. А каково при этом бессловесным крепостным? 1849 Месяц в деревне Богатый помещик Аркадий Сергеевич Ислаев, 36 лет, человек простой, очень, кажется, хозяйственный и старательный и его обаятельная жена Наталья Петровна, 29 лет, тихо живут в своем имении. С ним 10-летний сын Коля, 37-летняя компаньонка Лизавета Богдановна, немец-гувернер. Иногда появляется лекарь Шпигельский (40 лет). Почти всегда присутствует 30-летний друг дома Ракитин, воспитанный, образованный и несколько, кажется, флегматичный. Почти месяц живет в имении новый учитель Коли, 20-летний студент Алексей Николаевич Беляев, которого пригласили на лето. Наталья Петровна, сообщая о нем Ракитину, так его характеризует: «Худой, стройный, веселый взгляд, смелое выражение... Он, правда, довольно неловок...» Появление студента внесло переполох в эту тихую заводь. Сначала в него влюбилась Верочка, сирота-воспитанница. Затем сама Наталья Петровна. Даже 20-летняя служанка явно к нему неравнодушна. Чем он их так пленил? Да просто человек веселый, смелый, искренний. С его появлением как будто всколыхнулась их тихая заводь. Все словно ожили. Между Натальей Петровной и другом дома Ракитиным давно тянется что-то вроде любви, но весьма своеобразной. Вот что говорит об этом Наталья Петровна: «Наши отношения так чисты, так искренни... и все-таки не совсем естественны. Мы с вами имеем право не только Аркадию, но всем прямо в глаза глядеть... Да, но... Знаете ли, что мне иногда странным кажется: я вас люблю... и это чувство так ясно, так мирно... Оно меня не волнует... я им согрета, но...» В общем, какое-то подобие, замена любви. Что касается Ракитина, то он просто скучен, хотя человек, видимо, добрый и по-своему любит Наталью Петровну. Вот небольшой отрывок из его длиннейшего монолога: «Ах, как смешны люди, у которых одна мысль в голове, одна цель, одно занятие жизни... Вот как я, например. Она правду сказала: с утра до вечера наблюдаешь мелочи и сам становишься мелким... Все так, но без нее я жить не могу, в ее присутствии я более чем счастлив; этого чувства нельзя назвать счастьем, я весь принадлежу ей... Я очень хорошо знаю, как она меня любит; но я надеялся, что это спокойное чувство со временем... Признаюсь, мое положение довольно смешно... Ну, к чему такие слова? Она честная женщина, а я не ловелас». И вот еще небольшие отрывки... Из диалога Беляева и Веры. Наталья Павловна ему сказала, что Вера его любит. В е р а. О, как жестоко она поступила со мной! И вы... вы от этого хотите уехать?.. Но Беляев ни в чем перед ней не виноват, он все время относился к ней просто дружески. Б е л я е в. ...Я от роду не был в таком положении... Я бы не желал оскорбить вас... Я не стану притворяться перед вами; я знаю, что я вам понравился, что вы меня полюбили... Но посудите сами, что из этого может выйти? Мне всего двадцать лет, за мной гроша нету. Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я, право, не знаю, что вам сказать. Отрывок из диалога Беляева и Натальи Петровны. «Я полюбила вас с первого дня вашего приезда... Да, я ревновала к Вере... да я воспользовалась преимуществами моих лет, моего положения, чтобы выведать ее тайну, и — конечно, я этого не ожидала — и сама себя выдала. Я вас люблю, Беляев; но знайте: одна гордость вынуждает у меня это признание... Вы не можете остаться здесь...» (Надо отдать ей должное, она беспощадна к себе и правдива.) И Беляев правдив. «Я не умею говорить с дамами... Я до сих пор знал... совсем не таких женщин... мне необходимо уехать... я чувствую, что я ни за что отвечать не могу...» Итак, Беляев любит Веру «как сестру» и, кажется, весьма неравнодушен к Наталье Петровне. В конце концов, после всех перипетий, обид, намеков, разоблачений, он к одному стремится — уехать, о чем и сообщает Вере. «Пора прекратить все это. После моего отъезда все, я надеюсь, опять успокоится и придет в порядок... Кружить голову богатым барыням и молодым девушкам не мое дело». Все эти волны, вероятно, улягутся, прежний мир воцарится в имении пополам с тоской. Вот только сирота-воспитанница Вера, самая незащищенная из всех, страшный выход вдруг нашла для себя, чтобы уехать из этого дома: выйти замуж за немолодого, небогатого помещика, до нелепости примитивного, очень глупого и смешного. А что-то ждет впереди Алексея Николаевича Беляева, неглупого, искреннего, смелого, нищего? Людям трудно ужиться вместе, даже таким спокойным, вроде бы мирным, как Ислаев; его старый друг Ракитин; добрая и неопытная Верочка; совестливая, в сущности, Наталья Петровна или обаятельный, честный студент Беляев. А какие вокруг еще ходят неузнанные ими, опасные существа! Например, лекарь Шпигельский. Вот он беседует откровенно с компаньонкой матери барина, Лизаветой Богдановной, на которой вроде бы собирается жениться (хотя и за служанкой Катей совсем недавно «приударял»). Итак, вот их разговор, несколько сокращенный. Ш п и г е л ь с к и й. Эх, Лизавета Богдановна, позвольте вам заметить: что вам за охота жеманиться, глаза вдруг эдак опускать? Мы ведь с вами люди не молодые! Эти церемонии, нежности, вздохи — это все к нам нейдет. Будемте говорить спокойно, дельно, как оно и прилично людям наших лет. Итак, вот в чем вопрос: мы друг другу нравимся... по крайней мере я предполагаю, что я вам нравлюсь. Л и з а в е т а Б о г д а н о в н а (слегка жеманясь). Игнатий Ильич, право... Ш п и г е л ь с к и й. Ну да, да, хорошо. Вам, как женщине, оно даже и следует... эдак того... (показывает рукой) пофинтить то есть. Стало быть, мы друг другу нравимся. И в других отношениях мы тоже под пару. Я, конечно, про себя должен сказать, что я человек рода не высокого: ну да ведь и вы не знатного происхождения. Я человек не богатый, в противном случае я бы ведь и того-с... (усмехается). Но практика у меня порядочная, больные мои не все мрут; у вас, по вашим словам, пятнадцать тысяч наличных денег; это все, изволите видеть, недурно. Притом же вам, я воображаю, надоело вечно жить в гувернантках, ну да и с старухой возиться, вистовать ей в преферанс и поддакивать тоже, должно быть, не весело. С моей стороны, мне не то чтобы наскучила холостая жизнь, а стареюсь я, ну да и кухарки меня грабят; стало быть, оно все, знаете ли, приходится под лад. Но вот в чем затруднение, Лизавета Богдановна: мы ведь друг друга вовсе не знаем, то есть, по правде сказать, вы меня не знаете... а то вы, пожалуй, потом на меня пенять станете... Л и з а в е т а Б о г д а н о в н а. Мне всегда казалось, что вы очень любезный человек... Ш п и г е л ь с к и й. То-то вот и есть. Видите, как легко можно ошибиться. Оттого, что я перед чужими дурачусь, анекдотцы им рассказываю, прислуживаю им, вы уж и подумали, что я в самом деле веселый человек. Если б я в них не нуждался, в этих чужих-то, да я бы и не посмотрел на них... Вот хоть бы Наталья Петровна... Ух, эти мне барыни! И улыбаются-то они вам и глазки эдак щурят, а на лице написана гадливость... Брезгают они нами... воображают, что их за хвост поймать нельзя. Да, как бы не так! Такие же смертные, как и все мы, грешные! Л и з а в е т а Б о г д а н о в н а. Игнатий Ильич... Вы меня удивляете. Ш п и г е л ь с к и й. Я знал, что я вас удивлю. Вы, стало быть, видите, что я человек не веселый вовсе, может быть, даже и не слишком добрый... Но я тоже не хочу прослыть перед вами тем, чем я никогда не был. Как я ни ломаюсь перед господами, шутом меня никто не видал, по носу меня еще никто не щелкнул. Они меня даже, могу сказать, побаиваются; они знают, что я кусаюсь. Но зачем он так? Лизавете Богдановне даже кажется, что он себя намеренно очернил. Зачем? «Что касается собственного моего нрава, то я должен предуведомить вас, Лизавета Богдановна: дома я угрюм, молчалив, взыскателен; не сержусь, когда мне угождают и услуживают; люблю, чтобы замечали мои привычки и вкусно меня кормили... Об романтической эдакой любви между нами, вы понимаете и говорить нечего...» Он ее как будто нанимает на службу. Но оказывается, он рассказал о своих недостатках, потому что горд. — Да, да, горд... Как вы ни изволите глядеть на меня. Я перед моей будущей женой притворяться и лгать не намерен, не только из пятнадцати, изо ста тысяч; а чужому я из- за куля муки низехонько поклонюсь. Таков уж мой нрав... Чужому-то я зубы скалю, а внутренно думаю: экой ты болван, братец, на какую удочку идешь; а с вами я говорю, что думаю. То есть, позвольте, и вам я не все говорю, что думаю; по крайней мере я вас не обманываю. Я должен вам большим чудаком казаться, точно, да вот постойте, я вам когда-нибудь расскажу мою жизнь: вы удивитесь, как я еще настолько уцелел. Вы тоже, чай, в детстве не на золоте ели, а все-таки вы, голубушка, не можете себе представить, что такое настоящая, заматерелая бедность... 1850 В пьесах Тургенева нет особенно поразительных открытий. В основном здесь обычные, не особенно примечательные события и люди; но вполне реальные, живые. И за всем этим — подлинная, по-своему нелегкая, по-своему даже страшная повседневная жизнь. 1 Молодой человек, некий Н.Н., путешествует, приезжает в немецкий городок З. на берегу Рейна. «Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись — я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом». Бывали, правда, и у этого счастливца огорчения, но ненадолго. Например, одна молодая вдова, с которой Н.Н. познакомился на водах, сначала его «поощряла», а потом «уязвила»: предпочла какого-то баварского лейтенанта. Но сердечная рана была не слишком глубока... Предстояли переживания куда более значительные. На противоположном берегу находился городок Л. Однажды Н.Н. услышал доносившиеся оттуда звуки музыки — там, в саду, перед гостиницей происходил «студенческий пир». Он отыскал перевозчика и отправился в Л. на другую сторону Рейна. Стоя в толпе зрителей на улице перед низкой оградой сада, он вдруг услышал рядом русскую речь. Красивый молодой человек держал под руку девушку невысокого роста в соломенной шляпе. Н.Н. тут же с ними познакомился, и его пригласили в гости. Гагин и его сестра Ася жили за городом в одиноком домишке высоко в горах. Добираться пришлось по крутой тропинке. Вид оттуда был чудесный. «Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката». Ужинали на воздухе. Ася и хозяйка-немка принесли «большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом». Сначала Ася дичилась, но брат сказал ей: — Ася, полно ежиться! Он не кусается. Как она выглядела без своей соломенной шляпы? Подстрижена, как мальчик; черные волосы падали крупными завитками на шею и уши. «Ни одно мгновенье она не сидела смирно; вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала вполголоса, часто смеялась, и престранным образом: казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен». «Мы проболтали часа два. Гагин велел принести бутылку рейнвейна... Музыка, попрежнему, долетала до нас... — Пора! — воскликнул я, — а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь. — Пора, — повторил Гагин. Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася нас догоняла... — Прощайте!.. — До завтра, — проговорил за нею Гагин». «Лодка причалила... Я отправился домой через потемневшие поля... Я был счастлив». 2 На следующее утро Гагин приехал к Н.Н.; выйдя в садик, они велели подать себе кофе и принялись беседовать. Потом поехали к Гагину смотреть его этюды. «В его этюдах было много жизни и правды, что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение», — вспоминает Н.Н. — Да, да, — подхватил он со вздохом, — вы правы; все это очень плохо и незрело... Аси дома не было; по словам хозяйки, она отправилась на «развалину». (Так называли остатки феодального замка.) Н.Н. с Гагиным пошли туда. Они увидели ее над пропастью на уступе стены. «Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное... Она хочет удивить нас, — думал я, — к чему это? Что за детская выходка?» На обратном пути она хохотала и шалила. А к обеду явилась нарядная, «тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках» и «держалась очень чинно», словно играя роль «приличной и благовоспитанной барышни». После обеда она отправилась в гости к некой фрау Луизе, вдове бывшего бургомистра. Н.Н. и Гагин еще несколько часов провели вдвоем и сдружились окончательно. А вернувшись домой, Н.Н. вдруг беспричинно загрустил и стал думать об Асе. «Полно, сестра ли она его? — неожиданно пришло ему в голову. Он старался заснуть, но все думал об этой «капризной девочке с натянутым смехом». А на следующее утро он опять пошел в Л., уверяя себя, что хочет повидаться с Гагиным. На самом деле его тянуло посмотреть, будет ли Ася «чудить», как накануне. Он застал обоих в гостиной, на Асе было старенькое платьице, она «шила в пяльцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась». Потом Гагин в сопровождении Н.Н. отправился рисовать этюд с натуры. Но друзья в основном лишь рассуждали, как надо работать, «чего следует избегать, чего придерживаться и какое собственно значение художника в наш век». Ася была дома и по-прежнему — «ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли». А вернувшись к себе и ложась спать, Н.Н. вслух промолвил: «Что за хамелеон эта девушка!» И ему по-прежнему казалось, что она Гагину вовсе не сестра. 3 Две недели он ежедневно посещал Гагиных и с любопытством наблюдал за Асей. Она уже не позволяла себе прежних шалостей и казалась смущенной. Чувствовалось, что воспитание она получила странное, не такое, как Гагин. «От него... так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином, а она не походила на барышню». Она как будто «досадовала на свою застенчивость и, с досады, насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось». Вот здесь таится какая-то важная черта ее жизни и судьбы! Но в чем она? А однажды, проходя мимо беседки возле домика Гагиных, Н.Н. вдруг услышал «голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносивший следующие слова: — Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить — и навсегда. — Полно, Ася, успокойся, — говорил Гагин: — ты знаешь, я тебе верю». Несколько мгновений Н.Н. оставался неподвижным, потом встрепенулся: «Подойти к ним?.. Ни за что!» — сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой...» Он улыбался, удивляясь случаю, подтвердившему его догадку, а на сердце было «очень горько». На другое утро он отправился в горы. Бродил по горам и долинам, сидел в деревенских харчевнях или «ложился на плоский, согретый камень и смотрел, как плыли облака, благо, погода стояла удивительная». Так прошло три дня. Вернувшись домой, он нашел записку от Гагина и на следующий день отправился в Л. Гагин встретил его по-приятельски, но Ася, едва увидев, «расхохоталась без всякого повода» и «тотчас убежала». Гагин смутился, попросил извинить ее, а потом он поехал провожать Н.Н. Переправившись через Рейн, они присели на скамью, и тогда наконец состоялся между ними доверительный разговор. — Скажите, — начал вдруг Гагин, с своей обычной улыбкой: — какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной? — Да, — ответил я не без некоторого недоумения... — Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить... впрочем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю... 4 Отец Гагина был человек «весьма добрый, умный, образованный — и несчастливый». Женился рано, по любви; жена его умерла, когда ребенку было 6 месяцев. Отец увез сына в деревню, сам занимался его воспитанием, а потом отправил в Петербург к своему брату. Юнкерская школа, гвардейский полк... В одно из своих посещений Гагин увидел в доме отца худенькую, черноглазую девочку лет десяти. «Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление». «Она была дика, проворна и молчалива, как зверек». А когда отец умирал и Гагин помчался в деревню, умирающий завещал ему Асю. Лишь тогда Гагин узнал (от старого камердинера), что Ася — дочь его отца и бывшей горничной Татьяны, с которой отец сошелся через несколько лет после смерти жены; Татьяна тогда жила уже не в господском доме, а в избе своей замужней сестры, скотницы. Она умерла, когда Асе шел девятый год. Ася на всю жизнь запомнила, как ее взяли «к барину», как надели шелковое платье, «поцеловали у ней ручку». Отец ее любил, но она «скоро поняла свое ложное положение, самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренялись, простота исчезла. Она хотела... заставить целый мир забыть ее происхождение... — И вот, я, двадцатилетний малый, очутился с 13-летней девочкой на руках. Он привез ее в Петербург, поместил в пансион. «Из всех своих подруг она сошлась только с одной, некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, большей частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи, как только могли; Ася им на волос не уступала...» Как должна себя чувствовать в дворянском пансионе дочь горничной рядом с дочками графини? Сословные претензии, а рядом тайное, подчас неосознанное чувство унижения. «Наконец, ей минуло 17 лет; оставаться ей далее в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собою». Он мог себе это позволить: «владея порядочным состоянием и ни от кого не завися...» «Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить... И при этом так расплакалась... — А скажите-ка мне, — спросил я Гагина — дело между нами пошло на откровенность, — неужели, в самом деле, ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видела же она молодых людей? — Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек — или живописный пастух в горном ущелье... — Послушайте, — начал я, — пойдемте к вам, мне домой не хочется... Мне стало легко после гагинского рассказа». 5 На этот раз Ася была бледная, молчаливая. Н.Н. теперь лучше ее понял: «ее внутреннее беспокойство, неумение держать себя, желание порисоваться». «Я заглянул в эту душу: тайный гнет давил ее постоянно, тревожно путалось и билось неопытное самолюбие, но все существо ее стремилось к правде». Они вышли вдвоем погулять по винограднику, присели на широкую плиту. Гагин дома возился со своими рисунками... Сначала был незначительный разговор о том, о сем. Потом вдруг долетели до них отрывочные, однообразные звуки — молитвенный напев: «толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями... — Вот бы пойти с ними, — сказала Ася, прислушиваясь... — Разве вы так набожны? — Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг, — продолжала она. — А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали? — Вы честолюбивы, — заметил я, — вы хотите прожить недаром, след за собой оставить... — А разве это невозможно?» Она была теперь кроткая, успокоенная. И вокруг все «радостно сияло». — Посмотрите, как хорошо! — сказал я, невольно понизив голос. — Да, хорошо! — так же тихо отвечала она, не смотря на меня. — Если б мы были птицы — как бы мы взвились, как бы полетели... Так бы и утонули в этой синеве... Но мы не птицы. — А крылья могут у нас вырасти, — возразил я. — Как так? — Поживите — узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья. — А у вас были? — Как вам сказать... кажется, до сих пор я еще не летал. Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней. — Умеете вы вальсировать? — спросила она вдруг. — Умею, — отвечал я, несколько озадаченный. — Так пойдемте, пойдемте... Я попрошу брата сыграть нам вальс... Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья. Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею — и, несколько мгновений спустя, мы кружились в тесной комнате... Весь этот день Ася была очень мила и проста. Гагин тоже радовался, глядя на нее. Н.Н. ушел поздно. В лодке на середине Рейна он вдруг почувствовал в душе тревогу. Казалось, и вокруг не было покоя: испещренное звездами небо «шевелилось, двигалось, содрогалось», в темной холодной глубине «колыхались, дрожали звезды». В нем зажглась жажда счастья. 6 Отправляясь к Гагиным на следующий день, он радовался сближению с Асей, чувствовал, что лишь со вчерашнего дня узнал ее и не думал о будущем. Ему просто было хорошо. Он заметил, что Ася принарядилась, но лицо ее было печально. А Гагин стоял перед натянутым холстом, «размахивая по нем кистью». Чтобы ему не мешать, Н.Н. подсел к Асе. — Вы сегодня не такая, как вчера, — заметил я после тщетных усилий вызвать улыбку на ее губы. — Нет, не такая... Но это ничего. Я нехорошо спала, всю ночь думала. — О чем? — Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства: еще с того времени, когда я жила с матушкой... Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила: — Когда я жила с матушкой... я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду — да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?.. Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надобно учиться. Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей, со мной, должно быть, очень скучно. — Вы несправедливы к себе, — возразил я. — Вы много читали, вы образованны, и с вашим умом... — А я умна? — спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно засмеялся, но она даже не улыбнулась. — Брат, я умна? — спросила она Гагина. Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя кисти и высоко поднимая руку. — Я сама не знаю иногда, что у меня в голове, — продолжала Ася с тем же задумчивым видом... — Правда ли, что женщинам не следует читать много? — Много не нужно, но... — Скажите мне, что я должна читать? Скажите, что я должна делать? Я все буду делать, что вы мне скажете, — прибавила она, с невинной доверчивостью обратясь ко мне. Я не тотчас нашелся, что сказать ей. — Ведь вам не будет скучно со мной? — Помилуйте, — начал я. — Ну, спасибо! — возразила Ася: — а я думала, что вам скучно будет. И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою. «Неужели она меня любит?» — думал я, подходя к Рейну, быстро катившему темные волны». 7 «Неужели она меня любит?» — спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что ее образ... втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться». Дня два прошли в каком-то полусне, и вдруг неизвестный мальчик принес от нее записку: «Я непременно должна вас видеть, — писала мне она: — приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность... Скажите посланному: да». — Будет ответ? — спросил меня мальчик. — Скажите, что: да, — отвечал я. Мальчик убежал. Еще не было и двенадцати. Но вдруг неожиданно вошел Гагин, очень взволнованный. — С другим я, вероятно, не решился бы... так прямо... Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте: моя сестра Ася в вас влюблена. Я весь вздрогнул и приподнялся... — Ваша сестра, говорите вы... — Да, да, — перебил меня Гагин. — Я вам говорю, она сумасшедшая, и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать — и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки... но она себя погубит, непременно. Накануне весь день она пролежала и ничего не ела, к вечеру поднялась температура. Ночью хозяйка вызвала Гагина. — Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихорадке, в слезах; голова у ней горела, зубы стучали. «Что с тобой? — спросил я: — ты больна?» Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых... Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить... Рыдания ее усиливаются... и вдруг сквозь эти рыдания услышал я... Ну, словом, я услышал, что она вас любит... — Вы очень милый человек, — продолжал Гагин, — но почему она вас так полюбила — это я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что кроме меня никого любить не хочет. Она воображает, что вы ее презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю — я, разумеется, сказал, что нет; но чуткость ее просто страшна. Она желает одного: уехать, уехать тотчас... Я решился... узнать от вас... — Бедный Гагин смутился. — Извините меня, пожалуйста, — прибавил он: — я не привык к таким передрягам. Я взял его за руку. — Вы хотите знать, — произнес я твердым голосом: — нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится... Гагин взглянул на меня. — Но, — проговорил он, запинаясь: — ведь вы не женитесь на ней. — Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь... — Знаю, знаю, — перебил меня Гагин, — я не имею никакого права требовать от вас ответа и вопрос мой — верх неприличия. Но он очень беспокоился оттого, что «с огнем шутить нельзя», Ася может заболеть, убежать, свиданье назначить. Честная откровенность Гагина заставила Н.Н. тоже отвечать откровенностью. — Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она. Решено было, что Н.Н. пойдет на свиданье и честно объяснится с Асей; Гагин будет сидеть дома, делая вид, что не знает про записку; а вечером оба встретятся. «— Я твердо надеюсь на вас, — сказал Гагин и стиснул мне руку: — пощадите и ее, и меня. А уезжаем мы все-таки завтра, — прибавил он, вставая: — потому что ведь вы на Асе не женитесь. — Дайте мне сроку до вечера, — возразил я. — Пожалуйста, но вы не женитесь. Гагин ушел, а Н.Н. бросился на диван и закрыл глаза. Асина любовь и радовала его и смущала. Особенно терзала необходимость «скорого, почти мгновенного решения». «Жениться на 17-летней девочке, с ее нравом, как это можно!» — сказал я, вставая». 8 Когда Н.Н. в условленный час переправился через Рейн, тот же мальчик, видимо, ожидавший его, подал другую записку. Ася в ней сообщала о перемене места свидания, теперь надо было прийти через полтора часа не к часовне, а в дом фрау Луизе. Пришлось подождать в садике за городской стеной. «Не с легким сердцем шел я на это свидание... Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо — признаюсь, она меня пугала. Назначенный срок приближался. «Я не могу на ней жениться, — решил я наконец: — она не узнает, что и я полюбил ее». ...Дверь открыла морщинистая старуха с «приторно-лукавой улыбкой». Ася сидела у окна в небольшой комнатке, «отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка». Он вначале хотел держаться официально, называл ее Анной Николаевной... Человек благородный, он не хотел причинить зла ни ей, ни ее брату. А она не могла говорить, ее голос прерывался, и она старалась сдержать накипавшие слезы. «Сердце во мне растаяло. — Ася, — сказал я едва слышно... Она медленно подняла на меня свои глаза... я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами; я нагнулся и приник к ее руке...» В лице ее исчезло выражение страха. «Я забыл все, я потянул ее к себе — покорно повиновалась ее рука, все ее тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатилась с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы... — Ваша... — прошептала она, едва слышно. Уже руки мои скользили вокруг ее стана... Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило. — Что мы делаем! — воскликнул я и судорожно отодвинулся назад... — Ваш брат... ведь он все знает. Он знает, что я вижусь с вами. Ася опустилась на стул. — Да, — продолжал я, вставая и отходя на другой угол комнаты. — Ваш брат все знает... Ася испуганно прошептала, что брат пришел сам, она его не звала, у хозяйки был другой ключ... А Н.Н. в свою очередь стал объяснять, что не мог не сказать ее брату о предстоящем свидании. Он был как в лихорадке; он даже упрекал растерянную девочку: «Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать...» Потом Ася зарыдала, убежала из комнаты. И Н.Н. сам уже не понимал, как это все случилось, как могло это свидание закончиться «так быстро, так глупо». Он «и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать...». А может быть, совершенно невольно им владела все та же мысль: «Это привлекательное, но странное существо... Я не могу на ней жениться». Эти ее странности. Сумбурные, нелепые выходки... Недостатки воспитания виноваты? Вечное ощущение какой-то неполноценности своего происхождения, социального статуса? Или некие индивидуальные особенности характера? Она и сама была, видимо, не рада вечно неожиданным, странным своим словам и поступкам, зачастую непонятным, тяжелым для нее самой... 9 Н.Н. выбрался из города в поле. «Досада, досада бешеная меня грызла... После того как он оттолкнул от себя Асю, даже упрекал, он теперь мысленно просил у нее прощения. «Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася». Но она, оказывается, домой не вернулась. Они ее ждали, потом искали повсюду. — Куда могла она пойти, что она с собою сделала? — восклицал я в тоске бессильного отчаяния... Я решился пойти узнать, не нашел ли ее Гагин... Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина. — Нашли? — спросил я его. — Она вернулась, — отвечал он мне шепотом... — Все в порядке. Н.Н. хотел поговорить. Но Гагин его не понял. — В другое время, — возразил он, тихо потянув к себе раму: — в другое время, а теперь прощайте. Н.Н. чуть было не постучал в окно, чтобы сказать о своем решении жениться. Но уже ночь наступила. Он решил отложить разговор до утра. «Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее, — и то не день — а мгновенье». На другой день утром домик Гагиных был уже пуст. — Уехали! — сообщила служанка. — Уехали?.. — повторил я... — Как уехали? Куда? — Уехали сегодня утром, в шесть часов, и не сказали куда. Постойте, ведь вы, кажется, гн Н?.. — Я г-н Н. — К вам есть письмо у хозяйки. Служанка принесла ему письмо Гагина. От Аси не было ни строчки. «Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе, — говорилось в письме. — Она мне все сказала; для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам». Гагин далее просил не сердиться за внезапный отъезд; сожалел, что знакомство с Н.Н. так быстро прервалось и желал ему счастья. И еще он умолял не стараться их отыскивать. Когда Н.Н. проходил по улице, старушка фрау Луизе его окликнула и вручила записку. «Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю — нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово — я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше... Прощайте навсегда!» «Одно слово... О, я безумец! Это слово... я со слезами повторял его накануне, я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей... но я не сказал его ей, я не сказал ей, что я люблю ее... Да я и не мог произнести тогда это слово. Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей любви...» Есть пословица: «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Теперь, потеряв, Н.Н. кинулся на поиски. В Кельне узнал было, что Гагины поехали в Лондон. Но в дальнейшем все долгие розыски оказались безуспешными. Может быть, именно внезапность потери способствовала всем этим сожалениям, стремлению во что бы то ни стало вернуть? «И я не увидел их более — я не увидел Аси. Темные слухи доходили до меня о ней, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она». Н.Н. так и остался всю жизнь одиноким. «Нет! Ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовью устремленных на меня глаз... И я сам... Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений». В этой маленькой повести столько поэзии, окрыленной романтики. И при всем этом важная, хотя и весьма прозаическая проблема здесь вольно или невольно отражена. Социальное неравенство и связанные с ним человеческие особенности. Может быть, именно ущемленное самолюбие, ее давно и безвозвратно ущемленное чувство значимости (присущее каждому) гнало Асю немедленно уехать, не ждать, словно милости, решения Н.Н.! 1858 1 1842 год. Красивый дом на одной из «крайних улиц губернского города О...». Хозяйка дома, 50-летняя вдова Марья Дмитриевна Калитина довольно богата; состояние у нее «не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем», бывшим губернским прокурором и ловким дельцом. У нее две дочери, одна подросток, другая 19-летняя; сын — учится в Петербурге. У старшей Лизы, высокой, стройной, черноволосой, есть жених, Паншин Владимир Николаевич — камер-юнкер, дельный чиновник и светский человек. «Его везде охотно принимали; он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на все готов; где нужно — почтителен, где можно — дерзок...» Он «держался вольно и просто; но в душе был холоден и хитер». Кроме того, он «мило пел, бойко рисовал, писал стихи», но во всем был поверхностным дилетантом. Дом Калитиных — один из приятнейших в городе. Как-то в гостиной был упомянут в разговоре племянник хозяйки, Лаврецкий. В свое время он женился по любви, но жена его в Париже, по словам одного из гостей: «стыд потеряла совершенно, знакомства вела и с артистами, и с пианистами, и «со львами...». Вскоре Федор Иванович Лаврецкий появился в доме Калитиных. Приехал в О... из Берлина, собирается в деревню. У него чудесное имение в Лавриках; и еще одна небольшая деревушка с флигельком, Васильевское. А вот его внешность. «От его краснощекого, чисто русского лица с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами так и веяло степным здоровьем, крепкой долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых, навыкате, и несколько неподвижных, замечалась не то задумчивость, не то усталость, и голос его звучал как-то слишком ровно». — Ну — и надолго ты к нам? — Я завтра еду, тетушка. — Куда? — К себе, в Васильевское. — Завтра? — Завтра. Затем, как обычно у Тургенева, нить событий прерывается, и нам подробно сообщают всю историю жизни Лаврецкого и его предков. Родоначальник этого старинного дворянского рода — выходец из Пруссии. «Многие из его потомков числились в разных службах, сидели под князьями и людьми именитыми на отдаленных воеводствах...» Богаче и замечательнее всех был родной прадед Лаврецкого Андрей, «человек жестокий, дерзкий, умный и лукавый. До нынешнего дня не умолкла молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой». Его сын Иван воспитывался не дома, а у богатой старой тетки, княжны, которая назначила его своим наследником, а потом, «чуть не 70-ти лет» вышла замуж за его гувернера, француза, бывшего аббата, «ловкого и тонкого проныру». Она перевела на имя шустрого француза все свое состояние и затем, «разрумяненная, раздушенная амброй», умерла «оставленная мужем: вкрадчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами». В Петербурге общество, в котором вырос Иван, «богатый наследник», перед ним закрылось, когда тетка отдала состояние другому; пришлось вернуться в деревню к отцу. «Грязно, бедно, дрянно показалось ему родимое гнездо; глушь и копоть степного житья-бытья на каждом шагу его оскорбляли; скука его грызла...» Одна из горничных матери, Маланья, кроткая, тихая, красивая стала его возлюбленной. «В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может: скоро все узнали о связи молодого барина с Маланьей. Дело обычное. Отец в другое время «не обратил бы внимания на такое маловажное дело»; но он давно злился на сына и обрадовался случаю пристыдить «петербургского мудреца и франта», даже кинулся на него с кулаками. Назло отцу Иван совершил дикий по тем временам поступок: обвенчался с Маланьей, которую его отец хотел сослать куда-то далеко. Затем он отвез ее в деревню, где жили его родственники, упросил их на время приютить жену, а сам отправился в Петербург. Он был горд, что поступил в духе Руссо, «Дидерота» и Декларации прав человека, провозглашенной в начале французской буржуазной революции. Затем он получил место при русской миссии в Лондоне и уплыл за море, мало думая о жене; тем временем в далекой деревушке родился его сын Федор. 2 Родители Ивана потом взяли к себе младенца Федора вместе с Маланьей. Иван вернулся в Россию, когда жена его и родители уже умерли. Воспитание, которому он, будучи теперь «англичанином», подверг Федора, было самое несуразное. Он хотел сделать из сына «спартанца», применял определенную «систему», которая «сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове...». Тем более что он всегда «замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными нормами и черствым, мелким деспотизмом». Похоронив отца и поручив тетке Глафире Петровне заведование хозяйством, Федор Лаврецкий отправился в Москву. В 23 года он поступил в университет, но его там считали странным, не подозревая, что в «этом суровом муже... таился чуть не ребенок». Лишь один студент, Михалевич, энтузиаст и стихотворец, с ним сблизился. Однажды в театре Лаврецкий увидел девушку в ложе бельэтажа. Вот его впечатление. «Облокотясь на бархат ложи, девушка не шевелилась; чуткая молодая жизнь играла в каждой черте ее смуглого, круглого, миловидного лица; изящный ум сказывался в прекрасных глазах, внимательно и мягко глядевших из-под тонких бровей, в быстрой усмешке выразительных губ, в самом положении ее головы, рук, шеи; одета она была прелестно». Каковы отец и мать этой девушки? Ближайшее окружение так или иначе влияет на каждого человека. Мать — «с беззубою улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице». Отец — «с выражением тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности в маленьких глазках, с крашеными усами и бакенбардами, незначительным огромным лбом и измятыми щеками, по всем признакам отставной генерал». Вдруг в эту ложу вошел приятель Лаврецкого по университету Михалевич, судя по всему, их старый знакомый. На следующий день Лаврецкий к нему отправился и узнал, что эта девушка, Варвара Павловна Коробьина — «изумительное, гениальное существо, артистка в настоящем смысле слова, и притом предобрая». Он боролся «с своею робостью» целых 5 дней, на 6-й — «молодой спартанец надел новенький мундир и отдался в распоряжение Михалевичу...» Они отправились к Коробьиным. Далее, как обычно у Тургенева, подробная история этого почтенного семейства. Упомянем лишь несколько важных деталей. Генерал весь своей век провел в Петербурге, был «по бедности адъютантом при двух-трех невзрачных генералах, женился на дочери одного из них, взяв тысяч 25 приданого». Добился наконец генеральского чина, и тут «вышла более чем неприятная, вышла скверная история». Он придумал средство пустить в оборот казенные деньги, но с кем-то не поладил, «не вовремя поскупился; на него донесли». Генерал кое-как «отвертелся», но пришлось выйти в отставку, его карьера «лопнула». Он переехал в Москву, где жизнь дешевле, «стал появляться в лучших московских гостиных» и «сумел поставить себя в обществе». «О жене его почти сказать нечего». А вот дочь... В институте благородных девиц она считалась «первою умницей и лучшею музыкантшей», теперь ей было 19 лет и от нее веяло «вкрадчивой прелестью». Ох, эта вкрадчивость настораживает! «Она так была спокойна и самоуверенно ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома...» Лаврецкий был очарован, стал часто ходить к Коробьиным и через полгода сделал предложение. Предложение его было принято: генерал «чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого спросил у Михалевича, сколько у него, Лаврецкого, душ; да и Варваре Павловне, которая во все время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат...» И даже мамаша, дама пассивная и недалекая, подумала: «Моя дочь делает прекрасную партию». 3 Лаврецкого заставили бросить университет: не слишком почетно выйти замуж за студента, да и незачем богатому помещику в 26 лет «брать уроки как школьнику». После свадьбы летом он отправился с женой в Лаврики. «Она нашла дом грязным и темным, прислугу смешною и устарелою, но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу». В сентябре она увезла его в Петербург. Старик Коробьин взялся управлять имением, поскольку намеревался «запустить руки в дела зятя». В Петербурге жили в прекрасной квартире, на лето переселялись в Царское Село, завели много знакомств в средних и даже высших кругах общества, «много выезжали и принимали». Федору Ивановичу не совсем нравилась такая рассеянная жизнь, он уединился в кабинете, стал читать, занялся своим «недоконченным воспитанием». После рождения сына, вскоре умершего, поехали за границу, на воды. Лето и осень провели в Германии и Швейцарии, на зиму поехали в Париж. Вот где Варвара Павловна понастоящему расцвела. Любя комфорт, она «скоро и ловко» сумела свить себе там гнездышко, обзавелась знакомыми, часто посещала театры, даже была «представлена ко двору». О ней даже упоминали в газетах. Федор Иванович тоже не скучал: читал газеты, ходил на лекции, даже взялся за перевод «известного ученого сочинения об ирригациях». Но подчас жизнь его все же была «тяжела, потому что пуста». Он мечтал «вернуться в Россию и приняться за дело», хотя вряд ли ясно сознавал, «в чем, собственно, состояло это дело». Но однажды — гром грянул. Войдя в отсутствие Варвары Павловны в ее кабинет, он вдруг увидел на полу маленькую бумажку. Это была записка на французском языке. «Милый ангел Бетси... Я напрасно прождал тебя на углу бульвара; приходи завтра к половине второго на нашу квартирку... Твой добрый толстяк об эту пору обыкновенно зарывается в свои книги; мы опять споем ту песенку вашего поэта Пускина, которой ты меня научила: Старый муж, грозный муж! — Тысяча поцелуев твоим ручкам и ножкам. Я жду тебя. Эрнест». Он знал Эрнеста, «белокурый смазливый мальчик лет 23-х со вздернутым носиком и тонкими усиками, едва не самый ничтожный изо всех ее знакомых». Голова у него закружилась, он обезумел, ушел из дома и бродил всю ночь до утра. Потом поселился в гостинице и послал Варваре Павловне записку Эрнеста, приложив свое письмо. Он писал, что больше не может ее видеть, назначает ей 15 тысяч франков в год... «Делайте, что хотите; живите, где хотите». Через несколько месяцев «он надеялся быть отцом... Прошедшее, будущее, вся жизнь была отравлена». Варвара Павловна ответила сразу, не оправдывалась, (достаточна была умна), только просила не осуждать ее безвозвратно. Лаврецкий поехал в Италию, чтобы не возвращаться домой; послал предписание в Лаврики насчет денег жене и отстранения генерала от управления имением. В дальнейшем он узнал, что у него родилась дочь. Время от времени публиковались какие-то истории о похождениях его жены. Постепенно страдание сменилось равнодушием, он стал скептиком. А года через четыре он вернулся на родину и, не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, прибыл в город О... 4 Теперь мы знаем, кто появился в доме Калитиных. Придя на следующий день проститься: через час он отправлялся в свое имение, Лаврецкий встретил на крыльце Лизу. Она шла в церковь к обедне. — Помолитесь кстати и за меня, — попросил он. В гостиной была одна Марья Дмитриевна, которая, разговорившись понемногу, сообщила ему, что Паншин «без ума» от Лизы, ее дочери. «Он хорошей фамилии, служит прекрасно, умен, ну, камер-юнкер; и если на то будет воля Божия...» И вот он едет домой в деревню. «Эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы — вся эта, давно им невиданная, русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства... Вспомнил он свое детство, свою мать, вспомнил, как она умирала, как поднесли его к ней...» Потом он вспомнил отца, «сперва бодрого, всем недовольного... потом слепого, плаксивого, с неопрятной седой бородой... Вспомнил Варвару Павловну — и невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли...» Потом припомнилась Лиза. «Бледное, свежее лицо, глаза и губы такие серьезные, и взгляд честный и невинный. Жаль, она, кажется, восторженна немножко. Рост славный, и так легко ходит, и голос тихий». Наконец появилось Васильевское — небольшая деревенька, ветхий господский домик с закрытыми ставнями, заросший крапивой двор... Откуда-то выбежал старик; помогая барину спуститься на землю, поцеловал у него руку. Потом он кланялся в пояс. Этот смирный старичок помнил еще прадедушку Лаврецкого. «Тогда, батюшка, известно какие были времена: что барин восхотел, то и творил». И появившаяся откуда-то старушка «подошла к ручке Лаврецкого» и остановилась в ожидании приказаний. Это люди, взращенные крепостным правом. Глаза ее «глядели тупо, но выражали усердие, давнишнюю привычку служить безответно». Лаврецкий за две недели привел в порядок свой домик, двор и сад. Через три недели поехал верхом в О... и провел вечер у Калитиных. Там он познакомился с немцем Леммом, учителем музыки и пригласил его к себе погостить. Когда на следующий день хозяин и гость пили чай в саду, Лаврецкий заговорил о Лизе и ее женихе Паншине. — Кажется, у них уже все идет на лад. — Этого не будет! — воскликнул Лемм. Почему он так уверен? Лиза по его мнению — «девица справедливая, серьезная, с возвышенными чувствами», Паншин ее недостоин. — Да ведь она его любит? Но Лемм, романтик, устремленный ввысь, утверждал: не любит. «Она может любить одно прекрасное, а он не прекрасен, то есть душа его не прекрасна». Затем Лиза и Лаврецкий подружились. Она даже спрашивала его о жене. — Дитя мое, — заговорил он, — не прикасайтесь, пожалуйста, к этой ране; руки у вас нежные, а все-таки мне будет больно. — Я знаю, — продолжала Лиза, как будто не расслышав его, — она перед вами виновата, я не хочу ее оправдывать, но как же можно разлучать то, что Бог соединил? — Наши убеждения на этот счет слишком различны... Мы не поймем друг друга. Лиза побледнела... — Вы должны простить, — промолвила она тихо, — если хотите, чтобы и вас простили. — Простить!.. Помилуйте, она совершенно довольна своим положением... Вы не в состоянии даже понять такое существо. — Зачем оскорблять! — с усилием проговорила Лиза. — Но я же вам говорю, — возразил с невольным взрывом нетерпенья Лаврецкий, — вы не знаете, какое это создание! — Так зачем же вы женились на ней? — прошептала Лиза и потупила глаза. Лаврецкий быстро поднялся со стула. — Зачем я женился? Я был тогда молод и неопытен; я обманулся, я увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин, я ничего не знал. Дай вам Бог заключить более счастливый брак! но поверьте, ни за что нельзя ручаться. — И я могу также быть несчастной, — промолвила Лиза... — но тогда надо будет покориться... 5 Вскоре в гости к Лаврецкому приехал его университетский товарищ Михалевич. Он месяц назад «получил место» в конторе богатого откупщика недалеко от города О... и, узнав о возвращении Лаврецкого из-за границы, свернул с дороги, чтобы его навестить. За чаем, «выкуривая трубку за трубкой», Михалевич рассказывал, что «хотя он во многом изменился («волны жизни упали на мою грудь»), но он по-прежнему верил «в добро, в истину». Затем он принялся читать свое стихотворение и чуть не заплакал, произнося заключительные строчки: Новым чувствам всем сердцем отдался, Как ребенок, душою я стал: И я сжег все, чему поклонялся, Поклонился всему, что сжигал. А Лаврецкого раздражала «кипучая восторженность московского студента». «Не понимая ясно ни чужих, ни даже собственных мыслей», они заспорили «о предметах самых отвлеченных, — и спорили так, как будто дело шло о жизни и смерти обоих... Вот отдельные кусочки, быть может как-то выражающие смысл бесплодного разговора, продолжавшегося всю ночь. «А с какого права можешь ты быть скептиком? Тебе в жизни не повезло... Но как бы то ни было, разве можно, разве позволительно — частный, так сказать, факт возводить в общий закон, в непреложное правило? — возмущался Михалевич. — Ты мыслящий человек — и лежишь; ты мог бы что-нибудь делать — и ничего не делаешь; лежишь сытым брюхом кверху и говоришь: так оно и следует, лежать-то, потому что все, что люди ни делают, — все вздор и ни к чему не ведущая чепуха». А Лаврецкий возражал: «Работать... делать... Скажи лучше, что делать, а не бранись». Вишь чего захотел! Это я тебе не скажу, брат; это всякий сам должен знать». И уже под утро, проспорив всю ночь, Михалевич осипшим голосом кричал: «У нас! теперь! в России! когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед народом, перед самим собою! Мы спим, а время уходит; мы спим...» Потом их беседа стала тихой, грустной, доброй. Он уехал на следующий день и, когда лошади тронулись, в заключение выкрикнул уже из тарантаса: «Религия, прогресс, человечность!» Михалевич был очень беден; сокрушаясь о судьбе человечества, он мало заботился о себе. Прежняя служба «не пошла ему впрок», и он теперь все надежды возлагал на откупщика, который взял его, чтобы «иметь у себя в конторе образованного человека». Быть может, при всей смехотворности формы, в которой велась беседа, он был, в сущности, прав. Эти три заключительных слова многое выражали, очень важное для всей жизни. И Лаврецкий это чувствовал: «многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу». Новая разночинная интеллигенция, в основном дворянская... В бездне бесправия, несправедливости появлялись время от времени искренние идеалисты. Главным образом под влиянием религии, ее первоначальных заповедей. Или впоследствии — под влиянием выросшей на этой основе культуры. Многих потом несовершенство окружающей жизни заставляет либо вообще от этих ориентиров отказаться (даже зная о них), либо ограничить их применение, заменив суть внешней (обрядовой) формой. Да и выросший первоначально из христианских подлинных заповедей коммунизм — идея о будущем Царстве Божьем на земле... Попытка ее воплощения в XX веке (при недостаточном уровне экономики и сознания) во многом превратилась в догматы, обряды, подверглась вульгаризации, создала свою иерархию самых разных священнослужителей — партийную номенклатуру. 6 Через пару дней по приглашению Лаврецкого Марья Дмитриевна Калитина приехала к нему в гости с обеими дочерьми. Вечером пошли всем обществом ловить рыбу в пруде за садом. «Лаврецкий поместился возле Лизы. Рыба клевала беспрестанно; выхваченные караси то и дело сверкали в воздухе своими то золотыми, то серебряными боками... Красноватый высокий камыш тихо шелестел вокруг них, впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий. Лиза стояла на маленьком плоту; Лаврецкий сидел на наклоненном стволе ракиты; на Лизе было белое платье, перехваченное вокруг пояса широкой, тоже белой лентой; соломенная шляпа висела у ней на одной руке, — другою она с некоторым усилием поддерживала гнутое удилище. Лаврецкий глядел на ее чистый, несколько строгий профиль... Тень от близкой липы падала на обоих». Он думал о том, что она мила, добра, что ее все должны любить. Разговор невольно зашел о ее женихе, и Лаврецкий сказал, что Паншин ему не нравится. — Отчего же? — Мне кажется, сердца-то у него и нету. Потом Лаврецкий рассказывал о своей жизни, о Михалевиче, обо всем, что приходило в душу; приятно было с ней говорить, она слушала так внимательно, замечания ее были так просты и умны. Вечером Калитины возвращались домой, Лаврецкий поехал их проводить. Он «ехал рысью возле кареты со стороны Лизы», бросив поводья на шею плавно бежавшей лошади. Им обоим было хорошо, он не заметил, как проехал полдороги. На обратном пути «обаянье летней ночи охватило его». Он думал о Лизе, в то же время понимая всю бесперспективность этой внезапно возникшей любви. На следующий день шел дождь. Перед сном он просматривал французские газеты и вдруг вскочил с постели, как ужаленный. В одной из них говорилось о смерти его жены: «прелестная, очаровательная московитянка, одна из цариц моды, украшение парижских салонов... скончалась почти внезапно». Он вышел в сад «и до самого утра ходил взад и вперед все по одной аллее». На следующий день Лаврецкий отвез Лемма в город и поехал «к себе на квартиру. Он нанимал на всякий случай квартиру в городе О... Потом, наскоро пообедав, он отправился к Калитиным». Там были гости, поговорить с Лизой не было возможности. Он лишь вручил ей газету и попросил прочесть то, что отмечено карандашом. «Прошу хранить это в тайне, я зайду завтра утром». 7 На следующий день, явившись в дом Калитиных, он вышел с Лизой в сад. — Это ужасно! — промолвила она. Лаврецкий ничего не отвечал. — Да может быть, это еще и неправда, — прибавила Лиза. — Оттого я и просил вас не говорить об этом никому. Лиза прошлась немного. — Скажите, — начала она, — вы не огорчены? нисколько? — Я сам не знаю, что я чувствую, — отвечал Лаврецкий. — Но ведь вы ее любили прежде? — Любил. — Очень? — Очень. — И не огорчены ее смертью? — Она не теперь для меня умерла. — Это грешно, что вы говорите... Не сердитесь на меня. Вы меня называете своим другом: друг все может говорить. Мне, право, даже страшно... Вчера у вас такое нехорошее было лицо... Помните, недавно, как вы жаловались на нее? — а ее уже тогда, может быть, на свете не было. Это страшно. Точно это вам в наказание послано. Лаврецкий горько усмехнулся. — Вы думаете?.. По крайней мере я теперь свободен. Лиза слегка вздрогнула. — Полноте, не говорите так. На что вам ваша свобода? Вам не об этом теперь надо думать, а о прощении... — Я давно ее простил, — перебил Лаврецкий и махнул рукой. — Нет, не то, — возразила Лиза и покраснела. — Вы не так меня поняли. Вы должны позаботиться о том, чтобы вас простили... — Кому меня прощать? — Кому? Богу. Кто же может вас простить, кроме Бога. Лаврецкий схватил ее за руку. — Ах, Лизавета Михайловна, поверьте, — воскликнул он, — я и так довольно был наказан. Я уже все искупил, поверьте. — Это вы не можете знать, — проговорила Лиза вполголоса. Оказывается, Паншин, которого все считали женихом Лизы, еще не был ее официальным женихом, не делал предложения! И как раз сегодня пришло от него письмо. — Он просит вашей руки? — Да, — произнесла Лиза и прямо и серьезно посмотрела Лаврецкому в глаза... — Ну, и что же вы ему отвечали? — проговорил он наконец. — Я не знаю, что отвечать... — Как? Ведь вы его любите? — Да, он мне нравится; он, кажется, хороший человек. — ...Любите ли вы его тем сильным, страстным чувством, которое мы привыкли называть любовью? — Как вы понимаете, — нет. — Вы в него не влюблены? — Нет. Да разве это нужно? — Как? — Маменьке он нравится, — продолжала Лиза, — он добрый; я ничего против него не имею. Но Лаврецкий требовал: «Слушайтесь вашего сердца... Опыт, рассудок — все это прах и суета! Не отнимайте у себя лучшего, единственного счастья на земле». — Вы ли это говорите, Федор Иваныч? Вы сами женились по любви — и были ли вы счастливы? Лаврецкий всплеснул руками. — Ах, не говорите обо мне! Вы и понять не можете всего того, что молодой, неискушенный, безобразно воспитанный мальчик может принять за любовь!.. Да и, наконец, к чему клеветать на себя? Я сейчас вам говорил, что я не знал счастья... нет! я был счастлив! — Мне кажется, Федор Иваныч, — произнесла, понизив голос Лиза... — счастье на земле зависит не от нас... — От нас, от нас, поверьте мне (он схватил ее за обе руки; Лиза побледнела и почти с испугом, но внимательно глядела на него), лишь бы мы не портили сами своей жизни. Для иных людей брак по любви может быть несчастьем; но не для вас, с вашим спокойным нравом, с вашей ясной душою! Он об одном просил: «Не решайтесь тотчас, подождите, подумайте... Не правда ли, вы обещаетесь мне не спешить?» Теперь Лаврецкий «не столько думал о смерти жены, о своей свободе, сколько о том, какой ответ даст Паншину Лиза?» Вечером он снова отправился к Калитиным. — Вы отказали ему? — Нет, но и не согласилась. Я ему все сказала, все, что я чувствовала, и попросила его подождать. «Лаврецкий не был молодым человеком; он не мог долго обманываться на счет чувства, внушенного ему Лизой; он окончательно в тот же день убедился в том, что полюбил ее. Не много радости принесло ему это убеждение. «Неужели, — подумал он, — мне в 35 лет нечего другого делать, как опять отдать свою душу в руки женщины? Но Лиза не чета той... она не отвлекла бы меня от моих занятий; она бы сама воодушевила меня на честный, строгий труд, и мы пошли бы оба вперед, к прекрасной цели. Да, — хорошо, но худо то, что она вовсе не захочет пойти со мной... Зато и Паншина она не любит... Слабое утешение!» Однажды вечером у Калитиных, рассуждая о «Думе» Лермонтова, стихотворении, начинавшемся словами: «Печально я гляжу на наше поколенье, его грядущее иль пусто, иль темно...»; Паншин стал говорить о том, что нужно России. Россия отстала от Европы и нужно подогнать ее. Мы поневоле должны заимствовать у других. «Мы больны, говорит Лермонтов, — я согласен с ним; но мы больны оттого, что только наполовину сделались европейцами...» Увы, люди несовершенны и в Европе. Он был уверен, что знает рецепт спасения: «Вводите только хорошие учреждения — и дело с концом. Пожалуй, можно приноравливаться к существующему народному быту...» Хозяйка дома с умилением поддакивала Паншину. «Вот какой, — думала она, — умный человек у меня беседует». А Лаврецкий стал возражать. Он доказывал «невозможность скачков и надменных переделок, не оправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал...». Конечно, Паншин прав в том, что хорошие учреждения полезны, что использовать положительный опыт надо. Но смотря как использовать. Деятели без высокого идеала, карьеристы без понимания особенностей окружающей жизни, без сочувствия к людям, без совести, могут хорошие учреждения превратить в плохие и вообще заимствовать отнюдь не лучшее. Прав древнегреческий мудрец Платон: «Никакая организация не может быть лучше, чем качество людей, составляющих ее». «Лизе и в голову не приходило, что она патриотка», но она любила Россию и русский склад ума. Притом, без малейшего самомнения. Она иногда часами беседовала со старостой материнского имения «как с ровней, без всякого барского снисхождения». Видимо, ее вера в религиозные идеалы (подлинная, а не внешняя, напускная) этому способствовала. Она надеялась и Лаврецкого привести к Богу. Они лучше поняли друг друга в этот вечер; ведь, в сущности, «он говорил только для Лизы». «Ночь была тиха и светла, хотя луны не было; Лаврецкий долго бродил по росистой траве; узкая тропинка попалась ему; он пошел по ней. Она привела его к длинному забору, к калитке... Лаврецкий очутился в саду, сделал несколько шагов по липовой аллее и вдруг остановился в изумлении: он узнал сад Калитиных». Вскоре он подошел к их дому. Наверху у Лизы «горела свеча за белым занавесом». Он сел на скамейку и глядел на ее окно и на раскрытую дверь внизу. «Лаврецкий ничего не думал, ничего не ждал; ему приятно было чувствовать себя вблизи Лизы, сидеть в ее саду на скамейке, где и она сидела не однажды... Свет исчез в ее комнате. «Спокойной ночи, моя милая девушка», — прошептал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно и не сводя взора с потемневшего окна». Потом свет вдруг появился в одном из окон нижнего этажа, «перешел в другое, третье... Кто-то шел со свечкой по комнатам. «Неужели Лиза? Не может быть!..» В белом платье с нерасплетенными косами по плечам, она тихонько подошла к столу, нагнулась над ним, поставила свечку и чего-то поискала; потом, обернувшись лицом к саду, она приблизилась к раскрытой двери и, вся белая, легкая, стройная, остановилась на пороге...» Он окликнул ее тихо, потом громче и вышел из тени аллеи, протянув к ней руки. «Она отделилась от двери и вступила в сад. — Вы? — проговорила она. — Вы здесь? — Я... я... выслушайте меня, — прошептал Лаврецкий и, схватив ее руку, повел ее к скамейке. Она шла за ним без сопротивления; ее бледное лицо, неподвижные глаза, все ее движения выражали несказанное изумление. Лаврецкий посадил ее на скамейку и сам стал перед ней. — Я не думал прийти сюда, — начал он, — меня привело... Я... я... я люблю вас, — произнес он с невольным ужасом. Лиза медленно взглянула на него; казалось, она только в это мгновение поняла, где она и что с нею. Она хотела подняться, не могла и закрыла лицо руками. — Лиза, — произнес Лаврецкий, — Лиза, — повторил он и склонился к ее ногам. Ее плечи начали слегка вздрагивать, пальцы бледных рук крепче прижались к лицу. — Что с вами? — промолвил Лаврецкий и услышал тихое рыдание. Сердце его захолонуло... Он понял, что значили эти слезы. — Неужели вы меня любите?.. — Встаньте, — послышался ее голос, — встаньте, Федор Иваныч. Что мы это делаем с вами? Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала... — Я вас люблю, — проговорил он снова, — я готов отдать вам всю жизнь мою... ...Он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к нему на плечо... Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ». «Он вернулся в город и пошел» по заснувшим улицам. Чувство неожиданной, великой радости наполняло его душу; все сомнения в нем замерли. «Исчезни прошедшее, темный призрак, — думал он, — она меня любит, она будет моя». Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головою разлились какие-то дивные, торжествующие звуки; он остановился: звуки загремели еще великолепней; певучим, сильным потоком струились они, — и в них, казалось, говорило и пело все его счастье. Он оглянулся: звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома. — Лемм! — вскрикнул Лаврецкий и побежал к дому. — Лемм! Лемм! — повторил он громко. В окне появилась фигура старика. Он впустил гостя и опять сыграл свое произведение. «Мелодия росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого; она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса». «Повторите», — прошептал Лаврецкий. Старик снова сыграл «свою композицию». Комната маленькая, бедная освещалась лишь светом луны и «казалась святилищем». Лаврецкий подошел к Лемму и обнял его. Старик слегка улыбнулся, а потом вдруг заплакал, как дитя. Что это за люди! Возможны ли они, такие искренние, светлые в беспощадно жестокое, корыстное время со всеми его общепринятыми нелепостями, предрассудками, лицемерными ухищрениями? Придумал их Тургенев? Нет, наверняка он таких встречал. Он и сам был вероятно в какой-то мере одним из них — «не от мира сего». Ну хотя бы в душе, хотя бы в отдельные мгновенья. И еще вопрос. Как сложился характер Лизы, как она стала светлой и прекрасной в далеко не прекрасное время, в далеко не совершенной среде? Что повлияло? Отец, вечно занятый приращением своего состояния, мало ею занимался; «он сам себя сравнивал с лошадью, запряженной в молотильную машину. «Скоренько жизнь моя проскочила», — промолвил он на смертном одре с горькой усмешкой на высохших губах». И Марья Дмитриевна занималась Лизой не больше мужа: «ленивую барыню утомляла всякая постоянная забота». Гувернантка из Парижа, существо легкомысленное, примитивное, почти ко всему равнодушное, мало значила. Главное влияние оказала на Лизу няня, Агафья Васильевна, личность весьма незаурядная. Крестьянка, дочь старосты, нажившего много денег. «16-ти лет ее выдали за мужика, но от своих сестер-крестьянок она отличалась резко». Это была не только необыкновенная красавица и «первая щеголиха по всему околотку», но и «умница, речистая, смелая». Муж вскоре умер. Ее барин, отец Марьи Дмитриевны, Лизин дедушка, скромный, тихий и вдобавок женатый, так влюбился, что взял ее к себе в дом, нарядил «по-дворовому»; и она вскоре «так освоилась с новым своим положением, точно она век свой иначе не жила». «Самовар не сходил со стола», «кроме шелку да бархату, она ничего носить не хотела, спала на пуховых перинах». Вот такая предстает перед нами картинка нравов тихого дворянского гнезда. Лет через пять барин умер. Вдова его, барыня добрая, не хотела обижать Агафью, которая «никогда перед ней не забывалась», только «выдала ее за скотника и сослала с глаз долой». Через несколько лет, случайно зайдя на скотный двор, барыня встретила Агафью. Та «попотчевала ее такими славными холодными сливками, так скромно себя держала и сама была такая опрятная, веселая, всем довольная, что барыня объявила ей прощение», а затем произвела в экономки и поручила все хозяйство. Но лет через пять у Агафьи грянуло новое несчастье. Муж ее, которого она вывела в лакеи, запил, стал «пропадать из дому» и наконец украл и спрятал 6 господских серебряных ложек. Его опять «повернули в скотники», а Агафью «разжаловали из экономок в швеи и велели ей вместо чепца носить на голове платок». Все ее дети к этому времени умерли, муж тоже вскоре умер. Как восприняла она удары судьбы? Не сломилась, но обрела новые ориентиры. Прежде веселая, несгибаемая, счастливая, несмотря на зависимое, рабское положение, она теперь «стала очень молчалива и богомольна, не пропускала ни одной заутрени, ни одной обедни, раздала все свои хорошие платья. Пятнадцать лет провела она тихо, смиренно, степенно, ни с кем не ссорясь, всем уступая. Нагрубит ли ей кто — она только поклонится и поблагодарит за учение. Барыня давно ей простила, и опалу сложила с нее, и с своей головы чепец подарила; но она сама не захотела снять свой платок и все ходила в темном платье...» Православная религия все же что-то успела заронить в души окружающих при всей жестокости нравов, дикой примитивности людей, несправедливости установленных порядков. Вот интересное наблюдение Тургенева, с детства хорошо знавшего эту жизнь. «Русский человек боится и привязывается легко; но уважение его заслужить трудно: дается оно не скоро и не всякому. Агафью все в доме очень уважали; никто и не вспоминал о прежних грехах, словно их вместе с старым барином в землю похоронили». Какие важные явления смог Тургенев заметить в современной ему жизни и воспроизвести. Все вместе книги его, если их внимательно прочитать и осмыслить, учебник жизни. Они нужны и современным людям и будущим. В них (в отличие от многих сегодняшних) нет претензий, выкрутасов, конъюнктурной погони за успехом. Не удивительно, что Агафью, с ее согласия, приставили в качестве няни к пятилетней Лизе. Лизу сперва испугало ее серьезное и строгое лицо, «но она скоро привыкла к ней и крепко полюбила. Она сама была серьезный ребенок...» Глаза Лизы «светились тихим вниманием и добротой». И любила она только одну Агафью. Они не расставались. Агафья рассказывала ей о святых, о мучениках и угодниках Божиих. Лиза слушала — и образ вездесущего, всезнающего Бога входил в душу. Она любила Бога «восторженно, робко, нежно». «Агафья никогда никого не осуждала и Лизу не бранила за шалости. Когда она бывала чем недовольна, она только молчала; и Лиза понимала это молчание; с быстрой прозорливостью ребенка она также хорошо понимала, когда Агафья была недовольна другими...» След, оставленный Агафьей, сохранился в душе воспитанницы на всю жизнь. Не обладая большими способностями, Лиза училась хорошо, «т. е. усидчиво», была очень мила и, главное, «проникнута чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было». 8 Лаврецкий, съездив по делам в свое Васильевское, поздно вечером вернулся в городскую квартиру. В передней громоздились какие-то высокие сундуки, баулы. В гостиной навстречу ему с дивана поднялась дама в черном шелковом платье и упала к его ногам. Это была его жена! «Дыхание у него захватило... Он прислонился к стене. — Федор, не прогоняйте меня! — сказала она по-французски, и голос ее как ножом резанул его по сердцу». Мелодрама была разыграна мастерски. «Федор, я перед вами виновата, глубоко виновата, — скажу более, я преступница...» Она трогательно сообщила, что ее мучает раскаяние. «Я воспользовалась распространившимся слухом о моей смерти, я покинула все...» Она уже успела тихонько подняться с пола и сесть на краешек кресла. Лаврецкий направился было к двери. «Вы уходите? — с отчаянием проговорила его жена, — о, это жестоко!» «Лаврецкий остановился. — Что вы хотите слышать от меня? — произнес он беззвучным голосом. — ...Я только осмеливаюсь просить вас, чтобы вы приказали мне, что мне делать, где мне жить? Я, как рабыня, исполню ваше приказание, какое бы оно ни было. — Мне нечего вам приказывать, — возразил тем же голосом Лаврецкий, — вы знаете — между нами все кончено... и теперь более, чем когда-нибудь. Вы можете жить, где вам угодно, и если вам мало вашей пенсии... — Ах, не говорите таких ужасных слов, — перебила его Варвара Павловна, — пощадите меня, хотя... хотя ради этого ангела... И, сказавши эти слова, Варвара Павловна стремительно выбежала в другую комнату и тотчас же вернулась с маленькой, очень изящно одетой девочкой на руках». Сцена с ребенком была тоже умело разыграна. «В какой это мелодраме есть совершенно такая сцена? — пробормотал он и вышел вон». Варвара Павловна, немного подождав, преспокойно отдала нужные распоряжения служанке-француженке, вывезенной из Парижа, почитала книжку и легла спать. «Он очень постарел, — сказала она служанке, но мне кажется, он все такой же добрый». А Лаврецкий часа два скитался по улицам города. «Она жива, она здесь...» Он чувствовал, что потерял Лизу. Желчь его душила; слишком внезапно поразил его этот удар. Как мог он так легко поверить вздорной болтовне фельетона, лоскуту бумаги?» Перед утром, измученный, он пришел к Лемму. «Моя жена приехала... Я воображал... я прочел в газете, что ее уже нет на свете». Лемм взялся доставить утром записку Лизе и принес ответ: «Мы сегодня не можем видеться; может быть — завтра вечером. Прощайте». Дома состоялся разговор с женой. «Он видел ясно, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала вид, что вот сейчас в обморок упадет. — Послушайте, сударыня, — начал он, наконец, тяжело дыша и по временам стискивая зубы, — нам нечего притворяться друг перед другом; я вашему раскаянию не верю; да если бы оно и было искренно, сойтись снова с вами, жить с вами — мне невозможно». Однако расчеты Варвары Павловны оправдались: Лаврецкий действительно был добр. «Вы можете сегодня же, если угодно, отправиться в Лаврики, живите там; там, вы знаете, хороший дом; вы будете получать все нужное сверх пенсии. Согласны вы?» Еще бы не согласиться! Варвара Павловна с большим тактом и чувством меры выразила покорность и благодарность. Лаврецкий отправился в свое Васильевское, а Варвара Павловна велела нанять себе лучшую карету в городе и, надев простую соломенную шляпу с черным вуалем и скромную мантилью, отправилась к Калитиным. Она уже знала от прислуги (успела разведать), что муж ее ездил к ним каждый день. 9 Теперь, видимо, столкнутся интересы двух красавиц. Одна — искренняя, светлая, готовая на подвиг; другая — «от мира сего», умелая актриса, изящная и эгоистичная. Ох, что-то будет! Как раз в день приезда жены Лаврецкого в город О... к Лизе явился Паншин за окончательным ответом, вернее, «для окончательного объяснения». Выслушав отказ, он вел себя достойно и нашел вполне подходящие к случаю слова. Светский человек и немного актер. — Я не хотел пойти по избитой дороге, — проговорил он глухо, — я хотел найти себе подругу по влечению сердца; но, видно, этому не должно быть. Прощай мечта! (Не мог же он сказать, что богатое приданое его тоже весьма устраивало.) — За что ты меня убила? За что ты меня убила? — сокрушалась потом Лизина мать Марья Дмитриевна. Она была вполне «от мира сего». «Светские успехи», «положение в обществе» — как это было для нее важно! Как это все ее умиляло. — Кого тебе еще нужно? Чем он тебе не муж? Камер-юнкер! (Она не только угощала Паншина обедами, пока он был женихом, но и щедро давала ему денег взаймы.) Затем Лизе учинила допрос жившая в доме Калитиных тетка Марьи Дмитриевны — Марфа Тимофеевна, старушка нетерпеливая и самовольная. — Кто тебя научил свидания по ночам назначать, а, мать моя? Лиза побледнела. Потом она объяснила как было дело: — Я сошла вниз в гостиную за книжкой: он был в саду — и позвал меня. — И ты пошла? Прекрасно. Да ты любишь его, что ли? — Люблю, — отвечала тихим голосом Лиза. — Матушки мои! она его любит! — Марфа Тимофеевна сдернула с себя чепец. — Женатого человека любит! а? Любит! — Он мне сказывал, — начала Лиза. — Что он тебе сказывал, соколик эдакой, что-о? — Он мне сказывал, что жена его скончалась... Марфа Тимофеевна перекрестилась. — Царство ей небесное, — прошептала она, — пустая была бабенка — не тем будь помянута. Вот как: вдовый он, стало быть. Да он, я вижу, на все руки. Одну жену уморил, да и за другую. Каков тихоня?! Марфа Тимофеевна потом ушла, а Лиза расплакалась. «Стыдно, и горько, и больно было ей; но ни сомненья, ни страха в ней не было, — и Лаврецкий стал ей еще дороже. Она колебалась, пока сама себя не понимала; но после того свидания, после того поцелуя — она уже колебаться не могла; она знала, что любит — и полюбила честно, не шутя, привязалась крепко, на всю жизнь — и не боялась угроз...» Нет, не дают покоя читателю! Кончается книга, а напряжение возросло. В дом Калитиных вдруг является Варвара Павловна Лаврецкая! Хозяйка даже сначала не решалась ее принять, но любопытство превозмогло. А как ловко затем Варвара Павловна сумела завоевать ее расположение. Вошла, приблизилась к Марье Дмитриевне, почти склонила перед ней колени, благодарила трогательно за снисхожденье: «Вы добры, как ангел». Потом поднесла к своим губам ее руку. «Марья Дмитриевна совсем потерялась, увидев такую красивую, прелестно одетую женщину почти у ног своих; она не знала, как ей быть... она кончила тем, что приподнялась и поцеловала Варвару Павловну...» Начало было положено. Теперь надо развивать успех! Варвара Павловна была достаточно тактична и умна. Едва Марья Дмитриевна затронула болезненную тему, как гостья ее тут же вполне успокоила: кротким признанием своей вины. — Вы понимаете, милая моя, — не мне быть судьею между женой и мужем... — Мой муж во всем прав, — перебила ее Варвара Павловна, — я одна виновата. — Это очень похвальные чувства, — возразила Марья Дмитриевна, — очень. Варвара Павловна не преминула сообщить: муж был так добр, что назначил ей Лаврики местом жительства. Затем процесс завоевания вступил в следующую стадию. — Ах, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантилья? — не выдержала Марья Дмитриевна. Варвара Павловна тут же продемонстрировала мантилью и обещала показать все свои парижские туалеты. — Хотите вы меня осчастливить — распоряжайтесь мною, как вашей собственностью! Марья Дмитриевна вынуждена была признать, что гостья очаровательна. — Да что же вы не снимаете вашу шляпку, перчатки? — Как? вы позволяете? — спросила Варвара Павловна и слегка, как бы с умиленьем, сложила руки. — Разумеется; ведь вы обедаете с нами, я надеюсь. Я... я вас познакомлю с моей дочерью... Варвара Павловна поднесла к глазам платок, демонстрируя, как она растрогана добротой хозяйки. И вот, наконец, встреча с Лизой. Утром, «похолодев от ужаса», Лиза прочла записку Лаврецкого и поняла, что его жена рано или поздно появится. Она решила не избегать ее «в наказание своим, как она назвала их, преступным надеждам» и подавила в душе своей какие-то горькие, злые порывы. А узнав о приезде Лаврецкой, она долго стояла перед дверью гостиной и наконец вошла с мыслью: «Я перед нею виновата», и заставила себя улыбнуться. В отличие от нее Варвара Павловна играла, ее смирение было чисто внешним. Увидев Лизу, она «склонилась перед ней слегка, но всетаки почтительно. «Позвольте мне рекомендовать себя, — заявила она вкрадчивым голосом», но обмануть Лизу не сумела. Ловко и весьма кстати похвалив Марью Дмитриевну, которая «так снисходительна», опытная светская дама выразила надежду, что и Лиза будет к ней «добра». Но при этом лицо Варвары Павловны, «ее хитрая улыбка, холодный и в то же время мягкий взгляд, движение ее рук и плечей, самое ее платье, все ее существо — возбудили такое чувство отвращения в Лизе, что она ничего не могла ей ответить...». Вечером появился Паншин, обещавший Марье Дмитриевне бывать в их доме, несмотря ни на что. К тому времени тетка Марфа Тимофеевна увела Лизу к себе и, став перед нею на колени, целовала ее руки, словно прося прощение, «безмолвные слезы лились из ее глаз и глаз Лизы...». А тем временем в гостиной Варвара Павловна уже незаметно и ловко завоевала симпатию Паншина, они уже пели дуэт, болтали пофранцузски. «Совершенно, как в лучшем парижском салоне», — думала Марья Дмитриевна, слушая их уклончивые и вертлявые речи». 10 Узнав, что жена отправилась к Калитиным, Лаврецкий был взбешен и решил туда поехать, но не к Марье Дмитриевне, а к Марфе Тимофеевне, более отзывчивой и душевной. А когда Марфа Тимофеевна рассказала ему про дуэты, игру на фортепьяно и прочие детали визита Варвары Павловны, Лаврецкий удивился смелости своей жены. — Нет, душа моя, это не смелость, это расчет. Да Господь с ней! Ты ее, говорят, в Лаврики посылаешь, правда? — Да, я предоставляю это именье Варваре Павловне. — Денег спрашивала? — Пока еще нет. — Ну, это не затянется. Вскоре появилась Лиза, а Марфа Тимофеевна торопливо ушла, заперев дверь. И вот прощание. Ведь эти люди нашли друг друга! Они словно созданы друг для друга! Что же делать?! — Вот как мы должны были увидеться, — проговорил он наконец. Лиза была бледна, но глаза ее не выражали ни горя, ни тревоги. «Сердце в Лаврецком дрогнуло от жалости и любви. — Вы мне написали: все кончено, — прошептал он, — да, все кончено — прежде чем началось. — Это все надо забыть, — проговорила Лиза... — Нам обоим остается исполнить наш долг». В чем же состоит долг? Если следовать заповедям буквально, в полной мере, то не следует разводиться с женой или мужем. Быть может, эта заповедь была рассчитана не на тогдашних (или нынешних) людей, но на какихто иных, живущих в более совершенном обществе, более свободных, независимых во всех отношениях. Быть может, когда-нибудь, при ином уровне экономики и сознания, при иных условиях жизни... — Вы, Федор Иваныч, должны примириться с вашей женой. — Лиза! — Я вас прошу об этом... — Лиза, ради Бога, вы требуете невозможного. Я готов сделать все, что вы прикажете; но теперь примириться с нею!.. Я согласен на все, я все забыл; но не могу же я заставить свое сердце... Помилуйте, это жестоко! — Я и не требую от вас... того, что вы говорите, не живите с ней, если вы не можете; но примиритесь, — возразила Лиза... — Вспомните вашу дочку; сделайте это для меня. — Хорошо, — проговорил сквозь зубы Лаврецкий, — это я сделаю, положим; этим я исполню свой долг. Ну, а вы — в чем же ваш долг состоит? — Про это я знаю. Лаврецкий вдруг встрепенулся. — Уж не собираетесь ли вы выйти за Паншина? — спросил он. Лиза чуть заметно улыбнулась. — О нет! — промолвила она. Опять появилась Марфа Тимофеевна. — Лизочка, мне кажется, тебя мать зовет, — промолвила старушка. Лиза тотчас встала и ушла. Лаврецкий отправился было домой, но его догнал лакей и уговорил «пожаловать» к Марье Дмитриевне. Гости уехали, она была одна. — Вы желали меня видеть, — сказал он, холодно кланяясь. Оказалось, Марья Дмитриевна желала с ним переговорить. Когда она сообщила, что его супруга «такая любезная дама», Лаврецкий лишь усмехнулся. — И вот что я хотела вам еще сказать, Федор Иванович... — если б вы видели, как она скромно себя держит, как почтительна! Право, это даже трогательно. А если б вы слышали, как она о вас отзывается! Я, говорит, перед ним кругом виновата; я, говорит, не умела ценить его, говорит; это, говорит, ангел, а не человек. Право, так и говорит: ангел. Раскаяние у ней такое... Я, ей-богу, и не видывала такого раскаяния! — А что, Марья Дмитриевна, — промолвил Лаврецкий, — позвольте полюбопытствовать: говорят, Варвара Павловна у вас пела; во время своего раскаяния она пела — или как?.. Но Марья Дмитриевна была настойчива. «Простите, простите вашу жену... Подумайте: молодость, неопытность... Ну, может быть, дурной пример...» Марья Дмитриевна даже расплакалась, она любила чувствительные сцены. «Федор Иваныч, Бог вас наградит за вашу доброту, а вы примите теперь из рук моих вашу жену...» Лаврецкий невольно поднялся со стула; Марья Дмитриевна тоже встала и, проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну. Такого поворота событий он не ожидал! Лаврецкий отступил шаг назад. — Вы были здесь! Но хотя Варвара Павловна всем своим видом показывала, что она «отреклась от всякой собственной мысли, от всякой воли», а лишь покорилась Марье Дмитриевне; и хотя Марья Дмитриевна утверждала, что сама приказала его жене остаться и посадила ее за ширмы, Лаврецкий сразу понял, кто тут режиссер, а кто пешка в чужих руках. Он прервал излияния Марьи Дмитриевны: — В этой сцене не вы главное действующее лицо. Что вы хотите от меня, сударыня? — прибавил он, обращаясь к жене. — Не сделал ли я для вас, что мог? Не возражайте мне, что не вы затеяли это свидание; я вам не поверю, — и вы знаете, что я вам верить не могу. Что же вы хотите? Вы умны, — вы ничего не делаете без цели. Вы должны понять, что жить с вами, как я жил прежде, я не в состоянии... Я сказал вам это на второй же день вашего возвращения, и вы сами в это мгновенье, в душе со мной согласны. Но вы желаете восстановить себя в общем мнении; вам мало жить у меня в доме, вы желаете жить со мною под одной кровлей — не правда ли? И он согласился «жить под одной кровлей»! — Извольте, я и на это согласен. Варвара Павловна бросила на него быстрый взор, а Марья Дмитриевна воскликнула: «Ну, слава Богу!» — и опять потянула Варвару Павловну за руку. — Примите же теперь от меня... — Постойте, говорю вам, — перебил ее Лаврецкий «и пояснил, что лишь привезет ее в Лаврики, некоторое время там проживет, а потом уедет, но иногда будет приезжать. (Таким образом, общественное мнение будет успокоено.) — Вы бы сами рассмеялись, если бы я исполнил желание почтенной нашей родственницы и прижал бы вас к своему сердцу... Варвару Павловну все это вполне устраивало. Потом она даже опустилась перед Марьей Дмитриевной на колени (когда Лаврецкий ушел) и прижалась к ней лицом. Но лицо это втихомолку улыбалось. Утром следующего дня Лаврецкий пошел в церковь к обедне. Увидев Лизу, он потом на улице подошел к ней; «она шла очень скоро, наклонив голову и спустив вуаль на лицо». — Федор Иваныч, — начала она спокойным, но слабым голосом, — я хотела вас просить: не ходите больше к нам, уезжайте поскорей; мы можем после увидеться когда-нибудь, через год... — Я вам во всем готов повиноваться, Лизавета Михайловна; но неужели мы так должны расстаться; неужели вы мне не скажете ни одного слова?.. — Вы услышите, может быть... но что бы ни было, забудьте... нет, не забывайте меня, помните обо мне. — Мне вас забыть... — Довольно, прощайте. Не идите за мной. — Лиза, — начал было Лаврецкий... — Прощайте, прощайте! — повторила она, еще ниже спустила вуаль и почти бегом пустилась вперед. На следующее утро Лаврецкий с женою отправился в Лаврики. Перед отъездом она ему обещала не навязываться, не стеснять его, уважать его независимость и покой. Через неделю он отправился в Москву, «оставив жене 5 тысяч на прожиток», а затем появился Паншин, которого она «просила не забывать ее в уединении». Паншин гостил у Варвары Павловны три дня; затем обещал «очень скоро вернуться — и сдержал свое обещание». 11 Вернувшись из церкви, Лиза навела порядок в своей комнате и опустилась на колени перед распятием. Пришла тетушка Марфа Тимофеевна, стала ее утешать. — Это тебе только так сгоряча кажется, что горю твоему пособить нельзя... — Тетушка, — возразила Лиза, — оно уже прошло, все прошло. — Прошло! Какое прошло! Вот у тебя носик даже завострился, а ты говоришь: прошло. — Да, прошло, тетушка, если вы только захотите мне помочь, — произнесла с внезапным одушевлением Лиза и бросилась на шею Марфе Тимофеевне. — Да что такое, что такое, мать моя? Не пугай меня... — Я... я хочу... — Лиза спрятала свое лицо на груди Марфы Тимофеевны... — Я хочу идти в монастырь, — проговорила она глухо. — Перекрестись, мать моя, Лизочка, опомнись, что ты это... Лиза подняла голову, щеки ее пылали. — Нет, тетушка, — промолвила она, — не говорите так, я решилась, я молилась, я просила совета у Бога; все кончено, кончена моя жизнь с вами... Счастье ко мне не шло: даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил: я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо. Марфа Тимофеевна с ужасом это слушала. — Да ведь ты не знаешь, голубушка ты моя, — начала она ее уговаривать, — какова жизнь-то в монастырях! Ведь тебя, мою родную, маслицем конопляным зеленым кормить станут, бельище на тебя наденут толстое-претолстое, по холоду ходить заставят; ведь ты всего этого не перенесешь, Лизочка. Это все в тебе Агашины следы; это она тебя с толку сбила. Да ведь она начала с того, что пожила, и в свое удовольствие пожила; поживи и ты. Марфа Тимофеевна, старушка в обычное время своенравная, резкая, капризная, горько заплакала. Но Лиза была непреклонна. Лаврецкий прожил зиму в Москве, а весной до него дошла весть, что Лиза поступила в монастырь, находящийся «в одном из отдаленнейших краев России». Богатая наследница... Отвергла удобного жениха и вполне достойный социальный статус. Из теплого дворянского гнезда — в суровые, тяжкие условия монастыря... Варвара Павловна как только наступили первые холода, «запасшись денежками», переселилась в Петербург, наняла «скромную, но миленькую» квартиру, отысканную для нее Паншиным». Он в последнее время своего пребывания в О... совсем перестал посещать Марью Дмитриевну и почти не выезжал из Лавриков. Его полностью «поработила» Варвара Павловна. Через 8 лет мы опять встречаем старых знакомых — в эпилоге. Паншин — преуспел и «сильно подвинулся в чинах». Но из-за Варвары Павловны так и не женился. А Варвара Павловна постоянно живет в Париже: Федор Иваныч «дал ей на себя вексель и откупился от нее, от возможности вторичного неожиданного наезда». Она увлекается театрами, произведениями г-на Дюма-сына; она все еще мила и изящна, имеет поклонников. Марья Дмитриевна и Марфа Тимофеевна умерли, но «гнездо не разорилось», новое поколение теперь «оглашало смехом и говором» его старые стены. Дочь Марьи Дмитриевны Леночка, ее жених — гусарский офицер; ее брат, только что женившийся... И слуги теперь другие. «Безбородые дворовые ребята, зубоскалы и балагуры, заменили прежних степенных стариков». И однажды весенним вечером к воротам подъехал тарантас, из него вышел немолодой уже человек. Это был Лаврецкий. Молодежь встретила его радостно, хотя вскоре им стало с ним скучно. А Лаврецкий осматривал дом, сад, сидел в гостиной, где так часто когдато видел Лизу... В течение этих восьми лет в его жизни произошел перелом, «без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца»: он «перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях». Он постарел, но не утратил «веры в добро» и «охоты к деятельности». Вот так! А в чем состояла эта его деятельность? Вроде бы ничего особенного; он просто делал жизнь окружающих светлей, насколько это было в его силах: «стал хорошим хозяином», «действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян». Он себя не переоценивал, напротив, думал: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай бесполезная жизнь». Встречал Тургенев таких? Не выдуманный ли это персонаж? Ну, хотя бы крепко идеализированный, приукрашенный? Вполне возможно, что встречал; но как исключение, изредка. В Евангелии есть заповедь: «Да светит свет ваш пред людьми». Скорей всего, речь о том, чтобы сделать жизнь окружающих светлей, а не о том, чтобы покрасоваться перед ними своими достоинствами. Варвара Павловна, вся «от мира сего», избрала в жизни другой путь: эгоизм, развлечения, удовольствия — за счет Лаврецкого. И как средство — ловкий обман, игра. Ох, это страшное материальное неравенство. Может быть, при другом общественном устройстве та же Варвара Павловна не юлила бы, не хитрила. Человек способный, она бы имела занятие действительно общественно полезное и стала бы нисколько не бедней Лаврецкого. Но это при подлинном материальном и социальном равенстве возможностей. (В условиях СССР Варвара Павловна юлила бы и хитрила не намного меньше, чтобы пролезть «наверх» и там удержаться.) И еще одно свидание с Лизой; последнее. Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда она скрылась. Увидел ее в последний раз. «Она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини — и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо... Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет?» Человеку, вполне живущему по евангельским заповедям, нет места в этом страшном мире; оттого и ограничивают пока их применение многие добрые люди. Может быть, главная, отдаленная цель человечества — создать мир, в котором полное применение этих заповедей станет возможным, необходимым для всех. И на каждом историческом этапе цель — хоть немного к этому продвинуться в меру достигнутого уровня экономики и сознания. Отсюда и попытки строительства коммунизма, и бесконечные пробы, ошибки, поиски оптимальной на данном этапе общественной системы. «Возлюби ближнего своего». Да запросто! Никакого труда бы это не составило, если бы люди — все или большинство — были такими, как Лиза, взращенная истинно религиозной, искренне доброй Агашей в теплице благоденствующего дворянского гнезда. 1859 1 Берег Москвы-реки недалеко от Кунцева, жаркий летний день 1853 года. Не спеша, плавно, очень подробно течет рассказ. В тени высокой липы на траве лежат два молодых человека, глядят куда-то вдаль, разговаривают о том, о сем. Длинное подробное описание молодых людей. Один лет 23-х, высокий, черноволосый, с высоким лбом; другой белокурый, кудрявый, веселый. Первый, Андрей Петрович Берсенев, неуклюж и некрасив, но, видимо, человек хорошо воспитанный и порядочный, его лицо выражало привычку мыслить и доброту; а товарищ, Павел Яковлевич Шубин — с виду избалованный и беспечный. Из разговора, вялотекущего, полушутливого, мы узнаем, что Берсенев успешно окончил университет, стал кандидатом, а недоучившийся студент Шубин — скульптор, делал какой-то барельеф, но самокритично «разбил свою чепуху». Потом речь зашла о некоем Стахове — старик имеет семью, но проводит все дни у возлюбленной, немки Августины Христиановны, неприятной особы с утиной физиономией. А жена Стахова, Анна Васильевна, уважение вызывает, но она — «курица». Разговор коснулся дочери Стахова Елены. Приятели сошлись в мнении, что она «удивительная девушка». Хотя внешне похожа на родителей, но душа... «Кто зажег этот огонь?» Затем тут же перешли к другим темам. Тургеневский пейзаж. Красота необыкновенная. И друзья стали рассуждать о природе, а потом и о любви. Ну-ка, послушаем этих молодых людей, живших полтора столетия тому назад. — Я жду, я хочу счастия, — говорит Шубин, — я во всем чую его приближение, слышу его призыв! Да, он произносит немало сентиментальных возвышенных слов, достаточно старомодных, но затем вдруг выражает свое кредо, вполне, пожалуй, способное найти отклик у современных реалистов: — ...Я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым. — Номером первым, — повторил Берсенев. — А мне кажется, поставить себя номером вторым — все назначение нашей жизни. (То есть жить ради блага ближних? Слыхали... Это ведет куда-то к первоосновам христианской морали. А может быть, в этом и состоит высшая мудрость, за долгие века выстраданная человечеством?) — Если все так будут поступать, как ты советуешь, — промолвил с жалобною гримасой Шубин, — никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут. — Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся: всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать. Потом они подошли к одной из дач, окружавших Кунцево. «Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовой краской, стоял посреди сада...» Как обычно у Тургенева, следует пространное, неторопливое описание хозяев домика. Анна Васильевна Стахова, родственница Шубина — маленькая, худенькая, склонная «к волнению и грусти», семи лет осталась сиротой и довольно богатой наследницей. Ее отдали в лучший московский пансион, затем она жила в доме опекуна, богатого князя, который «давал зимой балы». Ее будущий муж, Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, окончив юнкерскую школу, поступил в гвардию. «Смолоду его занимали две мечты: попасть в флигельадъютанты и выгодно жениться». Одну удалось исполнить. Ему было 25 лет, когда он завоевал Анну Васильевну на балу. Затем он вышел в отставку и «поехал в деревню хозяйничать». Но ему там вскоре надоело, он поселился в Москве в доме жены и вдобавок сошелся от скуки с какой-то вдовой. Человек недалекий, глупый, он любил покрасоваться бессмысленным «фрондерством», т. е. выразить по любому поводу некоторое сомнение, придававшее ему подобие значительности. Павел Яковлевич Шубин был троюродным племянником Анны Васильевны, с ее помощью поступил на медицинский факультет университета, но ушел после 1-го курса и посвятил себя ваянию. Анна Васильевна отвела ему комнату во флигеле своей дачи, и он, скитаясь в окрестностях Москвы, лепил и рисовал урывками. 2 Все отправились в столовую. За обедом Берсенев разговаривал с Еленой об университете, о своих намерениях и надеждах, а потом приятели вместе с Еленой отправились в сад. Белокурая пухленькая компаньонка Елены Зоя «посмотрела им вслед и, слегка пожав плечами, села за фортепьяно». Их разговоры ей были неинтересны. Берсенев хотел заниматься философией, и покойный отец его на это благословил. Человек образованный, отец был последователем Шеллинга и оставил в рукописи «замечательное сочинение». Шубину этот разговор наскучил. — Давайте лучше говорить о соловьях, о розах, о молодых глазах и улыбках. Но у Елены такие темы интереса не вызывали: — Да; и о французских романах, о женских тряпках, — сказала она. — Пожалуй, и о тряпках, — возразил Шубин, — если они красивы. Елена не уступала: — Пожалуй. Но если нам не хочется говорить о тряпках? Вы величаете себя свободным художником, зачем же вы посягаете на свободу других. Кончилось тем, что Шубин, почувствовав себя лишним, убежал. — Дитя, — проговорила Елена... — Художник, — промолвил с тихой улыбкой Берсенев. Они шли по саду, продолжая начатый разговор, и в глазах Берсенева светилось тихое умиление, а душа Елены раскрывалась и что-то «нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то вырастало в нем». Каждый вечер Елена минут 15 сидела у окна и «отдавала себе отчет в протекшем дне». Ей было 20 лет. Высокая, бледная и смуглая, с большими серыми глазами. Длинная темно-русая коса. Во всем облике что-то нервическое, порывистое и торопливое. Слабость возмущала ее, глупость сердила, и она никогда не прощала лжи. Она жаждала деятельности, деятельного добра. Помогала бедным, голодным, больным. В детстве, познакомившись с нищей девочкой Катей, тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила подарки. Потом Катя умерла, и Елена очень горевала. Годы шли, в бездействии протекала молодость. Дома никто ее не стеснял, но душа «билась, как птица в клетке». Иногда в ней закипало что-то «сильное, безымянное», потом «гроза проходила, опускались усталые, не взлетевшие крылья...». В тот вечер она дольше обычного не отходила от окна — вспоминала свой разговор с Берсеневым, а потом задумалась, «но уже не о нем». Она глядела через открытое окно «в ночь», на темное, низко нависшее небо; потом встала и, неожиданно для себя, протянула к небу руки, опустилась на колени перед своей постелью, прижалась лицом к подушке и «заплакала какими-то странными, недоумевающими, но жгучими слезами». 3 Деревенька, где жил Берсенев, состояла из десятка небольших дач. На другой день он отправился на извозчике в Москву; были коекакие дела и заодно пришла мысль пригласить Инсарова к себе на дачу. Инсаров снимал бедную, почти пустую комнату. Молодой человек лет 25-ти, худощавый, с впалой грудью, в стареньком, но опрятном сюртучке. Черты лица резкие, нос «с горбиной», иссиня-черные прямые волосы, пристальный взгляд. — Зачем вы с прежней вашей квартиры съехали? — спрашивал его Берсенев. — Эта дешевле; к университету ближе. От приглашения на дачу он отказался, поскольку средства его не позволяли держать две квартиры. Никто, собственно, не имел в виду брать с него плату. Берсенев снимал возле Кунцева домик, где имелась лишняя комната. — Вам от этого никаких лишних расходов бы не было, — объяснил Берсенев. Но Инсаров промолчал. Узнав, что в домике 5 комнат и плата за все — сто рублей серебром, он согласился наконец, но при условии, что будет сам платить за свою комнату. — 20 рублей дать я в силах... — Но, право же, мне совестно, — сопротивлялся Берсенев. — Иначе нельзя, Андрей Петрович. — Ну как хотите; только какой же вы упрямый! Итак, в дачном Кунцеве скоро появится новый персонаж. Какую роль он сыграет, как сложится его отношения с остальными? А теперь мы в тот же день возвращаемся в Кунцево, в гостиную Стаховых, где опять встретились Елена и Берсенев. Молодой ученый снова упомянул об отце, который так его напутствовал перед смертью: «Передаю тебе светоч, я держал его, покамест мог, не выпускай и ты сей светоч до конца». (Немного напыщенно, с пафосом, избитыми фразами — но искренно, душевно.) Потом разговор перешел к университету. — Скажите, — спросила Елена, — между вашими товарищами были замечательные люди? Оказалось, замечательных людей не было. — Впрочем, — продолжал Берсенев, — я должен оговориться. Я знаю одного студента, — правда он не моего курса, — это действительно замечательный человек. — Как его зовут? — с живостью спросила Елена. — Инсаров, Дмитрий Никанорович. Он болгар. Необыкновенная судьба. 18 лет назад его мать похитил и убил некий турок. Отец был зажиточным купцом, хотел отомстить, но только ранил убийцу кинжалом. Отца расстреляли без суда. Восьмилетний сирота жил в Киеве у родственников, а в 20 лет вернулся в Болгарию, подвергаясь опасности, поскольку турецкое правительство его преследовало. В 1850-м году приехал в Россию. «У него одна мысль: освобождение его родины». Вскоре Инсаров появился в доме Стаховых. 4 Возникновению любви здесь веришь. Каждый приход Инсарова, каждый разговор с ним этому постепенно способствовали. Вдруг однажды Берсенев рассказал Елене, что Инсаров исчез: «Третьего дня вечером» ушел куда-то, и с тех пор его нет». Потом оказалось: его позвали «разобрать одну незначительную ссору» между соотечественниками, которую ему затем удалось уладить. — И вы для таких пустяков за 60 верст ездили? Три дня потеряли? — удивлялась Елена. Инсаров ответил: — Наше время нам не принадлежит. — Кому же? — А всем, кому в нас нужда. Елена всегда стремилась помочь страдающим. Борец за освобождение порабощенной Болгарии встретил восхищенное сочувствие. Да и личный героизм Инсарова... Как-то Анна Васильевна, мать Елены, вздумала совершить увеселительную прогулку в Царицыно вместе с гостями и домочадцами. Николай Артемьевич ехать не пожелал, будучи в кислом и «фрондерском» расположении духа (на почве ссоры с приятельницей, Августиной Христиановной): «Пусть мне сперва докажут, что на одном пункте земного шара может быть веселее, чем на другом пункте, тогда я поеду. Это ему никто, разумеется, доказать не мог...» Вместо него в качестве «солидного кавалера» поехал его троюродный дядя Увар Иванович, отставной корнет лет 60-ти, гостивший у Стаховых. «...Человек тучный до неподвижности, с сонливыми желтыми глазками и бесцветными толстыми губами на желтом пухлом лице. Он с самой отставки постоянно жил в Москве процентами с небольшого капитала, оставленного ему женой из купчих. Он ничего не делал и навряд ли думал...» А вот еще про внешность этого персонажа, его некоторые повадки и главное, про его интеллект: «Увар Иванович носил просторный сюртук табачного цвета и белый платок на шее, ел часто и много, и только в затруднительных случаях, т. е. всякий раз, когда ему приходилось выразить какое-либо мнение, судорожно двигал пальцами правой руки по воздуху... с трудом приговаривая: «Надо бы... как-нибудь, того...» 5 Экипажи подкатили к развалинам Царицынского замка, все общество двинулось в сад. Елена и Зоя с Инсаровым, Анна Васильевна под руку с Уваром Ивановичем, замыкали шествие Шубин с Берсеневым. Катались на лодке, любовались «зрелищем Царицынских прудов», за которыми темнели сплошные леса. Кучер с лакеем и горничной, расстелив скатерть, подали обед на траве под старыми липами. Часы летели; приближался вечер. Все встали, устремились к экипажам. По дороге остановились полюбоваться Царицыном. «Везде горели яркие, предвечерние краски; небо рдело, листья переливчато блистали, возмущенные поднявшимся ветерком; растопленным золотом струились отдаленные воды; резко отделялись от темной зелени деревьев красноватые башенки и беседки, коегде разбросанные по саду». Но тут случилось неприятное происшествие. На дорожку выскочила пьяная компания, загулявшие немцы, и один из них «огромного росту, с бычачьей шеей и бычачьими воспаленными глазами» стал требовать, чтобы его поцеловала Елена или Зоя. Шубин, как всегда шутливо, пытался угомонить пьяного, но тот отстранил его мощной рукой, «как ветку с дороги». Но вышел Инсаров. Короткие пререкания, разъяренный немец «поднял руки и подался вперед», и вдруг он, «прежде чем дамы успели вскрикнуть, прежде чем кто-нибудь мог понять, каким образом это сделалось», «бухнулся в пруд и тотчас же исчез под заклубившейся водой». Потом появилась его голова, пускавшая пузыри. — Он утонет, спасите его, спасите! — закричала Анна Васильевна Инсарову, «который стоял на берегу, расставив ноги и глубоко дыша. — Выплывет, — проговорил он с презрительной и безжалостной небрежностью. — Пойдемте... — А... а... о... о... — раздался в это мгновение вопль несчастного немца, успевшего ухватиться за прибрежный тростник». Новый великолепный пейзаж... Мчатся вдоль нив экипажи... Вот уже Москва, «под колесами застучали камни». 6 И, наконец, нас знакомят с отрывками из дневника Елены. А здесь приведены отрывки из отрывков. Бегло просмотрим дневник прелестной девушки из московской дворянской семьи XIX века. «Июня... Отчего я с завистью гляжу на пролетающих птиц? Кажется, полетела бы с ними, полетела — куда, не знаю, только далеко, далеко... ...Я все еще робею с господином Инсаровым. Не знаю, отчего; я, кажется, не молоденькая, а он такой простой и добрый. Иногда у него очень серьезное лицо. Ему, должно быть, не до нас». ...О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать! Быть доброю — этого мало; делать добро... да; это главное в жизни. Но как делать добро? ...Я сегодня подала грош одной нищей, а она мне говорит: отчего ты такая печальная? А я и не подозревала, что у меня печальный вид. Я думала, это оттого происходит, что я одна, все одна, со всем моим добром, со всем моим злом. Некому протянуть руку. К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, зачем все это? ...Инсаров, господин Инсаров, — я, право, не знаю, как писать, — продолжает занимать меня. — Мне хочется знать, что у него там в душе? ...Я давно не чувствовала такого внутреннего спокойствия. Так тихо во мне, так тихо. И записывать нечего. Я его часто вижу, вот и все. Что еще записывать? Ему приятно к нам ходить, я это вижу. Но отчего? Что он нашел во мне? Правда, у нас вкусы похожи: и он и я, мы оба стихов не любим, оба не знаем толка в художестве. Но насколько он лучше меня! Он спокоен, а я в вечной тревоге; у него есть дорога, есть цель — а я, куда я иду? ...А ведь странно, однако, что я до сих пор, до 20-ти лет, никого не любила! Мне кажется, что у Д. (буду называть его Д., мне нравится это имя: Дмитрий) оттого так ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. ...Долго не забуду я вчерашней поездки. Какие странные, новые, страшные впечатления! Когда он взял этого великана и швырнул его, как мячик, в воду, я не испугалась... но он меня испугал. И потом — какое лицо. Зловещее, почти жестокое! Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом и остаться кротким и мягким? Жизнь дело грубое, сказал он мне недавно. Я имела с ним большой разговор, который мне открыл многое. Он мне рассказал свои планы (кстати, я теперь знаю, отчего у него рана на шее. Боже мой! когда я подумаю, что он уже был приговорен к смерти, что он едва спасся, что его изранили... ...Я не спала ночь, голова болит. К чему писать? Он сегодня ушел так скоро, а мне хотелось поговорить с ним... Он как будто избегает меня. Да, он меня избегает... ...Слово найдено, свет озарил меня! Боже! сжалься надо мною... Я влюблена!» А Инсаров решил уехать в Москву. И Елена и Берсенев поняли: виновата любовь. Берсенев рассказал, как однажды встретился с Инсаровым в доме родственника, отца хорошенькой дочки. Полагая, что Инсаров к ней неравнодушен, Берсенев ему об этом сказал, но тот в ответ рассмеялся: сердце его не пострадало, иначе он бы немедленно уехал. «Я болгар и мне русской любви не нужно...» Инсаров явился на следующий день, а больше не приходил. — Неужели я навсегда с ним рассталась? Метания, терзания. Потом она вышла из дома и пошла по дороге, ведущей к дому Берсенева. Для благовоспитанной девицы ее круга это был поступок страшно рискованный. 7 «Она ничего не боялась, она ничего не соображала; она хотела еще раз увидеться с Инсаровым. Она шла, не замечая, что солнце давно скрылось, заслоненное тяжелыми черными тучами, что ветер порывисто шумел в деревьях...» Пошел дождь, молния сверкнула, гром ударил. К счастью, поблизости была ветхая часовенка, укрывшая ее от грозы. Вскоре туда вошла старушка-нищая. Елена денег с собой не взяла, подарила ей свой платок. «Да никак я уже тебя видела. Никак ты мне Христову милостыню подавала?» И Елена ее узнала. «Хошь, унесу с твоим платочком все твое горе? Унесу и полно. Вишь, дождик реденький пошел; ты-то подожди еще, а я пойду. Меня ему не впервой мочить. Помни же, голубка; была печаль, сплыла печаль, и помину ей нет. Господи, помилуй!» Дождик уменьшился, уже и «солнце заиграло на мгновение». Елена тоже собиралась уходить и вдруг увидела Инсарова. Спешит домой? Он уже проходил мимо... — Дмитрий Николаевич!» — проговорила она наконец. — Вы! вы здесь! — воскликнул он. Она отступила молча в часовню. Инсаров последовал за Еленой. — Вы здесь? — повторил он. Она продолжала молчать и только глядела на него каким-то долгим, мягким взглядом. Он опустил глаза. Да, для сегодняшнего читателя, быть может — все это долго, нудно. Как сказал девушке один молодой человек, жаждавший на ней жениться, чтобы (во времена «застоя») прописаться в Москве: «К чему разыгрывать эту длинную и скучную любовь!» Не обедняют ли себя нынешние торопливые прагматики? Дело в том, что персонажей вроде Елены Стаховой можно еще и «возлюбить» — искренно, с восхищением и сочувствием. Ведь главная цель человечества — достигнуть такого уровня, чтобы можно было всем друг друга «возлюбить», как учил Христос. Вот тогда бы люди перестали воевать, делать подлости, лгать и прочее. У всех жизнь стала бы светлей. Почти все страдания оттого, что люди еще не достигли такого нравственного уровня — в подавляющем большинстве. Лишь единицы могли себе иногда позволить устремиться за светлой мечтой. Главным образом беззаботные, богатые (отнюдь не в первом поколении), выросшие, как Елена, в тепличных условиях, не ведавшие опасностей. Да еще герои, искренно и притом бескорыстно посвятившие жизнь высокой цели. — Вы, стало быть, хотели уехать, не простившись с нами? — Да, — сурово и глухо промолвил Инсаров. — Как? После нашего знакомства, после этих разговоров, после всего... Стало быть, если б я вас здесь не встретила случайно... так бы вы и уехали, ...и вам бы не было жаль? Инсаров отвернулся. — Елена Николаевна, пожалуйста, не говорите так. Мне и без того невесело. Поверьте, мое решение мне стоило больших усилий. Если б вы знали... — ...Но разве так расстаются друзья? Ведь мы друзья с вами, не правда ли? — Нет, — сказал Инсаров. — Как?.. — промолвила Елена. Щеки ее покрылись легким румянцем. — Я именно оттого и уезжаю, что мы не друзья. Не заставляйте меня сказать то, что я не хочу сказать, что я не скажу. — Вы прежде были со мной откровенны, — с легким упреком произнесла Елена. — Помните? — Тогда я мог быть откровенным, тогда мне скрывать было нечего; а теперь... — А теперь? — спросила Елена. — А теперь... А теперь я должен удалиться. Прощайте... — Погодите еще немножко, — сказала Елена. — Вы как будто боитесь меня. А я храбрее вас... Я могу вам сказать... хотите?.. отчего вы меня здесь застали? Знаете ли, куда я шла? Инсаров с изумлением посмотрел на Елену. — Я шла к вам. — Ко мне? Елена закрыла лицо. — Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю, — прошептала она, — вот... я сказала. — Елена! — вскрикнул Инсаров. Она приняла руки, взглянула на него и упала к нему на грудь. Он крепко обнял ее и молчал. Ему не нужно было говорить ей, что он ее любит. Из одного его восклицания, их этого мгновенного преобразования всего человека, из того, как поднималась и опускалась эта грудь, к которой она так доверчиво прильнула, как прикасались концы его пальцев к ее волосам, Елена могла понять, что она любима. Он молчал, и ей не нужно было слов... Тишина блаженства, тишина невозмутимой пристани, достигнутой цели, та небесная тишина, которая и самой смерти придает и смысл и красоту, наполнила ее всю своею божественной волной». Вот еще кусочек диалога: — Так ты пойдешь за мною всюду?.. — Всюду, на край земли. Где ты будешь, там я буду. — И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на наш брак? — Я себя не обманываю; я это знаю. — Ты знаешь, что я беден, почти нищий? — Знаю. — Что я не русский, что мне не суждено жить в России, что тебе придется разорвать все твои связи с отечеством, с родными? — Знаю, знаю. — Ты знаешь также, что я посвятил себя делу трудному, неблагодарному, что мне... что нам придется подвергаться не одним опасностям, но и лишениям, унижению, быть может? — Знаю, все знаю... Я тебя люблю. — Что ты должна будешь отстать от всех твоих привычек, что там, одна, между чужими, ты, может быть, принуждена будешь работать... Она положила ему руку на губы. — Я люблю тебя, мой милый. 8 И о, ужас! Прибыл отец Елены из Москвы с твердым намерением выдать ее замуж. «Пора ей, наконец, ступить твердою стопою на стезю... Пора ей покинуть свои туманы...» Есть прекрасный жених: господин Курнатовский. Правовед, манеры прекрасные, 33 года, коллежский советник. «Это не какойнибудь черногорец». В тот же день жених явился: человек благообразной наружности, просто и изящно одетый. «В нем есть что-то железное... И тупое и пустое в то же время — и честное; говорят, он точно очень честен», — писала на следующий день Елена Инсарову. — «Ты у меня тоже железный, да не так, как этот». Письмо было длинное. В нем еще, в частности, говорилось: «Со мной он был очень вежлив; но мне все казалось, что со мной беседует очень, очень снисходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого, он говорит, что у такого-то есть правила — это его любимое слово. Он должен быть самоуверен, трудолюбив, способен к самопожертвованию (ты видишь: я беспристрастна), то есть к пожертвованию своих выгод, но он большой деспот. Беда попасться ему в руки! За столом заговорили о взятках... — Я понимаю, — сказал он, — что во многих случаях берущий взятку не виноват; он иначе поступить не мог. А все-таки, если он попался, должно его раздавить. Я вскрикнула. — Раздавить невиноватого! — Да, ради принципа». Курнатовскому Елена понравилась. «Папенька в восторге», — сообщала она в письме Инсарову. — «О мой милый! Я тебе так подробно описала этого господина для того, чтобы заглушить мою тоску. Я не живу без тебя, я беспрестанно тебя вижу, слышу...» Недели через три семейство переселилось с дачи в Москву в свой большой деревянный дом возле Пречистенки. Это был «дом с колоннами, белыми лирами и венками над каждым окном, с мезонином, службами, палисадником, огромным зеленым двором, колодцем на дворе и собачьей конуркой возле колодца». С Инсаровым Елена виделась всего раз украдкой в рощице над Москвой-рекой, они едва успели сказать друг другу несколько слов. Инсаров сидел в своей комнате, перечитывая полученные из Болгарии письма: назревала война, друзья звали его, он решил отправиться на родину. Дверь вдруг быстро распахнулась — и в комнату вошла Елена. — Так вот где ты живешь? Я тебя скоро нашла. Каждый шаг, слово, каждое движение обоих переданы точно, естественно. Инсаров бросился к ней, обнял. «Он не мог говорить; радость его душила». Она села на маленький старенький диванчик, а он на пол у ее ног. — На, сними с меня перчатки, — промолвила она неровным голосом. Ей становилось страшно. Подробно описывается процедура снимания перчаток, тонкая и нежная кисть руки... Вот уже «губы их слились...». «Наконец-то, — скажет насмешливо современный читатель, уверенный, что настал счастливый финал, так сказать, — хэппи-энд». «Диванчик старенький имеется. Да, кажется, и кровать...» Не тут-то было. «Она вырвалась, встала, шепнула: «Нет, нет», и быстро подошла к письменному столу. А там были письма из Болгарии. — Не от соперницы?.. Да они и не порусски, — прибавила она, перебирая тонкие листы. Он объяснил, что это за письма. — Ведь ты меня возьмешь с собой? Подвергать ее опасности? «Не грешно ли, не безумно ли мне, мне, бездомному, одинокому, увлекать тебя с собою... И куда же!» Но решимость ее — безоглядная, самоотверженная. — Да хочешь ли, я теперь же, сейчас, сию минуту останусь у тебя, с тобой навсегда, и домой не вернусь, хочешь? Поедем сейчас, хочешь? Но ее герой тоже человек самоотверженный. Он ее оберегает, не заботясь о себе. — Нет, моя чистая девушка; нет, мое сокровище. Ты сегодня вернешься домой, но будь готова. Ему надо еще все обдумать, нужны деньги, паспорт для нее... И вот она выскользнула из комнаты. Он стоял перед затворившеюся дверью, прислушивался. «Дверь внизу на двор стукнула. Он подошел к дивану, сел и закрыл глаза рукой. С ним еще никогда ничего подобного не случалось. «Чем заслужил я такую любовь? — думал он. — Не сон ли это?» 9 Инсаров готовился к отъезду. Особенно много хлопот доставила проблема паспорта. Он целый час добирался к знакомому чиновнику и не застал его дома. Тогда ведь не было телефонов! Да что телефоны, электричества еще не было, по вечерам зажигали свечи. На обратном пути он «промок до костей, благодаря внезапно набежавшему ливню»; с головной болью, простуженный снова ходил, ездил. Увы, не было нынешних антибиотиков. «Недуг завладел им. С страшною силой забились в нем жилы, знойно вспыхнула кровь, как птицы закружились мысли. Он впал в забытье. Как раздавленный, навзничь лежал он...» Хозяин, испугавшись, что квартирант умрет, разыскал когда-то приходившего сюда Берсенева. — Он опасен? — спросил Берсенев доктора, которого привез с собой. — Да, очень, — отвечал доктор. — Сильнейшее воспаление в легких; перипневмония в полном развитии, может быть, и мозг поражен, а субъект молодой. Берсенев, человек по-своему самоотверженный, решил пожить пока у Инсарова; тот был почти все время без сознания, в забытьи, в бреду. — Исполнит ли он свои замыслы? — подумал Берсенев. — Неужели все исчезнет? И жалко ему становилось молодой погибшей жизни, и он давал себе слово ее спасти... Далее подробности о ходе болезни, о состоянии больного. Опять приезжал доктор, объяснил, что до кризиса еще далеко, а после кризиса исход может быть двояким... И вдруг появилась Елена. «Берсенев вскочил как ужаленный... Казалось, она все поняла в одно мгновенье. Страшная бледность покрыла ее лицо...» Она лишь сказала: «Если он умрет, и я умру». Она даже хотела остаться. — Вас будут искать... — сказал Берсенев. — Вас найдут. — И что же? — Елена Николаевна! Вы видите... Он вас теперь защитить не может. Потом ее рыдания... Обещание Берсенева не отходить от больного, созвать, если нужно, консилиум, извещать ежедневно Елену обо всем, а в крайнем случае — немедленно за ней послать. Он поклялся все это сделать. «Она вдруг схватила его руку и, прежде чем он успел ее отдернуть, припала к ней губами». Восемь дней Инсаров был между жизнью и смертью. Берсенев его не оставлял, хотя друзья Инсарова готовы были дежурить у постели больного. Каждый день Берсенев сообщал Елене все подробности. И наконец добрая весть: «Он пришел в себя, он спасен, он через неделю будет совсем здоров...» Здесь лишь отдельные фразы, да сокращенный беглый пересказ. А у Тургенева столько подробных и точных деталей, что малейшего сомнения не возникает в реальности происходящего. Инсаров уже ходил по комнате и медленно поправлялся. Получив по городской почте записку от Елены: «Жди меня и вели всем отказывать...», он стал готовиться к встрече. «От слабости и от радости у него голова кружилась и сердце билось». Наконец «дверь распахнулась... вошла Елена и с слабым радостным криком упала к нему на грудь. — Ты жив, ты мой... Еще несколько страниц займут разговоры. Железный человек, ослабев после болезни, да и от счастья, почувствовал, что теряет над собой контроль. — ...Я ни за что не отвечаю... Уйди! Но она не уходила. Это вызов общепринятым стандартам своей среды! Был жених, одобренный родителями... Да и многие за счастье бы почли на ней жениться. В нее были втайне влюблены и Берсенев, и Шубин. Она решительна, бесхитростна, повышенно эмоциональна. Беззаботная, вполне обеспеченная жизнь, надежное будущее, уважение окружающих — она все теперь могла потерять. Инсаров это понимал, наступая «на горло собственной песне». — Зачем же ты пришла ко мне теперь, когда я слаб, когда я не владею собой, когда вся кровь моя зажжена... Ты моя, говоришь ты... Ты меня любишь... Ну вот все и произошло. Здесь, в этой бедной полупустой комнате, с этим нищим скитальцем, который, видимо, скоро окажется вне закона... 10 Между тем гроза, собиравшаяся на Востоке, разразилась! Турция объявила России войну. Инсаров еще кашлял, чувствовал слабость, приступы лихорадки, но «беспрестанно разъезжал по Москве, виделся украдкой с разными лицами, писал по целым ночам». В один ненастный вечер в комнату Елены вошла горничная и позвала ее к родителям. Маменька плакала, нюхала платок с одеколоном (тогда не было нынешних успокаивающих таблеток), а папенька гневался и с величавой парламентской осанкой произнес длинную и неуклюжую речь о правилах нравственности. Ему стало известно от одного из слуг о ее преступлении. «Презренные лакеи», — сказал он по-французски, — видели вас, как вы входили туда, к вашему... — Мне незачем хитрить, — промолвила она, — да, я посещала этот дом. — Прекрасно! Слышите, слышите, Анна Васильевна? И вы, вероятно, знаете, кто в нем живет? — Да, знаю: мой муж... Николай Артемьевич вытаращил глаза. — Твой... — Мой муж, — повторила Елена. — Я замужем за Дмитрием Никаноровичем Инсаровым. — Ты?.. замужем?.. — едва проговорила Анна Васильевна. — Да, мамаша... Простите меня... Две недели тому назад мы обвенчались тайно. Анна Васильевна упала в кресло, Николай Артемьевич отступил на два шага. — Замужем! За этим оборвышем, черногорцем! Дочь столбового дворянина Николая Стахова вышла за бродягу, за разночинца! Без родительского благословения! И ты думаешь, что я это так оставлю? что я не буду жаловаться? что я позволю тебе... что ты... что... В монастырь тебя, а его в каторгу, в арестантские роты! Анна Васильевна, извольте сейчас сказать ей, что вы лишаете ее наследства. — Николай Артемьевич, ради Бога, — простонала Анна Васильевна. — И когда, каким образом это сделалось? Кто вас венчал? где? как? Боже мой! Что скажут теперь все знакомые, весь свет! И ты, бесстыдная притворщица, могла после эдакого поступка жить под родительской кровлей, ты не побоялась... грома небесного? Елена вся дрожала, но голос ее был тверд. Она просто не хотела огорчать заранее. — Мы на будущей неделе уезжаем отсюда с мужем. — Уезжаете? Куда это? — На его родину, в Болгарию. — К туркам! — воскликнула Анна Васильевна и лишилась чувств. «...Какая поднимется по Москве туча осуждений, пересудов, толков! — говорил потом Шубин. — Впрочем, она выше их». Потом Николай Артемьевич хотел куда-то жаловаться, добиться развода, но Анна Васильевна, не желая позорить дочь, нашла кратчайший путь к его сердцу: «обещалась заплатить все его долги да с рук на руки дала ему тысячу рублей серебром». Николай Артемьевич согласился «не поднимать истории», но видеть недостойного зятя не пожелал. 11 Приближался день отъезда. Вскоре состоялась встреча Инсарова с матерью Елены. Анна Васильевна рассказала о своих страданиях, обняла обоих и сквозь слезы обещала: «Нужды вы терпеть не будете, пока я жива!» Они отправлялись в путь из квартиры Инсарова и уже садились в повозку, «как вдруг на двор влетели богатые сани, запряженные лихим рысаком, и из саней, стряхая снег с воротника шинели, выскочил Николай Артемьевич». Радуясь, что застал отъезжавших, он вытащил из кармана маленький образок, «последнее родительское благословение» и надел Елене на шею. Зарыдав, она стала целовать его руки. Потом кучер подал шампанское и три бокала. — Ну! — сказал Николай Артемьевич, а у самого слезы так и капали на бобровый воротник шинели, — надо проводить... и пожелать... — Он стал наливать шампанское; руки его дрожали, пена поднималась через край и падала на снег. Как неоднозначен каждый человек, сколько в нем всего намешано! И в конце концов: «Ямщик взмахнул кнутом, засвистал; повозка, заскрипев полозьями, повернула из ворот направо — и исчезла». 12 И вдруг Венеция. Гондола скользит по воде... Великолепные венецианские пейзажи, достопримечательности... Даже устаешь от этой праздничной красоты, от роскоши красок. И на этом праздничном фоне — тяжело и уже, кажется, неизлечимо больной Инсаров. Бледность, слабость, по временам жар. И страшный кашель. Может быть, у него скоротечная чахотка? Сильный человек о себе обычно мало заботится и быстрей сгорает. Вечером они с Еленой поехали в оперный театр на «Травиату». «Как нарочно, в ответ на притворный кашель актрисы раздался в ложе глухой, неподдельный кашель Инсарова...» После театра они возвращались в гостиницу. «Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу...» Вот они гуляют вокруг площади. Перед крошечными кофейнями толпится праздная публика. А у Инсарова трудная задача впереди: надо «пробраться через Зару в Сербию, в Болгарию, другие пути ему были закрыты. Война уже кипела на Дунае...» Теперь они с Еленой ждут какого-то Рендича, который должен «все устроить». Рендич был далмат, моряк, человек суровый, смелый и преданный славянскому делу. У Инсарова жар, состояние ужасное. «Я отдохну немного и все пройдет, — пообещал он. — Разбуди меня сейчас, как только Рендич придет. Если он скажет, что корабль готов, мы тотчас отправимся...» Он уснул; постепенно уснула и Елена. Ей приснился снег. Она едет в повозке, рядом Катя, бедная умершая подружка. Впереди сквозь снежную пыль виден Соловецкий монастырь — там заточен Дмитрий. «Я должна его освободить... Вдруг седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает. Катя смеется. Елена! Елена! — слышится голос из бездны». Проснувшись, она увидела, что Инсаров «белый, как снег, снег ее сна... — Елена, — произнес он, — я умираю. Она с криком упала на колени и прижалась к его груди. — Все кончено, — повторил Инсаров, — я умираю... Прощай, моя бедная! Прощай, моя родина!.. Как непрочен всякий человек и как поэтому трудна жизнь. Особенно для тех, кому он дорог. И тут же приезд Рендича, которого Инсаров так ждал. А на следующий день «в той же комнате, у окна стоял Рендич; перед ним, закутавшись в шаль, сидела Елена. В соседней комнате в гробу лежал Инсаров». — Его уже давно ждали; на него надеялись, — сказал Рендич. Решено было похоронить Инсарова на его родине. Ночью от гостиницы отчалила широкая лодка, в которой были Елена с Рендичем и ящик, покрытый черным сукном. Через час они приплыли к небольшому двухмачтовому кораблю и перешли на него; а матросы внесли ящик. А затем родители получили от Елены письмо; она с ними навсегда прощалась. «Я его схороню... Но уже мне нет другой родины, кроме родины Д. Там готовится восстание, собираются на войну; я пойду в сестры милосердия; буду ходить за больными, ранеными. Я не знаю, что со мной будет, но я и после смерти Д. останусь верна его памяти, делу всей его жизни. Я выучилась поболгарски и по-сербски. Я искала счастья — и найду, быть может, смерть». В конце она просила у родителей прощения. След Елены исчез навсегда и безвозвратно. И никто не знает, «жива ли она еще... или уже кончилась маленькая игра жизни, кончилось ее легкое брожение, а настала очередь смерти». В Заре ходили слухи об иностранной даме, которая привезла гроб и похоронила возле берега. Даму эту якобы видели потом в Герцеговине при войске, «описывали даже ее наряд, черный с головы до ног». Вот и все. А реальны ли Инсаров и Елена? Или это прекраснодушная фантазия? Но вроде бы «лакировка действительности» тогда не требовалась от автора. В самом конце романа краткое сообщение о судьбе остальных персонажей. Анна Васильевна еще жива, постарела, очень грустит. Николай Артемьевич тоже постарел и даже расстался с возлюбленной, Августиной Христиановной, но зато у него красивая ключница лет тридцати. Курнатовский женился на миловидной блондинке Зое, бывшей компаньонке Елены. Берсенев усердно занимается наукой, родил какие-то две серьезные статьи, «жаль только, что обе статьи написаны языком несколько тяжелым и испещрены иностранными словами». Шубин в Риме считается «одним из самых замечательных и многообещающих молодых ваятелей». А неуклюжий и косноязычный Увар Иванович «нисколько и ни в чем не изменился». От этого приземленного, заключительного перечисления вернемся чуть-чуть назад. Историю самоотверженной любви, стремлений, великих надежд там венчает грустная, но мудрая мысль о жизни и ее неизбежном конце: «Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее — когда захочет». Вывод правда несколько обескураживающий! Мы, как рыбы, накрытые неводом, ненадолго оставленные барахтаться в своей луже? А может быть, есть еще какой-то, более высокий смысл в нашем кратковременном и нелегком пребывании на земле? Ну, хотя бы, например, — облегчить страдания (всем, а не только себе.) И может быть для этого — усилия общества, политика, экономика, наука, и культура, и религия. Еще предстояла отмена крепостного права. Долгие столетия проб, ошибок, едва заметного мучительного совершенствования... 1859 1 Начало обычное для Тургенева: собрались приятели, беседуют о чем-то интересном, и рассказ одного из них приводится. В данном случае речь зашла о первой любви. Оказалось, что хозяину и одному из его гостей рассказывать, в сущности, не о чем. У другого гостя, Владимира Петровича, холостяка лет 40, было о чем рассказать. Он решил записать все, что вспомнит, в тетрадку и уж потом прочесть это друзьям. Вот история его первой любви. Летом 1833 года ему было 16 лет. Родители снимали дачу возле Калужской заставы против Нескучного. Он готовился в университет, но не слишком утруждался, в сущности бездельничал. Дача «состояла из деревянного барского дома с колоннами и двух низеньких флигельков; во флигеле налево помещалась крохотная фабрика дешевых обоев». Гуляя по саду, барский отпрыск, ощущавший в себе «радостное чувство молодой, закипающей жизни», иногда заходил туда смотреть, как работали дети из другой социальной группы: десяток худых и взъерошенных мальчишек в засаленных халатах». Труд их, однообразный, механический, изнуряющий вряд ли рождал в них «радостные чувства». Картину тогдашних нравов помогают себе представить и отношения в семье подростка. «Матушка моя вела печальную жизнь: беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась». С чего бы это? — удивляется читатель и тут же узнает причину. «Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету; она была старше его десятью годами». Т. е., в сущности, отец продал себя ради определенных благ. «...Он держался строго, холодно, отдаленно... Я не видел человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного». Проблемы социального неравенства, ненормального устройства жизни лезут из всех щелей на каждом шагу, хотя в задачи Тургенева вовсе не входило их обличать. «Флигелек направо стоял пустой и отдавался внаймы». Люди зажиточные не согласились в нем поселиться, так он был «ветх, и мал, и низок». Обосновалось в нем вскоре семейство: княгиня Засекина с дочерью. Бродя по саду, 16-летний подросток услышал голоса и, взглянув через забор, «окаменел». Между кустами на поляне стояла «высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове». Вокруг нее теснились 4 молодых человека, и она их по очереди хлопала серыми цветками, которые при этом с треском разрывались. В ее движениях было что-то «очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое». Все, словно воплощение владевших подростком сладких предчувствий, неясных ожиданий... «Слегка растрепанные белокурые волосы под белым платочком, и этот полузакрытый умный глаз, и эти ресницы...» 2 Утром первая его мысль: «Как бы с ними познакомиться?» Вскоре это осуществилось, княгиня с дочерью Зинаидой посетили его родителей. Визиту предшествовало короткое письмо не слишком грамотной княгини: «Я квам обращаюсь, как благородная дама хблагородной даме, и при том мне преятно воспользоватца сим случаем». Матушка молодого человека в русской орфографии тоже не была сильна, а «компрометироваться» не хотела, поэтому она отправила сына с устным приглашением к новым соседям. У княгини были толстые красные пальцы, она сидела в бедной, не совсем опрятной комнате, перебирала какие-то засаленные бумаги. Состоялось и знакомство с Зинаидой, дочерью княгини. «Вы меня еще не знаете: я престранная, — между прочим, шутливо заявила княжна, привыкшая повелевать поклонниками. — Вам, я слышала, 16 лет, а мне 21: вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить правду... и слушаться меня...» Молодой человек был в восторге. Княгиня Засекина, побывав у матушки молодого человека, произвела на нее впечатление особы вульгарной; надоедала просьбами в связи с какими-то своими делами и тяжбами... Все же матушка пригласила ее прийти с дочерью на следующий день обедать. Отец молодого человека в молодости знал покойного князя Засекина, человека «отлично воспитанного, но пустого и вздорного». Князь был очень богат, жил в Париже; проиграв состояние, женился «на дочери какого-то приказного» (видимо, тоже «по расчету»), потом пустился якобы в спекуляции и окончательно разорился. — Ты мне, кажется, сказала, что ты и дочь ее позвала; меня кто-то уверял, что она очень мила и образованная девушка. — А! Стало быть, она не в мать. — И не в отца, — возразил отец. — Тот был тоже образован, да глуп. На обеде мать с дочерью вели себя поразному. Мать «шумно нюхала табак», «ерзала на стуле», вздыхала, жаловалась на бедность, «канючила». Дочь в гостях «держалась очень строго, почти надменно, настоящей княжной». Отец молодого человека «сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку». На влюбленного подростка Зинаида вроде бы не обращала внимания, но уходя шепнула, словно забавляясь: «Приходите к нам в 8 часов, слышите, непременно...» Он явился и застал у соседей веселую компанию. Играли в фанты. Граф, доктор, поэт, отставной капитан и гусар окружали княжну, исполняли все ее приказания. «Каких не придумывала она штрафов. Было очень весело. Хохот не умолкал ни на мгновение». Вольдемар, как на французский манер звала его Зинаида, был счастлив, опьянел, как от вина. «Мы и на фортепьяно играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор». Граф демонстрировал карточные фокусы, поэт декламировал отрывки из своей поэмы... На прощанье Зинаида пожала влюбленному Володе руку и загадочно улыбнулась; домой он возвращался усталый и счастливый. 3 Вот он вышел из флигеля в сад. «Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо; казалось, готовилась гроза; черные тучи росли и ползли по небу, видимо меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо». Погасив свечку, влюбленный не разделся и не лег. Он присел на стул и долго сидел как очарованный; потом лег, не раздеваясь и не закрывая глаз. «Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплет его четко отделялся от таинственно и смутно белевших стекол. «Гроза», — подумал я, и точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до утра...» Таким счастливым он, вероятно, никогда уже не будет. «Утро стало заниматься; алыми пятнами выступила заря». Засыпая, он устремился к образу возлюбленной «с прощальным и доверчивым обожанием». На другой день отец расспросил его о визите к соседям, потом быстро удалился. «Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора: он вошел к Засекиным». После обеда влюбленный подросток отправился туда же, но разговаривать пришлось только со старухой. Зинаида выглянула на минуту — бледная, задумчивая, посмотрела на него большими холодными глазами и тихо закрыла свою дверь. Этот холод и равнодушие после всего что было! Вмиг исчезли «умиления любви». С этого дня в жизни влюбленного начались страдание и «страсть». 4 Отец казался молодому человеку «образцом мужчины». Но ему было не до сына и не до семьи. Его главное правило: «Сам бери что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать — в этом вся штука жизни». Когда сын «в качестве молодого демократа стал однажды рассуждать о свободе, отец возразил: человеку может дать свободу собственная воля, «и власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть и будешь свободным, и командовать будешь». Он, кажется, старался не слишком сближаться с людьми, хотя умел, когда надо, почти мгновенно вызвать к себе неограниченное доверие. Зинаида по-своему стремилась командовать людьми. Все мужчины, посещавшие ее дом, «были от ней без ума — и она их всех держала на привязи, у своих ног». В ней была «тонкая, легкая прелесть, «своеобразная, играющая сила». И какая-то «полупрезрительная небрежность и невзыскательность», которым, видимо, способствовали бедность и беспорядок в доме, полная свобода, сознание своего превосходства над окружающими. Вот ее характерное высказывание: «...Я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил... Да я на такого не наткнусь, Бог милостив! Не попадусь никому в лапы, ни-ни!» А вдруг такой встретится, который сломить сумеет? Очарует, войдет в доверие, приобретет над ней власть, а сам в руки не дастся. Все это, конечно, противоречило заповеди: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Но кто тогда следовал всем этим заповедям? И кто теперь им следует? (Может быть, отсюда и страдания?) Она была взбалмошна и ничем не дорожила. Как-то княгиня попросила доктора Лушина, одного из окружавших Зинаиду влюбленных мужчин: «...Побраните-ка ее. Целый день пьет воду со льдом; разве ей это здорово, при ее слабой груди?» — Зачем вы это делаете? — спросил Лушин. — А что из этого может выйти? — Что? вы можете простудиться и умереть. — В самом деле? Неужели? Ну что ж — туда и дорога! — Вот как! — проворчал доктор. Княгиня ушла. — Вот как, — повторила Зинаида. — Разве жить так весело? Оглянитесь-ка кругом... Что — хорошо? Или вы думаете, что я этого не понимаю, не чувствую? Мне доставляет удовольствие — пить воду со льдом, и вы серьезно можете уверять меня, что такая жизнь стоит того, чтоб не рискнуть ею за миг удовольствия, — я уж о счастии не говорю. — Ну да, — заметил Лушин, — каприз и независимость... Эти два слова вас исчерпывают: вся ваша натура в этих двух словах. Ну а уж с 16-летним подростком она играла, как кошка с мышью, то кокетничая, то отталкивая. Однажды он встретил ее в саду сидящей на траве. В ее лице была глубокая усталость, горькая печаль. — Все мне опротивело, — прошептала она, — ушла бы я на край света... И что ждет меня впереди!.. Потом, среди бесчисленных встреч, подробностей, разговоров — один особенно примечательный эпизод. «После обеда опять собрались во флигеле гости...» Играли в фанты. Зинаида предложила, чтобы каждый рассказывал «что-нибудь выдуманное». Когда очередь дошла до нее, она стала фантазировать: «Представьте себе великолепный чертог, летнюю ночь и удивительный бал! Бал этот дает молодая королева. Везде золото, мрамор, хрусталь, шелк, огни, алмазы, цветы, куренья!..» Далее выяснилось, что все мужчины влюблены в королеву. «Она высока и стройна; у нее маленькая золотая диадема на черных волосах». Влюбленный подросток взглянул на Зинаиду... «И в это мгновение она мне показалась настолько выше всех нас, от ее белого лба, от ее недвижных бровей веяло таким светлым умом и такою властию, что я подумал: «Ты сама эта королева!» На ходу сочиненная Зинаидой сказка была исполнена романтической красоты, в ней было что-то глубоко личное, выстраданное. За окнами чертога — «темное небо с большими звездами, да темный сад с большими деревьями. Королева глядит в сад. Там, около деревьев, фонтан; он белеет во мраке, — длинный, длинный, как привидение. Королева слышит сквозь говор и музыку тихий плеск воды. Она смотрит и думает: вы все, господа, благородны, умны, богаты, вы окружили меня, вы дорожите каждым моим словом, вы все готовы умереть у моих ног, я владею вами... А там, возле фонтана тот, кого я люблю, кто мною владеет. На нем нет ни богатого платья, ни драгоценных камней, никто его не знает, но он ждет меня и уверен, что я приду, — и я приду, и нет такой власти, которая бы остановила меня...» «Кто он?» — думал ночью подросток, вспоминая рассказанную Зинаидой историю. «Сад... фонтан... Пойду-ка я в сад». Он обошел все аллеи, приблизился к забору; ему вдруг почудилось, что где-то рядом промелькнула женская фигура. Но опять все стало безмолвно кругом. «Я чувствовал странное волнение: точно я ходил на свидание — и остался одиноким и прошел мимо чужого счастия». А в следующую ночь, положив в карман недавно купленный английский ножик, влюбленный снова отправился в сад, прислонился к стволу ели и стал наблюдать. Он был готов насмерть поразить соперника, но шло время — и тишина кругом. А может быть, все напрасно? Может быть, он просто смешон? И вдруг «скрип отворявшейся двери», «быстрые, легкие, но осторожные шаги...». Он схватил нож, «красные искры» закружились в глазах. «Показался человек... Боже мой! Это был мой отец!» За окошком Зинаидиной спальни вдруг осторожно и тихо опустилась беловатая штора. Все это сопровождалось большими переживаниями, были горькие слезы, тревожные недоумения, обида. «Противоположные чувства, мысли, подозрения, надежды, радости и страданья кружились вихрем...» «Но Зинаиды избегать я не мог... Меня жгло как огнем в ее присутствии...» Наивный он, этот подросток середины XIX века? Ну, как посмотреть. Иной современный юнец с его вульгарной «умудренностью» и пошловатым цинизмом подчас неприятен. В нем животное далеко опередило духовность, зачатки которой есть в каждом человеческом существе. (Все созданы «по образу и подобию Божьему».) 5 Однажды, явившись к обеду после довольно продолжительной прогулки, молодой человек узнал, что будет обедать один: «отец уехал, а матушка нездорова и не желает кушать». Он узнал от буфетчика, что произошла страшная сцена: матушка «упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней» и т. п. Если до этого еще были какие-то сомнения, неясность, то теперь... «Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня разбросанные и истоптанные». На следующий день матушка объявила, что переезжает в город. Отец сумел ее упросить «не затевать истории». Матушка даже велела «поклониться княгине и изъявить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с ней до отъезда». Но мальчик не мог расстаться с Зинаидой, «не сказав ей последнего прости». Он отправился во флигель. «Зинаида появилась в черном платье, бледная, с развитыми волосами; она молча взяла меня за руку и увела с собой... — Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас. Не поминайте меня лихом. Я иногда мучила вас; но все-таки я не такая, какою вы меня воображаете. Она отвернулась и прислонилась к окну. — Право, я не такая. Я знаю, вы обо мне дурного мнения. — Я? — Да, вы... вы. — Я? — повторил я горестно, и сердце у меня задрожало по-прежнему под влиянием неотразимого, невыразимого обаяния. — Я? Поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца дней моих. Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий, прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится». И вот самые последние минуты этой последней встречи. Они сохранятся в его душе навсегда. — Прощайте, прощайте, — твердил я... Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когданибудь повторилось; но я почел бы себя несчастливым, если бы я никогда его не испытал». Потом рана медленно заживала. Мальчик не думал, что увидит когда-нибудь Зинаиду. Но это случилось. Против отца у него «не было никакого дурного чувства. Напротив: он как будто еще вырос в моих глазах... Пускай психологи объяснят это противоречие как знают». Обыкновенный читатель, не психолог, тоже может как-то объяснить это противоречие: отец, сильный, смелый, удачливый, способный увлекаться, рисковать, был для сына образцом, вызывал восхищение. Однажды они вместе поехали кататься верхом. «Я не видывал всадника, подобного отцу; он сидел так красиво и небрежно — ловко, что казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на Девичьем поле, перепрыгнули через несколько заборов (сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей, — и я перестал бояться.)». Потом отец отдал сыну поводья своего коня, велел ждать, «а сам повернул в небольшой переулок и исчез». Ждать пришлось долго. Мальчик прошел затем до конца переулка, повернул за угол. У окна деревянного домика стоял отец, а в домике «сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом; эта женщина была Зинаида». Между ними происходил какой-то спор. «Зинаида выпрямилась и протянула руку...» Но отец вдруг поднял хлыст, «и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заалевший на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом...» Не в силах ничего понять, подросток вернулся назад и заплакал. — Ну, что же ты — давай мне лошадь! — раздался за мною голос отца. Казалось бы, самодур, наглец. Но когда на обратном пути он задумался и опустил голову, мальчик был поражен, увидев, «сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты». 6 Два месяца спустя молодой человек поступил в университет, а через полгода его отец скончался «от удара» в Петербурге, куда только что переселилась их семья. Умер в 42 года! В нем была смелая удаль, уверенность, сила. Но стремление «иметь власть над людьми», «брать от жизни все, что она может дать» и т. п. Не так уж это, видимо, легко. Не последнюю роль тут сыграл его «брак по расчету» (и значит — социальные условия, ненормальное устройство общества.) Продав себя смолоду за определенные материальные блага, т. е., в сущности, загнав себя в унылую клетку, он всю жизнь потом из нее рвался. (Тут, может быть, и неосознанное стремление к единственной, подлинно своей любви?) Он при этом смело крушил чужие жизни, заранее зная, что из клетки ему не выбраться. «За несколько дней до смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало... Он ходил просить о чем-то матушку и, говорят, даже заплакал, он, мой отец!» Читателю остается лишь предполагать, догадываться, о чем шла речь. Может быть, какие-то «последствия»?.. «Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву». Года через 4 молодой человек закончил университет. Как-то вечером в театре он вдруг встретил одного из влюбленных некогда в Зинаиду поклонников. Бывший поэт, успевший на ком-то жениться и поступить на службу, вдруг сообщил: — ...Г-жа Дольская здесь. — Какая госпожа Дольская? — Вы разве забыли? бывшая княжна Засекина, в которую мы все были влюблены, да и вы тоже. Помните, на даче, возле Нескучного. — Она замужем за Дольским? — Да. — И она здесь, в театре? — Нет, в Петербурге, она на днях сюда приехала; собирается за границу. — Что за человек ее муж? — спросил я. — Прекрасный малый, с состоянием. Сослуживец мой московский. Вы понимаете — после той истории... вам это все должно быть хорошо известно... ей не легко было составить себе партию; были последствия... но с ее умом все возможно. Ступайте к ней: она вам будет очень рада. «Старые воспоминания во мне расшевелились... я дал себе слово на другой же день посетить бывшую мою «пассию». Но встретились какие-то дела; прошла неделя, другая...» Наконец бывший влюбленный, давно повзрослевший, отправился в гостиницу, где остановилась Зинаида. Как непрочен каждый человек! Оказалось: четыре дня тому назад она умерла от родов. «Мысль, что я мог ее увидеть и не увидел, и не увижу ее никогда, — эта горькая мысль впилась в меня со всею силою неотразимого упрека». Потом как-то раз он увидел тяжелую смерть несчастной нищей старухи и охватило вдруг стремление «помолиться за умершую Зинаиду, за отца — и за себя». Все кончается сочувствием — ко всем людям, неизбежно обреченным на смерть. (Может быть, при этом и душа читателя потихоньку очищается от непомерных претензий?) «О молодость! молодость!..» — размышляет рассказчик, теперь уже 40-летний холостяк. Ему кажется, что главная прелесть молодости не в возможности «все сделать», что главная ее прелесть — возможность «думать, что ты все сделаешь». Он не разделяет довольно распространенную мысль: «О, что бы я сделал, если б я не потерял времени даром!» — Он к этому относится скептически. «Но может быть, каждый все-таки сделал бы гораздо больше полезного и стал бы счастливей при иных условиях... — думает читатель, подразумевая под «каждым» и себя в том числе. «А что сбылось из всего того, на что я надеялся, — заключает рассказчик. — И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей, утренней, весенней грозе?» 1860 1 На крылечко постоялого двора выходит в сопровождении слуги барин лет сорока с небольшим. Это помещик Николай Петрович Кирсанов, у него где-то неподалеку хорошее имение, он ждет сына Аркадия, который окончил, как и он когда-то, университет в Петербурге и возвращается домой. Нас знакомят с биографией Николая Петровича, пока он, присев на скамеечку, задумчиво поглядывает кругом. Отец его, боевой генерал, полуграмотный, грубый, жил в провинции, «где в силу своего чина играл довольно значительную роль». Мать, Агафоклея Кузьминишна, принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко, «допускала детей утром к ручке» и т. д. Николай Петрович, в юности сломав ногу, на всю жизнь остался «хроменьким». Отец «махнул на него рукой и пустил его по штатской» — повез в Петербург и «поместил» в университет. Брат Павел «о ту пору» вышел офицером в гвардейский полк, и молодые люди стали жить вдвоем на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди, важного чиновника. Затем Николай Петрович женился на миловидной девице и, покинув министерство, куда «по протекции отец его записал», в дальнейшем поселился в деревне. У него родился сын Аркадий. «Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэтом...» Эта идиллия продолжалась 10 лет. Жена умерла в 1847 году, Николай Петрович «едва вынес этот удар, поседел в несколько недель» и нескоро занялся потом хозяйственными преобразованиями. В 1855 году повез сына в университет; и вот в мае 1859 года, уже совсем седой и немного сгорбленный, он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата. «Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студенческой фуражки, знакомый очерк дорогого лица... — Аркаша! Аркаша! — закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками... Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к загорелой щеке молодого кандидата». 2 Аркадий приехал с приятелем, тоже окончившим Петербургский университет. Евгений Васильевич Базаров — молодой человек высокого роста. «Темно-белокурые» волосы, сдержанная независимая манера. Лицо его, длинное и худое с широким лбом, большими зелеными глазами и висячими бакенбардами выражало самоуверенность и ум. Едва он вылез из тарантаса, как мягкий, деликатный Николай Петрович засуетился, крепко стиснул его руку, выразил радость и благодарность по поводу его прибытия. Поехали в Марьино, имение Кирсановых; отец с сыном — в двухместной коляске; в тарантас для Базарова запрягли тройку лошадей. Была одна тема, крайне для деликатного Николая Петровича болезненная: — Я считаю своим долгом предварить тебя, хотя... Он запнулся на мгновенье и продолжал уже по-французски: — Строгий моралист найдет мою откровенность неуместной, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня. В мои лета... Словом, эта... эта девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал... — Фенечка? — развязно спросил Аркадий. Николай Петрович покраснел. — Не называй ее, пожалуйста, громко... Ну да... она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме... там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить. — Помилуй, папаша, зачем? — Твой приятель у нас гостить будет... неловко... — Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого. Тургеневские пейзажи! «Поля, все поля тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги... Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами...» И «мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках...». Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые, Как слезы первые любви, — писал впоследствии Александр Блок. И у Тургенева здесь ощущаются эти «слезы любви». Тихая печаль, вдохновенная музыка поэтичнейшей прозы. «...Как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями...» «Среди весеннего красного дня вставал белый призрак безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами...» 3 Когда все они сидели, наконец, в гостиной, вошел Павел Петрович Кирсанов. На нем был темный английский «сьют», модный галстук и лаковые полусапожки. Весь облик его, «изящный и породистый», сохранил молодую стройность и «стремление вверх, прочь от земли...». — А чудаковат у тебя дядя, — говорил потом Аркадию Базаров и, услышав, что этот дядя «львом был в свое время», «красавцем», «голову кружил женщинам» и т. п., заметил небрежно: «Архаическое явление». На другой день, узнав от Аркадия, что Базаров сын мелкого лекаря, вдобавок «нигилист», человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, не принимает на веру ни одного принципа, каким бы уважением ни был окружен этот принцип, гордый Павел Петрович был весьма удивлен: «Мы, люди старого века, мы полагаем, что без принсипов... шагу ступить, дохнуть нельзя». А после короткого разговора с Базаровым он почувствовал уже явное раздражение: «Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое». Эти «принсипы», как произносит на французский лад Павел Петрович, видимо, не так уж плохи (при всем его чванливом сознании превосходства — своего и своей социальной группы.) Ведь человек он хотя, быть может, и несколько ограниченный, но безукоризненно честный и бесхитростно самоотверженный. Аркадий потом рассказал Базарову о своем дяде. В прошлом Павел Петрович воспитывался в аристократическом пажеском корпусе, был красив, самоуверен, смел. «Женщины от него с ума сходили, мужчины «втайне завидовали». «На 28-м году от роду он уже был капитаном; блестящая карьера ожидала его». И вдруг на балу он встретил княгиню Р. «У ней был благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж и не было детей». Она вела странную жизнь, танцевала на балах, путешествовала и словно «бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение», а по ночам плакала и молилась, «не находя нигде покою». Вдобавок, загадочный взгляд, «беспечный до удали и задумчивый до уныния». Поведение этой дамы было странным, несуразным. Павел Петрович влюбился, «одержал победу», но какую-то непрочную, а вскоре взбалмошная княгиня Р. к нему охладела. «Он терзался и ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу». Он вышел в отставку, пожертвовал карьерой и тоже отправился за границу. «В Бадене он как-то опять сошелся с нею по-прежнему; казалось, никогда еще она так страстно его не любила... но через месяц все уже было кончено: огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда». Она стала упорно избегать Кирсанова, он вернулся в Россию, но уже «не мог попасть в прежнюю колею», скучал, бездельничал, прожил 10 лет бесплодно, бесцветно... И однажды, за обедом в клубе, он узнал о смерти княгини Р. А в дальнейшем одинокий холостяк поселился у овдовевшего брата в их общем имении Марьино, жил замкнуто, читал «все больше поанглийски», выезжал только на выборы. Его считали гордецом и уважали за аристократические манеры; за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы; за то, что он всюду возил с собою «настоящий серебряный несессер и походную ванну...». И еще его уважали за безукоризненную честность. Он даже, по словам Аркадия, «всегда вступается за крестьян; правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон». Сколько таких Павлов Петровичей (с гордым «комплексом превосходства» или без оного) оказались потом, в следующем веке, в подвалах ЧК или НКВД — в грязи, унижении, бесправии. В Библии сказано, что Бог наказывает «беззаконие отцов в детях до 3-го и 4-го рода». Социальное неравенство к страшным последствиям когда-нибудь приводит, потому что сеет взаимную ненависть между «баловнями судьбы», с одной стороны, и «униженными и оскорбленными», с другой. (Люди так еще несовершенны, что для ненависти и вражды всегда находится достаточно оснований.) Когда все люди это поймут, они научатся устранять причины страшных и вроде бы «неожиданных» последствий. Как ни раздражал Павла Петровича Базаров — «лекарский сын», «плебей», еще больше, кажется, Павел Петрович не жаловал немцев — всех, независимо от их социального статуса. «О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы, — говорил он Базарову, полагавшему, что «тамошние ученые дельный народ». — Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежде туда-сюда; тогда у них были — ну там Шиллер, что ли, Гетте...» «Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта», — перебил Базаров к ужасу Павла Петровича. 4 Находясь в Марьине, Аркадий сибаритствовал, Базаров рано вставал, с помощью дворовых мальчишек добывал в пруде лягушек для опытов, собирал травы, насекомых. «Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам». Как-то раз он сказал Аркадию по поводу его отца: «Третьего дня я смотрю, он Пушкина читает. Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему чтонибудь дельное почитать». Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки, — заявил он позднее. — И природа пустяки? — проговорил Аркадий задумчиво... — И природа пустяки в том значении, в котором ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская и человек в ней работник. В будущем их пути разошлись: Аркадий был все же консервативней, хотя отдавал должное уму и смелости Базарова. Николай Петрович побаивался молодого «нигилиста», но охотно его слушал. «Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, умником, плебеем; он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его — его, Павла Кирсанова!» Схватка произошла за вечерним чаем. — Я не понимаю, как можно не признавать принципов, правил! — возмущался Павел Петрович. — В силу чего же вы действуете? — Мы действует в силу того, что мы признаем полезным, — заявил Базаров. — В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем. — Все? — Все. — Как? Не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить... — Все, — с невыразимым спокойствием повторил Базаров. А что же при этом Аркадий? А он «даже покраснел от удовольствия». Спор продолжался, и, наконец, Павел Петрович стал упрекать Базарова: — Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу, — на что Базаров отвечал с «надменною гордостию»: — Мой дед землю пахал. — Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас — в вас или во мне — он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете. — А вы говорите с ним и презираете его в то же время. В чем суть противостояния этих «отцов» и «детей»? — ...за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над нами... — размышлял потом Николай Петрович. — Молодость? Нет: не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас? 5 Потом Аркадий с Базаровым отправились в губернский город. Как раз туда приехал родственник братьев Кирсановых, важный чиновник из Петербурга — ревизовать губернию. Он всем старался показать, что не принадлежит к числу отсталых бюрократов, но он был просто ловкий придворный и большой хитрец. «В делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела: тут уж никто не мог его оседлать, а ведь это главное». Как известно, такие деятели были во все времена, и теперь, в начале XX века отнюдь не перевелись. Этот родственник по социальному положению гораздо выше Кирсановых, но по нравственным качествам... Ни гордый Павел Петрович, ни добрый, деликатный Николай Петрович не стали бы так ловчить. Аркадий его навестил. Потом они с Базаровым побывали у губернатора. «Нечего делать, — согласился наконец Базаров, которого пришлось долго уговаривать. — Приехали смотреть помещиков — давай их смотреть!» Нам тоже дают возможность «смотреть». Тут интересные типы середины XIX века... Например, г-н Ситников, сын богатого откупщика в «славянофильской венгерке» и «чересчур элегантных перчатках». Он давно знаком с Базаровым и даже обязан ему своим «перерождением». «Поверите ли, — продолжал он, — что когда при мне Евгений Васильич в первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг... словно прозрел!» Он рвется познакомить своего идейного учителя с одной здешней дамой, которая «совершенно в состоянии» его понять. Дама эта, Евдоксия Кукшина, «передовая женщина», разъехалась с мужем, ни от кого не зависит. — Хорошенькая она? — перебил Базаров. — Нет... нет, этого нельзя сказать. — Так для какого же дьявола вы нас к ней зовете? — Ну, шутник, шутник... Она нам бутылку шампанского поставит. В комнате Кукшиной «валялись по запыленным столам» бумаги, письма, «толстые нумера русских журналов, большею частью неразрезанные, везде белели разбросанные окурки папирос». Кукшина, дама не слишком привлекательная внешне, разговаривала на темы все больше «интеллектуальные», умничала. «Вы, говорят, опять стали хвалить Жорж Санд... упрекала она Ситникова. — Как возможно сравнить ее с Эмерсоном!» И далее все в том же духе. О, вот они, предшественники будущих подражателей, «образованцев», интеллектуальных попугаев. Им так приятно блеснуть эрудицией в кругу «избранных». Базарова и даже сравнительно простодушного Аркадия они не проведут, но сами собой любуются и многих морочат. — Всю систему воспитания надобно переменить, — разглагольствовала Кукшина. — Я об этом уже думала; наши женщины очень дурно воспитаны. — Ничего вы с ними не сделаете, — подхватил Ситников. — Их следует презирать, и я их презираю. При этом, провозглашая себя «либералом», он не подозревал, что «ему предстояло несколько месяцев спустя пресмыкаться перед своей женой потому только, что она была урожденная княжна Дурдомосова. Побывали друзья и на балу у губернатора. Там Ситников познакомил Аркадия с Одинцовой, о которой упоминала Кукшина, жалуясь, что местные дамы «такие пустые»: «Никакой свободы воззрения, никакой ширины...» «Аркадий... увидел женщину высокого роста в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица». Портрет, достойный Третьяковской галереи! 6 «Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа», — говорил на следующий день Аркадию Базаров, поднимаясь вместе с ним по лестнице гостиницы, в которой остановилась Одинцова. (Познакомившись с Аркадием на балу, она пригласила его в гости вместе с Базаровым.) Пока длится беседа, нам сообщают торопливо биографию Одинцовой. Мать — из обедневшего княжеского рода, рано умершая. Отец — известный красавец, аферист, игрок, «прошумев лет 15 в Петербурге и в Москве», разорился, был вынужден поселиться в деревне и вскоре умер. Получила в Петербурге «блестящее воспитание», но совсем не была подготовлена к «глухому деревенскому житью», к заботам по хозяйству и по дому. Ей предстояло «увянуть в глуши», но случайно 20-летнюю сироту увидел некто Одинцов, богач лет под 50. Чудак, «пухлый, тяжелый и кислый», влюбился и «предложил ей руку». Согласилась она, видимо, от безвыходности, а он умер лет через 6 и, умирая, оставил ей все свое состояние. Увы, не о нормальном и счастливом устройстве общества все это свидетельствует. Лишь случайное стечение обстоятельств помогло встать на ноги. Она теперь жила в роскошном имении, в город являлась редко, в основном по делам. Про нее рассказывали всякие небылицы, но она не обращала внимания: характер у нее был свободный и довольно решительный. — Если вы, господа, не боитесь скуки, приезжайте ко мне в Никольское», — пригласила Одинцова. И друзья, определенно ею очарованные, не заставили себя долго ждать. 7 И вот они в роскошной усадьбе Анны Сергеевны. Лакеи в ливреях встретили их в передней, дворецкий в черном фраке проводил их по устланной коврами лестнице в приготовленную для них комнату. — Анна Сергеевна просят вас пожаловать к ним через полчаса, — доложил дворецкий. — Не будет ли от вас покамест никаких приказаний? Через полчаса они пришли в гостиную, вслед за ними явилась Одинцова, потом и ее сестра Катя. Тут, что ни персонаж, то зримая картина. «Девушка лет 18-ти, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами. Она держала в руках корзину, наполненную цветами». Если в обществе Кукшиной Базаров скучал и помалкивал, то Анна Сергеевна сумела его «разговорить». Она не умничала, не стремилась блеснуть, и даже в споре ей хотелось понять мнение собеседника. И ее не раздражала самоуверенность Базарова. Она способна была оценить его достоинства и даже отнестись терпеливо к его резким выходкам. Речь, между прочим, зашла об умении узнавать и изучать людей. По мнению Базарова «художественный смысл» ни к чему, поскольку, во-первых, «существует жизненный опыт», а во-вторых, все люди друг на друга похожи; «у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат... Люди что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой...» — Деревья в лесу, — повторила она. — Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым? — Нет, есть: как между больным и здоровым. Легкие у чахоточного не в том положении, как у нас с вами, хоть устроены одинаково. Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги; а нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет». Может быть, при всей категоричности, Базаров не так уж неправ. Если «сызмала набивать людские головы» тем, что требуется, то... Мы до сих пор как следует не изучили, как организовать общество, чтобы люди меньше страдали и меньше зависели от недостатков друг друга. Какие-то плюсы были при Советской власти, какие-то сейчас (хотя бы возможность не стоять в магазине в очередях, а главное — возможность свободно выражать свои мысли). Но как организовать современное общество с учетом всего уже накопленного опыта — не додумались пока. Споры, борьба, взаимные обвинения... — И вы полагаете, — промолвила Анна Сергеевна, — что когда общество исправится, уже не будет ни глупых, ни злых людей? — По крайней мере при правильном устройстве общества совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр. — Да, понимаю; у всех будет одна и та же селезенка. — Именно так-с, сударыня. Незаметно, привольно проходили дни. Чаепития, прогулки, беседы... В далеком будущем появятся новые приемы изображения: «На плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от разбитого колеса — и лунная ночь готова», — напишет Чехов. «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды», — поведает (еще нескоро) Маяковский. А тут... Расцвеченная массой ощущений, ассоциаций, изящная, окрыленная высоким смыслом свободно льется музыка художественной речи. «Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовонной, уединенной комнаты; сквозь изредка колыхавшуюся штору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание». 8 Одна современная девушка сказала недавно: «Теперь любовь начинается с постели». Между благовоспитанными героями Тургенева долгие разговоры, все более доверительные. День за днем, день за днем. И наконец... «Ее глаза встретились с глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснела. — Позади меня уже так много воспоминаний: жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка, как следует... Воспоминаний много — длинная, длинная дорога, а цели нет... Мне и не хочется идти. — Вы так разочарованы? — спросил Базаров. — Нет, — промолвила с расстановкой Одинцова, — но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чемунибудь... — Вам хочется полюбить, — перебил Базаров, — а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастие. Одинцова принялась рассматривать рукава своей мантильи. — Разве я не могу полюбить? — промолвила она. — Едва ли! Только я напрасно назвал это несчастием. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается. — Случается что? — Полюбить. — А вы почем это знаете? — Понаслышке, — сердито отвечал Базаров». Но все эти встречи, уединенные беседы сделали свое дело. Вот еще один разговор, вернее, заключительный его кусочек. — Я уверена, что ваша эта, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет наконец. — А вы заметили во мне сдержанность... как вы еще выразились... напряженность? — Да. Базаров встал и подошел к окну. — И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы знать, что во мне происходит? — Да, — повторила Одинцова с каким-то, ей еще непонятным, испугом. — И вы не рассердитесь? — Нет. — Нет? — Базаров стоял к ней спиною. — Так знайте же что я люблю вас, глупо, безумно... Вот чего вы добились. Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его, видимо, трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая — страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей... Одинцовой стало и страшно и жалко его. — Евгений Васильевич, — проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе. Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор — и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь. Она не тотчас освободилась из его объятий; но мгновение спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней... — Вы меня не поняли, — произнесла она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула... Базаров закусил губы и вышел». Почему героиня «не может полюбить»? Не то что не может. Но богатство, независимость, комфорт, хорошо организованная, спокойная и размеренная жизнь... Не хотелось нарушить этот покой и порядок. Слишком трудные были у нее в прошлом обстоятельства: несмотря на полученное воспитание, аристократизм, — беспросветная, унизительная бедность, прозябание в глуши, никаких перспектив. Надо еще учесть, что «покойного Одинцова она едва выносила» и, благодаря ему, «получила тайное отвращение ко всем мужчинам». — Нет, — решила она наконец, — Бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете. Базаров после этого отправился навестить старичков родителей. Аркадий, все время проводивший с Катей, присоединился к нему. 9 И вот небольшая деревушка, где в домике под соломенной крышей живут родители Базарова. Отец, Василий Иваныч, отставной лекарь (в прошлом служивший в армии), держался с какой-то старомодной игривостью и при этом кстати и некстати употреблял иностранные слова. Обожая сына, он старался как-то сдерживать проявления любви, а уж мать... Как она кинулась к сыну, «кругленькая, низенькая старушка в белом чепце и короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и наверно бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвились вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и все замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипывания». Мать Базарова Арина Власьевна «была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны... Ей бы следовало жить лет за двести, в старомосковские времена». Но как ни боготворили сына старики родители, ему было с ними скучно, хотя он, конечно, их по-своему любил. «Он враг всех излияний», — говорил потом Аркадию отец Базарова. Кстати, еще одна деталь, упомянутая мимоходом, но характерная: другой бы «тянул да тянул со своих родителей», а этот лишней копейки у них не взял. — Он бескорыстный, честный человек, — заметил Аркадий. Увы, очень скоро молодые люди уехали, Базаров отправился опять к Аркадию — лишь бы куда-нибудь удрать. «Лошади тронулись, и колокольчик зазвенел...» И вот уже пыль улеглась, и «глядеть вслед было незачем...» Тогда старик, в присутствии гостей храбрившийся, молодцевато махавший платком на крыльце, уронил голову на грудь и совсем поник: «Бросил, бросил нас... скучно ему стало с нами». Но Арина Власьевна, тихо плакавшая, сумела утешить в печали; сын «что сокол: захотел — прилетел, захотел — улетел... Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня». Друзья все же заехали было к Одинцовой, пришла вдруг такая фантазия. Но их там не ждали, и, почувствовав это, они поспешили объявить, что едут в Марьино. Одинцова приветствовала их с обычной для нее любезностью, пригласила приезжать еще... Друзья сели в экипаж и на следующий день вечером прибыли в Марьино. 10 А между тем дела в Марьине шли плохо. (Книга написана в 1861 — в год отмены крепостного права.) Николай Петрович размежевался со своими крестьянами, но возня с наемными работниками... «Одни требовали расчета или прибавки, другие уходили, забравши задаток...» Управляющий обленился. «Посаженные на оброк мужики не платили денег в срок, крали лес... Не хватало рук для жатвы: соседний однодворец, с самым благообразным лицом, порядился доставить жнецов по 2 рубля с десятины и надул самым бессовестным образом; свои бабы заламывали цены неслыханные, а хлеб между тем осыпался...» — Сил моих нет! — не раз с отчаянием восклицал Николай Петрович», — понимая (при всей своей кротости, высоких принципах и т. п.), что «без страха наказания ничего не поделаешь!» — Спокойно, спокойно, — повторял пофранцузски Павел Петрович. Павел Петрович не умел помочь, только призывал к спокойствию. И Аркадий, конечно, понимал, что «преобразования необходимы», но понятия не имел, «как их исполнить, как приступить?» Не знал этого и Базаров. «Все только болтать о наших язвах не стоит труда», — заявил он как-то во всеуслышание. «Здесь барство дикое без чувства, без закона везде присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца», — писал в свое время Пушкин. И вот новый этап истории русской деревни. Нелегкий по-своему. Нет, крепостное право не слишком воспитало крестьян в духе «любви к ближнему». Тургенев, помещик, дворянин, достаточно знал эту жизнь, его свидетельство заслуживает доверия. Непривычными для всех оказались новые отношения. В переходный период особенно трудно. «К довершению всего, мужики начали между собою ссориться: братья требовали раздела, жены их не могли ужиться в одном доме; внезапно закипала драка, и все вокруг поднималось на ноги как по команде, все сбегалось перед крылечком конторы, лезло к барину, часто с избитыми рожами, в пьяном виде...» Рабство глубоко въелось в человеческую натуру и формальная отмена его не могла сразу привести к глубоким изменениям. Предстоял долгий путь страданий и обид; и медленного, почти незаметного совершенствования. Базаров работал упорно и угрюмо. Микроскоп, лягушки, инфузории. Молодой естествоиспытатель, ученый. Хотелось делать дело, а не болтать впустую. Может быть, неудача с Одинцовой толкнула его к доброй, доверчивой, глуповатой и прекрасной Фенечке. Да и одиночество сыграло свою роль. Фенечке нравился Базаров; но и она ему нравилась. Застенчивая, наивная, она при нем себя чувствовала свободнее, чем обычно. Вдобавок, «Фенечка хорошела с каждым днем. Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние розы; такая эпоха наступила и для Фенечки. Все к тому способствовало, даже июльский зной, который стоял тогда. Одетая в легкое белое платье, она сама казалась белее и легче...» Опять портрет для картинной галереи. Однажды, рано утром возвращаясь с прогулки, Базаров случайно застал в густой и зеленой беседке Фенечку. Рядом лежала охапка еще мокрых от росы красных и белых роз. Поздоровавшись, он присел рядом, затеял шутливый, многозначительный разговор и както нечаянно, не удержав невольного порыва, «нагнулся и крепко поцеловал ее в раскрытые губы». Очень точно переданы каждый жест, каждое слово. Растерянная, беззащитная, наивная Фенечка и крепкий добрый молодец, не признающий авторитетов. «Она дрогнула, уперлась обеими руками в его грудь, но уперлась слабо, и он мог возобновить и продлить свой поцелуй». И, о ужас! Час от часу не легче! Появился вдруг Павел Петрович, сказал «с какою-то злобною унылостью: «Вы здесь!», и тут же ушел. Увидев его, растерянная Фенечка «мгновенно отодвинулась на другой конец скамейки», затем тут же ушла. «Грешно вам, Евгений Васильич», — прошептала она уходя. Через пару часов Павел Петрович явился в комнату к Базарову, извинился, что отрывает его от «ученых занятий...» Окажись на месте Павла Петровича другой человек, не джентльмен и благородный рыцарь, возможно, все кончилось бы руганью, мордобитием. Но тут... Дуэль! (Он ничего не сказал брату, ни слова, но, видимо, хотел защитить его честь в лучших традициях дворянского сословия.) На ходу обсудили условия поединка. «Фу-ты, черт! Как красиво и как глупо!.. — воскликнул Базаров после ухода Павла Петровича. — А отказать было невозможно; ведь он меня, чего доброго, ударил бы, и тогда... (Базаров побледнел при одной этой мысли; вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы задушить его, как котенка». 11 В 4 часа утра Базаров отправился в рощу, вместо секунданта прихватив с собой слугу. Какая была красота вокруг! Жить бы да жить! Но вот уже появился Павел Петрович с ящиком, в котором лежали пистолеты. Зарядили пистолеты, отмерили шаги. — Вы готовы? — спросил Павел Петрович. — Совершенно. — Можем сходиться. Пуля резко «зыркнула» возле самого уха Базарова, и в то же мгновенье раздался выстрел. «Слышал, стало быть, ничего», — успело мелькнуть в его голове». Потом и он выстрелил. Павел Петрович был ранен в ногу и, тем не менее, сказал: «По условию каждый имеет еще по одному выстрелу». — Ну извините, это до другого раза, — отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бледнеть. — Теперь я уже не дуэлист, а доктор и прежде всего должен осмотреть вашу рану. В общем, оба вели себя мужественно, благородно. К ночи у раненого «сделался жар» и разболелась голова. Николаю Петровичу он уже объяснил, что сам вызвал Базарова на дуэль, что они поссорились «из-за политики». Потом начался легкий бред и, произнося в бреду несвязные слова, он, между прочим, упомянул в присутствии брата, что в Фенечке есть чтото общее с княгиней Р., «особенно в верхней части лица». «Я не потерплю, чтобы какойнибудь наглец посмел коснуться...» Николай Петрович не подозревал, к кому относились эти слова. Фенечка была сирота, дочь умершей от холеры экономки Николая Петровича. «Прелестно было выражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья да посмеивалась ласково и немножко глупо». «Она была так молода, так одинока, Николай Петрович был сам такой добрый и скромный... Остальное досказывать нечего...» У них уже был 6-месячный ребенок, Митя. Павел Петрович вскоре убедился в невиновности Фенечки. — Вы не виноваты? Нет? Нисколько? — выяснял он, когда Фенечка принесла ему чай. Речь, внешность, характеры — все так живо, зримо, реально! — Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить буду! — проговорила с внезапною силой Фенечка, между тем как рыданья так и поднимали ее горло, — а что вы видели, так я на страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было, и уж лучше мне умереть сейчас, коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем, Николаем Петровичем... Павел Петрович «ухватил и стиснул ее руку», побледнел; «тяжелая, одинокая слеза катилась по его щеке», и он прошептал — отнюдь не объяснение в любви, о нет!, а торжественную просьбу любить и никогда не покидать его брата. «Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым». Он прижал ее руку к губам, «судорожно вздыхая». Фенечка испугалась, не припадок ли с ним. «А в это мгновение целая погибшая жизнь в нем трепетала». Все эти усадьбы, тарантасы, рощи, старомодная романтика... Эти люди, давнымдавно исчезнувшие, их устаревшие проблемы... Но странное дело, допотопные персонажи остаются где-то в душе читателя. Он верит в их реальность. Он их даже любит немножко. Когда пришел брат, а Фенечка ушла, Павел Петрович с искренним волнением и самоотверженностью стал просить его жениться на Фенечке. Ведь Николай Петрович именно из уважения к нему и к его «аристократизму» не решился до сих пор на столь неравный брак. — Дорогой мой Павел! Но что скажет Аркадий? — Аркадий? Он восторжествует, помилуй! Брак не в его принсипах, зато чувство равенства будет в нем польщено. Когда вскоре Базаров уезжал из кирсановской усадьбы и на повороте дороги она в последний раз предстала пред ним, он только сплюнул и пробормотал: «Барчуки проклятые!» Он не терпел малейшего унижения. «Я внук дьячка», «мой дед землю пахал», — говорил он о себе с некоторым вызовом. Его отец, Василий Иванович, даже иногда кокетничал: «Я ведь плебей, не из столбовых, не то что моя благоверная...» Может быть, неосознанный «комплекс неполноценности» здесь все же присутствовал. Но образование (подлинное, а не формальное) постепенно воспитывает и равняет людей. Внук дьячка или князя, всем предстояло в будущем сродниться, перемешаться, хотя на пути к этому — столетия борьбы, ненависти, амбиций, страданий. 12 Базаров приехал к родителям, совершенно их этим осчастливив, и вначале усердно работал. Потом «лихорадка работы с него соскочила, заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством». Человек любознательный, умный, он отправлялся в деревню и вступал в беседу с каким-нибудь мужиком, вероятно желая его понять. Но мужик «с патриархальной певучестью» бормотал что-нибудь невразумительное, вроде: «Потому, значит... какой положон у нас, примерно, придел...» или «Вы наше отцы...», а потом говорил приятелю: «Известно, барин; разве он что понимает?» Самоуверенный, подтрунивавший над всеми Базаров не подозревал, что в глазах мужиков он при этом был «чем-то вроде шута горохового...». Потом он нашел себе занятие, стал помогать отцу в его немудреной лечебной практике. Можно себе представить состояние тогдашней медицины. Да и уровень развития пациентов! Какая-нибудь баба приходила жаловаться, что ее «на колотики подняло». Поди разберись. Где больницы, оснащенные новейшей первоклассной техникой? Где спасительные лекарства? Впрочем, и сейчас, через полторы сотни лет, когда есть такие больницы и лекарства, достижениями современной медицины еще трудно, подчас невозможно воспользоваться. А уж тогда... Базаров как-то раз вырвал зуб у заезжего торговца. Василий Иванович был в восторге, сохранил зуб (самый обыкновенный) и, показывая его потом, повторял: «Вы посмотрите, что за корни! Этакая сила у Евгения! Краснорядец так на воздух и поднялся...» Не удивительно, что краснорядец подпрыгнул, если учесть, что анестезии тогда, кажется, не было. (И вообще требуется в данном случае хирург-стоматолог.) Но Василий Иванович боготворил сына и восхищался всем, что тот делал. Однажды мужик из соседней деревни привез брата, больного тифом. Брат лежал без сознания «ничком на связке соломы», весь покрытый темными пятнами. Спасти его не смогли; он умер в телеге на обратном пути. Дня три спустя Базаров спросил, нет ли у отца «адского камня» — прижечь ранку. — Кому? — Себе. Оказалось, он ездил в деревню, откуда привозили тифозного мужика. «Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся. — Ну? — Ну, вот я и попросил уездного врача; ну и порезался». Талант, любознательность или небрежная самоуверенность виноваты? Но, конечно, в первую очередь — несовершенство массовой медицины. — Ты бы посмотрел на его ланцеты! — рассказывал Базаров о слабой технической оснащенности уездного врача. (Когда-нибудь будущие поколения ужаснутся по поводу нашей нынешней медицины и пожалеют нас.) «Василий Иванович вдруг побледнел весь...» Прижигая эту ранку на пальце, он спросил: — Не лучше ли нам прижечь железом? — Это бы раньше надо сделать; а теперь, понастоящему, и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно. — Как... поздно... — едва мог произнести Василий Иванович. — Еще бы! С тех пор 4 часа прошло с лишком. Страшно, мучительно, страница за страницей — о постепенном появлении симптомов опасной болезни, о переживаниях родителей. (Арине Власьевне сказали вначале, что сын простудился.) И вот Базаров уже не может встать с постели: «голова у него закружилась, кровь пошла носом; он лег опять». «Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна», — посоветовал он в конце концов отцу. И еще попросил уведомить Одинцову: «Евгений, мол, Базаров кланяться велел и велел сказать, что умирает». И опять страница за страницей... Долго, подробно и так удивительно точно, реально и сдержанно. Мучительное умирание на глазах у бесконечно любивших его родителей. «Все в доме вдруг словно потемнело...» И в сердце читателя словно вонзили нож и медленно его там поворачивают. «Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши...» «Ливрейный лакей отворял дверцы кареты; дама под черным вуалем, в черной мантилье выходила из нее. — Я Одинцова, — промолвила она. — Евгений Васильевич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора». На миг родителям показалось, что это ангел с неба, спасение. Так хотелось надеяться... И читатель готов с ними вместе поверить. Увы, немец-доктор шепнул затем Анне Сергеевне, что больной безнадежен. И последний короткий разговор наедине. Вот из него лишь отдельные фразы. — Ну, спасибо, — повторил Базаров. — Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих. — Евгений Васильевич, я надеюсь... — Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Он, как всегда, держался мужественно, немного, как всегда, иронизируя. — Ну, что ж мне вам сказать... я любил вас! Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. И насчет своих былых жизненных планов он теперь отозвался с иронией. «И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! Задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично...» Не только любовь, но вся его жизнь оказалась «неспетой песней». Прощаясь, Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу и тихо вышла. — Что, — спросил ее шепотом Василий Иванович. — Он заснул... Базарову не суждено уже было просыпаться, а на следующий день он умер. Через полгода состоялись две свадьбы: Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой. Был в имении Кирсановых любопытный персонаж — Петр, важничающий лакей Николая Петровича, человек «новейший, усовершенствованный», «молодой и щекастый малый» с «напомаженными волосами» и «учтивыми телодвижениями». Он женился тоже, «взял порядочное приданое за своею невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам только потому, что у них часов не было: а у Петра не только были часы — у него были лаковые полусапожки». Здесь веет чем-то знакомым, чем-то сродни будущему мещанскому «вещизму». «Глазенки карие и желтые ботиночки зажгли в душе моей негаснущий костер», — сообщалось потом в песенке времен нэпа от имени какой-то влюбленной девицы... В конце романа — короткое сообщение о дальнейшей судьбе каждого из героев. Отец и сын Кирсановы живут в Марьине, Аркадий стал «рьяным хозяином», и дела их начинают поправляться. Павел Петрович пребывает в Дрездене, где общается главным образом с англичанами и проезжими русскими; его там считают «совершенным джентльменом». Анна Сергеевна вышла замуж «не по любви, но по убеждению» за одного из будущих русских деятелей, человека умного, волевого и даже доброго. Они живут дружно «и доживутся, пожалуй, до счастья... пожалуй, до любви». И последняя, пронзительная сценка — небольшое сельское кладбище, могила Базарова. Туда «часто приходят два уже дряхлых старичка — муж с женою», становятся на колени возле могилы, «и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын». И приходит вдруг то самое «очищение души», которым заканчиваются лучшие трагедии в литературе. Да и жизнь человеческая с ее неизбежным концом всегда, в сущности, трагедия. (А быть может, есть в неведомых формах ее продолжение в иных мирах?) Наконец, заключение книги — печальное, светлое. Цветы на одинокой могиле говорят не только о великом спокойствии «равнодушной» природы, но «о вечном примирении и о жизни бесконечной...». Эта музыка прозрачного окрыленного русского языка! И реальные, подлинные души людей, их облик, вся обстановка жизни. И не сумбур разрозненных впечатлений, но какое-то светлое, высокое осмысление. И ни малейшей категоричности, ни тени самоуверенной, настойчиво поучающей манеры знатока, владеющего «истиной в последней инстанции...». 1861 В последние годы жизни Тургенев был знаменит, болен и одинок. Его охотно печатали, но к его новым произведениям критики относились неодобрительно, даже порой насмешливо. О взглядах, высказанных в романе «Дым», А. А. Фет писал с негодованием Л. Н. Толстому: «В России-де все гадко и глупо, и все надо гнуть насильно и на иностранный манер». А вот мнение Л. Н. Толстого: «В «Дыме» нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому и игривому, и потому поэзия этой повести противна». Интересно, читая роман, определить собственное отношение к тому, что так не понравилось Толстому и Фету. Правы ли они? А вот что сам Тургенев писал Фету: «Что «Дым» Вам не понравился, это очень не удивительно. Вот бы я удивился, если б он Вам понравился. Впрочем, он никому не нравится. И представьте себе, что это мне совершенно все равно. Представьте, что я уверен, что это — единственно дельная и полезная вещь, которую я написал!» Кто тут прав и кто ошибается? Иногда и великие ошибаются. — Вспомним, что говорил гениальный Лев Толстой Чехову: «Я терпеть не могу Шекспира. Но ваши пьесы еще хуже». Человек имеет право на собственное мнение. Прекрасно сказала Марина Цветаева о рабском преклонении перед авторитетами: «Пушкинскую руку жму, а не лижу». Итак, раскрываем роман. 1 «10-е августа 1862 года, 4 часа пополудни». Курорт Баден-Баден, праздничный, солнечный. Играет оркестр в павильоне. Довольство и ликование на лицах «избранной» публики. А вот представители русской знати: «подходили они пышно, небрежно, модно, приветствовали друг друга величественно, изящно, развязно, как оно и следует существам, находящимся на самой высшей вершине современного образования...» Увы, «сойдясь и усевшись», эти столпы «не знали, что сказать друг другу» и пробавлялись «дрянненьким переливанием из пустого в порожнее». А между тем, здесь у «русского дерева», были сливки общества. Граф Х., «музыкальная натура» (в сущности, претенциозная бездарь); «и наш восхитительный барон Z., этот мастер на все руки: и литератор, и администратор, и оратор, и шулер»; «и князь У., друг религии и народа, составивший себе во время оно, в блаженную эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи, подмешанной дурманом; и блестящий генерал О.О., который что-то покорил, кого-то усмирил и вот, однако, не знает, куда деться и чем себя зарекомендовать; и Р.Р., забавный толстяк, который считает себя очень больным и очень умным человеком, а здоров как бык и глуп как пень...» Этот Р.Р. «еще сохранил предания львов сороковых годов, эпохи «Героя нашего времени...». Что же он конкретно сохранил? Походку, «неестественную медлительность движений», «сонную величественность выражения на неподвижном, словно обиженном лице», привычку, зевая, перебивать чужую речь» и т. п. «Тут были даже государственные люди, дипломаты, тузы с европейскими именами...» Вроде бы, «мужи совета и разума», но на деле оказывается — невежды. Тут и светские молодые львы «с превосходнейшими проборами на затылках, с прекраснейшими висячими бакенбардами...». Ну а дамы! Графиня Ш., известная законодательница мод, прозванная «Медузою в чепце», княгиня Бабетт, «та самая, у которой на руках умер Шопен (в Европе считают около тысячи дам, на руках которых он испустил дух)»; княгиня Аннетт, «которая всем бы взяла, если бы по временам... не проскакивала в ней простая деревенская прачка...» «и княгиня Пашетт, с которою случилось такое несчастие: муж ее попал на видное место и вдруг... прибил градского главу и украл 20 тысяч рублей серебром казенных денег; слезливая княжна Зозо...». Что поделаешь. Нечто похожее изображали и другие, заслуживающие доверия классики, — Грибоедов, к примеру, в «Горе от ума»; да многие, многие... А вот, кажется, положительный герой. За столиком перед кофейной Вебера сидел «красивый мужчина лет под 30, среднего роста, сухощавый и смуглый с мужественным и приятным лицом». Он сидел «спокойно и просто». Он производил впечатление «честного и дельного малого». Наконец-то! Познакомимся: Григорий Михайлович Литвинов. 2 Как обычно у Тургенева, далее следует краткая биография героя, изложенная незатейливо и обстоятельно. «Сын отставного служаки-чиновника из купеческого рода», воспитывался в деревне. Мать была «дворянка, из институток, очень доброе и очень восторженное существо, не без характера, однако». Она даже «перевоспитала» мужа: он «стал держаться прилично и браниться бросил; стал уважать ученых и ученость, хотя, конечно, ни одной книги в руки не брал». Говорил он теперь «все больше о предметах возвышенных». Если, к примеру, в голову приходила мысль: «Эх! взял бы да выпорол!», он вслух лишь произносил: «Да, да, это... конечно; это вопрос». Госпожа Литвинова дом свой поставила на европейскую ногу; слугам говорила «вы» и т. д. Она скончалась от чахотки в год поступления сына в Московский университет. Сын университета не закончил, потолкался некоторое время в провинции «без денег, без связей, почти без знакомых». Понимая, что обширное имение матери плохо управляется, что в опытных и знающих руках оно превратилось бы в золотое дно, он отправился за границу учиться агрономии и технологии. Теперь он собирается возвращаться на родину. Теперь он уверен в своей будущности, в пользе, которую принесет своим землякам и, пожалуй, даже всему краю. Посмотрим, что у него получится и какие на пути молодого энтузиаста возникнут препятствия. А зачем он в Бадене? Ожидает приезда невесты — Татьяны Петровны Шестовой. Весну и лето он провел в Дрездене, где она поселилась со своей теткой. Собираясь вступить на новое поприще, он предложил ей «соединить свою жизнь с его жизнью — на радость и на горе, на труд и на отдых». Судьба его определилась, он гордится этой судьбой». Но почему он в Бадене? Тут одно любопытное обстоятельство... Тетка невесты, ее воспитавшая, — демократка, идейная противница большого света и аристократии, не могла устоять против соблазна хоть разочек взглянуть на этот большой свет «в таком модном месте, каков Баден...», «Роскошь и блеск тайно волновали ее, и весело и сладко было ей бранить и презирать их...» Вот такое печальное противоречие, — увы, довольно частое в мире страшного неравенства. «Свободная душа, вся горящая огнем самопожертвования», не могла устоять против соблазна; роскошь и блеск тайно волновали ее. Да что там бедная тетушка. Многие впоследствии, куда более значительные, сильные, облеченные ответственностью, не могли устоять против соблазна роскоши, престижа, власти — хотя бы роскоши весьма относительной; или власти хотя бы замаскированной, а то и вовсе мнимой; или против стремления ощущать свою значимость... А Татьяна? В ней что-то есть светлое — милая простота, сдержанное достоинство. Чтото есть в ней, вполне отвечающее христианским заповедям, хотя она, кажется, не слишком религиозна. Через несколько дней Татьяна с теткой должны приехать. 3 Неожиданно к Литвинову, сидящему за столиком перед кафе, подходит его московский знакомый, некий Бамбаев, «человек хороший из числа пустейших». Немолодой, тучный, «вечно без гроша и вечно от чего-нибудь в восторге». Бамбаев между прочим сообщил, что в Баден приехал из Гейдельберга сам Губарев, перед которым благоговеют, который пишет «сочинение...». — О чем это сочинение? — спросил Литвинов. — Обо всем, братец ты мой... Все там будет разрешено и приведено в ясность. К ним потом присоединился еще один молодой человек, Ворошилов, знакомый Бамбаева, любитель поговорить о различных «вопросах». Сначала они втроем пошли обедать и в кафе за столиком «вступили в разговор». Особенно отличился Ворошилов, «красивый молодой человек с свежим и розовым, но уже серьезным лицом». «Имена новых ученых, заглавия только что вышедших брошюр, вообще имена, имена, имена, имена — дружно посыпались с его языка, доставляя ему самому высокое наслаждение, отражавшееся в его запылавших глазах». Имена и заглавия рождали в нем, видимо, ощущение собственной значимости, приобщенности к чему-то «высшему». (Видимо, и восторженность Бамбаева была того же порядка.) Потом они все трое отправились в гостиницу, где остановился Степан Николаевич Губарев... Литвинов увидел «господина наружности почтенной и немного туповатой...». В комнате присутствовала еще одна дама, немолодая, в шелковом поношенном платье и какой-то «плотный человек», все время молчавший. Дама с гневом обличала какого-то сановника, Губарев при этом сказал: «Сверху донизу все гнило...» Потом речь пошла еще о каких-то лицах, дрязгах. Бамбаев активно включился в эти сплетни; Губарев больше помалкивал, раз только заявил «не то наставническим, не то пророческим тоном: — Все будут в свое время потребованы к отчету, со всех взыщется». А вокруг продолжалась болтовня, «бешенство сплетни». Между прочим, Губарев спросил Литвинова о его политических убеждениях. «Литвинов улыбнулся. — Собственно у меня нет никаких политических убеждений. — Что так? — промолвил с странною кротостью Губарев. — Не вдумались еще или уже устали? — Как вам сказать? Мне кажется, нам, русским, еще рано иметь политические убеждения или воображать, что мы их имеем. Заметьте, что я придаю слову «политический» то значение, которое принадлежит ему по праву и что... — Ага! из недозрелых, — с тою же кротостью перебил его Губарев» и отошел от него. Стали появляться новые посетители, под конец вечера набралось довольно много народу. 4 О чем только не говорили эти люди... Дама в поношенном платье (фамилия ее была Суханчикова) отчаянно сплетничала, ругала какого-то Евсеева: «Евсеев подлец!» — а когда этот Евсеев явился, очень дружелюбно с ним разговаривала и «попросила его провести ее домой». Потом она разглагольствовала о Гарибальди, о каком-то Карле Ивановиче, которого высекли его собственные дворовые, о Наполеоне III, о женском труде, о купце Плескачеве, заведомо уморившем двенадцать работниц и получившем медаль с надписью «за полезное», о пролетариате, о грузинском князе Чукчеулидзе, застрелившем жену из пушки, и о будущем России. Пришел и некто Пищалкин, человек хотя и честный, но «ограниченный, мало знающий и бездарный». «Пришло несколько офицерчиков, выскочивших на коротенький срок в Европу и обрадовавшихся случаю, конечно, осторожно и не выпуская из головы задней мысли о полковом командире, побаловаться с умными и немножко даже опасными людьми». Ну и прочие им под стать... Два нелепых студентика из Гейдельберга; французик, «грязненький, бедненький, глупенький...». В него якобы влюблялись русские графини, сам же он больше помышлял о даровом ужине. Явился некий Тит Биндасов, «кулак и выжига, по речам террорист, по призванию квартальный, ...лысый, беззубый, пьяный...». Сатира. Вряд ли совсем уж необоснованная. К беспокойству о «будущности России» часто примешивались (и тогда и потом) личная корысть, бескультурье под маской интеллектуальности, хвастовство, склоки, всевозможные комплексы. Подчас та или иная идея может привлечь самую разную публику, выдвинуть новых кумиров толпы. «А будут люди лучше, — напоминал впоследствии Лев Толстой, — и сама собою устроится та жизнь, какая должна быть между хорошими людьми». Здесь кумиром «вольнодумствующей» публики явно был Губарев. Какие идеи он исповедует? Пока не ясно. К нему обращались со всеми вопросами, сомнениями, «а он отвечал... отрывочными, незначительными словами, которые тотчас же подхватывались на лету, как изречения самой высокой мудрости». У Литвинова от всего этого гвалта разболелась голова, и он ушел потихоньку и незаметно. «Что это, — думал он, идя по темной аллее, — при чем это я присутствовал? Зачем они собрались? Зачем кричали, бранились, из кожи лезли? К чему все это?!» 5 Он зашел в кафе, съел мороженое и уже собирался уходить, как подошел незнакомый человек и, проговорив по-русски: «Я вас не побеспокою?! — присел за его столик. Вглядевшись, Литвинов узнал того плотного господина, который сидел в уголке у Губарева и молчал весь вечер. Это был отставной надворный советник из Санкт-Петербурга Потугин, широкоплечий, «с очень умными и очень печальными глазами», но с виду неловкий, одетый небрежно. У Губарева он молчал, а теперь неожиданно разговорился. — Ну что, — спросил он, — понравилось вам наше Вавилонское столпотворение? — Именно столпотворение... Мне все хотелось спросить у этих господ, из чего они так хлопочут? — В том-то и штука, что они и сами этого не ведают-с», — заметил Потугин. Выяснилось, что у многих из этих болтунов есть свои несомненные достоинства. Но в чем он их (и остальных соотечественников) упрекал, так это в отсутствии воли и самостоятельности. «Правительство освободило нас от крепостной зависимости, ...но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; не скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин; барином этим бывает большею частью живой субъект, иногда какое-нибудь так называемое направление над нами власть возымеет... Новый барин народился — старого долой! То был Яков, а теперь Сидор; в ухо Якова, в ноги Сидору!.. Кто палку взял, тот и капрал». Вот, оказывается, каким образом господин Губарев стал чем-то вроде кумира. «Видят люди: большого мнения о себе человек, верит в себя, приказывает — главное, приказывает; стало быть, он прав и слушаться его надо». Так что же такое Губарев, по его мнению? «Он и славянофил, и демократ, и социалист, и все что угодно», а его имением по-прежнему управляет брат, «хозяин в старом вкусе, из тех, что дантистами величали». («Дантист» — это, видимо, значит: бил крестьян, выбивал у них зубы?) «Когда он в духе да нараспашку, — продолжал разоблачать Потугин, — даже мне, терпеливому человеку, невмочь становится. Начнет подтрунивать да грязные анекдотцы рассказывать, да, да, наш великий господин Губарев рассказывает грязные анекдоты и так мерзко смеется при этом...» Разговор вышел долгий, обстоятельный. 6 Потугин, убежденный западник, полагал, что следует учиться у иностранцев. — Но как же возможно перенимать, не соображаясь с условиями климата, почвы, с местными, с народными особенностями? — заметил при этом Литвинов. — Нельзя, Созонт Иванович, перенимать зря. — Кто же вас заставляет перенимать зря? — возражал Потугин. — Ведь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вам пригодно: стало быть, вы соображаете, вы выбираете... Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудок ее переварит посвоему...» В случайном разговоре за столиком кафе он выразил суть своих взглядов. «— Да-с, да-с, я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которою так мило у нас теперь потешаются, — цивилизации... — и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово: ци... ви... ли... зация... — и понятно, и чисто, и свято, а другое все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут... Он как будто не замечал на «цивилизованном» Западе развращенности нравов, мещанской пошлости, беспощадной власти денег. Но когда Литвинов об этом заговорил, Потугин ответил: «Да кто ж вам сказал, что я слеп на это?.. Я сам не оптимист, и все человеческое, вся наша жизнь, вся эта комедия с трагическим концом не представляется мне в розовом свете; но зачем навязывать именно Западу то, что, быть может, коренится в самой нашей человеческой сути?» Справедливая, разумная критика соседствует у него с несправедливой, которая вполне могла оттолкнуть и Фета, и Л. Толстого. «Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле...» — утверждал Потугин. (Но ведь к этому времени были уже и Тургенев, и Пушкин, и Ломоносов... Да многое уже было! И русский язык, самый прекрасный и великий!) «А стоило бы только действительно смириться — не на одних словах — да попризанять у старших братьев, что они придумали и лучше нас, и прежде нас!» В качестве образца он приводит языковые заимствования. «Возьмите пример хоть с нашего языка. Петр Великий наводнил его тысячами чужеземных слов, голландских, французских, немецких: слова эти выражали понятия, с которыми нужно было познакомить русский народ; не мудрствуя и не церемонясь, Петр вливал эти слова целиком, ушатами, бочками в нашу утробу. Сперва — точно вышло нечто чудовищное, а потом — началось именно то перевариванье, о котором я вам докладывал. Понятия привились и усвоились, чужие формы постепенно испарились, язык в собственных недрах нашел чем их заменить...» «От худого к хорошему никогда не идешь через лучшее, а всегда через худшее», — говорил Потугин. Да, развитие происходит методом проб и ошибок, иногда страшных. И все же опасно бесцеремонное насилие, оно может подчас надолго внедрить «худое» и задержать приход «хорошего». 7 Вернувшись в гостиницу, Литвинов увидел на столе письмо отца из деревни, а на окне большой букет свежих гелиотропов. Что-то отдаленное вдруг вспомнилось... Он спросил слугу, откуда взялись цветы? Их, оказывается, принесла дама. Слуга сообщил, что она была высокого роста и прекрасно одета, а на лице имела вуаль. И вдруг читатель вспоминает... Когда Литвинов и его спутники поднимались по лестнице гостиницы, где остановился Губарев, мимо них «высокая стройная дама в шляпке с короткою черною вуалеткой проворно спускалась с той же лестницы...». Увидев Литвинова, дама остановилась, «как бы пораженная изумлением. Лицо ее мгновенно вспыхнуло и потом так же быстро побледнело под частой сеткой кружева; но Литвинов ее не заметил, и дама проворнее прежнего побежала вниз по широким ступеням». Кто эта дама? Не она ли принесла букет? Что-то давнее, отдаленное... Прежняя любовь? Подождем терпеливо разъяснений. А пока что Литвинов читал письмо отца из деревни. «Повеяло на него степною глушью, слепым мраком заплесневевшей жизни...» «Он долго не мог заснуть: виденные им лица, слышанные им речи то и дело вертелись и кружились, странно сплетаясь и путаясь в его горячей, от табачного дыма разболевшейся голове». Потом ночью Литвинов приподнялся вдруг с постели и, всплеснув руками, воскликнул: «Неужели она, не может быть!» Обычно Тургенев надолго не оставляет читателя наедине с персонажами. Время от времени он дает пояснения. Так и теперь: «Но для того, чтоб объяснить это восклицание Литвинова, мы должны попросить снисходительного читателя вернуться с нами за несколько лет назад...» В начале 50-х годов проживало в Москве семейство князей Осининых — муж, жена и пятеро детей. Их предки — «настоящие, не татаро-грузинские, а чистокровные князья, Рюриковичи — владели обширными вотчинами. (Кстати, основоположник рода Тургеневых — татарин Турген из Золотой Орды принял в XV веке русское подданство и получил при крещении имя Иван.) Но вернемся к Осининым. Их предки упоминались в летописях при первых московских великих князьях, но «попали в опалу» и постепенно «захудал их род». Теперь семейство проживало «в одноэтажном деревянном домике и едва-едва сводило концы с концами, должая в овощную лавочку и частенько сидя без дров и без свеч по зимам». (Зимой «без дров и без свеч»! Это значит в холоде и в темноте?!) Сам князь, человек «вялый и глуповатый, некогда красавец и франт, но совершенно опустившийся», где-то числился на службе на одном из «московских старозаветных мест с небольшим жалованьем, мудреным названием и безо всякого дела; он ни во что не вмешивался и только курил с утра до вечера...». Супруга его, бывшая фрейлина, женщина больная и озлобленная, постоянно озабоченная хозяйственными дрязгами, «никак не могла свыкнуться с своим положением и удалением от двора». Литвинов, будучи студентом, «часто к ним наведывался», его квартира находилась недалеко от их дома. «Но не близость соседства привлекала его, не плохие удобства их образа жизни его соблазняли: он стал часто посещать Осининых с тех пор, как влюбился в их старшую дочь Ирину». 8 Высокая, стройная, с «бледно-матовою кожей, чистою и гладкою как фарфор, с густыми белокурыми волосами...». Изящно, почти изысканно правильные черты лица, но улыбка «не то рассеянная, не то усталая». И что-то своевольное, «опасное и для других и для нее». Из-за конфликта с начальницей Ирина в 17 лет ушла из института (подразумевается Институт благородных девиц), где «слыла за одну из лучших учениц по уму и способностям, но с характером непостоянным, властолюбивым и с бедовою головой»; одна классная дама полагала, что «страсти ее погубят»; другая — упрекала за «холодность и бесчувственность». Что-то в ней незаурядное, беспокойное... «Поразительны, истинно поразительны были ее глаза, исчерна-серые, с зеленоватыми отливами, с поволокой, длинные, как у египетских божеств, с лучистыми ресницами и смелым взмахом бровей. Странное выражение было у этих глаз: они как будто глядели, внимательно и задумчиво глядели из какой-то неведомой глубины и дали». В какую же глубину, в какую неведомую даль она устремится? Это, видимо, во многом зависело от времени и среды. В родителях она пробуждала неясные ожидания, надежды. — Вот ты увидишь, Прасковья Даниловна, — сказал однажды старый князь, вынимая чубук изо рта, — Аринка-то нас еще вывезет. Княгиня рассердилась и сказала мужу (конечно, по-французски), что у него «невозможные выражения»; но потом задумалась и повторила сквозь зубы: — Да... и хорошо бы нас вывезти. У этой девушки был твердый характер. «Бывало при какой-нибудь уже слишком унизительной сцене: лавочник ли придет и станет кричать на весь двор, что ему уж надоело таскаться за своими же деньгами, собственные ли люди примутся в глаза бранить своих господ, что вы, мол, за князья, коли сами с голоду в кулак свищете, — (ох, какой страшный приговор всему тогдашнему устройству эти подробности!) — Ирина даже бровью не пошевельнет и сидит неподвижно, со злою улыбкою на сумрачном лице; а родителям ее одна эта улыбка горше всяких упреков, и чувствуют они себя виноватыми, без вины виноватыми перед этим существом, которому как будто с самого рождения дано было право на богатство, на роскошь, на поклонение». 9 Литвинов был на три года старше ее и немедленно влюбился, как только ее увидал, но долго не мог добиться не только взаимности, но и внимания. «На ее обращении с ним лежал даже отпечаток какой-то враждебности. Он был слишком молод и скромен в то время, чтобы понять, что могло скрываться под этою враждебною, почти презрительною суровостью». Он уехал на неделю из Москвы, чтобы избавиться от наваждения, но «чуть не сошел с ума от тоски и скуки». Она тоже за эти дни похудела, осунулась, но встретила его попрежнему небрежно, равнодушно. «Так мучила она его месяца два. Потом в один день все изменилось. Словно вспыхнула пожаром, словно грозовою тучею налетела любовь. Однажды — он долго помнил этот день — он опять сидел в гостиной Осининых у окна и смотрел бессмысленно на улицу, и досадно ему было, и скучно, и презирал он самого себя, и с места двинуться он не мог... Ирина поместилась недалеко от него и как-то странно молчала и не шевелилась. Она уже несколько дней не говорила с ним вовсе, да и ни с кем она не говорила, все сидела, подпершись руками, словно недоумевала... Наконец он встал и, не прощаясь, начал искать свою шапку. «Останьтесь, — послышался вдруг тихий шепот. Сердце дрогнуло в Литвинове... Ирина ласково, да, ласково глядела на него. «Останьтесь, — повторила она, — не уходите. Я хочу быть с вами». Все оттенки настроений, все слова персонажей далее так подробно отражены, так значительны. Вот лишь отдельные коротенькие отрывки. «Да; он долго помнил тот первый день... но не забыл он также и последующих — тех дней, когда, еще силясь сомневаться и боясь поверить, он с замираниями восторга, чуть не испуга, видел ясно, как нарождалось, росло и, неотразимо захватывая все перед собою, нахлынуло, наконец, неожиданное счастье. Наступили светлые мгновенья первой любви... Ирина стала вдруг повадлива как овечка, мягка как шелк и бесконечно добра... все ее забавляло, все занимало ее; она то болтала без умолку, то погружалась в безмолвное умиление; строила различные планы, пускалась в нескончаемые предположения о том, что она будет делать, когда выйдет замуж за Литвинова (они нисколько не сомневались в том, что брак их состоится), как они станут вдвоем... «Трудиться?!» — подсказывал Литвинов... «Да, трудиться, — повторяла Ирина, — читать... Но главное — путешествовать». Ей особенно хотелось оставить поскорее Москву, и когда Литвинов представлял ей, что он еще не кончил курса в университете, она каждый раз, подумав немного, возражала, что можно доучиться в Берлине или... там где-нибудь». 10 «Состояние Литвинова было порядочное...» Но фамилия, фамилия!.. — замечала княгиня. «Ну, конечно, фамилия, — отвечал князь, — да все ж он не разночинец, а главное: ведь Ирина не послушается нас». Князь «тут же, однако, мысленно прибавил: «Мадам Литвинова — и только? Я ожидал другого». Дело все-таки не обошлось без «некоторых недоразумений». Однажды Литвинов прибежал к невесте прямо из университета, «в старом сюртуке, с руками, запачканными в чернилах». Она была шокирована: — У вас нет перчаток... — фи! Какой вы... студент! — Вы слишком впечатлительны, Ирина, — заметил Литвинов. — Вы... настоящий студент, — повторила она и добавила по-французски: У вас неблагородный облик». Повернувшись к нему спиной, она вышла из комнаты, а через час просила прощения. В другой раз она плакала при нем оттого, что у нее было только одно платье. — Что такое?.. это платье... — проговорил он с недоумением. — Что такое? А то, что у меня другого нет, и что оно старое, гадкое, и я принуждена надевать это платье каждый день... даже когда ты... когда вы приходите... Ты, наконец, разлюбишь меня!.. — Помилуй, Ирина, что ты говоришь! И платье это премилое... Оно мне еще потому дорого, что я в первый раз в нем тебя видел. Ирина покраснела. — Не напоминайте мне, пожалуйста, Григорий Михайлович, что у меня уже тогда не было другого платья. — Но уверяю вас, Ирина Павловна, оно прелесть как идет к вам. — Нет, оно гадкое, гадкое, — твердила она, нервически дергая свои длинные мягкие локоны. — Ох, эта бедность, бедность, темнота! Как избавиться от этой бедности! Как выйти, выйти из темноты! Литвинов не знал, что сказать, и слегка отворотился... Вдруг Ирина вскочила со стула и положила ему обе руки на плечи. — Но ведь ты меня любишь? Ты любишь меня? — промолвила она, приблизив к нему свое лицо, и глаза ее, еще полные слез, засверкали веселостью счастья. — Ты любишь меня и в этом гадком платье. Литвинов бросился перед ней на колени. «Так дни неслись, проходили недели», все шло к счастливой развязке — свадьбе, как вдруг произошло событие, «рассеявшее, как легкую дорожную пыль», все надежды и планы. 11 «В ту зиму двор посетил Москву. Одни празднества сменялись другими; наступил черед и обычному большому балу в Дворянском собрании». Князь Осинин «всполошился» и «решил, что надо непременно ехать и везти Ирину». Она отвечала на все родительские доводы: «Не нужно, не поеду». Князь попросил Литвинова ее уговорить. Бесхитростный молодой человек согласился и выполнил обещание. Она «пристально и внимательно» на него поглядела: — Вы этого желаете? вы?.. Ну, хорошо, я поеду... Только помните, вы сами этого желали. — То есть я... — начал было Литвинов. — Вы сами этого желали, — перебила она. — И вот еще одно условие: вы должны мне обещать, что вас на этом бале не будет. Перед балом Литвинов пришел посмотреть на нее. Сказочная царевна, величественная и прекрасная, вышла к нему навстречу в белом платье, с веткой цветов в волосах. Она вдруг «протянула руки и, внезапно схватив конец ветки, украшавшей ее голову, промолвила: «Хочешь? Скажи только слово, и я сорву все это и останусь дома». Что-то было в ней нервическое, порывистое. Как будто она металась, предчувствуя последствия своей поездки. Момент, когда решается будущая судьба! «У Литвинова сердце так и покатилось. Рука Ирины уже срывала ветку...» Но «в порыве благодарных и великодушных чувств» он не позволил ей отказаться от бала, который ее так манил. Он подарил ей тогда букет из гелиотропов... 12 Все, все в их жизни перевернул этот бал! Около полуночи Литвинов прошелся под окнами Дворянского собрания. Бесчисленные огни громадных люстр сквозили из-за красных занавесей. Вальс Штрауса разносился по всей площади, заставленной экипажами. На другой день Литвинов отправился к Осининым, но ему сказали, что у Ирины болит голова; она до вечера не встанет. Перемежая русскую речь с французской, князь поведал о грандиозном успехе Ирины: весь двор заметил ее, старик граф Блазенкрампф назвал царицей бала. А граф Рейзенбах, двоюродный брат княгини, богач, камергер, до сих пор Осиниными пренебрегавший, сказал: «Ваша дочь — жемчужина; это совершенство». Князь весьма был польщен вниманием родственника: «Богач, камергер, в Петербурге живет, в ходу человек, в Лифляндии всем вертит». А потом этот знатный, преуспевающий родственник подошел к «важной особе и говорит, а сам все посматривает на Ирину... ну, и особа посматривает...». Нет, ей не повезло, как повезло Наташе Ростовой; Андрей Болконский не встретился ей на первом балу. Но все же... Вот главное противоречие ее души и предстоявшего ей выбора: скромная жизнь с незаметным студентом или роскошь, «светские успехи», блеск, поклонение «сильных мира сего» — земные, суетные блага, единственное, что могло успокоить ее ущемленную гордость. «Мадам Литвинова — и только?» С какой стати! Не сейчас, так потом она бы его покинула ради того, что под влиянием родителей и всей окружающей обстановки казалось таким заманчивым, самым главным. При ее красоте, уме, незаурядности разве не имеет она права на все то, о чем всегда мечтали родители и она сама! Граф Рейзенбах заметил впечатление, произведенное Ириной на «высокопоставленных лиц», и мгновенно сообразил, какие тут можно извлечь выгоды «при известной ловкости». Он действовал «быстро, по-наполеоновски». «Возьму эту оригинальную девушку к себе в дом, — так размышлял он, — в Петербург; сделаю ее своею, черт возьми, наследницей, ну хоть не всего имения...» Жена его — «с умом цыпленка и с наружностью цыпленка». Детей не было. «Все же приятней, когда в гостиной — хорошенькое личико...». 13 Родители, получив какую-то сумму денег, не упрямились, Ирина тоже согласилась, хотя изза предстоявшей разлуки с Литвиновым чуть не заболела и беспрестанно плакала. Больше Литвинов ее не видел. Она прислала записку: «Простите меня, Григорий Михайлыч. Все кончено между нами: я переезжаю в Петербург. Мне ужасно тяжело, но дело сделано. Видно, моя судьба... да нет, я не хочу оправдываться... Предчувствия мои сбылись. Простите меня, забудьте меня: я не стою вас. Ирина. Будьте великодушны: не старайтесь меня увидеть». Он рыдал судорожно, метался на своем диване. Он бросил тогда университет и уехал к отцу в деревню... Шли годы. «Имя княжны Осининой, окруженное блеском, ...стало чаще и чаще упоминаться даже в губернских кружках». Наконец «распространилась весть об ее замужестве». Но к тому времени рана в его душе зажила; он уже был женихом Татьяны. Мы возвращаемся в Баден-Баден, фешенебельный немецкий курорт. Теперь уже понятно от кого букет, о ком вдруг вспомнил ночью Литвинов. «Неужели она, не может быть!» 14 Утром он вышел погулять. «Здоровье молодости играло в каждой его жилке... С каждым шагом ему становилось все привольней, все веселей...» Он три часа бродил по горам, потом направился к Старому замку позавтракать. Но не успел он поместиться за одним из столиков, находившихся на платформе перед замком, как появились три коляски, из которых высыпало довольно многочисленное общество. Дамы и кавалеры говорили главным образом по-французски. Изысканным щегольством отличались их туалеты. Литвинов попал на пикник молодых генералов, «особ высшего общества и с значительным весом». Он поторопился уйти, уже проскользнул было мимо... — Григорий Михайлыч, — проговорил женский голос, — вы не узнаете меня? Он невольно остановился. Этот голос... Этот голос слишком часто в былое время заставлял биться его сердце... Он обернулся и увидел Ирину. Она сидела у стола... Последовало знакомство с ее мужем, генералом Ратмировым, чрезмерно изящным и учтивым. И какие-то незначительные фразы... Высокомерные участники пикника, продолжая свой разговор, обменивались пустыми фразами. Потом вдруг заговорили о важном. «Когда некоторое, так сказать, омрачение, овладевает даже высшими умами, — сказал один из генералов, — мы должны указывать... перстом гражданина на бездну, куда все стремится... «Воротитесь, воротитесь назад...» Вот что мы должны говорить... Чем дальше назад, тем лучше». — Уж не до семибоярщины ли нам вернуться, ваше превосходительство? — осведомился Литвинов. — А хоть бы и так! Я выражаю свое мнение не обинуясь, надо переделать... да... переделать все сделанное. — И 19-е февраля? — И 19-е февраля, насколько это возможно... А воля! — скажут мне. Вы думаете, сладка народу эта воля? Спросите-ка его... — Попытайтесь, — подхватил Литвинов, — попытайтесь отнять у него эту волю... Говорили также о необходимости «сильной власти». — Сильная власть в особенности! — сказал по-французски тучный генерал. А сие по- русски можно перевести тако: вежливо, но в зубы! Литвинову стало неловко. Его «честная, плебейская гордость» возмущалась. Что общего между ним, сыном мелкого чиновника, и этими военными петербургскими аристократами? «Он любил все, что они ненавидели, он ненавидел все то, что они любили...» «Он поднялся со стула и начал прощаться. — Вы уже уходите? — промолвила Ирина, но, подумав немного, не стала настаивать и только взяла с него слово, что он непременно посетит ее». 15 Через день по просьбе Ирины пришел Потугин и уговорил Литвинова навестить ее. Она была одна и, видимо, ждала их. Потугин тут же удалился. Что теперь последует? Сцена ловкого обольщения чужого жениха? Воспоминания о первой любви, сожаления о несбывшихся надеждах? «Я была виновата перед вами, Григорий Михайлович... хотя, конечно, такая уж мне выпала судьба (Литвинову вспомнилось ее письмо), и я не раскаиваюсь... это было бы во всяком случае слишком поздно; но, встретив вас так неожиданно, я сказала себе, что мы непременно должны сделаться друзьями... и вы должны сказать мне, что вы меня прощаете... Это, с моей стороны, может быть, большая претензия, потому что вы, вероятно, давным-давно все забыли, но все равно, скажите мне, что вы меня простили». При всем ее уме и светской ловкости она была искренна в этот момент. «Литвинов мог заметить, что в глазах ее заблистали слезы... да, действительные слезы». Потом состоялась долгая беседа. — Ах, какой этот Потугин умница, что привел вас! — воскликнула она между прочим. — Вы с этим господином Потугиным давно знакомы? — поинтересовался Литвинов. — О да! — Ирина вздохнула. — Тут есть особенные причины... Вы, конечно, слышали про Элизу Бельскую... Вот та, что умерла в позапрошлом году такой ужасной смертью?.. Ах, да ведь я забыла, что вам неизвестны наши истории... — И Потугин, говорите вы, находился в отношениях с... — Мне очень тяжело даже вспоминать об этом, — перебила Ирина. — Элиза была моим лучшим другом... Она мне доверяла все свои тайны: она была очень несчастна, много страдала. Потугин в этой истории вел себя прекрасно, как настоящий рыцарь! Он пожертвовал собою. (Кстати, когда Потугин впервые пришел к Литвинову, он мимоходом упоминал о какой-то живущей у него девочке шести лет: «Она сирота... дочь одной дамы... одной моей хорошей знакомой».) Этот мирок далеко «наверху», для большинства недосягаемый, со своими тайными «историями», наглым потребительским эгоизмом, условностями, страданиями, жертвами! На эту тему Ирина больше не распространялась. Попросила Литвинова рассказать, как он жил все эти годы. «Глядя на нее со стороны и следя за выражением ее лица, иной бы, пожалуй, мог подумать, что она вовсе не слушала того, что Литвинов ей говорил, а только погружалась в созерцание... Но не Литвинова созерцала она, хотя он и смущался и краснел под ее упорным взглядом. Пред нею возникла целая жизнь, другая, не его, ее собственная жизнь». Вскоре явился ее муж, как всегда любезный, «с свойственною ему почти изнеженною игривостью в голосе...». Муж Ирины Ратмиров окончил в свое время Пажеский корпус, вышел в гвардию. Карьеру он сделал блестящую, главным образом благодаря «какому-то особенному искусству фамильярнопочтительного обращения с высшими, грустноласкового, почти сиротливого прислуживанья, не без примеси общего, легкого, как пух, либерализма... Этот либерализм не помешал ему, однако, перепороть пятьдесят человек крестьян в взбунтовавшемся белорусском селении, куда его послали для усмирения». У него была привлекательная наружность, и он пользовался «удивительными успехами» у женщин. «Осторожный по привычке, молчаливый из расчета, генерал Ратмиров... постоянно обращался в высшем свете — и без нравственности, безо всяких сведений, но с репутацией дельца, с чутьем на людей и пониманьем обстоятельств, а главное с неуклонно-твердым желанием добра самому себе видел наконец перед собою все пути открытыми...» Ирина, видимо, вполне презирала свое окружение, но умело играла роль «светской львицы». 16 Потом, во время прогулки, Литвинов случайно ее встретил. Вот несколько отрывков из их разговора. — Зачем вы избегаете меня, Григорий Михайлович, — проговорила она нетвердым голосом, какой бывает у человека, у которого накипело на сердце. Литвинов смутился. — Я вас избегаю, Ирина Павловна? — Да, вы... вы... Он как мог сопротивлялся. «Наши дороги так далеко разошлись! Я все забыл, все это переболело давно, я совсем другой человек стал... к чему же, зачем это сближение? Что я вам, что вы мне? Мы теперь и понять друг друга не можем...» Ирина не шевелилась и только по временам чуть-чуть протягивала к нему руки. Казалось, она умоляла его остановиться и выслушать ее... — Григорий Михайлыч, — начала она, наконец, голосом уже более спокойным и отошла еще дальше от дорожки, по которой изредка проходили люди... Литвинов в свою очередь последовал за ней. — Григорий Михайлыч, поверьте мне: если б я могла вообразить, что у меня осталось на волос власти над вами, я бы первая избегала вас. Если я этого не сделала, если я решилась, несмотря на... на мою прошедшую вину, возобновить знакомство с вами, то это потому... потому... — Почему? — почти грубо спросил Литвинов. — Потому, — подхватила с внезапною силой Ирина, — что мне стало уже слишком невыносимо, нестерпимо, душно в этом свете; ...потому что, встретив вас, живого человека, после всех этих мертвых кукол... Я обрадовалась как источнику в пустыне, а вы называете меня кокеткой, и подозреваете меня, и отталкиваете меня под тем предлогом, что я действительно была виновата перед вами, а еще больше перед самой собою! — Вы сами выбрали свой жребий, Ирина Павловна, — угрюмо промолвил Литвинов, попрежнему не оборачивая голову. — Сама, сама... я и не жалуюсь, я не имею права жаловаться, — поспешно проговорила Ирина... — Когда я вас увидала, все мое хорошее, молодое во мне пробудилось... то время, когда я еще не выбрала своего жребия, все, что лежит там, в той светлой полосе, за этими десятью годами... — Да позвольте же, наконец, Ирина Павловна! Сколько мне известно, светлая полоса в вашей жизни началась именно с той поры, как мы расстались... Ирина поднесла платок к губам. — Это очень жестоко, что вы говорите, Григорий Михайлыч; но я сердиться на вас не могу. О нет, не светлое то было время, не на счастье покинула я Москву, ни одного мгновенья, ни одной минуты счастья я не знала... поверьте мне, что бы ни рассказывали вам. Если б я была счастлива, могла ли бы я говорить с вами так, как я теперь говорю... Я повторяю вам, вы не знаете, что это за люди... Ведь они ничего не понимают, ничему не сочувствуют, даже ума у них нет, а одно только лукавство да сноровка... Не светская женщина теперь перед вами... не львица... так, кажется, нас величают, ...а бедное, бедное существо, которое, право, достойно сожаления. Не удивляйтесь моим словам... мне не до гордости теперь! Я протягиваю к вам руку как нищая, поймите же это, наконец, как нищая... Я милостыни прошу, — прибавила она вдруг с невольным, неудержимым порывом, — я прошу милостыни, а вы... Голос изменил ей. Литвинов поднял голову и посмотрел на Ирину; она дышала быстро, губы ее дрожали. Сердце в нем вдруг забилось, и чувство злобы исчезло. — Вы говорите, что наши дороги разошлись, — продолжала Ирина, — я знаю, вы женитесь по склонности, у вас уже составлен план на всю вашу жизнь, да, это все так, но мы не стали друг другу чужды, Григорий Михайлыч, мы можем еще понять друг друга... Я не умею говорить как следует, но вы поймете меня, потому что я требую малого, очень малого... только немножко участия, только чтобы не отталкивали меня, душу дали бы отвести... Ирина умолкла, в голосе ее звенели слезы. Она вздохнула и робко, каким-то боковым, ищущим взором посмотрела на Литвинова, протянула ему руку... Литвинов медленно взял эту руку и слабо пожал ее. — Будемте друзьями, — шепнула Ирина. — Друзьями, — задумчиво повторил Литвинов. — Да, друзьями... а если это слишком большое требование, то будемте по крайней мере хорошими знакомыми... Будемте запросто, как будто никогда ничего не случалось... — Как будто ничего не случалось... — повторил опять Литвинов. — Вы сейчас сказали мне, Ирина Павловна, что я не хочу забыть прежних дней... Ну, а если я не могу забыть их? Блаженная улыбка мелькнула на лице Ирины и тотчас же исчезла... — Будьте, как я, Григорий Михайлыч, помните только хорошее, а главное, дайте мне теперь слово... честное слово... — Какое? — Не избегать меня... не огорчать меня понапрасну... Вы обещаетесь? скажите! — Да... но понять вас я все-таки отказываюсь. — Это и не нужно... Но вы обещаетесь? — Я уже сказал: да. — Ну спасибо. Смотрите же, я привыкла вам верить. Я буду ждать вас сегодня, завтра, я из дому не буду выходить. А теперь я должна вас оставить. Герцогиня идет по аллее... Она увидала меня, и я не могу не подойти к ней...» Затем Литвинов встретил Потугина, сидевшего с газетой на скамейке. Тот, по обыкновению, ругал все русское и хвалил иностранное. Заговорили об Ирине. — Искренна ли она? — сомневался Литвинов. — Когда увлекается — искренна... Гордость также иногда мешает ей лгать, — отвечал Потугин. — Ну, а вообще говоря, у кого захотели вы правды? Лучшие из этих барынь испорчены до мозга костей. Потом в гостинице кельнер принес Литвинову записку от Ирины. «Если вам нечего делать сегодня вечером, приходите: я не буду одна; у меня гости — и вы еще ближе увидите наших, наше общество. Мне очень хочется, чтобы вы их увидали...» Литвинов решил, что «посмотреть на них» — это любопытно, надел фрак с белым галстуком и отправился к Ирине. 17 Гостей было довольно много. Трое из генералов, присутствовавших на пикнике, сидели за карточным столом «и нет слов на человеческом языке, чтобы выразить важность, с которою они... ходили с треф, ходили с бубен... уж точно государственные люди!». Были дамы, участницы пикника и другие, среди них одна до того старая, что казалось, вотвот сейчас разрушится: она поводила обнаженными, страшными, темно-серыми плечами...» Была тут и графиня Ш., окруженная молодыми людьми; «в числе их отличался своей надменной осанкой, совершенно плоским черепом и бездушнозверским выражением лица... знаменитый богач и красавец Фиников. Здесь присутствовал бледный и длинноволосый господин, который «верил в спиритизм, но, сверх того, занимался пророчеством». Ирина сидела на диване между князем Коко (тем самым, который в игорном зале недавно «спустил за зеленым столом трудовой, вымученный оброк полутораста семейств») и «госпожою Х., известною некогда красавицей и всероссийской умницей, давным-давно превратившеюся в дрянной сморчок». Но сама Ирина! «На ней было черное креповое платье с едва заметными золотыми украшениями; ее плечи белели матовою белизной, а лицо... дышало торжеством красоты, и не одной только красоты: затаенная, почти насмешливая радость светилась в полузакрытых глазах, трепетала около губ и ноздрей...» Главной темой всех разговоров здесь были вертящиеся столы, магнетизм, спиритизм, потом речь зашла о парижских полусветских знаменитостях. «Высший свет», куда так стремилась когда-то Ирина. «Ни одного искреннего слова, ни одной дельной мысли. Лишь изредка, из-под личины мнимо-гражданского негодования, мнимопрезрительного равнодушия», пищала боязнь возможных убытков... Какое старье, какой ненужный вздор, какие плохие пустячки занимали все эти головы, эти души... во все часы и дни, во всю ширину и глубину их существования! И какое невежество в конце концов! Какое непонимание всего, на чем зиждется, чем украшается человеческая жизнь!» Когда ушли все гости, муж Ирины заговорил было о Литвинове. Но в ответ Ирина расхохоталась. Он «чувствовал себя обиженным, уязвленным», но «красота этой женщины, так легко и смело стоявшей перед ним, его невольно поражала... она терзала его». «Как? вы? вы ревнуете?» — промолвила она наконец и, обернувшись спиной к мужу, вышла вон из комнаты. «Он ревнует!» — послышалось за дверями, и снова раздался ее хохот». Глаза Ратмирова «тупо и зверски забродили по полу, словно отыскивая что-то. Всякое подобие изящества исчезло с его лица, «как в то время, когда он засекал белорусских мужиков». 18 Придя в свою комнату, Литвинов долго сидел неподвижно, потом взял карточку Татьяны. Печально глянуло на него лицо невесты. «Русая, несколько полная и с чертами лица немного тяжелыми, но с удивительным выражением доброты и кротости на умных, светло-карих глазах, с нежным белым лбом, на котором, казалось, постоянно лежал луч солнца. Литвинов долго не сводил глаз с карточки, потом тихонько ее отодвинул и снова схватился за голову. «Все кончено! — прошептал он, наконец! — Ирина! Ирина!» Он только теперь понял, что «безвозвратно и безумно влюбился в нее... что никогда не переставал ее любить». Он не слишком думал при этом о себе. Его терзало противоречие. Надо исполнить свой долг перед невестой, «она поверила моей любви, моей чести, мы соединены навек...». «Но ты не имеешь права ее обманывать, — шептал ему другой голос, — ты не имеешь права скрывать от нее перемену, происшедшую в твоих чувствах...» Он не спал всю ночь и к утру созрело, наконец, мужественное решение: сказать Ирине всю правду и в тот же день уехать навстречу Татьяне. Он пришел, начал было говорить и не мог. — Ах! я люблю вас! — вырвалось наконец глухим стоном из груди Литвинова, и он отвернулся, как бы желая спрятать свое лицо. — Как, Григорий Михайлыч, вы... — Ирина тоже не могла докончить речь и, прислонившись к спинке кресла, поднесла к глазам обе руки. — Вы... меня любите? — Да... да... да, — повторил он с ожесточением, все более и более отворачивая свое лицо. Все смолкло в комнате; залетевшая бабочка трепетала крыльями и билась между занавесом и окном». После долгого молчания Литвинов сказал, что пришел проститься. Ирина подтвердила: разлука необходима для обоих. — Итак, мне остается проститься с вами, Ирина Павловна, — промолвил он громко, и жутко ему стало вдруг, точно он сам собрался произнести приговор над собою. — Мне остается только надеяться, что вы не станете поминать меня лихом... — Погодите, Григорий Михайлыч, не прощайтесь еще со мною. Это было бы слишком поспешно... — Да не могу я остаться! — воскликнул он. — Не прощайтесь еще со мною, — настаивала Ирина. — Я должна вас увидеть еще раз... Литвинов не вернулся домой, ушел в горы, в лесную чащу, «бросился на землю лицом вниз и лежал там около часа». «Невыносимо ноющее и грызущее ощущение пустоты», «вихорь налетал на него», ударяя темными крыльями... 19 Вряд ли это всего лишь великосветская интрижка или, говоря словами Л. Толстого, «прелюбодеяние, легкое и игривое». Ведь это трагедия несбывшихся надежд, несостоявшейся любви; несостоявшейся прежде всего из-за социального несовершенства жизни. Не будь этого несовершенства, не кинулась бы Ирина когда-то в петербургский великолепный омут. Решимость его не поколебалась. Он в тот же день отправил телеграмму на имя Татьяниной тетки, Капитолины Марковны, извещая о своем приезде. Он также решил сдержать слово, данное Ирине, и еще раз с нею повидаться перед отъездом. Ирина сидела все в том же кресле, в том же оцепенении. Выражение ее лица, угасших глаз — поразило Литвинова. — Извините меня, Ирина Павловна... так как я сегодня уезжаю... — И вы пришли проститься? — Да, Ирина Павловна, проститься. — Я должна благодарить вас, Григорий Михайлыч; вам, вероятно, нелегко было сюда прийти. — Да, Ирина Павловна, очень нелегко. — Жить вообще нелегко, Григорий Михайлыч; как вы полагаете? — Как кому, Ирина Павловна. Ирина опять помолчала, словно задумалась. — Вы мне доказали вашу дружбу тем, что пришли, — промолвила она наконец. — Благодарю вас. И вообще я одобряю ваше намерение как можно поскорее все покончить... потому что всякое замедление... потому что... потому что я, та самая, которую вы упрекали в кокетстве... Ирина быстро встала и, пересев на другое кресло, приникла и прижалась лицом и руками к краю стола... — Потому что я люблю вас... — прошептала она сквозь стиснутые пальцы. Литвинов пошатнулся, словно кто его в грудь ударил. Потом она быстро ушла, проговорив: «Прощайте, забудьте». А потом «с крыльца гостиницы послышался звонкий голос Ратмирова». Невольно возникают неожиданные ассоциации... «Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался», — так, кажется, в «Евгении Онегине»? Ситуация, видимо, характерная. Он вернулся домой. Там чемодан, уже уложенный и закрытый... «Голова у него кружилась, и сердце дрожало, как струна. Что было теперь делать?» 20 «Ни за что на свете он бы не согласился на то, чтобы слова, произнесенные Ириной, не были ею произнесены... Но что же? переменить принятое решение эти слова все-таки не могли. Оно по-прежнему не колебалось...» Хотя кружилась голова и сердце дрожало и он «потерял нить своих мыслей», но «воля осталась при нем». Это стойкий человек. «Что дальше будет, он не ведал, да и ведать не хотел... Одно было несомненно: назад он не вернется». «Там хоть умри», — повторил он в десятый раз и взглянул на часы». В ожидании вечернего омнибуса он шагал взад и вперед в своем гостиничном номере. «Солнце склонялось к закату, небо зарделось над деревьями, и алый полусвет ложился сквозь узкие окна в его потемневшую комнату. Вдруг Литвинову почудилось, как будто дверь растворилась за ним тихо и быстро, и так же быстро затворилась снова... Он обернулся; у двери, закутанная в черную мантилью, стояла женщина... — Ирина! — воскликнул он и всплеснул руками... Она подняла голову и упала к нему на грудь». А потом в тот же день пришло письмо от его невесты. Решив ускорить своей приезд, они с теткой прибывают в Баден. И в тот же вечер он послал записку Ирине, а на следующее утро получил от нее ответ: «Днем позже, днем раньше, — писала она, — это было неизбежно. А я повторяю тебе, что вчера сказала: жизнь моя в твоих руках, делай со мной твою свободу, брошу и пойду ведь увидимся что хочешь. Я не хочу стеснять но знай, что если нужно, я все за тобой на край Земли. Мы завтра? Твоя Ирина». 21 18-го августа к двенадцати часам дня он поехал на железнодорожную станцию. Странная перемена произошла в нем со вчерашнего дня. «Самоуверенность исчезла, и спокойствие исчезло тоже, и уважение к себе...» Появился страх, по временам загоралась отчаянная отвага. «Побежденным знакома эта смесь противоположных чувств; не безызвестны они и вору после первой кражи. А Литвинов был побежден, побежден внезапно...» «Продолжительный свист раздался наконец; послышался тяжелый, ежеминутно возраставший гул, и, медленно выкатываясь из-за поворота дороги, появился паровик. Толпа подалась ему навстречу, и Литвинов двинулся за нею». А потом... «Литвинов бросился к дверцам, отворил их: Татьяна стояла возле тетки и, светло улыбаясь, протягивала руку». Он помог им обеим сойти, занялся их вещами, побежал отыскивать носильщика, подозвал карету. Когда подъехали к гостинице, Литвинов проводил обеих путешественниц в удержанный для них номер и вернулся в свою комнату. Но в ней со вчерашнего дня царствовала Ирина. Он даже «выхватил ее платок, спрятанный у него на груди, прижался к нему губами, и тонким ядом разлились по его жилам знойные воспоминания. Он понял, что тут уже нет возврата, нет выбора...» Потом отправились осматривать Баден. Татьяна «с спокойным любопытством осматривалась кругом». Зато ее восторженная тетушка, провинциальная помещица, пришла в состояние «немотствующего исступления» при виде рулетки и прочих забав. Нескоро нашла она в себе «довольно силы, чтобы... назвать азартную игру безнравственною выдумкой аристократизма». Во время прогулки неожиданно встретилась Ирина. Она шла с мужем и Потугиным. Литвинов побледнел, отвесил безмолвный поклон. И она ему поклонилась любезно, но холодно. — Кто эта дама? — спросила вдруг Татьяна. — Эта дама? — повторил Литвинов. — Эта дама?.. Эта некая госпожа Ратмирова... — Какая она красивая! — Заметила ты ее туалет? — вмешалась Капитолина Марковна. — Десять семейств можно бы целый год прокормить на те деньги, которых стоят одни ее кружева!.. — Какие у нее глаза! — проговорила Татьяна. — И выражение в них какое странное: и задумчивое и проницательное... я таких глаз не видывала. Потом встретился им низенький шарабан, в котором, нагло развалясь, лежала рыжая и курносая женщина в необыкновенно пышном наряде и лиловых чулках. — Боже мой! Кто этот урод? — воскликнула Капитолина Марковна и, услышав, что это «мамзель Кора», парижская знаменитость, была потрясена: — Как? Эта моська? Да ведь она пребезобразная? — Видно, это не мешает, — заметил Литвинов. Но тетушка долго не могла успокоиться. — Ах, она шутовка, шутовка, — произнесла Капитолина Марковна, с сожалением покачивая головой. — Вот ее туалет продать, так не десять, а сто семейств прокормить можно. Видели вы, у ней под шляпкой, на рыжих-то на волосах, бриллианты? Это днем-то бриллианты, а? К ним подошел вдруг Потугин, и Литвинов представил его своим дамам. Потом они гуляли вчетвером. Все время Литвинов замечал: между ним и Татьяной что-то бессознательно совершалось, росло, она в нем почувствовала какую-то перемену. А когда они возвращались домой, Литвинову при входе в гостиницу вручили записку: «Приходите сегодня вечером в семь часов ко мне на одну минуту, умоляю вас. Ирина». «После обеда Литвинов проводил обеих дам в их комнату и, постояв немного у окна и насупившись, внезапно объявил, что должен отлучиться на короткое время по делу, но вернется к вечеру непременно. Татьяна ничего не сказала, побледнела и опустила глаза». 22 И вот юная служанка «с калмыцким лукавым личиком» ввела его в небольшую комнату напротив Ирининой спальни, наполненную дорожными сундуками и чемоданами, а сама тотчас исчезла... Появилась Ирина в розовом бальном платье с жемчугом в волосах и на шее. — Мы сейчас едем на званый обед, но я непременно хотела вас видеть... Ведь это ваша невеста была, с которой я вас встретила сегодня? — Да, это была моя невеста, — проговорил Литвинов, упирая на слово «была». — Так вот я хотела увидать вас на одну минуту, чтобы сказать вам, что вы должны считать себя совершенно свободным... — Ирина! — воскликнул Литвинов, — зачем ты это говоришь? Он произнес эти слова громким голосом... Беззаветная страсть прозвучала в них. Ирина на миг невольно закрыла глаза. — О, мой милый! — продолжала она шепотом еще более тихим, но с увлечением неудержимым, — ты не знаешь, как я тебя люблю... Делай что хочешь, ты свободен как воздух, ты ничем не связан, знай это, знай! — Но я не могу жить без тебя, Ирина, — перебил ее уже шепотом Литвинов. Он трепетно припал к ее рукам. Ирина посмотрела на его наклоненную голову. — Ну так знай же, — промолвила она, — что и я на все готова, что и я не пожалею никого и ничего. Как ты решишь, так и будет. Я тоже навек твоя... твоя. Литвинов почувствовал на волосах своих ее дыхание, прикосновение ее губ. Когда он выпрямился, ее уже не было в комнате, только платье ее прошумело в коридоре... На обратном пути он ходил по аллеям, терзался. «Сердце в нем билось протяжно и неровно, земля, казалось, слабо двигалась под ногами». Его терзало не то, что рушилось все его «правильное, благоустроенное, добропорядочное будущее», а предстоящее объяснение с Татьяной. Неожиданно он встретил Потугина. Тот рассказал ему о впечатлении, которое на него произвела невеста Литвинова: — Я должен сказать, что я в течение всей своей жизни не встречал существа более симпатичного. Он знал, откуда Литвинов шел, и хотел «протянуть руку утопающему». — Покорно благодарю за заботливость, — похвалил запальчиво Литвинов, — только... прошу вас не утруждать своей спасительной десницы и преспокойно позволить мне утонуть. Потугин трудно дышал, губы его подергивало. — Разве вы не понимаете, ...что перед вами человек разбитый, разрушенный, окончательно уничтоженный тем самым чувством, от последствий которого он желал бы предохранить вас, и... и к той же самой женщине! В порыве откровенности он поведал: «Госпожу Бельскую я почти не знал, ребенок этот не мой, а взял я все на себя... потому... потому что она того хотела, потому что ей это было нужно. Что касается нынешней ситуации — неужели вы на одну минуту могли вообразить, что я из сочувствия к вам решился предостеречь вас? Мне жаль той доброй, хорошей девушки, вашей невесты, а впрочем, какое мне дело до вашей будущности, до вас обоих?.. Но я за нее боюсь... за нее». Т. е. за Ирину? Отчего? А потом небольшое отступление, посвященное «страшной, темной истории», проливающей некоторый свет на жизнь великосветской элиты. 23 Лет за восемь перед тем Потугин оказался временно прикомандированным от своего министерства к графу Рейзенбаху. Было лето. Потугин ездил к нему на дачу с бумагами и проводил там целые дни. Ирина жила тогда у графа. Она «скоро отгадала умного человека в этом скромном чиновнике, облеченном в мундирный, доверху застегнутый фрак. Она часто и охотно беседовала с ним... а он... он полюбил ее страстно, глубоко, тайно... Тайно! Он так думал. Прошло лето; граф перестал нуждаться в постороннем помощнике, Потугин потерял Ирину из виду, но забыть ее не мог». Года три спустя он вдруг получил приглашение от одной мало знакомой ему «дамы средней руки». Дама эта оказалась посредницей, взяла с него клятву сохранить все в секрете и предложила ему... жениться на знатной девице Элизе Бельской, для которой «свадьба стала необходимостью». На «главное лицо» этой истории дама едва решилась намекнуть, видно, очень это было значительное лицо. Потугину обещали за женитьбу много денег, но он отказался. Тогда ему вручили записку от Ирины. Для нее Потугин был готов сделать многое, но хотел «услышать ее желание из ее же уст». В тот же вечер Ирина с ним увиделась. Она уже не жила у графа Рейзенбаха, а тот человек, главный виновник всей истории, «очень значительное лицо», теперь «стал весьма близок к ней, к Ирине...». Спасая Элизу Бельскую, Ирина «оказывала услугу тому, кто был всему причиной». Ради Ирины Потугин согласился, она сумела его уговорить. «Она заплакала и вся в слезах бросилась ему на шею. И он заплакал... но различны были их слезы. Уже все приготовлялось к тайному браку, мощная рука устранила все препятствия... Но случилась болезнь... а там родилась дочь, а там мать... отравилась. Что было делать с ребенком? Потугин взял его на свое попечение из тех же рук, из рук Ирины. «Страшная, темная история из тех, что творились за кулисами «наверху». Кто это «значительное лицо» — так и остается неизвестным. О нем предпочитают не говорить. Было много потом догадок относительно прототипов; о том, в частности, что прототипом Ирины стала якобы одна княжна, фаворитка Александра II... 24 Наконец Литвинов явился в свою гостиницу. — В первый же день, да на целый вечер пропал! — возмущалась тетушка. — Уж мы ждали вас, ждали, бранили, бранили... — Я, тетя, ничего не говорила, — заметила Татьяна. Сели пить чай. Литвинову все время казалось, «что он лжет и что Татьяна догадывается». «Капитолина Марковна вышла на минуту в другую комнату. — Таня... — сказал с усилием Литвинов. Он в первый раз в тот день назвал ее этим именем. Она обернулась к нему. — Я... я имею сказать вам нечто важное. — А! В самом деле? Когда? Сейчас? — Нет, завтра. — А! завтра. Ну, хорошо. Бесконечная жалость мгновенно наполнила душу Литвинова. Он взял руку Татьяны и поцеловал ее смиренно, как виноватый; сердце в ней тихонько сжалось и не порадовал ее этот поцелуй. Ночью, часу во втором, Капитолина Марковна, которая спала в одной комнате с своей племянницей, вдруг приподняла голову и прислушалась. — Таня! — промолвила она, — ты плачешь? Татьяна не тотчас отвечала. — Нет тетя, — послышался ее кроткий голосок, — у меня насморк. Разговор состоялся на следующий день. «Он застал ее одну. Капитолина Марковна отправилась по магазинам за покупками. Но он — хотя почти всю ночь ни о чем другом не думал, — он не приготовил даже первых, вступительных слов и решительно не знал, каким образом прервать это жестокое молчание. — Таня, — начал он наконец, — я сказал вам вчера, что имею сообщить вам нечто важное... Я готов, только прошу вас заранее не сетовать на меня и быть уверенной, что мои чувства к вам... Он остановился. Ему дух захватило. Татьяна все не шевелилась и не глядела на него, только крепче прежнего стиснула книгу. — Между нами, — продолжал Литвинов, не докончив начатой речи, — между нами всегда была полная откровенность; я слишком уважаю вас, чтобы лукавить с вами; я хочу доказать вам, что умею ценить возвышенность и свободу вашей души, и хотя я... хотя, конечно... — Григорий Михайлыч, — начала Татьяна ровным голосом, и все лицо ее покрылось мертвенною бледностью, — я приду вам на помощь: вы разлюбили меня и не знаете, как мне это сказать». Никаких упреков, жалоб; она держалась с достоинством, доброжелательно. «Он бы не мог солгать в это мгновение, если бы даже знал, что она ему поверит и что его ложь спасет ее; он даже взор ее вынести был не в силах». В Евангелии есть заповедь: «Пусть будет слово ваше: да — да, нет — нет, а что сверх этого, то от лукавого». Это, видимо, значит: говори прямо, просто и по существу, без пустословия и демагогии. «Он бросился перед нею на колени. — Таня, — воскликнул он, — если бы ты знала, как мне тяжело видеть тебя в этом положении, как ужасно мне думать, что это я... я! У меня сердце растерзано; я сам себя не узнаю; я потерял себя, и тебя, и все... Мог ли я ожидать, что я... я нанесу такой удар тебе, моему лучшему другу, моему ангелу-хранителю!.. Татьяна встала; ее брови сдвинулись; бледное лицо потемнело. Литвинов тоже поднялся. — Вы полюбили другую женщину, — начала она, и я догадываюсь, кто она... Мы с ней вчера встречались, не правда ли?.. Что ж! Я знаю, что мне теперь остается делать... мне остается возвратить вам... ваше слово». Литвинов вышел на улицу. Он стремился к Ирине — и злился на нее, и терялся в этом хаосе. Потом во время прогулки он ее встретил. — Приходите через час, я буду дома одна. — Григорий, — говорила ему два часа спустя Ирина, сидя возле него на кушетке и положив ему обе руки на плечо, — что с тобой? Скажи мне теперь, скорее, пока мы одни. — Со мною? — промолвил Литвинов. — Я счастлив, счастлив, вот что со мной. Ирина потупилась, улыбнулась, вздохнула. — Это не ответ на мой вопрос, мой милый. Литвинов задумался. — Ну так знай же... я сегодня все сказал моей невесте. — Что же ты сказал? — Я сказал ей, что я не люблю ее более. — Она спросила, почему! — Я не скрыл от нее, что полюбил другую и что мы должны расстаться. — Ну... и что же она? Согласна? — Ах, Ирина! что это за девушка! Она вся самоотвержение, вся благородство. — Верю, верю... впрочем, ей другого ничего и не оставалось. — И ни одного упрека, ни одного горького слова мне, человеку, который испортил всю ее жизнь, обманул ее, бросил безжалостно... Ирина рассматривала свои ногти. — Скажи мне, Григорий... она тебя любила? — Да, Ирина, она любила меня. Ирина помолчала, оправила платье. — Признаюсь, — начала она, — я хорошенько не понимаю, зачем это тебе вздумалось с нею объясняться? — Как зачем, Ирина! Неужели бы ты хотела, чтоб я лгал, притворялся перед нею, пред этою чистою душой? Или ты полагала? — Я ничего не полагала, — перебила Ирина. — Я, каюсь, мало о ней думала... Я не умею думать о двух людях разом. Зашла речь и о ее обещании соединить свою жизнь с его жизнью. Кончилось тем, что она от души выразила полную готовность: «Я сделаю все, что ты прикажешь, пойду всюду, куда ты меня поведешь!» Сердце перевернулось в Литвинове... — Ирина, Ирина, — твердил он, — мой ангел... Она внезапно приподняла голову, прислушалась... — Это шаги моего мужа... — прошептала она и, проворно отодвинувшись, пересела на кресло. — Рассказывай мне что-нибудь... Вы не пойдете завтра в театр? — произнесла она громко. Он побрел домой, где его встретила Капитолина Марковна. «С первого взгляда на нее он уже знал, что ей все было известно»: глаза опухли от слез, покрасневшее лицо выражало «испуг, тоску негодования, горя и безграничного изумления». Она бросилась к Литвинову с упреками и увещеваниями, но сцену излияния всех этих ее чувств Татьяна сразу же прекратила: «К чему растравливать рану, которую нельзя излечить?» В тот же день они обе уехали. 25 Литвинов просидел за столом почти всю ночь, «писал и рвал написанное... Заря уже занималась, когда он окончил свою работу, — письмо к Ирине». Вот некоторые отрывки из него. «Моя невеста уехала вчера: мы с ней никогда больше не увидимся... все мои предположения, планы, намерения исчезли вместе с нею; самые труды мои пропали, продолжительная работа обратилась в ничто, все мои занятия не имеют никакого смысла и применения; все это умерло и похоронено... Да, любовь твоя все для меня заменила — все, все! Суди же сама: могу ли я оставить это все в руках другого... Я знаю, какой великой жертвы я требую от тебя, не имея на то никакого права... Тебе ненавистны люди, с которыми ты жить должна, ты тяготишься светом, но в силах ли ты бросить этот самый свет, растоптать венец, которым он тебя венчал, восстановить против себя общественное мнение, мнение тех ненавистных людей? Я так мало могу тебе дать взамен того, что ты потеряешь! Слушай же мое последнее слово: если ты не чувствуешь себя в состоянии завтра же, сегодня же все оставить и уйти вслед за мною... если тебя страшит неизвестность будущего, и отчуждение, и одиночество, и порицание людское, если ты не надеешься на себя, одним словом — скажи мне это откровенно и безотлагательно, и я уйду; я уйду с растерзанною душою, но благословлю тебя за твою правду. Если же ты, моя прекрасная, лучезарная царица, действительно полюбила такого маленького и темного человека, каков я, и действительно готова разделить его участь — ну, так дай мне руку, и отправимся вместе в наш трудный путь! Только знай, мое решение несомненно: или все, или ничего! Это безумно... но я не могу иначе, не могу, Ирина! Я слишком сильно тебя люблю. Твой Г. Л.» Она ответила коротенькой запиской. «Приходи сегодня ко мне, он отлучился на целый день... Мне очень тяжело, но ты меня любишь, и я счастлива. Приходи. Твоя И.» 26 Она сидела у себя в кабинете и только что перестала плакать, когда явился Литвинов. — Я знаю, что это нелегко, Ирина... Я пришел сюда как подсудимый и жду: что мне объявят? Смерть или жизнь? Твой ответ все решит. Ответ был обнадеживающим и в то же время слегка уклончивым. — Что ты это говоришь, Григорий?.. Ты желаешь знать мой ответ... да разве ты можешь в нем сомневаться! Тебя смущают мои слезы... но ты их не понял. Твое письмо, друг мой, навело меня на размышления. Вот ты пишешь, что моя любовь для тебя все заменила, что даже все твои прежние занятия должны остаться без применения; а я спрашиваю себя, может ли мужчина жить одною любовью? Не прискучит ли она ему наконец, не захочет ли он деятельности и не будет ли он пенять на то, что его от нее отвлекло? «Литвинов внимательно поглядел на Ирину, и Ирина внимательно поглядела на него, точно каждый из них желал глубже и дальше проникнуть в душу другого, глубже и дальше того, чего может достигнуть, что может выдать слово». — Куда же мы поедем? — шепнула она. — Куда? Об этом мы еще поговорим. Но, стало быть... стало быть, ты согласна? согласна, Ирина? Она посмотрела на него. — И ты будешь счастлив? — О Ирина! — Ни о чем жалеть не будешь? Никогда? Вроде бы решение состоялось. Но подготовка к предстоящему побегу... Надо было изыскать деньги. На первое время хватит, а там надо написать отцу, чтобы продал лес, часть земли. Предлог найдется. Он хотел также занять денег у банкира, но не удалось. А затем он получил от Ирины письмо, написанное по-французски. «Милый мой! я всю ночь думала о твоем предложении... Я не стану с тобой лукавить. Ты был откровенен со мною, и я буду откровенна: я не могу бежать с тобою, я не в силах это сделать». Она каялась, писала о презрении, ненависти к самой себе. Она снова и снова повторяла: «я твоя, твоя навсегда, располагай мною как хочешь... Но бежать, все бросить... нет! нет! нет!» И вот ее окончательное решение: «Оставить этот свет я не в силах, но и жить в нем без тебя не могу. Мы скоро вернемся в Петербург, приезжай туда, живи там, мы найдем тебе занятия, твои прошедшие труды не пропадут, ты найдешь для них полезное применение... Только живи в моей близости, только люби меня, какова я есть, со всеми моими слабостями и пороками, и знай, что ничье сердце не будет так нежно тебе предано, как сердце твоей Ирины. Приходи скорее ко мне, я не буду иметь минуты спокойствия, пока я тебя не увижу. Твоя, твоя, твоя И.» «Молотом ударила кровь в голову Литвинова...» Он упал на диван и лежал неподвижно. «Поезжай за нами в Петербург, — повторял он с горьким внутренним хохотом, — мы там тебе найдем занятия...» «В столоначальники, что ли, меня произведут? И кто эти мы? ...Вот тот мир интриг, тайных отношений...» Жить поблизости от нее, быть домашним другом ее и, разумеется, генерала Ратмирова, — все это до тех пор, пока «минет каприз» и кто-нибудь другой появится! «Литвинов вскочил, схватил шляпу. Но что было делать?» «А не то послушаться ее? — мелькнуло в его голове... — Жить в Петербурге... да разве я первый буду находиться в таком положении?» Кто-то, кажется Станиславский, советовал: играя доброго, ищи где он зол. (Или наоборот.) Человек противоречив. Но какие-то свойства в нем преобладают. Честность, высокие помыслы взяли верх над унизительным рабством. Ведь он может своим трудом принести пользу землякам и даже всему краю! Он послал Ирине записку, где прощался с нею навсегда. Но не тут-то было! Когда на следующее утро он садился в вагон, за его спиной послышался умоляющий шепот: «Григорий Михайлыч... Григорий...» Она стояла на платформе и глядела на него «померкшими глазами». «Вернись, вернись, я пришла за тобой», — говорили эти глаза. Литвинов едва не бросился к ней, но устоял. Все решали минуты. «Он вскочил в вагон и, обернувшись, указал Ирине на место возле себя. Она поняла его. Время еще не ушло. Один только шаг, одно движение, и умчались бы в неведомую даль две навсегда соединенные жизни...» Но она колебалась. Раздался громкий свист, и поезд двинулся. Ирина подошла, шатаясь, к вокзальной скамейке, упала на нее; потом, выбежав на улицу, исчезла «в молочной мгле тумана». 27 «Совершенно уничтоженный и безнадежно несчастный», Литвинов, однако, отдыхал после всех терзаний. Он глядел в окно вагона... День серый и сырой; туман еще держался и низкие облака заволокли все небо. «Ветер дул навстречу поезду; беловатые клубы пара, то одни, то смешанные с другими, более темными клубами дыма, мчались бесконечною вереницей мимо окна, под которым сидел Литвинов». «Неслись клубы за клубами: они непрестанно менялись и оставались те же... Однообразная, торопливая, скучная игра!» В этот миг все казалось безнадежным. «Все дым и пар, думал он; все как будто меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит куда-то — и все исчезает бесследно, ничего не достигая... Дым, шептал он, дым; вспомнились горячие споры, толки и крики у Губарева, у других... Вспомнился, наконец, и знаменитый пикник, ...и другие суждения и речи; и даже все то, что проповедовал Потугин ...дым, дым и больше ничего». «К ночи он проехал мимо Касселя. Вместе с темнотой тоска несносная коршуном на него спустилась... В это время в одной из гостиниц Касселя, на постели, в жару горячки, лежала Татьяна; Капитолина Марковна сидела возле нее. — Таня, — говорила она, — ради Бога, позволь мне послать телеграмму к Григорию Михайловичу; позволь Таня. — Нет, тетя, — отвечала она, — не надо, не пугайся. Дай мне воды; это скоро пройдет». Через неделю она выздоровела, путешествие продолжалось. Литвинов вернулся в свое поместье. Начал хозяйничать. Постепенно в течение трех лет он расплатился с главными долгами, возобновил фабрику, завел крошечную ферму. И дух в нем окреп, «исчезло мертвенное равнодушие»; Ирина как-то «побледнела и скрылась», лишь смутно чуялось «что-то опасное под туманом, постепенно окутавшим ее образ». А Татьяна вместе с теткой жила тихо в своем именьице. Однажды весной Литвинова навестил его дядя, приходившийся также родственником Капитолине Марковне. Этот дядя купил имение где-то по соседству и «много рассказывал о житье-бытье Татьяны». Литвинов ей написал письмо, первое после их разлуки. Он мечтал теперь с ней увидеться. Татьяна ответила дружелюбно. «Как дитя, обрадовался Литвинов; уже давно и ни от чего так весело не билось его сердце. И легко ему стало и светло...» Две недели спустя он поехал к Татьяне. 28 Он ехал проселками. На одной из станций вдруг встретились братья Губаревы. Брат знаменитого Губарева оказался по волчьему свирепым. Он стоял на крыльце почтовой избы и ругался: «Па-адлецы, паадлецы! Мужичье поганое... Вот она... хваленая свобода-то... и лошадей не достанешь... па-адлецы!» Затем на крыльце появился второй Губарев, «тот самый» — кумир вольнодумствующих россиян в Бадене. Увы, сейчас он был похож на старшего брата, «дантиста прежней школы». «Мужичье поганое! Бить их надо, вот что, по мордам бить; вот им какую свободу — в зубы!» — шумел «мыслитель». Потом братья стали звать своего управляющего, им оказался, к удивлению Литвинова, энтузиаст Бамбаев, который некогда привел его к Губареву-младшему — «великому» идеологу вольнодумствующих болтунов. «На злосчастном энтузиасте плачевно болталась обтерханная венгерка с прорехами на рукавах; ...перетревоженные глазки выражали подобострастный испуг и голодную подчиненность... Братья Губаревы немедленно и дружно принялись распекать его с вышины крыльца; он остановился перед ними внизу, в грязи и, униженно сгорбив спину, пытался умилостивить робкою улыбочкой, и картуз мял в красных пальцах, и ногами семенил, и бормотал, что лошади, мол, сейчас явятся...» Заметив Литвинова, младший, «великий» Губарев «повернулся на пятках, по-медвежьи, и, закусив бороду, заковылял в станционную избу»; братец «отправился за ним вслед». Литвинов окликнул Бамбаева, тот ринулся к нему и, зарыдав, поведал: — Я у них... домовым управляющим, дворецким... Что, брат, делать! Есть ведь нечего, последнего гроша лишился, так поневоле в петлю полезешь. Не до амбиции. — Да давно ли он в России? и как же он с прежними товарищами разделался? — поинтересовался Литвинов. — Э! брат! Это теперь все побоку... Погода вишь переменилась... Суханчикову, Матрену Кузьминишну, просто в шею прогнал. Та с горя в Португалию уехала. — Как в Португалию? Что за вздор? — Да, брат, в Португалию, с двумя матреновцами. — С кем? — С матреновцами: люди ее партии так прозываются. — У Матрены Кузьминишны есть партия? И многочисленна она? — Да вот именно эти два человека. А он с полгода скоро будет как сюда воротился. Других под сюртук взяли, а ему ничего. В деревне с братцем живет, и послушал бы ты теперь... О многом последующем все это напоминает. Вольнодумство, революции, перемены... При таких нравах что толку... Опять кто-то будет наверху командовать, а кто-то стараться умилостивить — «робкою улыбочкой» или какнибудь иначе. 29 И вот наконец, после всех перипетий Литвинов подъезжает к Татьяниной деревне. Он просил позволения «возобновить хотя бы письменное знакомство», «желал знать, навсегда ли он должен покинуть мысль когданибудь с ней увидеться». Татьяна ответила на его письмо просто, прямо, с благородным достоинством. (Без лукавой игры, капризов, расчетливого кокетства.) «Если вам вздумается нас посетить, — милости просим, приезжайте: говорят, даже больным легче вместе, чем порознь». «Домик, где жила бывшая его невеста, стоял на холме, над небольшой речкой, посреди недавно разведенного сада. Домик тоже был новенький, только что построенный, и далеко виднелся через речку и поле. Литвинову он открылся версты за две с своим острым мезонином и рядом окошек, ярко рдевших на вечернем солнце. Уже с последней станции он чувствовал тайную тревогу; но тут просто смятение овладело им, смятение радостное, не без некоторого страха. «Как меня встретят, — думал он, — как я предстану?..» Потом он заговорил с ямщиком, спросил, знает ли тот Шестовых, помещиц. Ямщик, степенный, с седою бородой о барынях отозвался одобрительно: «Барыни добрые... Лекарки! К ним со всего округа ходят». Посильное деяние на пользу окружающим, хотя бы самое небольшое, незаметное — вот, видимо, смысл и цель их жизни. (А, может быть, и человеческой жизни вообще?) «Как кто, например, заболел, или порезался, или что, сейчас к ним, и они сей час примочку там, порошки или флястырь — и ничего, помогает. А благодарность представлять не моги; мы, говорят, на это не согласны; мы не за деньги. Школу тоже завели...» Коляска вкатилась в раскрытые ворота... Капитолина Марковна выбежала на крыльцо и встретила его с восторгом. «Торопливо обняв ее, Литвинов бросился в дом, в залу. Татьяна подала ему руку, а он упал перед ней на колени. «Слезы выступили у ней на глаза. Испугалась она, а все лицо расцветало радостью...» Это лишь начало нового этапа их жизни, который может затем обернуться новыми проблемами, страданиями. Но пока что, в этот миг положительные герои счастливы. И, главное, — они производят впечатление реальных, не идеализированных. Обычно прелестные героини Тургенева страдали главным образом из-за несовершенства окружающей жизни. Татьяне, кажется, повезло. У нее кое-какой достаток. Она лишена комплексов ущемленного самолюбия, ложных иллюзий, притязаний, встреченный ею герой не поддался губительным соблазнам, занят нужным делом, пусть не особенно заметным и престижным. И, пожалуй, Литвинов ее достоин. В нем нет лукавства, ловкой игры. Жизнь молодого энтузиаста, который надеялся своим трудом принести пользу не только себе, но также своим землякам и всему краю. В какой-то мере он, пожалуй, это осуществил! А препятствия? Были, конечно. И, самое из них опасное — первая любовь, несчастливая, непреодолимая, которая чуть не увела на чуждый для него путь. Тут не просто мелкая интрижка, не «прелюбодеяние», легкое и игривое, как полагал Толстой, тут история любви, испытания, которым эта любовь подверглась в определенных социальных условиях. А что Ирина? Она все так же прелестна, блистает в «высших сферах». Настоящего «избранника», видимо, нет; она в сущности одинока. Одаренная, очаровательная. Но жизнь ее бесцельна. Муж, Ратмиров, продолжает карьерные ухищрения, но Ирина (видимо, не без оснований) относится к нему почти враждебно. Говорят, у нее «озлобленный ум». Ее все боятся: никто не умеет так верно и тонко подметить и заклеймить смешную или мелкую сторону чужого характера... Итак, что в книге прежде всего утверждается, что главное? Посильное деяние на пользу окружающим, вопреки всем препятствиям. Здесь показано, что это главное, а не пустое «вольнодумство» и не «великосветский блеск». Может быть, именно поэтому Тургенев полагал, что «Дым» — единственно дельная и полезная вещь изо всех его книг? 1867 1 Спокойный, свободный рассказ о минувших событиях. Начало, характерное для Тургенева. В зимний вечер шесть человек собрались у старинного университетского товарища. Люди, видимо, немолодые и с образованием. Речь зашла между прочим о Шекспире, о том, что его типы верно «выхвачены из самых недр человеческой «сути». Каждый называл тех Гамлетов, Отелло и прочих героев шекспировских трагедий, которых довелось встретить среди окружающих. А хозяин «знавал одного короля Лира» и по просьбе остальных немедленно «приступил к повествованию». Детство и юность рассказчика прошли в деревне, в имении матери, богатой помещицы. Их ближайшим соседом был Мартын Петрович Харлов, человек исполинского роста и необыкновенной силы. Двухаршинная спина, плечи, «подобные мельничным жерновам», уши, похожие на калачи. Копна спутанных желтоседых волос над сизым лицом, огромный шишковатый нос и крошечные голубые глазки. Удивительное бесстрашие и бескорыстие были ему свойственны. Лет 25 назад он спас жизнь Наталье Николаевне (так звали помещицу, мать рассказчика), удержав ее карету на краю глубокого оврага, куда лошади уже свалились. «Постромки и шлеи порвались, а Мартын Петрович так и не выпустил из рук схваченного им колеса — хотя кровь брызнула у него из-под ногтей». Он гордился древним дворянским происхождением и полагал, что оно обязывает благородно поступать, «чтоб никакой смерд, земец, подвластный человек и думать о нас худого не дерзнул! Я — Харлов, фамилию свою вон откуда веду... и чести чтоб во мне не было?! Да как это возможно?» Предком Харлова был швед Харлус, который в давние времена приехал в Россию, «пожелал быть русским дворянином и в золотую книгу записался». Его жена умерла, остались две дочери, Анна и Евлампия. Соседка Наталья Николаевна сначала выдала замуж старшую; мужем Анны стал некий Слеткин, сын мелкого чиновника, услужливый, довольно злобный и жадный. Для Евлампии соседка также «припасла» жениха. Это был отставной армейский майор Житков, человек уже немолодой, бедный, который «едва разумел грамоте и очень был глуп», но хотел попасть в управляющие имением. «Что другоес, а зубье считать у мужичья — это я до тонкости понимаю, — говаривал он...» Ох, не о благородстве тогдашних нравов это все свидетельствует! А чего стоит брат покойной жены Харлова некто Бычков, по прозвищу Сувенир, «приютившийся» в доме богатой помещицы Натальи Николаевны, матери рассказчика, «в качестве не то шута, не то нахлебника». «Это был человек мизерный, всеми презираемый: приживальщик одним словом». Чувствовалось, что будь у него деньги, «самый бы скверный человек из него вышел, безнравственный, злой, даже жестокий». Но, может быть, дочери Харлова на высоте, полагая, как и отец, что дальние предки обязывают? 2 Однажды летом, под вечер в дом к Наталье Николаевне явился Мартын Петрович, небывало задумчивый, бледный. Он что-то хотел сообщить, бормотал несвязные слова, потом вдруг вышел, сел на свои дрожки и умчался. А на следующий день приехал снова и рассказал, что неделю назад, проснувшись, почувствовал, что рука и нога не действуют. Паралич? Но потом он «снова вошел в действие». Восприняв это, как предостережение (к тому же приснился нехороший сон), старик решил разделить имение между двумя дочерьми. Он попросил, чтобы при совершении формального акта присутствовали сын помещицы (впоследствии рассказавший друзьям эту историю) и живший в ее доме Бычков. Пригласил он также и ее управляющего, и жениха Евлампии Житкова. Оказалось, что все бумаги уже подготовлены и «палата утвердила», поскольку Мартын Петрович в ходе оформления бумаг «денег не жалел». — Неужели ты все свое именье без остатку дочерям предоставляешь? — Вестимо, без остатку. — Ну, а ты сам... где будешь жить? Харлов даже руками замахал. — Как где? У себя в доме, как жил доселючи... так и впредь. Какая же может быть перемена? — И ты в дочерях своих и в зяте так уверен? — Это вы про Володьку-то говорить изволите? Про тряпку про эту? Да я его куда хочу пихну, и туда, и сюда... Какая его власть? А они меня, дочери то есть, по гроб поить, одевать, обувать... Помилуйте! Первая их обязанность! Соседка-помещица ввиду важности момента откровенно высказала свое мнение: «Ты меня извини, Мартын Петрович; старшая у тебя, Анна, гордячка известная, ну да и вторая волком смотрит...» Но Мартын Петрович возразил: «Да чтоб они... Мои дочери... Да чтоб я... Из повиновенья-то выйти? Да им и во сне... Противиться? Кому? Родителю?.. Сметь? А проклясть-то их разве долго? В трепете да в покорности век свой прожили — и вдруг... Господи!» Видимо, жизнь в трепете да в покорности — не лучший учитель. 3 Настал день «совершения формального акта». Раздел имущества. Очень все было торжественно. Мартын Петрович облекся в ополченский 12-го года наряд, на груди его красовалась бронзовая медаль, сбоку висела сабля. И какая значительная поза. Левая рука на рукоятке сабли, правая на столе, покрытом красным сукном. И на столе — два исписанных листа бумаги — акт, который предстояло подписать. «И какая важность сказывалась в его осанке, какая уверенность в себе, в своей неограниченной и несомненной власти!» Мартын Петрович, при всем бескорыстии, не лишен был определенных человеческих слабостей. Желание покрасоваться, продемонстрировать свою значимость и выставить свое благодеяние напоказ! «Твори милостыню втайне», — сказано в Евангелии. (Вероятно, это не только к милостыне относится, но к любому благодеянию.) Торжественно все было, очень торжественно... И священник присутствовал. Но не вспомнили, что есть в Евангелии еще хорошие правила, например: «Возвышающий себя сам, унижен будет». Если бы люди не то что исполняли... хотя бы знали об этих принципах человеческих отношений. Но взгляните, к примеру, на исправника, представителя земского суда. Что ему до всех принципов! «Жирненький, бледненький, неопрятный господинчик... с постоянной, хоть и веселой, но дрянной улыбочкой на лице: он слыл за великого взяточника... В сущности его интересовала одна предстоявшая закуска с водочкой». «На, возьми, читай! А то мне трудно. Только смотри, не лотоши! Чтобы все господа присутствующие вникнуть могли», — довольно бесцеремонно приказал Мартын Петрович зятю, с подобострастным видом стоявшему у двери. А последнюю фразу акта Мартын Петрович пожелал прочесть сам. «И сию мою родительскую волю дочерям моим исполнять и наблюдать свято и нерушимо, яко заповедь; ибо я после Бога им отец и глава, и никому отчета давать не обязан и не давал...» Это была самодельная «бумага», составленная по указанию Мартына Петровича весьма цветисто и внушительно, а настоящую дарственную запись, составленную по форме, «безо всяких этих цветочков», прочел затем исправник. Но и это было еще не все. 4 «Ввод во владение» новых двух помещиц происходил на крыльце в присутствии крестьян, дворовых, а также понятых и соседей. Исправник (тот самый «жирненький господинчик с... веселой, но дрянной улыбочкой на лице») придал своему лицу «вид грозный» и внушал крестьянам «о послушании». Хотя нет более «смирных физиономий», чем у харловских крестьян. «Облеченные в худые армяки и прорванные тулупы», крестьяне стояли неподвижно и, как только исправник испускал «междометие» вроде: «Слышите, черти! Понимаете, дьяволы!», кланялись вдруг все разом, словно по команде...» Видно, Мартын Петрович их, как следует, вымуштровал. Ох, сколько всего еще предстояло в ближайшие 100–150 лет! Конечно, «блаженны смиренные», «блаженны кроткие», — утверждает Евангелие. Но это когда все вокруг смиренные и кроткие — не от страха, а по внутреннему убеждению. До такого уровня еще очень было далеко. Еще предстояло в будущем, немного распрямившись, громить помещичьи усадьбы; потом снова пережить подобие крепостного права: без паспортов, без права хоть слово свободно сказать, с подневольным тяжким трудом за пустые «палочки» вместо трудодней; под властью новых «погонял», выросших из своей же среды, не из помещиков или кулаков. Когда-нибудь при ином уровне технической оснащенности, сознания, отношений — станут, может быть, все милостивыми, кроткими, чистыми сердцем. Но тогда, во времена Тургенева... И как чутко он подметил все важные подробности тогдашней жизни, как сумел передать их — точно, реально, живо. Слишком долго, подробно? Зато, если у Тургенева все подряд читать, возникает живая картина, даже в нынешних наших недостатках многое объясняющая. Сам Харлов не пожелал выйти на крыльцо: «Мои подданные и без того моей воле покорятся!» То ли вздумалось ему вдруг покуражиться в последний раз, то ли еще что взбрело в голову, но он потом рявкнул в форточку: «Повиноваться!» Дочери, новые помещицы, держались важно. А особенно изменился зять Мартына Петровича Слеткин. «Движения головы, ног остались подобострастными», но весь вид теперь говорил: «Наконец, мол, дорвался!» Был молебен. Анна и Евлампия, уже прежде кланявшиеся Мартыну Петровичу до земли, снова по приказанию отца «благодарили его земно». Потом застолье, тосты. И вдруг жалкий, суетливый Сувенир (брат покойной жены Харлова), как видно, опьянев, «залился своим дряблым, дрянным смехом» и стал предрекать, как поступят в дальнейшем с Мартыном Петровичем: «Голой спиной... да на снег!» — Что ты врешь? Дурак! — презрительно промолвил Харлов. — Дурак! дурак! — повторил Сувенир. — Единому Всевышнему Богу известно, кто из нас обоих заправский-то дурак. А вот вы, братец, сестрицу мою, супругу вашу уморили... В общем, разговоры во время застолья были откровенные. Наконец, Мартын Петрович повернулся ко всем спиною и вышел. Затем все разъехались. 5 Вскоре соседка-помещица с сыном (впоследствии рассказавшим друзьям всю эту историю) уехала в деревню к сестре, а вернувшись в конце сентября в свою деревню, они вдруг узнали от слуги, что Мартын Петрович «самым, как есть, последним человеком стал», что теперь Слеткин «всем орудует», а Житкова, жениха Евлампии, вообще прогнали. Наталья Николаевна (соседка-помещица) пригласила к себе Харлова и Слеткина. Мартын Петрович не явился, а в ответ на ее письмо прислал четвертушку бумаги, на которой крупными буквами было написано: «Ей-же-ей не могу. Стыд убьет. Пущай так пропадаю. Спасибо. Не мучьте. Харлов Мартынко». Слеткин явился, хотя и не сразу, но беседа была короткой, он вышел из кабинета помещицы весь красный, с «ядовито-злым и дерзостным выражением лица». Приказано было затем — Слеткина и дочерей Харлова, если вздумают явиться, «не допускать». Слеткин, в прошлом воспитанник помещицы, соседки Харлова, был сирота. Курчавыми волосиками, черными, как вареный чернослив глазами, ястребиным носом он «напоминал еврейский тип». Сперва «поместили» его в уездное училище, потом он поступил в «вотчинную контору», потом его «записали на службу по казенным магазинам» и, наконец, женили на дочери Мартына Петровича. Вечная зависимость — сначала от благодетельницы, которая его приютила, потом от капризов Мартына Петровича мало, видимо, способствовала воспитанию в нем достоинства и великодушия. Кто были его предки? Из евреев, цыган, молдаван? Из армян или прочих кавказцев? Откуда «черные, как вареный чернослив, глаза», кучерявые волосы, ястребиный нос? Что хранит его генетическая память, какие скитания, бедствия? Да вряд ли стоит рыться в генах, когда вся его сознательная жизнь тоже не способствовала очищению души. В басне Крылова сказано про одну несчастную птицу: «И от ворон она отстала, и к павам не пристала». С одной стороны, господа, как павлины гордые своим господским положением, с другой — темная голь, от которой он давно отстал. Анна, дочь Харлова, на которой Слеткина «женили», внешне была привлекательна — сухощавая, с красивым смуглым лицом и бледно-голубыми глазами. Но «всякий, взглянув на нее, наверное, подумал бы: «Ну, какая же ты умница — и злюка!» В ее красивом лице было что-то «змеиное». А вот как выглядела Евлампия: «осанистая красавица», высокого роста, дородная, крупная. Белокурая густая коса, глаза темносиние с поволокой. «Но во взгляде ее огромных глаз было что-то дикое и почти суровое». Она, видимо, многие свои особенности унаследовала от Мартына Петровича. Мальчик, сын помещицы (от лица которого спустя многие годы ведется рассказ), с ружьем и собакой отправился на охоту. В роще он услышал невдалеке голоса, и вскоре на поляну неожиданно вышел Слеткин и Евлампия. При этом Евлампия как-то смутилась, а Слеткин затеял разговор и сообщил, что Мартын Петрович «сперва обижался», а теперь «совсем тих стал». Что касается жениха, которому отказали, то Слеткин объяснил, что Житков (отставной майор), неподходящий человек для ведения хозяйства. — Я, говорит, могу с крестьянином расправу чинить. Потому — я привык по роже бить! (Это он, служа в армии, так привык.) — Ничего-с он не может. И по роже бить нужно умеючи. А Евлампия Мартыновна сама ему отказала. Совсем неподходящий человек. Все наше хозяйство с ним бы пропало! Бродя по лесу, мальчик затем опять встретил на лужайке Слеткина с Евлампией. Слеткин лежал на спине, заложив обе руки под голову и слегка покачивая левой ногой, «закинутой на правое колено». По лужайке, в нескольких шагах от Слеткина, медленно, с опущенными глазами, похаживала Евлампия и вполголоса напевала. Слова песни говорят о многом. Ты найди-ка, ты найди, туча грозная, Ты убей-ка, ты убей тестя-батюшку. Ты громи-ка, громи ты тещу-матушку, А молодую-то жену я и сам убью! Анна потом, выйдя на крыльцо, долго глядела в направлении рощи, даже спросила проходившего по двору мужика, не вернулся ли барин. — Не видал... нетути, — отвечал, сняв шапку, мужик. 6 Мальчик встретил потом у пруда самого Мартына Петровича, который сидел с удочкой. «Но в какое он был одет рубище и как опустился весь!» 15-летний мальчик, желая утешить старика, позволил себе заговорить об его ошибке: — Вы поступили неосторожно, что все отдали вашим дочерям... Но если ваши дочери так неблагодарны, то вам следует оказать презрение... именно презрение... и не тосковать... — Оставь! — прошептал вдруг Харлов со скрежетом зубов, и глаза его, уставленные на пруд, засверкали злобно... — Уйди! — Но Мартын Петрович... — Уйди, говорят... а то убью! Он рассвирепел, а потом оказалось, что он плачет. «Слезинка за слезинкой катилась с его ресниц по щекам... а лицо приняло выражение совсем свирепое...» В середине октября он внезапно появился в доме соседки-помещицы. Но в каком виде! Его отчаяние усугубляет осенний пейзаж. «Ветер то глухо завывал, то свистал порывисто; низкое, без всякого просвету небо из неприятно белого цвета переходило в свинцовый, еще более зловещий цвет — и дождь, который лил, лил неумолчно и беспрестанно, внезапно становился еще крупнее, еще косее и с визгом расплывался по стеклам». Все, и серые деревья, и лужи, засоренные мертвыми листьями, и непролазная грязь на дорогах, и холод — все нагоняло тоску. Мальчику, стоявшему у окна, вдруг почудилось, что огромный медведь, вставший на задние лапы, промчался по двору. Вскоре чудовище стояло посреди столовой на коленях перед хозяйкой и ее домочадцами. Это был Мартын Петрович — прибежал пешком по непролазной грязи. «Выгнали меня, сударыня... Родные дочери...» «Чти отца и мать», — сказано в древних библейских заповедях. Но аккуратно исполняли здесь в основном по традиции обряды, забыв (или вовсе не зная) еще одно правило, приведенное в Евангелии: «Суть веры важнее внешней формы». Его постель выбросили в чулан, а комнату отобрали. Еще до этого оставили совсем без денег. Дочери во всем подчинялись теперь Слеткину, а тот словно мстил унижавшему его прежде «благодетелю». Надо все-таки отдать должное Мартыну Петровичу, совесть у него имелась, ненормальное устройство общества зачастую мешало ей проявиться. «Сударыня, — простонал Харлов и ударил себя в грудь: — Не могу я снести неблагодарность моих дочерей! Не могу, сударыня! Ведь я им все, все отдал! И к тому же, совесть меня замучила. Много... ох! много передумал я... «Хоть бы ты пользу кому в жизни сделал!» — размышлял я так-то, — бедных награждал, крестьян на волю отпустил, что ли, за то, что век их заедал! Ведь ты перед Богом за них ответчик! Вот когда тебе отливаются их слезки!» Может быть, страдания в конце концов пробуждают совесть? Может быть, страдания не бесполезны для людей? 7 У соседки-помещицы было доброе сердце. Мартыну Петровичу отвели хорошую комнату, дворецкий побежал за постельным бельем, и как раз в этот момент жалкий, униженный нахлебник Сувенир воспользовался возможностью покуражиться над презиравшим его всегда гордецом. Сколько таких Сувениров, лишенных собственного жилья, имущества, приличного социального статуса, ютилось в имениях всевозможных помещиков. «Приживальщик», «шут», жалкий нищий. Постоянная униженность, бесцельность, необходимость угождать. Растоптанная человеческая личность может затем обернуться страшной, неожиданной стороной. — Приживальщиком меня величал, дармоедом! «Нет, мол, у тебя своего крова!» А теперь небось таким же приживальщиком стал... Успокоившийся было Мартын Петрович опять стал раздражаться. Но Сувениром «словно бес овладел». После всех унижений это был час его «торжества». — Да, да, почтеннейший! — затрещал он опять, — вот мы с вами теперь в каких субтильных обстоятельствах обретаемся! А дочки ваши, с зятьком вашим, Владимиром Васильевичем, под вашим кровом над вами потешаются вдоволь! И хоть бы вы их, по обещанию, прокляли! И на это вас не хватило! Да и куда вам с Владимиром Васильевичем тягаться? Еще Володькой его называли! Какой он для вас Володька? Он — Владимир Васильевич, господин Слеткин, помещик, барин, а ты — кто такой? Каждая картина, движение, характер живут, и все события кажутся реальными. Вроде бы автор о них рассказывает, а на самом деле — показывает. И Харлов, почти уже было начавший обретать смирение («Я ведь и простить могу!»), небывало разъярился. — Кров! — говоришь ты... Нет! я их не прокляну... Им это нипочем! А кров... Кров я их разорю, и не будет у них крова так же, как у меня! Узнают они Мартына Харлова! Не пропала еще моя сила! Узнают, как надо мной издеваться!.. Не будет у них крова! И он кинулся прочь. Наталья Николаевна послала за ним управляющего имением, но вернуть не смогла. Вскоре он уже стоял на чердаке своего бывшего дома и ломал крышу нового флигеля. Управляющий доложил помещице, что перепуганные крестьяне Харлова все попрятались. — А дочери его — что же? — И дочери — ничего. Бегают зря... голосят... Что толку? — И Слеткин там? — Там тоже. Пуще всех вопит, но поделать ничего не может. 8 На дворе Харлова было все же людно: зрелище небывалое. Он все крушил без инструментов — голыми руками. Слеткин с ружьем в руках, не решаясь выстрелить, безуспешно пытался заставить крестьян лезть на крышу, они явно уклонялись. Тут было и восхищение необыкновенной силой бывшего хозяина, и страх перед этой силой, и еще... Чуть ли не одобряли они Харлова, хоть и удивил он их. И вот «с тяжким грохотом бухнула последняя труба...». Слеткин прицелился, но вдруг Евлампия «одернула его за локоток». — Не мешай, — свирепо вскинулся он на нее. — А ты не смей! — промолвила она, и синие ее глаза грозно сверкнули из-под надвинутых бровей. — Отец свой дом разоряет. Его добро. — Врешь: наше! — Ты говоришь: наше, а я говорю: его. Но уже поздно было, старик разошелся вовсю. — А, здорово! здорово, дочка любезная! — загремел сверху Харлов. — Здорово, Евлампия Мартыновна! Как живешь-можешь со своим приятелем? Хорошо ли целуетесь, милуетесь? На лице Харлова была «странная усмешка — светлая, веселая... недобрая усмешка...». Но Евлампия в эту страшную минуту не дрогнула. — Перестань, отец; сойди... Мы виноваты; все тебе возвратим. Сойди. — А ты что за нас распоряжаешься? — вмешался Слеткин. Евлампия только пуще брови нахмурила. — Я свою часть тебе возвращу — все отдам. Перестань, сойди, отец! Прости нас; прости меня. Харлов все продолжал усмехаться. — Поздно, голубушка, — заговорил он, и каждое его слово звенело, как медь. — Поздно шевельнулась каменная твоя душа! Под гору покатилось — теперь не удержишь!.. Захотели вы меня крова лишить — так не оставлю же я и вам бревна на бревне! Своими руками клал, своими же руками разорю — как есть одними руками! Видите, и топора не взял! И как ни упрашивала его Евлампия, обещая приютить, обогреть и раны перевязать, все было напрасно. Он стал раскачивать передние стропила фронтона, напевая «по-бурлацкому» — «Еще разик! еще раз!» Приехавший снова управляющий Натальи Николаевны предпринимал какие-то меры, но безуспешно. «Передняя пара стропил, яростно раскаченная, накренилась, затрещала и рухнула на двор — и вместе с нею, не будучи в силах удержаться, рухнул сам Харлов и грузно треснулся оземь. Все вздрогнули, ахнули... Харлов лежал неподвижно на груди, а в спину ему уперся продольный верхний брус крыши, конек, который последовал за упавшим фронтоном». «Ему брусом затылок проломило, и грудь он себе раздробил, как оказалось при вскрытии». Все же этот степной медведь, полуграмотный, дикий, свирепый, вызывает невольное сочувствие и даже иной раз уважение. Он еще успел перед смертью произнести едва слышно последние слова, обращенные к Евлампии: «Ну, доч... ка... Тебя я не про...» Что он хотел сказать: «Я тебя не про... клинаю или не про... щаю»? Скорее всего, это было все же прощение. В итоге, увы, Мартын Петрович, одаренный необычайной силой, ничего общественно полезного не совершил — разрушил флигель, да покуражился над ближними. 9 Ну вот, мы и заглянули в деревенскую глушь середины XIX века. Сколько бесцеремонной гордости рядом и жалкого, безграничного унижения. Тут каждый персонаж действует в соответствии со своим характером и, конечно, условиями. Тут ненормальное, возмутительное кажется им подчас нормальным. Но души задавленных крестьян потихоньку обретают иногда неясное ощущение: что справедливо, а что «не по-божески», реагируют инстинктивно на добро и зло. Постепенно, незаметно пробивается в них чувство справедливости, хотя бы искорки доброты. 15-летний подросток, наблюдавший все эти события, многое заметил: как Слеткин и жена его стали «предметом хотя безмолвного, но общего отчуждения», а на Евлампию, «хотя вина ее была, вероятно, не меньше сестриной, это отчуждение не распространялось. Она даже некоторое сожаление к себе возбудила, когда повалилась в ноги скончавшемуся отцу. Но что и она была виновата, — это все-таки чувствовалось всеми». «Обидели старика», — сказал какой-то крестьянин... — на вашей душе грех! Обидели!» Это слово «обидели!» тотчас было принято всеми, как бесповоротный приговор. Правосудие народное сказалось...» Через несколько дней Евлампия навсегда ушла из дома, отдав сестре свою часть имения, взяла только несколько сот рублей. 10 Впоследствии рассказчик увидел обеих сестер. Анна стала вдовой и отличной хозяйкой имения, держалась спокойно, с достоинством, и никто из местных помещиков не умел «убедительнее выставлять и защищать свои права». Говорила она «немного и тихим голосом, но каждое слово попадало в цель». У нее было трое прекрасно воспитанных детей, две дочери и сын. Местные помещики говорили, что она «продувная шельма; «скряга», отравила своего мужа и т. д. Но от нее самой, от ее семьи, быта — веяло довольством. «Все на свете дается человеку не по его заслугам, а вследствие каких-то еще не известных, но логических законов», — размышляет рассказчик, — «иногда мне кажется, что я смутно чувствую их». Что же он смутно чувствовал? Каковы эти законы? Жаль, не сделал он смутное явным. Евлампия встретилась ему случайно через несколько лет в небольшой деревушке около Петербурга. Там на перекрестке двух дорог, обнесенный высоким и тесным частоколом стоял одинокий дом, где жила руководительница «хлыстов-раскольников». Кто такие эти раскольники? Секта, возникшая в России еще в XVII веке. Говорили, что они «без попов живут», а руководительницу свою именуют «богородица». И однажды ее удалось увидеть. Из ворот одинокого таинственного дома выкатила на дорогу тележка, в которой сидел мужчина лет 30-ти «замечательно красивой и благообразной наружности», а рядом женщина высокого роста в дорогой черной шали и «бархатном шушуне» — Евлампия Харлова. На ее лице появились морщины, но «особенно изменилось выражение этого лица! Трудно передать словами, до чего оно стало самоуверенно, строго, горделиво! Не простым спокойствием власти — пресыщением власти дышала каждая черта...» Каким образом Евлампия попала в хлыстовские богородицы? Отчего умер Слеткин? Каковы «еще не известные законы», на основе которых «все на свете дается человеку»? В жизни есть неразгаданные тайны. Тургенев прежде всего художник, а не философ, и рисует здесь жизнь так, как она была воспринята рассказчиком, не стремясь непременно ответить на все возникающие при этом вопросы. Конец повести, деловитый, спокойный, возвращает нас к ее началу, когда шесть старых университетских товарищей встретились зимним вечером и не спеша беседовали о шекспировских типах, иногда встречающихся в повседневной жизни. Рассказчик умолк, приятели еще немного потолковали да и разошлись. Есть «еще неизвестные законы» и неразгаданные тайны. Но известны человеку уже давным-давно законы поведения и отношений — заповеди, постоянное нарушение которых как раз и приводит к страданиям, рано или поздно у каждого наступающим то ли в земной, то ли, как утверждают мудрецы, в иной какой-то жизни. К примеру, еще до нашей эры было сказано человеку: «Чти отца и мать» (независимо от их достоинств или недостатков, богатства или бедности). Король Лир страдал от невыполнения этой заповеди. Или, например: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними», — призывал еще Иисус Христос в Нагорной проповеди. То есть относитесь бережно к чужой жизни, достоинству, интересам. Если бы всех нас лучше воспитывали с самого детства, все мы скорее научились бы создавать условия, все более благоприятные для исполнения заповедей. Это все еще впереди — задача для XXI и последующих веков. 1870 1 Повести предпослано четверостишие из старинного русского романса: Веселые годы, Счастливые дни — Как вешние воды, Промчались они. Видно, речь пойдет о любви, молодости. Может быть, в форме воспоминаний? Да, действительно. «Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он выслал слугу, зажегшего свечки, и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеими руками». Ну что же, судя по всему, живется «ему» (с нашей точки зрения) неплохо, кто бы он ни был: слуга зажигает свечки, затопил для него камин. Как выясняется далее, вечер он провел с приятными дамами, с образованными мужчинами. К тому же: некоторые из дам были красивы, почти все мужчины отличались умом и талантами. Сам он тоже блеснул в разговоре. Отчего же сейчас его душит «отвращение к жизни»? И о чем он (Санин Дмитрий Павлович) размышляет в тиши уютного теплого кабинета? «О суете, ненужности, пошлой фальши всего человеческого». Вот так, ни больше ни меньше! Ему 52 года, он вспоминает все возрасты и не видит просвета. «Везде все то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, то же наполовину добросовестное, наполовину сознательное самообольщение... — а там вдруг, уж точно как снег на голову нагрянет старость — и вместе с нею... страх смерти... и бух в бездну!» А перед концом немощи, страдания... Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, он присел к письменному столу, стал рыться в своих бумагах, в старых женских письмах, собираясь сжечь этот ненужный хлам. Вдруг он слабо вскрикнул: в одном из ящиков была коробка, в которой лежал маленький гранатовый крестик. Он опять сел в кресло у камина — и опять закрыл руками лицо. «...И вспомнил он многое, давно прошедшее... Вот что вспомнил он...» Летом 1840 года он был во Франкфурте, возвращаясь из Италии в Россию. После смерти отдаленного родственника у него оказалось несколько тысяч рублей; он решил прожить их за границей, а затем поступить на службу. В то время туристы разъезжали в дилижансах: еще мало было железных дорог. Санину в это день предстояло выехать в Берлин. Гуляя по городу, он в шестом часу вечера зашел в итальянскую кондитерскую выпить стакан лимонада. В первой комнате никого не было, потом туда из соседней комнаты вбежала девушка лет 19-ти «с рассыпанными по обнаженным плечам темными кудрями, с протянутыми вперед обнаженными руками». Увидев Санина, незнакомка схватила его за руку и повела за собой. «Скорей, скорей, сюда, спасите!» — говорила она «задыхавшимся голосом». Он в жизни не видывал такой красавицы. В соседней комнате лежал на диване ее брат, мальчик лет 14-ти, бледный, с посиневшими губами. Это был внезапный обморок. В комнату приковылял какой-то крошечный лохматый старичок на кривых ножках, сообщил, что послал за доктором... «Но Эмиль пока умрет!» — воскликнула девушка и протянула руки к Санину, умоляя о помощи. Он снял с мальчика сюртук, расстегнул его рубашку и, взяв щетку, стал растирать ему грудь и руки. При этом он искоса поглядывал на необыкновенную красавицу итальянку. Нос чуточку великоват, но «красивого, орлиного ладу», темно-серые глаза, длинные темные кудри... Наконец, мальчик очнулся, вскоре появилась дама с серебристо-седыми волосами и смуглым лицом, как выясняется, мать Эмиля и его сестры. Одновременно явилась служанка с доктором. Опасаясь, что теперь он лишний, Санин вышел, но девушка его догнала и упросила вернуться через час «на чашку шоколада». «Мы вам так обязаны — вы, может быть, спасли брата — мы хотим благодарить вас — мама хочет. Вы должны сказать нам, кто вы, вы должны порадоваться вместе с нами...» 2 Часа через полтора он явился. Все обитатели кондитерской казались несказанно счастливыми. На круглом столе, покрытом чистой скатертью, стоял огромный фарфоровый кофейник, наполненный душистым шоколадом; вокруг чашки, графины с сиропом, бисквиты, булки. В старинных серебряных шандалах горели свечи. Санина усадили в мягкое кресло, заставили рассказать о себе; в свою очередь дамы посвятили его в подробности своей жизни. Они все итальянцы. Мать — дама с серебристоседыми волосами и смуглым лицом «почти совсем онемечилась», поскольку ее покойный муж, опытный кондитер, 25 лет назад поселился в Германии; дочь Джемма и сын Эмиль «очень хорошие и послушные дети»; маленький старичок, по имени Панталеоне, был, оказывается, когда-то давно оперным певцом, но теперь «состоял в семействе Розелли чем-то средним между другом дома и слугою». Мать семейства, фрау Леноре, так представляла себе Россию: «вечный снег, все ходят в шубах и все военные — но гостеприимство чрезвычайное! Санин постарался сообщить ей и ее дочери сведения более точные». Он даже спел «Сарафан» и «По улице мостовой», а потом пушкинское «Я помню чудное мгновенье» на музыку Глинки, кое-как аккомпанируя себе на фортепьяно. Дамы восхищались легкостью и звучностью русского языка, потом спели несколько итальянских дуэтов. Бывший певец Панталеоне тоже пытался что-то исполнить, какую-то «необыкновенную фиоритуру», но не справился. А потом Эмиль предложил, чтобы сестра прочла гостю «одну из комедиек Мальца, которые она так хорошо читает». Джемма читала «совсем по-актерски», «пуская в ход свою мимику». Санин так любовался ею, что не заметил, как пролетел вечер, и совсем забыл, что в половине одиннадцатого отходит его дилижанс. Когда вечером часы пробили 10, он вскочил как ужаленный. Опоздал! — Вы все деньги заплатили или только задаток дали? — полюбопытствовала фрау Леноре. — Все! — с печальной ужимкой возопил Санин. — Вы теперь несколько дней должны остаться во Франкфурте, — сказала ему Джемма, — куда вам спешить?! Он знал, что придется остаться «в силу пустоты своего кошелька» и попросить одного берлинского приятеля прислать денег. — Оставайтесь, оставайтесь, — промолвила и фрау Леноре. — Мы познакомим вас с женихом Джеммы, господином Карлом Клюбером. Санина это известие слегка огорошило. 3 А на следующий день к нему в гостиницу пришли гости: Эмиль и с ним рослый молодой мужчина «с благообразным лицом» — жених Джеммы. Жених сообщил, что «желал заявить свое почтение и свою признательность господину иностранцу, который оказал такую важную услугу будущему родственнику, брату его невесты». Г-н Клюбер спешил в свой магазин — «дела прежде всего!», а Эмиль еще побыл у Санина и поведал, что мама под влиянием господина Клюбера хочет сделать из него купца, тогда как его призвание — театр. Санин был приглашен к новым друзьям на завтрак и пробыл до вечера. Рядом с Джеммой все казалось приятным и милым. «В однообразно тихом и плавном течении жизни таятся великие прелести...» С наступлением ночи, когда он отправился домой, «образ» Джеммы его не оставлял. А на следующий день с утра к нему явился Эмиль и объявил, что герр Клюбер (накануне всех пригласивший на увеселительную прогулку) сейчас приедет с каретой. Через четверть часа Клюбер, Санин и Эмиль подкатили к крыльцу кондитерской. Фрау Леноре из-за головной боли осталась дома, но отправила с ними Джемму. Поехали в Соден — небольшой городок вблизи Франкфурта. Санин украдкой наблюдал за Джеммой и ее женихом. Она держалась спокойно и просто, но все же несколько серьезнее обыкновенного, а жених «смотрел снисходительным наставником»; он и к природе относился «все с тою же снисходительностью, сквозь которую изредка прорывалась обычная начальническая строгость». Потом обед, кофе; ничего примечательного. Но за одним из соседних столиков сидели довольно пьяные офицеры, и вдруг один из них подошел к Джемме. Он уже успел побывать во Франкфурте и, видимо, ее знал. «Пью за здоровье прекраснейшей кофейницы в целом Франкфурте, в целом мире (он разом «хлопнул» стакан) — и в возмездие беру этот цветок, сорванный ее божественными пальчиками!» При этом он взял розу, лежавшую перед ней. Она сначала испугалась, потом в ее глазах вспыхнул гнев! Ее взгляд смутил пьяного, который, что-то пробормотав, «пошел назад к своим». Г-н Клюбер, надев шляпу, сказал: «Это неслыханно! Неслыханная дерзость!», и потребовал у кельнера немедленного расчета. Он велел также заложить карету, поскольку сюда «порядочным людям ездить нельзя, ибо они подвергаются оскорблениям!». «Встаньте, мейн фрейлейн, — промолвил все с той же строгостью г-н Клюбер, — здесь вам неприлично оставаться. Мы расположимся там, в трактире!» Под руку с Джеммой он величественно прошествовал к трактиру. Эмиль поплелся за ними. Тем временем Санин, как подобает дворянину, подошел к столу, где сидели офицеры, и сказал по-французски оскорбителю: «Вы дурно воспитанный нахал». Тот вскочил, а другой офицер, постарше, остановил его и спросил Санина, тоже по-французски, кем он приходится той девице. Санин, бросив на стол свою визитную карточку, заявил, что он девице чужой, но не может равнодушно видеть такую дерзость. Он схватил розу, отнятую у Джеммы, и ушел, получив заверение, что «завтра утром один из офицеров их полка будет иметь честь явиться к нему на квартиру». Жених притворился, что не заметил поступка Санина. Джемма тоже ничего не сказала. А Эмиль готов был броситься на шею к герою или идти с ним вместе драться с обидчиками. Клюбер всю дорогу разглагольствовал о том, что напрасно его не послушались, когда он предлагал обедать в закрытой беседке, о нравственности и безнравственности, о приличии и чувстве достоинства... Постепенно Джемме явно стало неловко за своего жениха. А Санин втайне радовался всему, что случилось, и в конце поездки вручил ей ту самую розу. Она, вспыхнув, стиснула его руку. Вот так начиналась эта любовь. 4 Утром явился секундант и сообщил, что его приятель, барон фон Донгоф, «удовлетворился бы легкими извинениями». Не тут-то было. Санин в ответ заявил, что ни тяжелых, ни легких извинений давать не намерен, а когда секундант ушел, никак не мог разобраться: «Как это вдруг так завертелась жизнь? Все прошедшее, все будущее вдруг стушевалось, пропало — и осталось только то, что я во Франкфурте с кем-то за что-то дерусь». Неожиданно явился Панталеоне с запиской от Джеммы: она беспокоилась, просила Санина прийти. Санин обещал и заодно пригласил Панталеоне в секунданты: других кандидатур не было. Старичок, пожав ему руку, напыщенно произнес: «Благородный юноша! Великое сердце!..», и обещал вскоре дать ответ. Через час он явился очень торжественно, вручил Санину свою старую визитную карточку, дал согласие и сообщил, что «честь превыше всего!» и т. п. Затем переговоры между двумя секундантами... Выработали условия: «Стреляться барону фон Дoнгофу и господину де Санину на завтрашний день, в 10 часов утра... на расстоянии 20 шагов. Старик Панталеоне словно помолодел; эти события словно перенесли его в ту эпоху, когда он сам на сцене «принимал и делал вызовы»: оперные баритоны, «как известно, очень петушатся в своих ролях». Проведя вечер в доме семейства Розелли, Санин вышел поздно вечером на крыльцо, прошелся по улице. «И сколько же их высыпало, этих звезд... Все они так и рдели, так и роились, наперерыв играя лучами». Поравнявшись с домом, в котором помещалась кондитерская, он увидел: отворилось темное окно и в нем появилась женская фигура. Джемма! Окружающая природа словно реагирует чутко на то, что происходит в душе. Налетел внезапно порыв ветра, «земля, казалось, затрепетала под ногами, тонкий звездный свет задрожал и заструился...». И вновь тишина. Санин увидал такую красавицу, «что сердце в нем замерло». «Я хотела дать вам этот цветок... Она бросила ему уже увядшую розу, которую он отвоевал накануне. И окошко захлопнулось». Заснул он лишь под утро. «Мгновенно, как тот вихрь, налетела на него любовь». А впереди глупая дуэль! «И вдруг его убьют или изувечат?» Санин с Панталеоне приехали первыми в лесок, где должна была происходить дуэль. Затем появились оба офицера в сопровождении доктора; «сумка с хирургическими инструментами и бинтами болталась на его левом плече». Какие меткие характеристики участников. Доктор. «Видно было, что он к подобным экскурсиям привык донельзя... каждая дуэль приносила ему 8 червонцев — по 4 с каждой из воюющих сторон». Санин, влюбленный романтик. «Панталеоне! — шепнул Санин старику, — если... если меня убьют — все может случиться, — достаньте из моего бокового кармана бумажку — в ней завернут цветок — отдайте эту бумажку синьоре Джемме. Слышите? Вы обещаетесь?» Но Панталеоне вряд ли что-нибудь слышал. Он к этому времени растерял всю театральную патетику и в решающий момент вдруг заорал: — А ла-ла-ла... Что за дикость! Два таких молодых человека дерутся — зачем? Какого черта? Ступайте по домам! Санин стрелял первым и не попал, пуля «звякнула о дерево». Барон Донгоф преднамеренно «выстрелил в сторону, на воздух». — Зачем вы выстрелили на воздух? — спросил Санин. — Это не ваше дело. — Вы и во второй раз будете стрелять на воздух? — спросил опять Санин. — Может быть; не знаю. Конечно, Донгоф чувствовал, что во время обеда вел себя не лучшим образом и не хотел убивать невинного человека. Все же совесть какая-никакая, видимо, у него была. — Я отказываюсь от своего выстрела, — промолвил Санин и бросил пистолет на землю. — И я тоже не намерен продолжать дуэль! — воскликнул Донгоф и тоже бросил свой пистолет... Оба пожали друг другу руки. Затем секундант провозгласил: «Честь удовлетворена — и дуэль кончена!» 5 Возвращаясь после дуэли в карете, Санин чувствовал в душе облегчение и одновременно «было немножко совестно и стыдно...». А Панталеоне опять воспрянул и теперь вел себя, как «победоносный генерал, возвращающийся с поля выигранной им битвы». На дороге их ждал Эмиль. «Вы живы, вы не ранены!» Они прибыли в гостиницу, и там вдруг из темного коридорчика вышла женщина, «лицо ее было покрыто вуалью». Она тут же скрылась, но Санин узнал Джемму «под плотным шелком коричневой вуали». Потом к Санину явилась госпожа Леноре: Джемма ей объявила, что не хочет выйти замуж за г-на Клюбера. «Вы поступили, как благородный человек; но какое несчастное стечение обстоятельств!» Обстоятельства были действительно невеселые, как обычно во многом обусловленные социальными причинами. «Я уже не говорю о том, ...что это для нас позор, что этого никогда на свете не бывало, чтобы невеста отказала жениху; но ведь это для нас разорение... Жить доходами с нашего магазина мы больше не можем... а господин Клюбер очень богат и будет еще богаче. И за что же ему отказать? За то, что он не вступился за свою невесту? Положим, это не совсем хорошо с его стороны, но ведь он статский человек, в университете не воспитывался и, как солидный торговец, должен был презреть легкомысленную шалость неизвестного офицерика. И какая же это обида!..» У фрау Леноре было свое понимание ситуации. «И как же будет господин Клюбер торговать в магазине, если он будет драться с покупателями? Это совсем несообразно! И теперь... отказать? Но чем мы будем жить?» Оказалось, блюдо, которое прежде только их кондитерская готовила, теперь все стали делать, появилось много конкурентов. Быть может, сам того не желая, Тургенев раскрыл всю подноготную тогдашних нравов, отношений, страданий. Трудным путем, век за веком идут люди к новому пониманию жизни; вернее, к тому, которое возникло еще на заре человеческой цивилизации, но до сих пор отнюдь не овладело массовым сознанием потому, что переплетается еще с множеством ошибочных и жестоких идей. Люди идут путем страданий, через пробы и ошибки... «Сделайте, чтобы все было ровно...» — призывал Христос. Он говорил о социальном устройстве, а не о рельефе местности. И не о всеобщем казарменном равенстве доходов, а о равенстве возможностей себя реализовать; и об уровне массового духовного развития, вероятно. Главный нравственный закон — идея всеобщего равенства возможностей. Без каких бы то ни было привилегий, преимуществ. Когда эта идея полностью будет воплощена, все люди смогут любить друг друга. Ведь не может быть подлинной дружбы не только между угнетателем и угнетенным, но и между привилегированным и лишенным этих привилегий. И вот, кажется, почти кульминация этой, посвоему трагической, хотя и обыкновенной истории. Санин должен просить Джемму не отвергать господина Клюбера. Об этом его умоляет фрау Леноре. — Она должна вам поверить — вы ведь жизнью своей рисковали!.. Вы ей докажете, что она и себя, и всех нас погубит. Вы спасли моего сына — спасите и дочь! Вас сам Бог послал сюда... Я готова на коленях просить вас... Что делать Санину? — Фрау Леноре, подумайте, с какой стати я... — Вы обещаетесь? Вы не хотите, чтоб я тут же, сейчас, умерла перед вами? Чем он мог им помочь, когда не на что даже купить обратный билет? Ведь они, в сущности, на краю гибели; кондитерская их больше не кормит. — Я сделаю все, что будет вам угодно! — воскликнул он. — Я поговорю с фрейлейн Джеммой... Он в ужасном положении оказался! Сначала эта дуэль... Окажись на месте барона человек более безжалостный, мог бы запросто убить или искалечить. А теперь ситуация еще хуже. «Вот, — подумал он, — вот теперь завертелась жизнь! Да и так завертелась, что голова кругом пошла». Ощущения, впечатления, недосказанные, не вполне осознанные мысли... И над все этим — образ Джеммы, тот образ, который так неизгладимо врезался в его память в ту теплую ночь, в темном окне, под лучами роившихся звезд! 6 Что же сказать Джемме? Фрау Леноре ждала его. «Ступайте в сад; она там. Смотрите же: я на вас надеюсь!» Джемма сидела на скамейке, отбирая из большой корзины с вишнями самые спелые на тарелку. Он присел рядом. — Вы дрались сегодня на дуэли, — сказала Джемма. Ее глаза светились благодарностью. — И все это из-за меня... для меня... Я этого никогда не забуду. Вот лишь отрывки, кусочки этого разговора. При этом он видел «ее тонкий чистый профиль, и ему казалось, что он никогда не видывал ничего подобного — и не испытывал ничего подобного тому, что он чувствовал в этот миг. Душа его разгорелась». Речь пошла о господине Клюбере. — Какой же вы мне совет дадите..? — спросила она погодя немного. Ее руки дрожали. «Он тихонько положил свою руку на эти бледные, трепетные пальцы. — Я вас послушаюсь... но какой же совет дадите вы мне? Он стал объяснять: «Ваша матушка полагает, что отказать господину Клюберу только потому, что он третьего дня не выказал особенной храбрости...» — Только потому? — проговорила Джемма... — Что... вообще... отказать... — Но ваше какое мнение? — Мое? — ...Он чувствовал, что-то подступило к нему под горло и захватывало дыхание. — Я тоже полагаю, — начал он с усилием... Джемма выпрямилась. — Тоже? Вы — тоже? — Да... то есть... — Санин не мог, решительно не мог прибавить ни единого слова. Она обещала: «Я скажу маме... я подумаю». На пороге двери, ведущей из дома в сад, показалась фрау Леноре. — Нет, нет, нет, ради Бога не говорите ей пока ничего, — торопливо, почти с испугом произнес Санин. — Подождите... я вам скажу, я вам напишу... а вы до тех пор не решайтесь ни на что... подождите! Дома он горестно и глухо воскликнул: «Я ее люблю, люблю безумно!» Безоглядно, беспечно кинулся он вперед. «Теперь уже он ни о чем не рассуждал, ничего не соображал, не рассчитывал и не предвидел...» Он тут же, «почти одним взмахом пера», написал письмо: «Милая Джемма! Вы знаете, какой совет я взял на себя преподать вам, вы знаете, чего желает ваша матушка и о чем она меня просила, — но чего вы не знаете и что я обязан вам теперь сказать, — это то, что я люблю вас, люблю со всею страстью сердца, полюбившего в первый раз! Этот огонь вспыхнул во мне внезапно, но с такой силой, что я не нахожу слов!! Когда ваша матушка пришла ко мне и просила меня — он еще только тлел во мне — а то я, как честный человек, наверное бы отказался исполнить ее поручение... Самое признание, которое я вам теперь делаю, есть признание честного человека. Вы должны знать, с кем имеете дело, — между нами не должно существовать недоразумений. Вы видите, что я не могу давать вам никаких советов... Я вас люблю, люблю, люблю — и больше нет у меня ничего — ни в уме, ни в сердце!! Дм. Санин». Уже ночь. Как отправить письмо. Через кельнера неловко... Он вышел из гостиницы и вдруг встретил Эмиля, тот с радостью взялся передать письмо и вскоре принес ответ. «Я вас прошу, я умоляю вас — целый завтрашний день не приходить к нам, не показываться. Мне это нужно, непременно нужно — а там все будет решено. Я знаю, вы мне не откажете, потому что... Джемма». Весь следующий день Санин и Эмиль гуляли в окрестностях Франкфурта, беседовали. Все время Санину казалось, что завтрашний день принесет ему небывалое счастье! «Настал наконец его час, завеса взвилась...» Вернувшись в гостиницу, он нашел записку, Джемма назначала ему свидание на следующий день, в одном из садов, окружавших Франкфурт, в 7 часов утра. «Был в ту ночь во Франкфурте один счастливый человек...» 7 «Семь! прогудели часы на башне». Опустим все многочисленные подробности. Их всюду так много. Переживания влюбленного, погода, окружающий пейзаж... Джемма вскоре пришла. «На ней была серенькая мантилья и небольшая темная шляпа, в руках маленький зонтик. — Вы на меня не сердитесь? — произнес наконец Санин. Трудно было Санину сказать что-нибудь глупее этих слов... он сам это сознавал...» Ну и так далее. Сколько искренней, наивной восторженности! Как он счастлив, как беззаветно, самоотверженно влюблен! «— Верьте мне, верьте мне, — твердил он». И в этот безоблачный счастливый миг читатель уже не верит... ни Санину, который беспредельно честен, всю душу вывернул наизнанку; ни автору, правдивому и талантливому; ни Джемме, безоглядно отвергнувшей весьма выгодного жениха. Читатель не верит, что возможно в жизни столь безоблачное, полное счастье. Не может быть... «На свете счастья нет...» — со знанием дела утверждал еще Пушкин. Что-то должно произойти. Нами овладевает какая-то печальная настороженность, нам жаль этих юных и прекрасных влюбленных, таких доверчивых, таких безоглядно честных. «Я полюбил Вас с самого того мгновенья, как я Вас увидел, — но не тотчас понял, чем Вы стали для меня! К тому же я услыхал, что Вы обрученная невеста...» И тут Джемма сообщила, что отказала жениху! — Ему самому? — Ему самому. У нас в доме. Он приехал к нам. — Джемма! Стало быть, Вы любите меня? Она обернулась к нему. — Иначе... Разве бы я пришла сюда? — шепнула она, и обе ее руки упали на скамью. Санин схватил эти бессильные, ладонями кверху лежавшие руки и прижал их к своим глазам, к своим губам... Вот оно, счастье, вот его лучезарный лик! Еще целую страницу займут разговоры о счастье. — Мог ли я думать, — продолжал Санин, — мог ли я думать, подъезжая к Франкфурту, где я полагал остаться всего несколько часов, что я здесь найду счастье всей моей жизни! — Всей жизни? Точно? — спросила Джемма. — Всей жизни, навек и навсегда! — воскликнул Санин с новым порывом. «Если бы она сказала ему в это мгновенье: «Бросься в море...» — он бы уже летел в бездну». Санину предстояло перед свадьбой съездить в Россию, чтобы продать имение. Фрау Леноре удивилась: «Вы, стало быть, и крестьян тоже продадите?» (Он как-то прежде в разговоре выражал негодование насчет крепостного права.) — Я постараюсь продать мое имение человеку, которого я буду знать с хорошей стороны, — произнес он не без запинки, — или, может быть, сами крестьяне захотят откупиться. — Это лучше всего, — согласилась и фрау Леноре. — А то продавать живых людей... В саду после обеда Джемма подарила Санину гранатовый крестик, но при этом напомнила самоотверженно и скромно: «Ты не должен почитать себя связанным...» 8 Каким образом продать имение как можно скорей? На вершине счастья этот практический вопрос мучил Санина. С надеждой что-нибудь придумать он вышел на следующее утро прогуляться, «проветриться» и неожиданно встретил Ипполита Полозова, с которым когдато вместе учился в пансионе. Внешность Полозова довольно примечательна: жирный, пухлый, маленькие свиные глазки с белыми ресницами и бровями, кислое выражение лица. Да и характер подстать внешности. Это был сонный флегматик, равнодушный ко всему, кроме еды. Санин слышал, что жена у него красавица и, вдобавок, очень богата. А теперь они, оказывается, второй год живут в Висбадене по соседству с Франкфуртом; Полозов приезжал на один день за покупками: жена поручила, и сегодня же возвращается назад. Приятели пошли вместе завтракать в одну из лучших гостиниц Франкфурта, где Полозов занимал лучший номер. И у Санина вдруг возникла неожиданная мысль. Если жена этого сонного флегматика очень богата — «сказывают, она дочь какогото откупщика», — не купит ли она имение за «сходную цену»? «— Я имений не покупаю: капиталов нет», — сообщил флегматик. — «Разве вот жена моя купит. Ты с ней поговори». И еще до этого он упоминал, что не вмешивается в дела жены. «Она — сама по себе... ну и я — сам по себе». Узнав, что Санин «затеял жениться» и невеста «без капитала», он спросил: — Стало быть, любовь уж очень сильная? — Какой ты смешной! Да, сильная. — И для этого тебе деньги нужны? — Ну да... да, да. В конце концов Полозов обещал отвезти приятеля в своей карете в Висбаден. Теперь все зависит от госпожи Полозовой. Захочет ли она помочь? Как бы это ускорило свадьбу! Прощаясь с Джеммой, на минутку оставшись с ней наедине, Санин «пал к ногам милой девушки». — Ты мой? — шепнула она, — ты вернешься скоро? — Я твой... я вернусь, — твердил он, задыхаясь. — Я буду ждать тебя, мой милый! 9 Гостиница в Висбадене была похожа на дворец. Санин взял себе номер подешевле и, отдохнув, отправился к Полозову. Тот восседал «в роскошнейшем бархатном кресле посреди великолепного салона». Санин хотел заговорить, но появилась внезапно «молодая, красивая дама в белом шелковом платье, с черными кружевами, в бриллиантах на руках и на шее — сама Марья Николаевна Полозова». «— Да, вправду говорили мне: эта барыня хоть куда!» — подумал Санин. Его душа была наполнена Джеммой, другие женщины для него теперь не имели значения. «В госпоже Полозовой довольно явственно сказывались следы ее плебейского происхождения. Лоб у ней был низкий, нос несколько мясистый и вздернутый...» Ну, то, что лоб низкий, еще, видимо, ни о чем не говорит: она умна, это вскоре выяснится. И в ней огромное обаяние, что-то мощное, удалое, «не то русское, не то цыганское...». Вот насчет совестливости, человечности... Как с этим обстоит? Здесь могла повлиять среда, безусловно; и какие-то давние впечатления... Посмотрим. Вечером состоялся наконец обстоятельный разговор. Она спрашивала и о женитьбе и об имении. — Решительно он прелесть, — промолвила она не то задумчиво, не то рассеянно. — Рыцарь! Подите верьте после этого людям, которые утверждают, что идеалисты все перевелись! А когда он пообещал взять недорогую цену за имение, она заявила: «— Я никаких жертв от Вас не приму. Как? Вместо того чтобы поощрять в Вас... ну, как бы это сказать получше?.. благородные чувства, что ли? я Вас стану обдирать как липку? Это не в моих привычках. Когда случится, я людей не щажу — только не таким манером». «О, да с тобой держи ухо востро!» — думал при этом Санин. А может быть, она просто хочет себя показать с лучшей стороны? Покрасоваться? Но зачем ей это? Наконец она попросила дать ей «два дня сроку»; и затем она сразу решит вопрос. «Ведь Вы в состоянии на два дня расстаться с Вашей невестой?» Но не старалась ли она его все время как-то незаметно очаровать; постепенно, вкрадчиво, умело? Ох, не завлекает ли она потихоньку Санина? Зачем? Ну хотя бы с целью самоутверждения. А он, безоглядный романтик... — Извольте завтра пораньше явиться — слышите? — крикнула она ему вслед. Ночью Санин писал Джемме письмо, утром отнес его на почту и пошел прогуляться в парк, где играл оркестр. Вдруг ручка зонтика «постучала по его плечу». Перед ним была вездесущая Марья Николаевна. Ее здесь на курорте неизвестно зачем («уж я ли не здорова?») заставляли пить какую-то воду, после которой надо час гулять. Она предложила гулять вместе. — Ну так дайте же мне Вашу руку. Не бойтесь: Вашей невесты здесь нет — она Вас не увидит. Что касается ее мужа, то он много ел и спал, но, очевидно, вовсе не претендовал на ее внимание. — Мы с Вами не будем говорить теперь об этой покупке; мы о ней после завтрака хорошенько потолкуем; а Вы должны мне теперь рассказать о себе... чтобы я знала, с кем я имею дело. А после, если хотите, я Вам о себе порасскажу. Он хотел было возразить, уклониться, но она не позволила. — Я хочу знать не только, что я покупаю, но и у кого я покупаю. И состоялся интересный продолжительный разговор. «Марья Николаевна очень умно слушала; да к тому же она сама казалась до того откровенной, что невольно и других вызывала на откровенность». И это длительное пребывание вдвоем, когда от нее так и веяло «тихим и жгучим соблазном»!.. В тот же день в гостинице в присутствии Полозова состоялся деловой разговор о покупке имения. Оказалось, у этой дамы выдающиеся коммерческие и административные способности! «Вся подноготная хозяйства была ей отлично известна; она обо всем аккуратно расспрашивала, во все входила; каждое ее слово попадало в цель...» «— Ну, хорошо! — решила наконец Марья Николаевна. — Ваше имение я теперь знаю... не хуже Вас. Какую же цену Вы положите за душу? (В то время цены имениям, как известно, определялись по душам.)» Договорились и о цене. Отпустит ли она его завтра? Все ведь решено. Неужели она «подъезжает к нему»? «Зачем это? Что ей надо?.. Эти серые, хищные глаза, эти ямочки на щеках, эти змеевидные косы...» Он уже был не в силах все это стряхнуть, отбросить от себя. 10 Вечером пришлось поехать с ней в театр. В 1840 году театру в Висбадене (как и многим другим тогда и впоследствии) была свойственна «фразистая и мизерная посредственность», «старательная и пошлая рутина». Смотреть на кривлянье актеров было невыносимо. Но позади ложи имелась небольшая комнатка, обставленная диванчиками, и Марья Николаевна пригласила туда Санина. Они опять наедине, рядом. Ему 22 года и ей столько же. Он чужой жених, а она его, видимо, завлекает. Каприз? Желание ощутить свою силу? «Взять все от жизни»? «— Мой отец сам едва разумел грамоте, но воспитание нам дал хорошее», — откровенничает она. «— Вы не думайте, однако, что я очень учена. Ах, Боже мой, нет — я не учена, и никаких талантов у меня нет. Писать едва умею... право; читать громко не могу; ни на фортепьяно, ни рисовать, ни шить — ничего! Вот я какая — вся тут!» Ведь Санин понимал, что его умышленно завлекают! Но сначала не обращал на это внимания, чтобы все-таки дождаться решения своего вопроса. Если бы он просто по- деловому настаивал на получении ответа, избегая всех этих интимностей, тогда, возможно, капризная дама вообще отказалась бы покупать имение. Согласившись дать ей пару дней подумать, он ждал... Но теперь, наедине, ему стало казаться, что его снова охватывает какой-то «чад, от которого он не мог отделаться вот уже второй день». Разговор шел «вполголоса, почти шопотом — и это еще более его раздражало и волновало его...». Как она ловко владеет ситуацией, как убедительно, умело себя оправдывает! — Я Вам все это рассказываю, — продолжала она, — во-первых, для того, чтобы не слушать этих дураков (она указала на сцену, где в это мгновенье вместо актера подвывала актриса...), а во-вторых, для того, что я перед Вами в долгу: Вы вчера мне про себя рассказывали». И, наконец, зашла речь о ее странном браке. — Ну — и спрашивали Вы себя,.. какая может быть причина такого странного... поступка со стороны женщины, которая не бедна... и не глупа... и не дурна? Да, конечно, и Санин задавал себе этот вопрос, и читатель недоумевает. Этот ее сонный, инертный флегматик! Ну, будь она бедна, слаба, неустроенна. Наоборот, он беден и беспомощен! Послушаем ее. Как же она сама все это объясняет? — Хотите знать, что я больше всего люблю? — Свободу, — подсказал Санин. Марья Николаевна положила руку на его руку. — Да, Дмитрий Павлович, — промолвила она, и голос ее прозвучал чем-то особенным, какойто несомненной искренностью и важностью, — свободу, больше всего и прежде всего. И не думайте, чтоб я этим хвасталась — в этом нет ничего похвального — только оно так, и всегда было и будет так для меня; до самой смерти моей. Я в детстве, должно быть, уж очень много насмотрелась рабства и натерпелась от него». А зачем ей вообще этот брак? Но светское общество середины 19 века... Ей нужен был социальный статус замужней дамы. Иначе кто она? Богатая куртизанка, дама полусвета? Или старая дева? Сколько предрассудков, условностей. Муж был вывеской, ширмой в данном случае. Его, в сущности, тоже устраивала эта роль. Он мог вволю есть, спать, жить в роскоши, ни во что не вмешиваться, лишь иногда исполнять мелкие поручения. Так вот отчего этот странный брак! Она заранее все рассчитала. «— Теперь Вы, может быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча; с ним я свободна, совершенно свободна, как воздух, как ветер... И это я знала перед свадьбой...» Какая в ней все же активная, деятельная энергия. Ум, талант, красота, безоглядная удаль... Она не станет, как другие героини Тургенева, жертвовать собой, она сломит любого, приспособит к себе. И она неплохо приспособилась к обществу, хотя в душе знает, что все это «не побожески». «— Ведь от меня отчета не потребуют здесь — на сей земле; а там (она подняла палец кверху) — ну, там пусть распоряжаются, как знают». Поговорив «по душам» и тем самым подготовив почву, она затем осторожно перешла в наступление. «— Я спрашиваю себя, зачем Вы это все говорите мне? — признался Санин. Марья Николаевна слегка подвинулась на диване. — Вы себя спрашиваете... Вы такой недогадливый? Или такой скромный?» И вдруг: «— Я Вам все это говорю,.. потому что Вы мне очень нравитесь; да, не удивляйтесь, я не шучу, потому что после встречи с Вами мне было бы неприятно думать, что Вы сохраните обо мне воспоминание нехорошее... или даже не нехорошее, это мне все равно, а неверное. Оттого-то я и залучила Вас сюда, и осталась с Вами наедине, и говорю с Вами так откровенно. Да, да, откровенно. Я не лгу. И заметьте, Дмитрий Павлович, я знаю, что Вы влюблены в другую, что Вы собираетесь жениться на ней... Отдайте же справедливость моему бескорыстию... Она засмеялась, но смех ее внезапно оборвался.., а в глазах ее, в обычное время столь веселых и смелых, мелькнуло что-то похожее на робость, похожее даже на грусть. «Змея! ах, она змея! — думал между тем Санин, — но какая красивая змея». 11 Потом они еще какое-то время смотрели пьесу, потом опять беседовали. Наконец Санин разговорился, даже стал с ней спорить. Она этому втайне обрадовалась: «коли спорит, значит, уступает или уступит». Когда пьеса кончилась, ловкая дама «попросила Санина накинуть на нее шаль и не шевелилась, пока он окутывал мягкой тканью ее поистине царственные плечи». Выходя из ложи, они вдруг встретили Донгофа, с трудом сдерживавшего бешенство. Как видно, он полагал, что имеет какие-то права на эту даму, но был ею тут же бесцеремонно отвергнут. «— А Вы с ним очень коротко знакомы? — спросил Санин. — С ним? С этим мальчиком? Он у меня на побегушках. Вы не беспокойтесь! — Да я и не беспокоюсь вовсе. Марья Николаевна вздохнула. — Ах, я знаю, что Вы не беспокоитесь. Но слушайте — знаете что: Вы такой милый, Вы не должны отказать мне в одной последней просьбе». В чем состояла просьба? Поехать верхом за город. «Потом мы вернемся, дело покончим — и аминь!» Как было не поверить, когда решение так близко. Остался один последний день. «— Вот Вам моя рука, без перчатки, правая, деловая. Возьмите ее — и верьте ее пожатию. Что я за женщина, я не знаю; но человек я честный — и дела иметь со мною можно. Санин, сам хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делает, поднес эту руку к своим губам. Марья Николаевна тихонько ее приняла и вдруг умолкла — и молчала, пока карета не остановилась. Она стала выходить... Что это? показалось ли Санину или он точно почувствовал на щеке своей какое-то быстрое и жгучее прикосновение? — До завтра! — шепнула Марья Николаевна ему на лестнице...» Она вернулся к себе в комнату. Ему стыдно было думать о Джемме. «Но он успокаивал себя тем, что завтра все будет навсегда кончено и он навсегда расстанется с этой взбалмошной барыней — и забудет всю эту чепуху!..» На следующий день Марья Николаевна нетерпеливо постучала в его дверь. «— Ну? готовы? — прозвучал веселый голос». Он увидел ее на пороге комнаты. «С шлейфом темно-синей амазонки на руке, с маленькой мужской шляпой на крупно заплетенных кудрях, с откинутым на плечо вуалем, с вызывающей улыбкой на губах, в глазах, на всем лице...» Она «быстро побежала вниз по лестнице». И он послушно побежал вслед за нею. Посмотрела бы Джемма в этот момент на своего жениха. Лошади уже стояли перед крыльцом. А потом... потом очень подробно вся прогулка, все впечатления, оттенки настроений. Все живет, дышит. И ветер «струился навстречу, шумел и свистал в ушах», и лошадь взвилась на дыбы, и сознание «свободного, стремительного движения вперед» охватила обоих. «— Вот, — начала она с глубоким, блаженным вздохом, — вот для этого только и стоит жить. Удалось тебе сделать, чего тебе хотелось, что казалось невозможным — ну и пользуйся, душа, по самый край». — Она провела рукой себе по горлу поперек. — И каким добрым человек тогда себя чувствует!» Мимо них в это время пробирался нищий старик. Она крикнула по-немецки «Нате, возьмите» и швырнула к его ногам увесистый кошелек, а затем, спасаясь от благодарности, пустила свою лошадь вскачь: «— Ведь я не для него это сделала, а для себя. Как же он смеет меня благодарить?» Потом она услала сопровождавшего их грума, приказав ему сидеть в трактире и ждать. «— Ну теперь мы вольные птицы! — воскликнула Марья Николаевна. — Куда нам ехать?.. Поедемте туда, в горы, в горы!» Они мчались, перепрыгивали рвы, ограды, ручейки... Санин глядел ей в лицо. «Кажется, всем, что она видит, землею, небом, солнцем и самым воздухом хочет завладеть эта душа, и об одном только она и жалеет: опасностей мало — все бы их одолела!» И читатель тоже ею любуется, несмотря ни на что. «Разыгрались удалые силы». «Изумляется степенный и благовоспитанный край, попираемый ее буйным разгулом». Чтобы дать лошадям отдохнуть, они поехали шагом. «— Неужто я послезавтра в Париж еду? — Да... неужто? — подхватил Санин. — А Вы во Франкфурт? — Я непременно во Франкфурт. — Ну что ж — с Богом! Зато сегодняшний день наш... наш... наш!» Она еще его долго завлекала. Устроила небольшую остановку, сняла шляпу и, стоя рядом с ним, заплетала длинные косы: «надо волосы в порядок привести», а он «был околдован», «затрепетал невольно, с ног до головы». Потом они поехали куда-то в глубь леса. «Она, очевидно знала, куда держала путь...» Сможет ли он теперь вернуться во Франкфурт? Наконец сквозь темную зелень еловых кустов, из-под навеса серой скалы, глянула на него убогая караулка, с низкой дверью в плетеной стене...» Четыре часа спустя они вернулись в гостиницу. И в тот же день «Санин в своей комнате стоял перед нею, как потерянный, как погибший... — Куда же ты едешь? — спрашивала она его. — В Париж — или во Франкфурт? — Я еду туда, где будешь ты, — и буду с тобой, пока ты меня не прогонишь, — отвечал он с отчаянием и припал к рукам своей властительницы! Ее взгляд выражал торжество победы. «У ястреба, который когтит пойманную птицу, такие бывают глаза». 12 И все исчезло. Опять перед нами одинокий, немолодой холостяк, разбирающий старые бумаги в ящиках письменного стола. «Он вспомнил дрянное, слезливое, лживое, жалкое письмо, посланное им Джемме, письмо, оставшееся без ответа...» Жизнь в Париже, рабство, унижения, потом его бросили, «как изношенную одежду». И теперь он уже не мог понять, отчего покинул Джемму «для женщины, которую он и не любил вовсе?..» Просто, видимо, сидевший в нем «животный человек» оказался тогда сильней духовного. И вот через 30 лет он опять во Франкфурте. Но нет ни дома, где была кондитерская, ни улицы; не осталось и следа. Новые улицы, застроенные «громадными сплошными домами, изящными виллами...». Здесь никто даже имени Розелли не слыхивал. Имя Клюбера известно было хозяину гостиницы, но, оказывается, преуспевавший некогда капиталист затем обанкротился и умер в тюрьме. Кто бы мог подумать! А однажды, перелистывая местный «адрескалендарь», Санин вдруг наткнулся на имя фон Донгофа. В «поседелом господине», отставном майоре он сразу узнал прежнего противника. Тот слышал от знакомого, что Джемма в Америке: вышла замуж за негоцианта и уехала в Нью-Йорк. Затем Донгоф сходил к этому знакомому, местному негоцианту, и принес адрес мужа Джеммы, господина Иеремии Слокома. — Кстати, — спросил Донгоф, понизив голос, — а что та русская дама, что, помните, гостила тогда в Висбадене?.. Увы, она, оказывается, давно умерла. В тот же день он отправил письмо в НьюЙорк; просил «порадовать его хотя самой краткой весточкой о том, как ей живется в этом новом мире, куда она удалилась». Он решил ждать ответа во Франкфурте и шесть недель прожил в гостинице, почти не выходя из комнаты. Читал с утра до вечера «исторические сочинения». Но ответит ли Джемма? Жива ли она? Письмо пришло! Оно словно из другой жизни, из волшебного давнего сна... Адрес на конверте был написан чужим почерком... «Сердце в нем сжалось». Не вскрыв пакет, он увидел подпись: «Джемма! Слезы так и брызнули из его глаз: одно то, что она подписалась своим именем, без фамилии — служило ему залогом примирения, прощения!» Он узнал, что Джемма жива, уже 28-й год совершенно счастлива «в довольстве и изобилии». У нее четыре сына и 18-летняя дочь, невеста. Фрау Леноре умерла уже в НьюЙорке, а Панталеоне — перед отъездом из Франкфурта. Эмилио воевал под предводительством Гарибальди и погиб в Сицилии. В письме была фотография дочери-невесты. «Джемма, живая Джемма, молодая, какою он ее знал 30 лет назад! Те же глаза, те же губы, тот же тип всего лица. На оборотной стороне фотографии стояло: «Дочь моя, Марианна». Он тут же послал невесте великолепное жемчужное ожерелье, в которое был вставлен гранатовый крестик. Санин — человек богатый, за 30 лет «успел нажить значительное состояние». И вот к чему он пришел в итоге: «Слышно, что он продает все свои имения и собирается в Америку». В письме, посланном в Нью-Йорк из Франкфурта, Санин писал о своей «одинокой и безрадостной жизни». Отчего так случилось при всем самоотверженном героизме его натуры? Марья Николаевна виновата? Вряд ли. Просто в решающий момент он не смог вполне понять ситуацию и послушно позволил собой манипулировать, распоряжаться. Легко стал жертвой обстоятельств, не стараясь ими овладеть. Как часто это происходит — с отдельными людьми; иногда с группами людей; а порой даже в масштабе страны. «Не создавай себе кумира...» И еще скрытая, но важная причина. Как чудище с острыми клыками в темной глубине — материальное и социальное неравенство, источник многих жизненных трагедий. Да, материальное неравенство и связанные с этим отношения людей. Он ведь, надеясь продать имение, не смел отказываться сопровождать взбалмошную барыню, быть подолгу наедине с красивой и умной хищницей. Все сложилось бы, возможно, по-другому, не будь этой зависимости. А она, может быть, так стремилась повелевать в большой мере потому, что в детстве «уж очень много насмотрелась рабства и натерпелась от него». Да что говорить. Все это люди, получившие кое-какое образование, сравнительно свободные. Владеют дворянскими имениями, путешествуют, принадлежат к привилегированному меньшинству. Герой чегото не понял, не сумел... Но над подавляющим большинством еще властвовала страшная умственная неразвитость, непонимание более элементарных вещей, и уж материальное и социальное неравенство — куда более вопиющее! Там впору вспомнить не строчки из трогательного романса, предпосланные повести, а народную трагическую «песню ямщика»: «Богатый выбрал, да постылый, ей не видать отрадных дней». Если ты беден, бесправен, уведут возлюбленную, будь ты от природы хоть семи пядей во лбу. Человечество, смеясь и плача, шарахаясь то вперед, то назад, медленно, мучительно расстается со своим рабским прошлым. 1871 1 Читаем и... как-то все неясно, многословно, перегружено подробностями. К тому времени как Тургенев писал этот роман, он был стар, болен. У него, в сущности, получился лишь набросок, лишь тяжеловесный и не вполне ясный предварительный конспект, где предстояло многое отсеять, исключить; и многое добавить, прояснить, углубить. Персонажи еще не зажили в полной мере. Некоторые схематичны, поверхностны. Трудно читать. Попробуем из всей многословной громады выделить лучшие кусочки, сопроводив их кое-где беглым пересказом и небольшими комментариями. Быть может, освобожденная от лишних длиннот, в романе выявится его главная суть? Это последний роман Тургенева. Не самый удачный, но суть в нем наверное важнейшая!.. Не дворянские гнезда с ливрейными лакеями у входа... По черной лестнице пятиэтажного дома взбирался «человек лет двадцати семи, небрежно и бедно одетый». Он «ввалился в темную переднюю», потом вошел в комнату. «Низкая, неопрятная, со стенами, выкрашенными мутно-зеленой краской, комната эта едва освещалась двумя запыленными окошками. Только и было в ней мебели, что железная кроватка в углу, да стол посередине, да несколько стульев, да этажерка, заваленная книгами». В комнате женщина лет тридцати, некрасивая, грубоватая, курила папироску. Это некая Машурина. И пришедший, Остродумов, тоже закурил. «В обоих курильщиках было что-то общее, хотя чертами лица они не походили друг на друга. В этих неряшливых фигурах, с крупными губами, зубами, носами (Остродумов к тому же еще был ряб), сказывалось что-то честное, и стойкое, и трудолюбивое». (Как это сказывается? Пока неясно. Посмотрим.) Они ждут какого-то Нежданова... Это его комната, они сюда явились по делу. 2 — Письмо из Москвы пришло? — спросила Машурина погодя немного. — Пришло... третьего дня. — Вы читали? Остродумов только головой качнул. — Ну... и что же? — Что? Скоро ехать надо будет. Машурина вынула папироску изо рта. — Это отчего же? Там, слышно, идет все хорошо. — Идет своим порядком. Только человек один подвернулся ненадежный. Так вот... сместить его надо; а не то и вовсе устранить. Да и другие есть дела. Вас тоже зовут. — В письме? — Да, в письме... — Ну, что ж! — промолвила она, — коли выйдет распоряжение — рассуждать тут нечего! — Известно, нечего! Только без денег никак нельзя; а где их взять, самые эти деньги? Машурина задумалась. — Нежданов должен достать, — проговорила она вполголоса, словно про себя. — Я за этим самым и пришел, — заметил Остродумов. — Письмо с вами? — спросила вдруг Машурина. — Со мной. Неожиданно является некий Паклин, крошечного роста, хроменький, тщедушный. Он болтлив, малосимпатичен, пустословит кстати и некстати. Тем не менее, он недоумевает: — Отчего вы оба так недружелюбно, так постоянно недружелюбно относитесь ко мне, между тем как я... — Машурина находит, — перебил Остродумов, — и не она одна это находит, что так как вы на все предметы смотрите с их смешной стороны, то и положиться на вас нельзя. — Я не всегда смеюсь, — утверждает Паклин, — и положиться на меня можно, что и доказывается лестным доверием, которым я не раз пользовался в ваших же рядах! Я честный человек... Кто они, эти люди? Машурина, родом из дворянской, небогатой семьи в южной России. Года полтора назад она приехала в Петербург «с шестью целковыми в кармане» и «безустанным трудом добилась желанного аттестата» — стала акушеркой в родовспомогательном заведении. Внешность у нее весьма непривлекательная, и, несмотря на тридцатилетний возраст, она девица. «Отец Паклина был простой мещанин, дослужившийся всякими неправдами до чина титулярного советника»; он управлял имениями, домами, «зашиб-таки копейку, но сильно пил под конец жизни и ничего не оставил после своей смерти». Молодой Паклин учился в коммерческом училище, после всевозможных «передряг» попал наконец в частную контору. Он должен кормить себя, больную тетку и горбатую сестру. При этом «сознание своей мизерной наружности гораздо более грызло его, чем его низменное происхождение, чем незавидное положение в обществе», потому что он, оказывается, большой любитель женщин и «чего бы он не дал, чтобы нравиться им». Что касается Остродумова, то хотя биография его не приводится, ясно с первой страницы, что это не «баловень судьбы». «Тяжело шлепая стоптанными калошами, медленно покачивая грузное, неуклюжее тело, человек этот достигнул наконец самого верха лестницы, остановился перед оборванной, полураскрытой дверью...» В общем, у каждого из этих людей есть, видимо, свои причины для недовольства. Какая бы то ни было борьба против существующей системы (и жертвы, для этого приносимые), могли бы, возможно, успокоить их ущемленное чувство своей значимости и стремление к справедливости. 3 Наконец явился Нежданов. Он, как обычно, был в нервозном состоянии. — Али в самом деле что случилось? — поинтересовался Паклин. — Ничего не случилось особенного, а случилось то, что нельзя носа на улицу высунуть в этом гадком городе, в Петербурге, чтоб не наткнуться на какую-нибудь пошлость, глупость, на безобразную несправедливость, на чепуху! Жить здесь больше невозможно, — тут же взорвался «российский Гамлет», как назвал его Паклин. — Ты узнал что-нибудь, неприятность какую? — стал выяснять Паклин. Нежданов при этом подскочил, «словно его что подбросило. — Какая тебе еще неприятность нужна? — закричал он... — Везде шпионство, притеснения, доносы, ложь и фальшь — шагу нам ступить некуда...» Потом Остродумов ему сообщил, что пришло письмо из Москвы от Василия Николаевича. Все прочли по очереди письмо, которое Остродумов вытащил из-за голенища сапога. Письмо, конечно, тут же сожгли. Конспирация, намеки, недомолвки... Кто такой Василий Николаевич? И чего они все добиваются в конечном счете? Пока не ясно. Поскольку пока что ближайшая задача состояла в том, чтобы достать 50 рублей, Паклин хотел в качестве «жертвы на алтарь отечества» дать «если не все 50, то хоть 25 или 30 рублей на общее дело». «Нежданов вдруг вспыхнул весь. Казалось, в нем накипела досада... она ждала только предлога, чтобы вырваться наружу. — Я уже сказал тебе, что это не нужно, не нужно... не нужно!.. Я достану деньги, я сейчас же их достану. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи! — Ну, брат, — промолвил Паклин, — я вижу: ты хоть и революционер, а не демократ. — Скажи прямо, что я аристократ! — Да ты и точно аристократ... до некоторой степени. Нежданов принужденно засмеялся. — То есть ты хочешь намекнуть на то, что я незаконный сын. Напрасно трудишься, любезный... Я и без тебя этого не забываю. 4 В передней вдруг раздался «удивительно приятный баритон, от которого веяло «чем-то необыкновенно благородным, благовоспитанным и даже благоуханным. — Господин Нежданов дома?» Затем дверь отворилась «скромно и плавно»; и, медленно снимая вылощенную шляпу с благообразной, коротко остриженной головы, в комнату вошел мужчина лет под сорок, высокого роста, стройный и величавый. Он поразил всех «изящной самоуверенностью осанки...». «Скромно и плавно», «вылощенная», «благообразная», «величавый»; и что-то «благородное», «благовоспитанное», «благоуханное...». Какие тут все слова... красивые. Чрезмерность таких слов придает описанию несколько иронический характер. Это явно другого поля ягода. Судя по манерам — аристократ. Судя по одежде (прекраснейшее драповое пальто с превосходнейшим бобровым воротником) — богач. Что ему здесь понадобилось? Оказывается, Нежданов поместил недавно в газетах объявление о том, что желает поехать на лето домашним учителем русского языка и истории. Изящный господин явился пригласить учителя. «Моя фамилия — Сипягин, — говорил он Нежданову, ...озаряя его своим внушительным взглядом, — я узнал из газет, что вы желаете ехать на кондицию, и я пришел к вам с следующим предложением. Я женат, у меня один сын — девяти лет... Большую часть лета и осени мы проводим в деревне... Так вот: не угодно ли вам будет ехать туда с нами на время вакации, учить моего сына российскому языку и истории — тем предметам, о которых вы упоминаете в вашем объявлении? Смею думать, что вы останетесь довольны мною, моим семейством и самым местоположением усадьбы. Прекрасный сад, река, воздух хороший, поместительный дом...» Сто рублей в месяц, задаток хотя бы за месяц вперед и т. п. — все это было предложено с непринужденной любезностью, без лишних слов и, главное, было гораздо больше, чем рассчитывал Нежданов. Этой неожиданной встрече с Сипягиным предшествовала другая — случайное знакомство в театре. Там давали пьесу Островского «Не в свои сани не садись». «Перед обедом Нежданов зашел в кассу, где застал довольно много народу. Он собирался взять билет в партер; но в ту минуту как он подходил к отверстию кассы, стоявший за ним офицер закричал кассиру, протягивая через голову Нежданова три рубля: «Им (то есть Нежданову), вероятно, придется получать сдачу, а мне не надо; так вы дайте мне, пожалуйста, поскорей билет в первом ряду... мне к спеху!» — «Извините, господин офицер, — промолвил резким голосом Нежданов, — я сам желаю взять билет в первом ряду», — и тут же бросил в окошко три рубля — весь свой наличный капитал. Кассир выдал ему билет — и вечером Нежданов очутился в аристократическом отделении Александринского театра. Он был плохо одет, без перчаток, в нечищеных сапогах, чувствовал себя смущенным и досадовал на себя за самое это чувство. Возле него, с правой стороны, сидел усеянный звездами генерал; с левой — тот самый изящный мужчина, тайный советник Сипягин, появление которого два дня спустя так взволновало Машурину и Остродумова. Генерал изредка взглядывал на Нежданова, как на нечто неприличное, неожиданное и даже оскорбительное; Сипягин, напротив, бросал на него хотя косвенные, но не враждебные взоры». Все эти люди знали друг друга, обменивались «восклицаниями и приветами» через голову Нежданова, а он сидел неподвижно и неловко, «точно пария какой. Горько, и стыдно, и скверно было у него на душе». «И вдруг — о чудо!» — во время одного антракта Сипягин с ним заговорил, слушал его с большим вниманием, с участием, а «в следующий антракт заговорил с ним опять, но уже не о комедии Островского, а вообще о разных житейских, научных и даже политических предметах». «Нежданов... даже несколько наддавал, как говорится, пару». Он тогда еще не знал, что весь этот «демократизм» соседа — лишь притворство, игра. Вошло в моду — преодолев сословный консерватизм, быть чуть-чуть «современным», чуть-чуть «либеральным». «По окончании пьесы Сипягин весьма благосклонно распростился с Неждановым — но не пожелал узнать его фамилию и сам не назвал себя». Потом, ожидая на лестнице свою карету, он столкнулся с приятелем, флигельадъютантом, князем. «Я смотрел на тебя из ложи, — сказал ему князь, посмеиваясь сквозь раздушенные усы, — знаешь ли ты, с кем ты это беседовал? — Нет, не знаю; а ты? — Неглупый небось малый, а? — Очень неглупый; кто он такой? — Тут князь наклонился ему на ухо и шепнул пофранцузски: — Мой брат. Да, он мой брат. Побочный сын моего отца... зовут его Неждановым. Я тебе когда-нибудь расскажу... Отец никак этого не ожидал — оттого он и Неждановым его прозвал. Однако устроил его судьбу. Мы выдаем ему пенсию. Малый с головой... получил, опять-таки по милости отца, хорошее воспитание. Только совсем с толку сбился, республиканец какой-то... Мы его не принимаем...» А на следующий день Сипягин прочел в газете объявление Нежданова. Итак, отцом Нежданова был князь, матерью — хорошенькая гувернантка, умершая в день родов. Отец виделся с ним очень редко, но завещал ему кое-какие деньги, проценты с которых Нежданов получал от братьев. Он окончил пансион и учился в университете. Тонкие черты лица, нежная кожа, пушистые волосы... Все в нем «изобличало породу». «Фальшивое положение, в которое он был поставлен с самого детства, развило в нем обидчивость и раздражительность». «Идеалист по натуре», он «считал долгом смеяться над идеалами». Но при этом втайне даже писал стихи. 5 И вот имение Сипягина. Его жена, Валентина Михайловна, очень красивая, обходительная дама; сын, хорошенький кудрявый мальчик, «завитой и напомаженный». Изящное убранство гостиной. Легкий ветер над «пышно раскинутым садом...». Благообразный слуга в ливрейном фраке и белом галстуке доложил о приезде соседа, Семена Петровича Калломейцева. Это был «настоящий петербургский «гранжанр» высшего полета». Посмотрим, что этот «гранжанр» собой представляет. Вошел он в комнату — «развязно, небрежно и томно»; «приятно просветлел», «поклонился немного вбок» и «эластически выпрямился потом», «заговорил не то в нос, не то слащаво»; «почтительно взял и внушительно поцеловал руку Валентины Михайловны». Тургенев подробно все запечатлел, тем самым сохранив для потомства. А как он был одет? «На самый лучший английский манер: цветной кончик белого батистового платка торчал маленьким треугольником из плоского бокового кармана пестренькой жакетки; на довольно широкой черной ленточке болталась одноглазая лорнетка; бледно-матовый тон шведских перчаток соответствовал бледно-серому колеру клетчатых панталон». Он был коротко острижен, гладко выбрит; лицо «несколько женоподобное, с небольшими, близко друг к другу поставленными глазками, с пухлыми красными губками». Лицо «дышало приветом... и весьма легко становилось злым, даже грубым, стоило кому-нибудь, чем-нибудь задеть Семена Петровича». А уж если заденут его принципы, «он делался безжалостным», «все его изящество испарялось мгновенно». Какие же это принципы? Вот главные три кита его идеологии: консерватизм, патриотизм и религиозность. Принципы сами по себе неплохие, но при его агрессивности они могли превратиться в свою противоположность. (Христианское милосердие — в безжалостную мстительность, например.) Но самое удивительное: он никакой не аристократ, он происходил «от простых огородников». Прадед его именовался по месту рождения: Коломенцов. После замены некоторых букв появилась фамилия Калломейцев. Но откуда взялось богатство, «связи»? Жаль, что об этом история умалчивает. Ведь это важней, интересней, чем то, как «уже дед его переименовал себя в Коломейцева» и т. д. Невзирая на все манипуляции, Семен Петрович «не шутя, считал себя чистокровным аристократом; даже намекал на то, что их фамилия происходит собственно от баронов фон Галленмейер, из коих один был австрийским фельдмаршалом в Тридцатилетнюю войну». «Семен Петрович служил в министерстве двора, имел звание камер-юнкера». Он приехал в свое имение «на двухмесячный отпуск, чтобы хозяйством позаняться», т. е. «кого пугнуть, кого поприжать». Последовала светская беседа о том о сем, даже о современной литературе. Калломейцев сообщил, что русской литературой он мало интересуется, поскольку там изображают главным образом «каких-то разночинцев». — «Дошли до того, — жаловался он, — что героиня романа — кухарка, простая кухарка!» Пришла в гостиную Марианна, племянница Сипягина — «молодая девушка, в широкой темной блузе, остриженная в кружок». «Эти две женщины не любили друг друга». Одна, Марианна, прямолинейная, самоотверженная; другая, Валентина Михайловна, лукавая и беспощадно эгоистичная. 6 Марианна в сравнении с теткой казалась некрасивой. Круглое лицо, орлиный нос, тонкие губы. Покойный отец Марианны, генерал, был уличен в «громадной казенной краже; его судили, ...осудили, лишили чинов, дворянства, сослали в Сибирь». Он умер в крайней бедности. Жена его, родная сестра Сипягина, мать Марианны, умерла вскоре после мужа. Сипягин приютил у себя Марианну, но «жить в зависимости было ей тошно... и между ее теткою и ею кипела постоянная, хотя скрытая борьба. Сипягина считала ее нигилисткой, Марианна ненавидела в Сипягиной свою невольную притеснительницу. Дяди она чуждалась, как и всех других людей. Она именно чуждалась их, а не боялась; нрав у нее был не робкий». Потом все выбежали на главное крыльцо навстречу приближавшейся коляске. Рукопожатия, объятия, приветы... Все общество двинулось вверх по лестнице, «уставленной с обеих сторон главными слугами и служанками. К ручке они не подходили — эта «азиатщина» была давно отменена — и только кланялись почтительно, а Сипягин отвечал их поклонам — больше бровями и носом, чем головою». Нежданов, прибывший вместе с хозяином, чувствовал себя неловко. «На нем было старое, довольно невзрачное пальто; дорожная пыль насела ему на все лицо и на руки». Наконец он оказался один в предоставленной ему комнате, выложил вещи из чемодана, умылся и переоделся. Как всегда его сердце ныло, он устал от двухдневного постоянного присутствия чужого человека, от разнообразных, бесплодных разговоров. Неделя прошла незаметно. Вот несколько небольших отрывков из письма Нежданова к другу, некоему Силину, человеку «замечательно чистой души», но робкому, немощному. Этот Силин, бывший товарищ Нежданова по гимназии, жил, вернее, тихо прозябал в отдаленном губернском городе у зажиточного родственника, от которого зависел вполне. «Ни перед кем Нежданов так беззаветно не высказывался», словно беседовал с «жильцом другого мира или с собственной совестью». «Плохо владея пером, Силин отвечал мало, короткими неловкими фразами»; но Нежданову требовались не его ответы, а возможность высказаться. «...Поздравь меня, — писал ему в этот раз Нежданов, — попал я на подножный корм и могу теперь отдохнуть и собраться с силами». «Хозяева — учтивые, либеральные...» «Но больше всех меня занимает одна девушка, родственница ли, компаньонка ли... с которой я почти двух слов не сказал, но в которой я чувствую своего поля ягоду...» «Что она несчастна, горда, самолюбива, скрытна, а главное, несчастна — это для меня не подлежит сомнению. Почему она несчастна — этого я до сих пор еще не знаю. Что она натура честная — это мне ясно; добра ли она — это еще вопрос». 7 Однажды приехал брат хозяйки, Маркелов. Смуглый, курчавый, жилистый, он мало похож был на Валентину Михайловну. Придя в комнату к Нежданову, он попросил его прочесть письмо. — От Василия Николаевича, — прибавил он, значительно понизив голос. «Это было нечто вроде полуофициального циркуляра, в котором податель, Сергей Маркелов, рекомендовался как один из «наших», вполне заслуживавших доверия; далее следовало наставление о безотлагательной необходимости взаимодействия, о распространении известных правил. Циркуляр был между прочим адресован и Нежданову, тоже как верному человеку». Сначала оба они закурили. Потом состоялся разговор. — Вы с здешними крестьянами уже успели сблизиться? — спросил наконец Маркелов. — Нет, пока еще не успел. — Да вы давно ли сюда прибыли? — Скоро две недели будет. — Занятий много? — Не слишком. Маркелов угрюмо кашлянул. — Гм! Народ здесь довольно пустой, — продолжал он, — темный народ. Поучать надо. Бедность большая, а растолковывать некому, отчего эта самая бедность происходит. — Бывшие мужики вашего зятя, сколько можно судить, не бедствуют, — заметил Нежданов. — Зять мой — хитрец; глаза отводить мастер. Крестьяне здешние — точно, ничего; но у него есть фабрика. Вот где нужно старание приложить. Тут только копни: что в муравьиной кучке, сейчас заворошатся. Книжки у вас с собою есть? — Есть... да немного. — Я вам доставлю. Потом они съездили в деревеньку Маркелова. Чтобы в нее попасть, надо было проехать через город. Что собой представлял тогда этот губернский город? «Не успели новые знакомцы обменяться и полусотней слов, как уже замелькали перед ними дрянные подгородные мещанские домишки с продавленными тесовыми крышами, с тусклыми пятнами света в перекривленных окошках; а там загремели под колесами камни губернской мостовой, тарантас запрыгал, заметался из стороны в сторону... и, подпрыгивая при каждом толчке, поплыли мимо глупые каменные двухэтажные купеческие дома с фронтонами, церкви с колоннами, трактирные заведения... Дело было под воскресенье; на улицах уже не было прохожих, но в кабаках еще толпился народ. Хриплые голоса вырывались оттуда... Тарантас перебрался через обширную базарную площадь, миновал губернаторский дом с пестрыми будками у ворот, частный дом с башней, бульвар... снова очутился на вольном загородном воздухе, на большой, вербами обсаженной дороге...» Маркелов был, в сущности, неудачником. Окончив артиллерийское училище, стал офицером, но вскоре подал в отставку из-за неприятности с командиром. Поскольку этот командир был немцем, он возненавидел немцев. Читал он немного и, главным образом, «книги, идущие к делу, Герцена в особенности». Несколько лет тому назад он влюбился в одну девушку, но та ему изменила и вышла за адъютанта. Маркелов возненавидел также и адъютантов. Ограниченный и не слишком способный к научным занятиям, он упрямо писал статьи о недостатках артиллерии, но ни одну не мог довести до конца. Это был человек «упрямый, неустрашимый до отчаянности, не умевший ни прощать, ни забывать, постоянно оскорбляемый за себя, за всех угнетенных, — и на все готовый. Его ограниченный ум бил в одну и ту же точку: чего он не понимал, то для него не существовало...» Хозяин он был посредственный, «у него в голове вертелись разные социалистические планы», которых он не мог осуществить. «Человек искренний, прямой, натура страстная и несчастная, он мог в данном случае оказаться безжалостным, кровожадным... — и мог также пожертвовать собою, без колебания и без возврата». Он «жил спартанцем и монахом», влюбился было в племянницу Сипягина Марианну, даже сделал предложение, но взаимности не встретил, получил отказ. 8 Когда тарантас подкатил к крыльцу, Маркелов сказал Нежданову: «Вы найдете здесь гостей, которых знаете хорошо, но никак не ожидаете встретить». И действительно. «В небольшой, крайне плохо убранной гостиной» сидели Остродумов и Машурина. При свете керосиновой лампы они пили пиво и курили табак. Выяснилось, что они присланы «по общему делу», Остродумов останется в губернии «для пропаганды», а Машурина должна куда-то поехать. Беседа, странная, сумбурная, продолжалась всю ночь. Маркелов с раздражением («хотя никто ему не противоречил») говорил о «необходимости безотлагательного действия» («мешкать могут одни трусы») и о том, что «некоторая насильственность необходима, как удар ланцета по нарыву». Он где-то вычитал это сравнение, и оно ему нравилось. «Машурина и Остродумов одобряли его улыбкой, взором, иногда коротким восклицанием; а с Неждановым произошло нечто странное». Сперва он говорил «о вреде поспешности, преждевременных, необдуманных поступков». Потом вдруг он «с каким-то отчаянием, чуть не со слезами ярости на глазах, с прорывавшимся криком в голосе принялся говорить в том же духе, как и Маркелов, пошел даже дальше, чем тот». Что толкнуло его на это? Внутренняя тревога? Неудовлетворенность жизнью? Желание себя показать? Или слова Маркелова «зажгли в нем кровь»? Может быть, сыграла тут главную роль его нервозность? И при всем этом надежда через «русский бунт» установить жизнь счастливую и справедливую для всех угнетенных. До самой зари продолжалась беседа. Связывали в пачки «разные книжонки», обсуждали меры и средства, роль каждого. Упомянули, в частности, среди людей, способных пригодиться, некоего Соломина, заведовавшего бумагопрядильной фабрикой. «Мы его еще не раскусили, но дельный, дельный человек», — заметил Маркелов. Затем, вскоре после возвращения в дом Сипягиных, у Нежданова состоялся важный разговор с Марианной. Она рассказала, как осталась без родителей, как ее облагодетельствовали родственники. Рассказала и о том, что Валентина Михайловна, жена ее дяди — лжива, любит притворяться. «Она знает, что похожа на мадонну, и никого не любит!» «Она вся — благоволение!» Но пальцем не шевельнет, чтобы помочь страдающим. А уж если ей чтолибо «нужно или выгодно... тогда... о, тогда»! Разговор происходил в одной из липовых аллей, начинавшейся недалеко от террасы. «Марианна принадлежала к особенному разряду несчастных существ. (В России они стали попадаться довольно часто.) Несправедливость, на которую они страшно чутки, возмущает их до дна души. Пока она говорила, Нежданов глядел на нее внимательно; ее покрасневшее лицо, с слегка разбросанными короткими волосами, с трепетным подергиваньем тонких губ, показалось ему и угрожающим, и значительным — и красивым». Она вовсе не стремилась порисоваться перед молодым человеком, когда говорила: «Вы вольны смеяться надо мною, но если я несчастна, то не своим несчастьем. Мне кажется иногда, что я страдаю за всех притесненных, бедных, жалких на Руси... нет, не страдаю — а негодую за них, возмущаюсь... что я за них готова... голову сложить. Я несчастна тем, что я барышня, приживалка, что я ничего, ничего не могу и не умею! Когда мой отец был в Сибири, а я с матушкой оставалась в Москве — ах, как я рвалась к нему! И не то чтобы я очень его любила или уважала — но мне так хотелось изведать самой, посмотреть собственными глазами, как живут ссыльные, загнанные... И как мне было досадно на себя и на всех этих спокойных, зажиточных, сытых!.. А потом, когда он вернулся, надломанный, разбитый, и начал унижаться, хлопотать и заискивать... ах, как это было тяжело! Как хорошо он сделал, что умер... и матушка тоже! Но вот я осталась в живых... К чему? Чтобы чувствовать, что у меня дурной нрав, что я неблагодарна, что со мной ладу нет — и что я ничего, ничего не могу ни для чего, ни для кого!» Почему же она словно изливала перед ним душу? Она сама потом объяснила: «Вы ведь такой же, как я — несчастный, — и нрав у вас тоже... дурной, как у меня». 9 Шли дни. Однажды вдруг к обеду приехал Калломейцев, расстроенный и раздраженный. Он сообщил, что в Белграде убили его друга, сербского князя Михаила. «Понемногу расходившись и придя в азарт, Калломейцев от заграничных якобинцев (будто бы виноватых в смерти его друга) обратился к доморощенным нигилистам и социалистам», «изъявлял желание раздробить, превратить в прах всех тех, которые сопротивляются чему бы и кому бы то ни было». «И при этом он то и дело устремлял взор на Нежданова»: «Вот, мол, тебе!.. Это я на твой счет!» «Тот не вытерпел, наконец, и начал возражать... начал защищать надежды, принципы, идеалы молодежи». Сипягину удалось прекратить схватку. «Возвысив голос и приняв осанку, в которой неизвестно что преобладало: важность ли государственного человека, или же достоинство хозяина дома — он с спокойной твердостью объявил, что не желает слышать более у себя за столом подобные неумеренные выражения; что он давно поставил себе правилом (он поправился: священным правилом) уважать всякого рода убеждения, но только с тем (тут он поднял указательный палец, украшенный гербовым кольцом), чтобы они удерживались в известных границах благопристойности и благоприличия...» Сипягин был очень доволен: эта сцена дала ему возможность «выказать силу своего красноречия, усмирить начинавшуюся бурю». Марианна «упорно глядела в свою тарелку». Сочувствуя речам Нежданова, она не хотела «выдать себя Сипягиной. Она чувствовала на себе ее проницательный, пристальный взор». Валентина Михайловна, дама ловкая, изящная, вполне добродетельная, всегда стремилась очаровывать молодых людей. Она была властолюбива! «Повелевать, привлекать и нравиться», «заставить чужие глаза то померкнуть, то заблистать», «смутить чужую душу» — возможно, это давало ей ощущение своей значимости. Едва появился в их доме Нежданов, она и его пыталась очаровать, а теперь поняла: «Нежданов отвернулся от нее», «уж не Марианна ли? Да, наверное, Марианна. Он ей нравится... да и он...» «Было уже довольно поздно, часов около десяти». Хозяева играли в карты с Калломейцевым. А Нежданов и Марианна, войдя в какую-то полупустую комнату, беседовали. В этот вечер Нежданов ей все рассказал: свои планы, намерения, все свои связи, знакомства. «Он упомянул о полученных письмах, о Василии Николаевиче, обо всем — даже о Силине... Благодарность, гордость, преданность, решимость — вот чем переполнялась ее душа. Ее лицо, ее глаза засияли... Она вдруг страшно похорошела!» Она хочет быть полезной их общему делу, готова на все! «Еще одно слово — и у ней брызнули бы слезы умиления». Ее охватила «жажда деятельности, жертвы, жертвы немедленной...». Потом она услышала чьи-то легкие, осторожные шаги за дверью. «Я знаю, кто нас подслушивает... — проговорила она так громко, что в коридоре явственным отзвучием раздавалось каждое ее слово, — госпожа Сипягина подслушивает нас... но мне это совершенно все равно». Шорох шагов прекратился. — Так как же? — обратилась Марианна к Нежданову, — что же мне делать? как помочь вам? Говорите... говорите скорей! Что делать?.. — Что? — промолвил Нежданов. — Я еще не знаю... Я получил от Маркелова записку... Надо мне ехать завтра с ним к Соломину. Марианна для него стала «воплощением всего хорошего, правдивого на земле». И он обещал: «Отныне все, что я буду делать, все, что я буду думать, — все, все сперва узнаешь... ты». «Но они даже не поцеловались... и тотчас же разошлись, крепко-крепко стиснув друг другу руку». На другой день он отправился с Маркеловым к Соломину на бумагопрядильную фабрику. 10 Фабрика, принадлежавшая какому-то купцу, была завалена работой, процветала. «Отовсюду несся бойкий гам и гул непрестанной деятельности: машины пыхтели и стучали, скрипели станки, колеса жужжали, хлюпали ремни, катились и исчезали тачки, бочки, нагруженные тележки; раздавались повелительные крики, звонки, свистки; торопливо пробегали мастеровые в подпоясанных рубахах, с волосами, прихваченными ремешком, рабочие девки в ситцах; двигались запряженные лошади... Людская тысячеголовая сила гудела вокруг, натянутая как струна». Но как эти, едва нарождавшиеся предприятия еще были непохожи на будущие! Даже такое процветающее предприятие при умелом управляющем. «Все шло правильно, разумно, полным махом; но не только щегольства или аккуратности, даже опрятности не было заметно нигде и ни в чем; напротив — всюду поражала небрежность, грязь, копоть; там стекло в окне разбито, там облупилась штукатурка, доски вывалились, зевает настежь растворенная дверь; большая лужа, черная, с радужным отливом гнили, стоит посреди главного двора; дальше тотчас груды разбросанных кирпичей; валяются остатки рогож, циновок, ящиков, обрывки веревок; шершавые собаки ходят с подтянутыми животами и даже не лают; в уголку под забором сидит мальчик лет четырех, с огромным животом и взъерошенной головой, весь выпачканный в саже, — сидит и безнадежно плачет, словно оставленный целым миром...» «Русская фабрика — как есть; не немецкая и не французская мануфактура», — заключает с горечью Тургенев. Да, на фоне расчетливой аккуратности зарубежных работников русская бесшабашная небрежность того времени производила невыгодное впечатление. Пролетит время, и после всех перемен и бесчисленных трагедий высококлассные мастера придут на иные, сверкающие блеском самоуправляемые, полностью автоматизированные предприятия будущего. На целый завод — 1–2 оператора. Безлюдное производство будущих веков. Но пока что на этих грязных фабриках потихоньку рождался будущий пролетариат и капиталист, организатор нового производства. Потом обострение борьбы между пролетариатом и капиталистами... Последние наконец научатся откупаться от работяг: отчасти делиться прибылью. Затем что-то вроде «народного капитализма...». Кое-где в развитых странах стали недавно появляться предприятия без хозяина, управляемые коллективом. Вся их прибыль — собственность работников. «Разгромив коммунизм на Востоке, Запад сам устремился в том же направлении...» — пишет современный ученый А. Зиновьев. Надо еще, пожалуй, иметь в виду, что коммунизма, в подлинном смысле этого слова, еще вовсе и не было. Для него требуется совсем иной уровень техники и сознания. А то, что удавалось пока создать, было лишь отдаленным его подобием, не слишком жизнеспособным в условиях, когда террор ослабевал. Соломин, механик-управляющий фабрики, жил в невзрачном флигельке. «Он был высокого роста, белобрыс, сухопар, плечист; лицо имел длинное, желтое, нос короткий и широкий, глаза очень небольшие, зеленоватые, взгляд спокойный... Одет он был ремесленником, кочегаром: на туловище старый пиджак с отвислыми карманами, на голове клеенчатый помятый картуз, на шее шерстяной шарф, на ногах дегтярные сапоги». Разговор пошел о «деле»; о письме Василия Николаевича (до сих пор неведомого и таинственного). — Знаете ли что, — сказал Соломин, — у меня здесь не совсем удобно; поедемте-ка к вам. «Час спустя, в то время, когда из всех этажей громадного здания по всем лестницам спускалась и во все двери выливалась шумная фабричная толпа, тарантас, в котором сидели Маркелов, Нежданов и Соломин, выезжал из ворот на дорогу». 11 Приехали они в «Борзенково, деревеньку Маркелова, кое-как поужинали, — а там запылали сигары и начались разговоры, которые в таких размерах и в таком виде едва ли свойственны другому какому народу». «Оказалось, что Соломин не верил в близость революции в России... Он хорошо знал петербургских революционеров и до некоторой степени сочувствовал им, ибо был сам из народа, но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого «ничего ты не поделаешь и которого долго готовить надо — да и не так... как те». Вот он и держался в стороне — не как хитрец и виляка, а как малый со смыслом, который не хочет даром губить ни себя, ни других. А послушать... отчего не послушать — и даже поучиться, если так придется». Соломин, сын дьячка, в свое время с согласия отца бросил семинарию, стал заниматься математикой и особенно механикой; попал на завод к англичанину, который так его полюбил, что дал ему средства съездить на два года в Манчестер. «На фабрику московского купца он попал недавно и хотя с подчиненных взыскивал, ...но пользовался их расположением: свой, дескать, человек! Отец был им очень доволен, называл его «обстоятельным» и только жалел о том, что сын жениться не желает». Утром Нежданов просматривал письма некоего «молодого пропагандиста» Кислякова, которые тот присылал Маркелову. «Молодой пропагандист в них толковал постоянно о себе, о своей судорожной деятельности; по его словам, он в последний месяц обскакал одиннадцать уездов, был в девяти городах, двадцати девяти селах, пятидесяти трех деревнях, одном хуторе и восьми заводах; шестнадцать ночей провел в сенных сараях, одну в конюшне, одну даже в коровьем хлеве... лазил по землянкам, по казармам рабочих, везде поучал, наставлял, книжки раздавал и на лету собирал сведения; иные записывал на месте, другие заносил себе в память, по новейшим приемам мнемоники; написал четырнадцать больших писем, двадцать восемь малых и восемнадцать записок (из коих четыре карандашом, одну кровью, одну сажей, разведенной на воде); и все это он успевал сделать, потому что научился систематически распределять время, принимая в руководство Квинтина Джонсона, Сверлицкого, Каррелиуса и других публицистов и статистиков». Потом он уверял, что «не пройдет над миром безо всякого следа, что он сам удивляется тому, как это он, двадцатидвухлетний юноша, уже решил все вопросы жизни и науки и что он перевернет Россию, даже «встряхнет» ее!.. В одном из писем находилось и социалистическое стихотворение, обращенное к одной девушке и начинавшееся словами: Люби не меня — но идею!» На этом фоне «обстоятельный», простой и скромный Соломин сильно выигрывает: он занят нужным, реальным делом, а не пустой болтовней, никого воодушевить не способной. После чая они отправились в город посетить богатого купца Голушкина «для пропаганды». Этот Голушкин, лет сорока, «довольно тучный и некрасивый, рябой, с небольшими свиными глазками», пригласил их на обед. «Жажда популярности была его главною страстью: греми, мол, Голушкин, по всему свету! То Суворов или Потемкин — а то Капитон Голушкин! Эта же самая страсть, победившая в нем прирожденную скупость, бросила его, как он не без самодовольства выражался, в оппозицию...» — Тыщу рублев во всяком случае на дело жертвую... в этом не сомневайся! — объявил он сразу Маркелову. Обед был назначен на три часа, они пошли пока в городской сад и встретили Паклина, который гостил в этом городе у родственников матери. (Отец его был мещанин, а мать — дворянка.) — До трех часов еще времени много, — заявил он, узнав про обед. — Послушайтесь меня — пойдемте к моим родственникам. (Для чего они вдруг понадобились в романе?) Вот как Паклин характеризует этих старичков: — Ни политика, ни литература, ни что современное туда и не заглядывает». «...За что ни возьмись — антик, Екатерина Вторая, пудра, фижмы, XVIII век! Хозяева... муж и жена, оба старенькие-престаренькие, однолетки...» «а добры до глупости, до святости, бесконечно». Так зачем здесь эти старички? Чтобы напомнить, как жили «сто, полтораста лет тому назад»? Или чтобы на пороге предстоящей борьбы, — как говорил Паклин: «прежде чем броситься в эти бурные волны, окунуться... — В стоячую воду? — перебил Маркелов». — Но бывают крошечные пруды, на дне которых ключи, — объясняет Паклин. — И у моих старичков есть ключи — там на дне сердца, чистые-пречистые. 12 Итак, Фома Лаврентьевич и Евфимия Павловна Субочевы — Фомушка и Фимушка. «Состояние у них было небольшое; но мужички их по-прежнему привозили им по нескольку раз в год домашнюю живность и провизию; староста в указанный срок являлся с оброчными деньгами...» Старый слуга Каллиопыч, с стоячим воротником и маленькими стальными пуговицами по-прежнему докладывал нараспев, что «кушанье на столе», и засыпал, стоя за креслом барыни... а на вопрос: не слыхал ли он, что для всех крепостных вышла воля, всякий раз отвечал, что мало ли кто какие мелет враки; это, мол, у турков бывает воля, а его, слава богу, она миновала». Они держали «карлицу» для развлечения, а старая няня Васильевна во время обеда входила с темным платком на голове и рассказывала «про Наполеона», «про антихриста» или сообщала, какой видела сон и что у нее на картах вышло. «...В каком быту родились они, выросли и сочетались браком, в том и остались. Одна только особенность того быта к ним не пристала: отроду они никогда никого не наказали, не взыскали ни с кого. Коли слуга у них оказывался отъявленным пьяницей или вором, они сперва долго терпели и переносили — вот как переносят дурную погоду; а наконец старались отделаться от него, спустить другим господам... Только эта беда случалась с ними редко, — до того редко, что становилась в их жизни эпохой — и они говаривали, например: «Этому очень давно; это приключилось тогда, когда у нас проживал Алдошка-озорник...» Но как без наказаний в масштабах огромной страны удалось бы удерживать крепостное право? Иной «Алдошка-озорник» сам захотел бы стать помещиком; и уж он бы никого не пощадил. Гости и хозяева беседовали о всякой чепухе, Фомушка и Фимушка даже спели дуэтом «романсик» времен своей молодости. На то ль, чтобы печали, В любви нам находить, Нам боги сердце дали, Способное любить?.. Появились карлица Пуфка в сопровождении нянюшки Васильевны, стала пищать и кривляться, «а нянюшка то уговаривала ее, то пуще дразнила». Маркелов, человек прогрессивный, был возмущен этой забавой. Здесь забавлялись увечьем — тем, что «должно составить предмет жалости». Фомушка смутился, зато Пуфка подняла крик. Проблемы равенства и справедливости ее не волновали. — И с чего ты это вздумал, — затрещала она... — наших господ обижать? Меня, убогую, призрели, приняли, кормют, поют, — так тебе завидно? Рабство глубоко проникло в ее душу; чтобы вылечить человеческие души, нужны века. Революция, реформа — натыкаются на массовое человеческое несовершенство. «Царство Божье не придет приметным образом, — оно внутри нас». Даже когда приятели уходили, «за окнами раздавался писклявый голос Пуфки. — Дураки... — кричала она, — дураки!» Вдобавок Маркелов откровенно высказал старичкам свое мнение насчет их доброты: — Я, конечно, вам не судья... Но позвольте вам заметить: жить в довольстве, как сыр в масле кататься, да не заедать чужого века, да палец о палец не ударить для блага ближнего... это еще не значит быть добрым; я по крайней мере такой доброте, правду говоря, никакой цены не придаю!» Тут Пуфка завизжала оглушительно; она ничего не поняла из всего, что сказал Маркелов; но «черномазый» бранился... как он смел! Васильевна тоже что-то забормотала, а Фомушка сложил ручки перед грудью — и, повернувшись лицом к своей жене: «Фимушка, голубушка, — сказал он, чуть не всхлипывая, — слышишь, что господин гость говорит? Мы с тобой грешники, злодеи, фарисеи... как сыр в масле катаемся, ой! ой! ой!.. На улицу нас с тобою надо, из дому вон — да по метле в руки дать, чтобы мы жизнь свою зарабатывали, — о, хо-хо!» Услышав такие печальные слова, Пуфка завизжала пуще прежнего, Фимушка съежила глаза, перекосила губы — и уже воздуху в грудь набрала, чтобы хорошенько приударить, заголосить...» Спасибо, Паклин вмешался. — Что это! помилуйте, — начал он, махая руками и громко смеясь, — как не стыдно? Господин Маркелов пошутить хотел; но так как вид у него очень серьезный — оно и вышло немного строго... а вы и поверили? Полноте! В заключение Паклин даже попросил Фимушку всем погадать. — Скажите нам нашу судьбу, характер наш, будущее... В руках у Фимушки оказалась тут же колода каких-то древних, необыкновенных карт. Начав было их раскладывать, она вдруг бросила всю колоду. — И не нужно мне гадать! — воскликнула она, — я и так характер каждого из вас знаю. А каков у кого характер, такова и судьба. Вот этот (она указала на Соломина) — прохладный человек, постоянный; вот этот (она погрозилась Маркелову) — горячий, погубительный человек (Пуфка высунула ему язык); тебе (она глянула на Паклина) и говорить нечего, сам себя ты знаешь: вертопрах! А этот... Она указала на Нежданова — и запнулась. — Что ж? — промолвил он, — говорите, сделайте одолжение: какой я человек? — Какой ты человек... — протянула Фимушка, — жалкий ты — вот что! Нежданов встрепенулся. — Жалкий? Почему так? — А так! Жалок ты мне — вот что! — Да почему? — А потому! Глаз у меня такой... — Ну, прощайте, други, — брякнул Паклин... — Прощайте, спасибо на ласке. — Прощайте, прощайте, заходите, не брезгуйте, — заговорили в один голос Фомушка и Фимушка... А Фомушка как затянет вдруг: — Многая, многая, многая лета, многая... — Многая, многая, — совершенно неожиданно забасил Каллиопыч, отворяя дверь молодым людям... — Ну что ж! — начал первый Паклин. — Были в XVIII веке — валяй теперь прямо в XX. Голушкин такой передовой человек, что его в XIX считать неприлично. 13 Купец Голушкин принял все меры, чтобы задать обед «с форсом», «с шиком». Уха, шампанское, всевозможные «французские» блюда... Вино понемногу «разобрало всех». «Как первые снежинки кружатся, быстро сменяясь и пестря еще в теплом осеннем воздухе, — так в разгоряченной атмосфере голушкинской столовой завертелись, толкая и тесня друг дружку, всяческие слова: прогресс, правительство, литература; податной вопрос, церковный вопрос, женский вопрос, судебный вопрос; классицизм, реализм, нигилизм, коммунизм; интернационал, клерикал, либерал, капитал; администрация, организация, ассоциация и даже кристаллизация! Голушкин, казалось, приходил в восторг именно от этого гама; в нем-то, казалось, и заключалась для него настоящая суть... Он торжествовал! «Знай, мол, наших! Расступись — убью!.. Капитон Голушкин едет!» И, наконец, «кульминация...». На побагровевшем лице Голушкина «к выражению грубого самовластия и торжества» добавилось выражение «тайного ужаса и трепетания», и он гаркнул: «жертвую еще тыщу!» Потом он запустил руку в боковой карман. «Вот они, денежки-то! Нате, рвите; да помните Капитона!» «Нежданов подобрал брошенные на залитую скатерть бумажки. Но после этого уже нечего было оставаться; да и поздно становилось. Все встали, взяли шапки — и убрались». Нежданов поехал ночевать к Маркелову. — ...Если ждать минуты, когда все, решительно все будет готово, — никогда не придется начинать, — говорил ему затем у себя в кабинете Маркелов. — Ведь если взвешивать наперед все последствия — наверное, между ними будут какие-либо дурные. Например: когда наши предшественники устроили освобождение крестьян — что ж? могли они предвидеть, что одним из последствий этого освобождения будет появление целого класса помещиковростовщиков, которые... высасывают последнюю кровь из мужика?.. И все-таки... хорошо они сделали, что освободили крестьян — и не взвешивали всех последствий! А потому я... решился!» Да, развитие идет методом проб и ошибок. Не мог Маркелов, человек самоотверженный, героический, вполне осмыслить перспективы, ближайшие или отдаленные, как не мог довести до конца ни одну свою статью о недостатках артиллерии. Да и прочие энтузиасты, вроде неутомимого Кислякова, еще вряд ли способны были уяснить простую суть чего бы то ни было, несмотря на знание «Квинтона Джонса, Сверлицкого, Каррелиуса» и т. д. Истина всегда проста и всем доступна, хотя приходят к ней подчас через многие заблуждения и жертвы. На другое утро Нежданов уехал рано. «Погода была июньская, хоть и свежая: высокие резвые облака по синему небу, сильный ровный ветер, дорога не пылит, убитая вчерашним дождем, ракиты шумят, блестят и струятся — все движется, все летит... После завтрака Марианна ему сказала: «Жди меня в старой березовой роще на конце сада...» Был ли он влюблен в нее — этого он еще не знал; но что она стала ему дорогою, и близкой, и нужной... — это он чувствовал всем существом своим». В роще — плакучие березы, ветер; «длинные пачки ветвей качались, метались, как распущенные косы; облака по-прежнему неслись быстро и высоко». «Она первая заговорила. — Ну что, сказывай скорей, чем вы решили? Нежданов удивился. — Решили... да разве надо было теперь же решить?» Они уселись на поваленном бурей стволе березы. «Когда же? когда?» — этот вопрос постоянно вертелся у ней в голове, просился на уста во все время, пока говорил Нежданов... — Ну, так чем же вы решили? Нежданов пожал плечами. — Да я тебе сказал уже, что пока — ничем; надо будет еще подождать. — Подождать еще... Чего же? — Последних инструкций. («А ведь я вру», — думалось Нежданову.) — От кого? — От кого... ты знаешь... от Василия Николаевича. Да вот еще надо подождать, чтобы Остродумов вернулся. Марианна вопросительно посмотрела на Нежданова. — Скажи, ты когда-нибудь видел этого Василия Николаевича? — Видел раза два... мельком. — Что, он... замечательный человек? — Как тебе сказать? Теперь он голова — ну, и орудует. А без дисциплины в нашем деле нельзя; повиноваться нужно. («И это все вздор», — думалось Нежданову.) — Какой он из себя? — Какой? Приземистый, грузный, чернявый... Лицо скуластое, калмыцкое... грубое лицо. Только глаза очень живые. — А говорит он как? — Он не столько говорит, сколько командует. — Отчего же он сделался головою? — А с характером человек. Ни пред чем не отступит. Если нужно — убьет. Ну — его и боятся». Но когда речь пошла о борьбе за народное благо, счастливая неведомая даль открылась перед ними. — Ведь здесь оставаться мне нельзя будет... Надо будет бежать, — решила Марианна. И они договорились бежать вместе из дома Сипягиных. — Ведь ты пойдешь со мною? — На край света! — воскликнул Нежданов, и голос его внезапно зазвенел от волнения и какой-то порывистой благодарности. «Они пошли вместе домой, задумчивые, счастливые...» 14 «Хорошие, хотя и не совсем обыкновенные, отношения существовали между Соломиным и фабричными: они уважали его как старшего и обходились с ним как с ровным, как со своим; только уж очень он был знающ в их глазах!» Вот и Сипягин обратился к Соломину по поводу своей собственной фабрики, на которой дело не шло и требовались коренные преобразования. Сипягин пригласил его к обеду, послал за ним фаэтон с лакеем, но Соломин бы вероятно не поехал, если бы не записка от Нежданова, переданная ему тем же лакеем: «Приезжайте, пожалуйста, вы здесь очень нужны и можете быть очень полезны; только, конечно, не г-ну Сипягину». К этому времени отношения между Неждановым и его хозяевами окончательно испортились. Видя в нем «красного», Сипягин стал с ним недоверчив. А Валентина Михайловна вначале всячески стремилась его «очаровать», но увидев предпочтение, которое он отдавал ее врагу, Марианне, возненавидела его беспощадно. Соломин, надев «черный сюртук с очень длинной талией, сшитый ему губернским портным и несколько порыжелый цилиндр, да еще прихватив пару белых перчаток, сел в фаэтон и отправился к Сипягиным. Едва Соломин переступил порог, как Сипягин протянул ему обе руки, радушно приговаривая: «Вот как мило... с вашей стороны... как я вам благодарен» — и подвел его к Валентине Михайловне. «Красиво взмахнув снизу вверх своими чудесными ресницами», она стала его очаровывать светской любезностью, а Соломин держался невозмутимо, без малейших ужимок. «Это что такое? — думала она. — Плебей... явный плебей... а как просто себя держит!» «Соломин действительно держал себя очень просто, не так, как иной, который прост-то прост, но с форсом: «Смотри, мол, на меня и понимай, каков я есть!» — а как человек, у которого и чувства и мысли несложные, хоть и крепкие. Сипягина хотела было заговорить с ним — и, к изумлению своему, не тотчас нашлась». Потом Сипягин повел гостя осматривать фабрику. По дороге к ним присоединился Калломейцев. Соломин вскоре убедился, что «дело велось плохо. Денег было потрачено пропасть, да без толку». Он понимал, что «дворяне не привыкли к этого рода деятельности». — Послушать вас, — вскричал Калломейцев, — дворянам нашим недоступны финансовые вопросы! — О, напротив! дворяне на это мастера. Концессию на железную дорогу получить, банк завести, льготу какую себе выпросить или там что-нибудь в таком роде — никто на это как дворяне! Большие капиталы составляют... Но я имел в виду правильные промышленные предприятия; говорю — правильные, потому что заводить собственные кабаки да променные мелочные лавочки, да ссужать мужичков хлебом и деньгами за сто и за полтораста процентов, как теперь делают многие из дворянвладельцев, — я подобные операции не могу считать настоящим финансовым делом. Калломейцев ничего не ответил. Он принадлежал именно к этой новой породе помещиков-ростовщиков... 15 Перед обедом Сипягин сообщил Валентине Михайловне, что «фабрика положительно плоха», что «этот Соломин кажется ему человеком очень толковым» и «надо продолжать быть с ним особенно предупредительной». Но сманить Соломина все же не удалось, а к заигрыванию хозяйки он остался «как-то уж очень равнодушен», что, по мнению Валентины Михайловны, было весьма удивительно в человеке «из простых». А вот впечатление Марианны. Прежде всего — доверие: он «не мог солгать или прихвастнуть, на него можно было положиться, как на каменную стену... Он не выдаст; мало того: он поймет и поддержит». Ее мало интересовал его прогноз о том, что лет через 20–30 поместного дворянства не станет и земля, так же как заводы и фабрики, будет принадлежать владельцам без разбора происхождения, в основном купцам. Они купят землю у дворян. А «народу от этого легче не будет». Но Соломин действительно пришел на помощь, когда Нежданов и Марианна ему сообщили о своем намерении бежать. Он понял и оценил их самоотверженную восторженность, их искренность. — Куда же вы намерены бежать? — спросил опять Соломин, понизив голос. — Мы не знаем, — отвечала Марианна. И Нежданов не знал... Но оба хотели «идти в народ», «трудиться для народа». — Вот что, дети мои, — сказал, наконец, Соломин. — Ступайте ко мне на фабрику. Некрасиво там... да не опасно. Я вас спрячу. В дальнейшем произошло ужасное столкновение между Марианной и Валентиной Михайловной, которую возмущала дружба Марианны с Неждановым, «молодым человеком, который и по рождению, и по воспитанию, и по общественному положению стоит слишком низко». Вечером Нежданов писал своему другу Силину: «Друг Владимир, я пишу тебе в минуты решительного переворота в моем существовании. Мне отказали от здешнего дома, я ухожу отсюда. Но это бы ничего... Я отхожу отсюда не один. Меня сопровождает та девушка, о которой я тебе писал... Все темно впереди — и мы вдвоем устремляемся в эту темноту. Мне не нужно тебе объяснять, на что мы идем и какую деятельность избрали... Марианна — прекрасная, честная девушка; если нам суждено погибнуть, я не буду упрекать себя в том, что я ее увлек, потому что для нее другой жизни уже не было. Но, Владимир, Владимир! мне тяжело... Сомнение меня мучит — не в моем чувстве к ней, конечно, а... я не знаю! Только теперь вернуться уже поздно...» Соломин приютил их на своей фабрике. «Неказисто, да ничего: жить можно. И глазеть здесь на вас будет некому... тихое местечко». Две комнаты на втором этаже флигелька, садик под окном. Дверь между комнатами запиралась. 16 На другой день, переодевшись умышленно в бедную мещанскую одежду, Нежданов отправился «в народ». «Поболтаюсь по окрестностям», — решил он. (Фабричных рабочих Соломин просил не трогать.) Марианна пока осталась, но тоже преобразилась. «В ситцевом, пестреньком, много раз мытом платьице, с желтым платочком на плечах, с красным на голове», она казалась красивей и моложе, чем в прежних своих нарядах. Соломин, кажется, к ней неравнодушен и старается этого не показывать. Что касается его представления о том, что такое «хождение в народ», то это некое воплощение «теории малых дел». «...Вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите; и трудно вам это будет, потому что не легко понимает Лукерья и вас чуждается, да еще воображает, что ей совсем не нужно то, чему вы ее учить собираетесь; а недели через две или три вы с другой Лукерьей помучитесь; а пока — ребеночка вы помоете или азбуку ему покажете, или больному лекарство дадите...» — Да ведь это сестры милосердия делают, Василий Федорыч! ...Я о другом мечтала. — Вам хотелось собой пожертвовать? Глаза у Марианны заблистали. — Да... да... да! Вернулся Нежданов усталый, запыленный. Все люди, с которыми довелось разговаривать, были чем-нибудь недовольны. Но в пропаганде он оказался слаб. «Две брошюрки просто тайком оставил в горницах, одну засунул в телегу...» Предлагал брошюры людям, но его не поняли. «Кроме того, одна собака укусила мне ногу; одна баба с порога своей избы погрозилась мне ухватом... Да еще один солдат бессрочный все мне вслед кричал: «Погоди, постой! мы тебя, брат, распатроним!» Кто-то принял его за жулика; вдобавок пришлось побывать в пяти кабаках. «Только я совсем этой мерзости — водки — не переношу. И как это наш народ ее пьет — непостижимо!» В общем, соприкосновение с действительной жизнью оказалось для него нелегким. Через две недели он писал другу Силину: «Милый Владимир, пишу тебе, не выставляя адреса, и даже это письмо будет послано с нарочным до отдаленной почтовой станции, потому что мое пребывание здесь — тайна и выдать ее — значит погубить не одного меня. С тебя довольно будет знать, что я живу на большой фабрике вдвоем с Марианной, вот уже две недели. Мы бежали от Сипягиных в тот самый день, когда я писал тебе. Нас здесь приютил один приятель... Владимир, мне очень, очень тяжело. Прежде всего я должен тебе сказать, что хотя мы с Марианной бежали вместе, но мы до сих пор — как брат с сестрою. Она меня любит... и сказала мне, что будет моею, если... я почувствую себя вправе потребовать этого от нее. Владимир, я этого права за собой не чувствую. Она верит мне, моей честности — я ее обманывать не стану. Я знаю, что я никого не любил и не полюблю... больше, чем ее. Но все-таки! Как могу я присоединить навсегда ее судьбу к моей? Живое существо — к трупу? Ну, не к трупу — к существу полумертвому? Где же будет совесть?.. Вот уж две недели, как я хожу «в народ», ...ничего глупей и представить себе нельзя». Письмо было длинное, а в конце — собственное стихотворение. Давненько не бывал я в стороне родной... Но не нашел я в ней заметной перемены. Все тот же мертвенный, бессмысленный застой, Строения без крыш, разрушенные стены... А вот последняя строчка: Спит непробудным сном отчизна, Русь святая! И в самом конце приписка: «P.S. Да, наш народ спит... Но мне сдается, если что его разбудит — это будет не то, что мы думаем...» Жаль, что в свое время не поняли, не оценили важный, пророческий смысл этой книги Тургенева, тонувший в море подробностей, в многословии. 17 На следующее утро Марианна радостно объявила: — Говорят, в Т...м уезде — близко отсюда — уже началось! ...Крестьяне поднимаются — не хотят платить податей, собираются толпами. Они вместе с Неждановым хотели тут же отправиться в этот уезд, но Соломин Марианну не пустил. — Я бы вам не советовал, Марианна. Вы можете выдать себя — и нас; невольно и безо всякой нужды. Нежданову он сказал: — А ты, брат, в самом деле посмотри немножко. Может быть, это все преувеличено. Только, пожалуйста, осторожнее. Впрочем, тебя подвезут. И вернись поскорее. Нескоро возвратился Нежданов. Но в каком виде! Он был пьян и смертельно бледен. Павел, помощник Соломина, привел его, уложил на диван, и Нежданов заснул. «А случилось это дело вот как... У Нежданова было довольно ума, чтобы понять, как несказанно глупо и даже бессмысленно было то, что он делал; но он постепенно до того «взвинтил» себя, что уже перестал понимать, что умно и что глупо». В стороне от дороги перед хлебным амбаром он заметил человек восемь мужиков; соскочив с телеги, он подбежал к ним и «минут с пять говорил поспешно, с внезапными криками...» «За свободу! Вперед! Двинемся грудью!» — кричал он, а мужики «едва ли что-нибудь в толк взяли»; один из них промолвил: «Какой строгий!» — а другой заметил: «Знать, начальник какой!» Сам Нежданов, влезая на телегу и садясь возле Павла, помощника Соломина, подумал про себя: «Господи! какая чепуха! Но ведь никто из нас не знает, как именно следует бунтовать народ...» «Въехали они на улицу. По самой середине ее, перед кабаком, толпилось довольно много народу. Павел хотел было удержать Нежданова; но уж он кувырком слетел с телеги — да с воплем: «Братцы!» — в толпу... Она расступилась немного, и Нежданов пустился опять проповедовать...» Потом вместе с толпой Нежданов оказался в кабаке. Громадный парень «с безбородым, но свирепым лицом» подал Нежданову полный стакан. «Приятеля угощаю! Кто он такой, чьего роду и племени — бес его ведает, да бояр честит лихо...» «Пей!» — зашумели голоса». Нежданов был как в чаду. «За вас, ребята!» Он сразу опьянел, долго, с ожесточением, с яростью говорил, целовал «какие-то осклизлые бороды...». Потом ему поднесли вторую стопку, третью... Спас его Павел. Усадил в телегу и отвез на фабрику. Пришлось Павлу при этом еще просить с поклонами: «Господа, мол, честные, отпустите паренька; видите, млад больно...» Ну и отпустили; только полтинник магарыча, говорят, подавай! Я так и дал. — И хорошо сделал, — похвалил его Соломин». 18 На фабрику внезапно явился Паклин, и Соломин привел его к Марианне. Привезенные Паклиным новости были печальными. «Маркелова схватили крестьяне и препроводили в город. А купец Голушкин, которого выдал приказчик, арестован и всех выдает. Марианна не испугалась, но надо было чтонибудь предпринять. «Первым ее движением было обратить глаза на Соломина». По его мнению, Нежданову «не худо на время скрыться». Марианне придется удалиться с ним. Предложение Паклина обратиться к Сипягину за помощью Марианна отвергла (но по поводу Маркелова, брата госпожи Сипягиной, Паклин все же обратился). Когда Нежданов пришел в себя, он плакал, упал перед Марианной на колени. — Что с тобой? — повторила она. — Зачем ты плачешь? Неужели оттого, что пришел домой в немного... странном виде? Быть не может! Или тебе жаль Маркелова — и страшно за меня, за себя? Или наших надежд тебе жаль? Не ожидал же ты, что все пойдет как по маслу! Нежданов вдруг поднял голос. — Нет, Марианна, — проговорил он, как бы оборвав свои рыдания, — не страшно мне ни за тебя, ни за себя... А точно... мне жаль... Оказалось, ему жаль, что она «соединила свою судьбу с человеком, который этого не стоит, может плакать в такую минуту. — Это не ты плачешь; плачут твои нервы». И все же он чувствовал: Марианна как-то невольно от него отдалялась. Речь зашла о Соломине. — Но ведь и ему, чай, угрожает опасность. Полиция и его возьмет. Мне кажется, он участвовал и знал еще больше моего. — Это мне неизвестно, — отвечала Марианна. — Он никогда не говорит о самом себе. «Не то что я!» — подумал Нежданов. В 10 часов вечера, когда Сипягин, его жена и Калломейцев играли в карты, вошедший лакей доложил о приезде некоего господина Паклина по «самонужнейшему и важнейшему делу». «Когда Сипягин вошел к себе в кабинет и увидал мизерную, тщедушную фигурку Паклина, смиренно прижавшуюся в простенок между камином и дверью, им овладело то истинно министерское чувство высокомерной жалости и гадливого снисхождения, которое столь свойственно петербургскому сановному люду». Паклин было сообщил, что Нежданов женился на Марианне (умышленно соврал), но Сипягин величественно ответил: «Это меня нисколько не интересует». Затем выяснилось, что «господин Маркелов схвачен мужиками, которых вздумал возмущать, — и сидит взаперти в губернаторском доме». «Что... что вы сказали?» — залепетал Сипягин «уж вовсе не министерским баритоном, а так, какою-то гортанной дрянью». Паклина оставили ночевать и даже на всякий случай заперли его комнату. На следующее утро Сипягин взял его с собой, отправляясь к губернатору. Щегольский экипаж Калломейцева следовал за их каретой. Злополучный Паклин «в своем неказистом пальтишке и помятой фуражке казался еще мизернее на темно-синем фоне шелковой материи, которою была обита внутренность кареты». «Тонкие голубые шторы», «полосы из нежнейшей белой бараньей шерсти в ногах...» Паклин чувствовал робость. А Сипягин тем временем сумел выманить у него сведения и о Маркелове, и о местонахождении Нежданова. — Впрочем, ваше превосходительство, — залепетал было несчастный, — я должен сказать, что собственно ничего не знаю... — Да я вас не расспрашиваю, помилуйте! Что вы?! За кого вы меня и себя принимаете? — надменно промолвил Сипягин и немедленно ушел в свою министерскую высь. А Паклин снова почувствовал себя мизерным, маленьким, пойманным... «Боже мой! — внутренне простонал он... — Что это я сделал! Я выдал все и всех... Меня одурачили...» 19 Вылезая из кареты, Паклин хотел было ускользнуть, но Сипягин с вежливой твердостью удержал его. А потом Сипягин с Калломейцевым пошли в кабинет губернатора, а Паклина оставили в гостиной. Чтобы он не улизнул, в дверях появился дюжий жандарм, предупрежденный Калломейцевым. — Да... да... да! — повторял губернатор, добродушный, беззаботный, услыхав про Маркелова — какое несчастье! Как твоя жена должна быть огорчена!! Чего же ты хочешь? — Я бы хотел свидеться с ним у тебя здесь, если это не противно закону. — Помилуй, душа моя! Для таких людей, как ты, закон не писан. Затем адъютант ввел Маркелова. «Он был неестественно спокоен. Даже обычная угрюмость сошла с его лица и заменилась выражением какой-то равнодушной усталости...» — Представь, дорогой друг, — рассказывал перед его приходом губернатор Сипягину, — ведь его чуть не убили мужики. Руки назад, в телегу — и марш! Его выдал некий Еремей, в которого он слепо верил, который для Маркелова «был как бы олицетворением русского народа...». Вот что собственно его «грызло и мучило». Неужели все, о чем он хлопотал, «было не то, не так?.. и все эти статьи, книги, сочинения социалистов, мыслителей, каждая буква которых являлась ему чем-то несомненным и несокрушимым...». И это замечательная фраза насчет «удара ланцета...». «Нет! нет! — шептал он про себя... не то я сказал, не так принялся! Надо было просто скомандовать, а если бы кто препятствовать стал или упираться — пулю ему в лоб! Тут разбирать нечего. Кто не с нами, тот права жить не имеет...» Далеко впереди едва намечались будущие большевики, Ленин. И ученик Ленина, Сталин, вначале послушно и возможно, с увлечением внимавший своим учителям. Разрушить «весь мир насилья»! А затем построить новый мир! (И, увы, опять получится «мир насилья», по-своему страшный, мучительный.) Чтобы строить новый мир, нужны совсем новые люди. А они создаются постепенно через все зигзаги и противоречия долгого пути. Не мог еще этого знать Маркелов. И он упрямо верил: «Кто не с нами, тот права жить не имеет». Через сто с лишним лет Горький скажет свою знаменитую фразу: «Если враг не сдается, его уничтожают». Сипягин начал было произносить очередную речь: «...Я прибыл сюда не для того только, чтобы выразить тебе наше изумление, наше глубокое огорчение... Ты сам хотел погубить себя! И погубил!! Но я желал тебя видеть, чтобы сказать тебе... э... э... чтобы дать... чтобы поставить тебя в возможность услышать голос благоразумия, чести и дружбы! ...Чистосердечное раскаяние в твоих заблуждениях, полное признание, безо всякой утайки, которое будет заявлено где следует...» Маркелов прервал его излияния. — Ваше превосходительство, — заговорил вдруг Маркелов, обращаясь к губернатору, и самый звук его голоса был спокоен, хоть и немного хрипл, — я полагал, что вам угодно было меня видеть — и снова допросить меня, что ли... Но если вы призвали меня только по желанию господина Сипягина, то велите, пожалуйста, меня отвести: мы друг друга понять не можем. «Сипягин пожал плечами. — Вот ты всегда так; не хочешь внять голосу рассудка! Тебе предстоит возможность разделаться тихо, благородно... — Тихо, благородно... — повторил угрюмо Маркелов. — Знаем мы эти слова! Их всегда говорят тому, кому предлагают сделать подлость. Вот что они значат, эти слова!» Затем, подстрекаемый Калломейцевым, Сипягин сообщил губернатору о подозрительных лицах, связанных с Маркеловым. И перед очами губернатора предстал Паклин, «близкий приятель некоего лица, — пояснил Сипягин, — которое состояло у меня в качестве учителя и покинуло мой дом, увлекши за собою, — прибавлю, краснея, — одну молодую девицу, мою родственницу... Это лицо есть некто господин Нежданов, сильно мною заподозренный в превратных понятиях и теориях... и уж, конечно, не чуждый всей этой пропаганде; он находится... скрывается, как мне сказывал господин Паклин, на фабрике купца Фалеева...» При словах: «как мне сказывал» — Маркелов усмехнулся, взглянув на Паклина, а тот безуспешно кричал: «Позвольте... я никогда... никогда...» (Сипягин действительно сам догадался, где Нежданов, но благодаря болтовне Паклина.) Полились опять красивые фразы Сипягина о дружбе и чувствах родственных... «Но есть другое чувство, милостивый государь, которое еще сильнее и которое должно руководить всеми нашими действиями и поступками: чувство долга!..» Маркелов окинул взором обоих говоривших. — Господин губернатор, — промолвил он, — повторяю мою просьбу: велите, пожалуйста, увести меня прочь от этих болтунов». «И зачем я совался туда..?» — с горечью думал Паклин, уходя. 20 Нежданов говорил Марианне: «Во мне сидят два человека — и один не дает жить другому». — Ты умна и добра, — говорил он затем, — ты все поймешь... Сядь. Голос Нежданова был очень тих, и какая-то особенная, дружеская нежность и просьба высказывались в его глазах, пристально устремленных на Марианну. Она тотчас охотно села возле него и взяла его руку... — Марианна, я обязан сказать тебе, что я не верю больше в то дело, которое нас соединило... А ты веришь? Марианна выпрямилась и подняла голову. — Да, Алексей, верю. Верю всеми силами души — и посвящу этому делу всю свою жизнь! До последнего дыхания!.. — Так, так; я ждал такого ответа. Вот ты и видишь, что нам вместе делать нечего... Я преклоняюсь перед тобою... а ты жалеешь меня — и каждый из нас уверен в честности другого: вот настоящая правда! А любви между нами нет. (Между тем им предстояло ехать венчаться. Скоро явится погоня, надо уходить вместе.) — Оставить тебя без покровителя, без защитника было бы преступно — и я этого не сделаю, как я ни плох, — сказал Нежданов. — У тебя будет защитник... Не сомневайся в том! Пришел Соломин. «Друзья мои, я пришел вам сказать, что мешкать нечего. Собирайтесь... через час надо вам быть готовыми. Надо вам ехать венчаться». Марианна пошла к Татьяне, жене Павла, пообещав через полчаса вернуться. — Мне уложиться недолго. — Если со мной что случится, обратился Нежданов к Соломину после ее ухода, — могу я надеяться на тебя, что ты не оставишь Марианну? — Твою будущую жену? — Ну, да, Марианну. — Во-первых, я уверен, что с тобой ничего не случится; а во-вторых, ты можешь быть спокоен: Марианна мне так же дорога, как и тебе. — О, я это знаю... знаю... знаю! Ну и прекрасно. И спасибо. Так через час? — Через час. — Я буду готов. Прощай! 21 «День был серый, небо висело низко, сырой ветерок шевелил верхушки трав и качал листья деревьев...» Нежданов проскользнул в палисадник, подошел к старой яблоне. «Если кто-нибудь меня увидит в эту минуту, — подумал он, — тогда, быть может, я отложу...» Но нигде не показалось ни одного человеческого лица... точно все вымерло, все отвернулось от него, удалилось навсегда, оставило его на произвол судьбы. Одна фабрика глухо гудела... да сверху стали сеяться мелкие, иглистые капли холодного дождя». Он подумал, «взглянув сквозь кривые сучья дерева, под которым он стоял, на низкое, серое, безучастно-слепое и мокрое небо»: «Ведь ничего другого не осталось, не назад же в Петербург, в тюрьму»; сбросил фуражку и приложил к груди револьвер. «Что-то разом толкнуло его даже не слишком сильно... и над лицом его, в глазах, на лбу, в мозгу завертелся мутно-зеленый вихрь — что-то страшно тяжелое и плоское придавило его навсегда к земле». Его увидели из окна флигеля — как он стоял под яблоней, а потом «повалился навзничь, точно сноп». «Несколько мгновений спустя Марианна, Соломин, Павел и еще двое фабричных уже были в палисаднике. Он оставил две записки. Вот небольшие отрывки из них. Одна была адресована Силину. «Прощай, брат, друг, прощай! Когда ты получишь этот клочок — меня уже не будет. Не спрашивай, как, почему — и не сожалей; знай, что мне теперь лучше...» Другое письмо предназначалось Соломину и Марианне. «Дети мои!.. Я очень виноват пред вами обоими... Но что было делать? Я другого выхода не нашел. Я не умел опроститься; оставалось вычеркнуть себя совсем... Дети мои, позвольте мне соединить вас как бы загробной рукою. Вам будет хорошо вдвоем. Марианна, ты окончательно полюбишь Соломина — а он... он тебя полюбил, как только увидел тебя у Сипягиных. Это не осталось для меня тайной, хотя мы несколько дней спустя бежали с тобою... Завтра будет несколько очень тяжелых минут... Прощай, Марианна... Прощай, Соломин! Поручаю тебе ее. Живите счастливо — живите с пользой для других... Марианна! Если ты встретишь когда-нибудь девушку, Машурину по имени, ...скажи ей, что я с благодарностью вспомнил о ней незадолго перед кончиной... Прощай! прощай! прощайте, мои дети, мои друзья!» Через несколько часов полиция нагрянула на фабрику и нашла Нежданова — «но уже трупом». Через два дня после всех этих происшествий местный священник обвенчал Марианну и Соломина; вскоре они исчезли. А хозяин фабрики, оставленной Соломиным, получил письмо; «в нем отдавался полный и точный отчет о положении дел (оно было блестящее и выпрашивался трехмесячный отпуск)». Месяцев через девять судили Маркелова. Он держался на суде «спокойно, не без достоинства и несколько уныло. Его обычная резкость смягчилась — но не от малодушия: тут участвовало другое, более благородное чувство. Он ни в чем не оправдывался, ни в чем не раскаивался, никого не обвинял и никого не назвал; его исхудалое лицо с потухшими глазами сохраняло одно выражение: покорности судьбе и твердости; а его короткие, но прямые и правдивые ответы возбуждали в самих его судьях чувство, похожее на сострадание». Беспощадный и недалекий, самоотверженный и неприхотливый, он был, в сущности, предшественником будущих поколений самых разных ниспровергателей. Их ждали тюрьмы, ненависть врагов, иногда измена друзей. Долгий страдальческий путь. 22 Прошло года полтора. Настала зима 1870 года. В Петербурге на одной из улиц случайно встретились Паклин, маленький, хроменький, седеющий, и дама довольно полная, высокого роста в темном суконном плаще. — Машурина? — промолвил он вполголоса. Дама величественно измерила его взором и, не сказав ни слова, пошла дальше. — Милая Машурина, я вас узнал, — продолжал Паклин, ковыляя с нею рядом, — только вы, пожалуйста, не бойтесь. Ведь я вас не выдам — я слишком рад, что встретил вас! Дама ответила по-итальянски, но с чисто русским акцентом, что она «контесса (т. е. графиня) Рокко ди Санто-Фиума». — Ну что контесса... какая там контесса... Зайдите, поболтаемте... Он тут же упомянул, что был приятелем Нежданова. — Да где вы живете? — спросила вдруг порусски итальянская графиня. — Мне некогда. Паклин пригласил ее в гости, его горбатая сестра побежала за самоваром. Машурину за рубежом снабдили паспортом на имя некоей итальянской графини, недавно умершей. Она нисколько не изменилась. Та же короткая стрижка; даже платье то же самое, что было на ней два года назад. «Но в глазах ее теперь была какая-то недвижная печаль». Всю жизнь она, грубая, некрасивая, одинокая, была к Нежданову неравнодушна и никогда в этом не признавалась ни ему, ни, может быть, даже себе. Паклин, как всегда, говорил много. — Он все сжег — и стихи свои сжег, — рассказывал он о Нежданове. — Вы, может быть, не знали, что он стихи писал? Мне их жаль; я уверен — иные должны были быть очень недурны. Все это исчезло вместе с ним... Зато Сипягины... — эти теперь наверху могущества и славы!.. Говорят, у них в доме такой высокий тон! Все о добродетели толкуют!! — Что Соломин? — спросила Машурина... — Соломин! — воскликнул Паклин. — Этот молодцом. Вывернулся отлично. Прежнюю-то фабрику бросил и лучших людей с собой увел. Теперь, говорят, свой завод имеет — небольшой — где-то там, в Перми, на каких-то артельных началах. Этот дела своего не оставит! Он продолбит! Он молодец!.. А главное: он не внезапный исцелитель общественных ран. Потому ведь мы, русские, какой народ? Мы все ждем: вот, мол, придет что-нибудь или кто-нибудь — и разом нас излечит, все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как больной зуб! — Ну, а та девушка, — спросила она, — я забыла ее имя, которая тогда с ним — с Неждановым — ушла? — Марианна? Да она теперь этого самого Соломина жена. Уж больше года, как она за ним замужем. Сперва только числилась, а теперь, говорят, настоящей женой стала. Даа. 23 «С тех пор как Паклин вернулся в Петербург, он видел очень мало людей, особенно молодых». Проявлял осторожность, да и ему подчас не доверяли. Он так рад был, что подвернулась хотя бы Машурина и «заговорил, заговорил...». «Досталось же Петербургу, петербургской жизни, всей России! Никому и ничему не было ни малейшей пощады! Машурину все это занимало весьма умеренно; но она не возражала и не перебивала его... а ему больше ничего и не требовалось. — Да-с, — говорил он, — веселое наступило времечко, доложу вам! В обществе застой совершенный...» Они пили чай. — Ну так вот что я хотел вам сказать, — продолжал Паклин изливать душу. — Вы вот о Соломине отозвались сухо. А знаете ли, что я вам доложу? Такие, как он — они-то вот и суть настоящие. Их сразу не раскусишь, а они — настоящие, поверьте; и будущее им принадлежит. Это — не герои; ...это — крепкие, серые, одноцветные, народные люди. Теперь только таких и нужно!.. Помилуйте: человек с идеалом — и без фразы; образованный — и из народа; простой — и себе на уме... Какого вам еще надо? — И вы не глядите на то, — продолжал Паклин, — ...что у нас теперь на Руси всякий водится народ... Не глядите на все это... настоящая исконная наша дорога — там, где Соломины... — Я хотела спросить у вас, Паклин, нет ли у вас какой-нибудь записки Нежданова — или его фотографии? Он подарил ей фотографию. «Машурина быстро, почти не взглянув на нее и не сказав спасибо, но покрасневши вся, сунула ее в карман, надела шляпу и направилась к двери. — Вы уходите? — промолвил Паклин. — Где вы живете по крайней мере? — А где придется. — Ну, скажите, пожалуйста, хотя одно: вы все про приказанию Василия Николаевича действуете? — На что вам знать?.. — Или вами распоряжается безымянный какой? — А может, и безымянный! Паклин долго стоял перед закрывшейся дверью. — Безымянная Русь! — сказал он наконец. Этот Паклин — болтливый, робкий, смешной, все же многое понимал. И героя нового времени сумел заметить. Но реален ли Соломин? Не слишком ли он «положительный», «правильный»? Может быть, долго еще надо было над ним работать, чтобы он стал вполне живым, чтобы выразить с его помощью смысл и суть человеческой жизни на все последующие времена. Итак, о чем эта книга? Зачем она? Новь — поднятая плугом целина. Роман «Новь» — попытка изобразить народничество и «хождение в народ», раскрыть эту тему «глубоко забирающим плугом», а не «поверхностно скользящей косой». Еще не раз его, быть может, следовало переписать, отсекая все лишнее, углубляя суть. Но... не удалось. Так о чем этот роман? Народничество — идеология и движение разночинной интеллигенции во второй половине XIX века. Разные задачи виделись тогдашним народникам и вообще разночинной интеллигенции. Свержение самодержавия путем крестьянской революции! Возникали организации «Земля и воля», потом «Черный передел», «Народная воля...». Членом «Земли и воли» и потом «Народной воли» была, например, Софья Перовская, организатор и участница покушения на Александра II, повешенная в 1881 году. И наряду с террористами — либеральное народничество... «Теория малых дел», которая вместо революционных, насильственных методов борьбы призывала интеллигенцию работать в земстве, школах, на предприятиях — в реальной повседневности способствовать улучшению нравов и всей жизни. «Я не верю в нашу интеллигенцию... — писал впоследствии Чехов. — Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России, там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них сила, хотя их и мало». Один из таких людей — Соломин, еще не сумевший стать характерным, типичным для своего времени, но предвосхитивший нечто важное для всеобщего спасения. Он скромно и ненавязчиво, в меру своих сил делает жизнь окружающих светлей, приносит им несомненную пользу. Когда такие люди, а не знаменитые «кумиры толпы» будут в почете, в центре всеобщего внимания, — приблизится земное Царство Божье. 1876 Об ушедшем, о днях минувших Как хороши, как свежи были розы... «Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною... но первый стих остался у меня в памяти: Как хороши, как свежи были розы... Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол; а в голове все звенит да звенит: Как хороши, как свежи были розы... И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, и в теплом воздухе пахнет резедой и липой; а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка — и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушновдохновенны задумчивые глаза, как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею — но как она мне дорога, как бьется мое сердце! Как хороши, как свежи были розы... А в комнате все темней да темней... Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрыпит и злится за стеною — и чудится скучный, старческий шепот... Как хороши, как свежи были розы... Встают передо мною другие образы... Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щеки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, вперебивку звучат молодые, добрые голоса; а немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького пианино — и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара... Как хороши, как свежи были розы... Свеча меркнет и гаснет... Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ... Мне холодно... Я зябну... И все они умерли... умерли... Как хороши, как свежи были розы...» 1879 А вот о светлой душе, о помощи ближнему — печальное стихотворение Два богача «Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых — я хвалю и умиляюсь. Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. — Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут, — не на что будет соли добыть, похлебку посолить... — А мы ее... и не соленую, — ответил мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика!» Многим до него далеко, не только Ротшильду. Величина милостыни определяется тем, какую часть имущества она составляет, каких усилий требует. 1879 И вселяющее надежду Мы еще повоюем! «Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека! Полный раздумья, шел я однажды по большой дороге. Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь; унылость овладевала мною. Я поднял голову... Передо мною, между двух рядов высоких тополей, стрелою уходила вдаль дорога. И через нее, через эту самую дорогу, в десяти шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьев, прыгала бойко, забавно, самонадеянно! Особенно один из них так и надсаживал бочком, бочком, выпуча зоб и дерзко чирикая, словно и черт ему не брат! Завоеватель — и полно! А между тем высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя. Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся — и грустные думы тотчас отлетели прочь: отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я. И пускай надо мною кружит мой ястреб... — Мы еще повоюем, черт возьми!» 1879 Перелистываем страницы... Мелькают отдельные строчки из «стихотворений в прозе». «Когда меня не будет, когда все, что было мною, рассыплется прахом, — о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, которая наверно переживешь меня, — не ходи на мою могилу... Но в часы уединения... возьми одну из наших любимых книг... И образ мой предстанет тебе — и из закрытых век твоих глаз польются слезы... о ты, мой единственный друг, ты, которую я любил так глубоко и так нежно!» «Я встал ночью с постели... Мне показалось, что кто-то позвал меня по имени... Там, за темным окном. Я прижался лицом к стеклу, приник ухом, вперил взоры — и начал ждать, но «там, за окном, только деревья шумели — однообразно и смутно, — и сплошные дымчатые тучи, хоть и двигались и менялись беспрестанно, оставались все те же да те же... Ни звезды на небе, ни огонька на земле». «Настали темные, тяжелые дни... Под гору пошла дорога. ...Уйди в себя, в свои воспоминанья, — и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобою...» Вдруг возникает в памяти известный романс на слова Тургенева. Там не «стихотворение в прозе», а просто стихотворение. Но тогда в его словах было меньше безысходности; печаль там была светла, и на фоне окружающей красоты давняя разлука воспринималась с улыбкой примирения. Утро туманное, утро седое, Нивы печальные, снегом покрытые, Нехотя вспомнишь и время былое, Вспомнишь и лица, давно позабытые. Тогда не было автобусов, самолетов, поездов. Ездили на лошадях. Кучера, ямщики, постоялые дворы... Зима. И не просто равнина или поле, а «нивы печальные, снегом покрытые...» утро — «туманное», «седое...». И пока продолжается этот долгий путь на санях, возникает в памяти прошлое. У каждого есть где-то в душе давно позабытые лица, только наш современный транспорт обычно не способствует воспоминаниям. Вспомнишь разлуку с улыбкою странною, Многое вспомнишь, давно позабытое, Слушая говор колес непрестанный, Глядя задумчиво в небо широкое. Стихотворения в прозе. И среди них великое: Русский язык «В дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» 1882 Жизнь, люди, сознание XIX века. Мы на это издали взглянули из сегодняшнего дня. Летит время. И почти незаметно продолжается всеобщее развитие путем проб, ужасных ошибок, их осмысления и мучительного преодоления в соответствии с ориентирами, выстраданными, освещающими далекий путь. Рассказы об охотничьих скитаниях по родному краю. Вот некоторые из них. Встреченные люди, их нравы, образ жизни, главные проблемы. Представим себе, что мы вместе с Тургеневым совершаем поездки. Каковы впечатления? Попробуем передать их кратко, по возможности — суть. Просмотрим некоторые из пьес Тургенева. Он их назвал комедиями. О чем они? Кто главные действующие лица? Какие картины в основном возникают перед мысленным взором читателя и что остается в его сознании после прочтения? Мы в театре. Сидя в удобном кресле, смотрим из темного зала на освещенную сцену... Повесть о несостоявшейся, горестной, странной любви. Повесть очень короткая. А мы ее еще значительно сократили. Но как выявить в ней главное? Где там отражена суть не только этой конкретной истории, но какой-то большой жизненной проблемы? Попробуем покороче передать содержание и выделить отрывки, таящие в себе неведомый заряд. Печальные или радостные, иногда трагические. Вот лишь несколько таких стихотворений. Список литературы Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В 13 т. М., 1956. Блок А. Избранное. М.: Панорама, 1995. Боборыкин П. Д. Воспоминания. В 2 т. М.: Художественная литература, 1965. Богословский Н. Тургенев «Молодая гвардия» (Серия: Жизнь замечательных людей), 1964. Горький М. Собрание сочинений. М.: Гослитиздат, 1950. Зиновьев А. Собрание сочинений. В 10 т. М.: Центрполиграф, 2000. Мопассан де Г. Полное собрание сочинений. В 12 т. М.: Правда, 1958. (Б-ка «Огонек»). Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем. В 15 т.; АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом). Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1982. Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского в авторской орфографии и пунктуации. Издательство ПГУ, 1995. Толстой Л. Собрание сочинений. В 20 т. М.: Художественная литература, 1963. Тургенев И. С. Собрание сочинений. В 12 т. М.: Наука, 1978. Фет А. Воспоминания. В 3 т. М.: Культура, 1992. Хайям О. Рубаи. М.: Орбита-М, 2003. Цветаева М. Сочинения. В 2 т. М.: Художественная литература, 1988. Чехов А. Полное собрание сочинений и писем. В 20 т. М.: Художественная Литература, 1951. Содержание Краткий биографический очерк 3 Записки охотника 27 Хорь и Калиныч 29 Льгов 32 Бежин луг 35 Бурмистр 41 Контора 46 Бирюк 53 Два помещика 57 Певцы 60 Свиданье 65 Лес и степь 71 Муму 75 Рудин 87 Пьесы (1848–1857) 127 Завтрак у предводителя Месяц в деревне 132 Ася 137 Дворянское гнездо 155 Накануне 191 Первая любовь 215 Отцы и дети 229 Дым 257 129 Степной король Лир 307 Вешние воды 325 Новь 353 Из стихотворений в прозе 403 Как хороши, как свежи были розы... 405 Два богача 407 Мы еще повоюем! 408 Русский язык 411 Список литературы 413