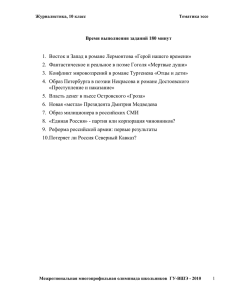Нефагина Г. Л. Полифония культур в романе М. Шишкина
реклама

Г. Л. Нефагина (Слупск, Польша) ПОЛИФОНИЯ КУЛЬТУР В РОМАНЕ М. ШИШКИНА «ВЕНЕРИН ВОЛОС» Всякое упоминание о полифонии в литературе, как правило, отсылает к М. Бахтину, который ввел это понятие в литературоведение и понимал под полифоническим романом текст, в котором точки зрения на один и тот же предмет разных действующих лиц равноправны. В таком произведении миропонимание и мировосприятие персонажей может быть принципиально различным, а авторская позиция не акцентирована. «Последние вопросы», поставленные в полифоническом романе, не имеют окончательного и единственного ответа. Этими вечными вопросами являются жизнь и смерть, добро и зло, истина — ложь и т.д. Из равноправных точек зрения возникает полифоническая картина мира. На первый взгляд, «Венерин волос» М. Шишкина представляет именно полифонический тип романа, если бы не главный герой Толмач, чье повествование закручивает вокруг себя все другие рассказы, истории, слова. Роман построен как расширяющаяся вселенная: история любви Толмача перетекает в аналогичные истории разных эпох и разных национальных литератур, сополагается с ними и становится всеобъемлющей. «Весь мир — одно целое, сообщающиеся сосуды. Чем сильнее где-то несчастье одних, тем сильнее и острее должны быть счастливы другие. И любить сильнее, чтобы уравновесить этот мир» [1, c. 448]. Наличие историй других персонажей и их мнений не противоречит основной истории, а создает иллюзию вневременности ее. Вселенная Толмача гораздо шире, чем у других. Она объемлет разные языковые, а значит, и культурные миры. Толмач, переводчик владеет несколькими языками, что обусловливает его функцию переводить из одной культуры в другую. Именно в смысле представленности разных культур и можно говорить о полифонии у Шишкина. Еще один аспект полифонии — использование разных текстовых пластов письменной словесности: интервью, дневник, письмо, историческое повествование, пастораль, апокриф, детектив создают единый многозвучный текст. В каждом текстовом пласте прокручиваются по сути одни и те же сюжеты, осуществленные в разных пространственно-временных координатах и культурных парадигмах. Можно сказать, что роман Шишкина организован, как матрешка: маленькая прячется внутри большей, но точно такой же, та — в следующей и так может быть беспредельно. Вечные темы любви и смерти, насилия и сострадания соответствуют культурным архетипам. Дафнис и Хлоя, Левкиппа и Клитофонт, Пирам и Фисба, Тристан и Изольда, Толмач и его любимая — разные воплощения одной и той же проблемы. Это один жизненный сюжет, повторяющийся в разное время в разных национальных культурах, существующий в реальном пространстве Толмача и в мировом литературном пространстве. Архетипичен образ Петера Фишера (Петра Рыбаря) — любителя рыбной ловли, чиновника, от которого зависит пропуск беженцев в швейцарский край обетованный. Он соотносится с апостолом Петром, отмыкающим двери в «рай». «Венерин волос» — роман о слове, о власти слова в жизни и над жизнью человека. Слова складываются в фразы, о которых Анатоль Франс написал ставшее крылатым выражение: «Фразы жаждут». Жаждут человеческой жизни, превращаясь в лозунги и предписания, законы и приказы, определяя часто судьбы людей. В романе Шишкина судьбы — это рассказанные на интервью в комиссариате Швейцарии беглецами из разных частей постсоветского пространства истории. Чтобы получить статус беженца, некоторые рассказывают о событиях, происходивших не с ними. Но для Истории не важно, кому именно принадлежит история в действительности. Важно, что оформленная в слове, записанная, она уже обрела вечную жизнь. Именно записанное, запечатленное слово становится началом новой жизни и для беглецов, и для старой певицы, и для самого героя. Как сказано в эпиграфе, «ибо словом был создан мир, и словом воскреснем». Жизнь есть текст, но и текст есть жизнь. Все истории Толмач записывает. Он не только переводчик с одного языка на другой, но и соединяющее звено между разными культурами и эпохами. В пространстве романа рассказ о чеченской войне перетекает в историю персидского похода царя Кира, вечный город Рим пересекается то с Москвой, то с Парижем, древнегреческая скульптура служит основой римскому стилю, встречаются разные веры и религии. Он предельно заполнен знаками культур разных народов и субкультур в пределах одной русской культуры. Роман Шишкина — это, действительно, расширяющаяся Вселенная, в которой время и пространство могут двигаться в любом направлении. Недаром в письме к сыну Толмач отмечает: «В нашем безграничье что-то не так со временем» [1, c. 92]. Временное и пространственное безграничье и есть, как бы парадоксально это ни звучало, хронотоп романа. Здесь время может двигаться от смерти к детству, как это происходит с историей знаменитой певицы Изабеллы Юрьевой, в вымышленных, а вернее, составленных из фрагментов чужих дневников записях которой воскресает русская дореволюционная культура и быт. Воплощенные в слова, обретают жизнь самые мелкие детали ушедшего мира, запахи и звуки времени. Смерть, о которой так часто вспоминается в романе, перестает быть концом жизни. Ведь не случайно маленькая Белла, только что узнавшая о сложении и вычитании, вдруг обнаруживает на кладбище, что «над умершими людьми стоят плюсы» [1, с. 100]. В русском мире девочки время циклично и движется по православному календарю от праздника к празднику. Для каждого праздника существуют свои бытовые приметы: на Сороки (день сорока мучеников Севастийских) пекутся жаворонки с распростертыми крыльями и глазами-изюминками; с Рождества до Крещения на всех дверях ставят белый крест от нечисти; на Крещение окропляют водой углы в комнатах; на Пасху все причащаются, и папа девочки возмущается, что все — из одной ложки. Православное воспитание Беллы, которую назвали, тем не менее, в честь католички — испанской королевы Изабеллы, основывается не только на праздничных ритуалах, но на чтении Библии и рассказах няни, в которых сливаются в некое единство христианство и язычество, вера и суеверие. Потому для нее одинаково реальны и Богородица-троеручица, и домовой с мягкой лохматой лапой. Дневник Беллы воскрешает повседневный быт и культуру дореволюционной России, особенно провинциального города. Будущая знаменитая певица с восторгом слушала популярную в начале ХХ века исполнительницу цыганских романсов и опереточных арий А. Вяльцеву, известных певиц Е. Юровскую, Н. Тарасову, М. Юдину. Дневник отражает изменение музыкальной культуры страны в советские 1930-е годы, когда романс был объявлен пошлой буржуазной формой и запрещено исполнение цыганских песен. Знаками музыкальной культуры выступают имена известных композиторов и исполнителей. Детство русской девочки проходит в многонациональном Ростове, где она живет рядом с армянскими детьми, где узнает от няни, что евреи распяли Христа и за это их все не любят, а цыгане — это те же евреи, только наказанные Богом и обреченные на вечные странствия. Народные верования и легенды, народное толкование Библии входит в сознание Беллы, затем корректируется книжной культурой отца. Мир Беллы складывается из осколков разных культур, и долгое время в нем на равных существуют рассказы отца о древнегреческих городах и скифах, предания о князе Святославе и история испанской королевы Изабеллы, рыцарские подвиги и дуэль Пушкина. Неслучайно поэт предстает в ее воображении героем рыцарских романов, погибающим за честь женщины. В историко-географическом пространстве Древняя Греция оказывается связана с южной Россией: основанный греками город Танаис находится рядом, недалеко от Елизаветовской станицы. Но для Беллы философы и виноделы, хитоны и пеплосы менее реальны, чем ангелы и черти из рассказов няни. Различия в национальных культурах объясняются на первых этапах познания различиями в религиях. В контексте религиозных верований главное место занимает вопрос о происхождении жизни и людей. Шишкин так строит свои сюжеты, что из одной культуры вырастает другая, верования кочевых орочей о происхождении мира соседствуют с легендой тунгусов и переходят в древнегреческую мифологию и христианскую космогонию. Повторение конструктивных фрагментов обозначает новые границы культур. Кроме того, в общей картине мира резонанс разных культур образует смысловые ориентиры текста. Так, орочи, о которых рассказывает на интервью один из беженцев, считали, что первая женщина провалилась в берлогу и потом родила двух братьев — мальчика и медвежонка. Потом один брат убил другого, стал охотником, ходящим вечно по кругу. Так образовался мир, состоящий из трех уровней: верхнего, зимы и млыва. У тунгусов начало мира тоже связано с легендой о двух братьях, изначальном существовании воды, которая замерзла и образовалась твердь. Отсюда перекидываются мостики к Ветхозаветным Адаму и Еве, затем к литературным их продолжениям, центрирующим культурный мир Толмача. Выйдя из орочских сказаний, символическое значение приобретает понятие млыва, лейтмотивом проходящее через шишкинский текст. Млыво — это зеркальное отражение земной жизни, ее копия, где «все такое же, только не такое. Живой человек там невидим для обитателей, его слова принимают за треск очага» [1, с. 118]. Млыво выступает в контексте романа как эквивалент памяти, причем субъективной индивидуальной памяти, а не памяти исторической, то есть по-разному интерпретируемой истории. В романе сталкиваются разные точки зрения даже в рамках православия. Такая оппозиция выступает как отражение, во-первых, субкультур (народной и интеллигентской), во-вторых, в пространстве интеллигентской — консервативной и авангардной. Консерватизм, который выражает мама Беллы, базируется на ригоризме, на отрицании культа тела и наслаждений, на запрете изображения некоторых частей обнаженного тела. Главными аргументами выступают понятия нравственных границ, естественного стыда. Носительница иного взгляда тетя Оля утверждает модернистское представление о телесной красоте, имеющее эллинские корни: в «Древней Греции… любили любовь и не боялись любить, жизнь… была груба и естественна, а не груба и неестественна, как нынче. И вряд ли жизнь в Элладе была грубее жизни в вашем Темернике» [1, с. 167]. Христианство в модернистской концепции тети Оли — это религия смерти, противопоставляемая религиям древнего мира, почитавшим Приама. Потому христианство, не могущее терпеть все живое, нежизнеспособно. Такой взгляд вовсе не означает атеизм, отрицание Бога вообще, а отражает культурную ситуацию богоискательства в начале ХХ века в условиях, когда «Бог умер». Местом встречи культур для Толмача является Рим. Здесь сходятся на барельефах знаменитой колонны Траяна римские легионеры и даки; древнегреческая скульптура повторяется в римских статуях; лестница из Иерусалимского дворца Понтия Пилата перенесена в Латеран, ставший местом паломничества жаждущих исцеления. Здесь император Константин, увидевший знамение в виде креста на небе, а затем во сне руку с крестом, указывающим путь к христианству, утопил в Тибре язычника Максентия, что явилось началом европейского христианства. Рим соединяет языческую культуру с христианской. Символом этого соединения можно считать «непорочную деву, поставленную на античную, взятую из-под какого-то императора колонну» [1, с. 453] или статую Петра, который «на самом деле не Петр, а античная статуя Юпитера Громовержца. К ней когда-то приделали новую голову, а в руку, вместо пучка молний, сунули ключ» [1, с. 460]. Здесь, в Риме, фреска Луки Синьорелли «Воскрешение плоти» соседствует с авангардистскими экспериментами художников Швейцарского института. Рим прорастает другими городами и странами, как камни прорастают травкой венерин волос. Здесь, в центре Италии, Испанская лестница и Швейцарский институт, негр с букетом роз и китайские заводные солдатики, итальянские молодожены и биттловская «Yesterday». Путешественники-религиозные подвижники соединяют вечный город с Россией. В древнем Херсонесе утопили пришедшего туда папу римского Клемента, привязав его к якорю. Позже Клемент стал почитаем на Руси как святой мученик, ему были посвящены храмы в Москве, Торжке и других городах. Его мощи отыскал и часть отдал в Киев, где они были захоронены в Десятинной церкви, а часть привез в Рим святой Кирилл — создатель славянской письменности, позже похороненный рядом с останками папы Клемента в церкви San Clemente. Мученическая смерть Клемента вызывает в сознании толмача казнь белогвардейских офицеров, потопленных с камнями на шее на дне Севастопольской (Херсонесской) бухты в 1920 году. Этот образный ряд продолжается ангелами Бернини на мосту, которые «хотят всплыть в небо, но на ногах камни» [1, с. 428]. Перепутанность культур, времен, преданий в Риме как бы предписана свыше: «Архитектор неба берется за ножницы <…>. И он тоже путаник — вырезает ангелов, а получаются севастопольские офицеры, они хотят всплыть и, привязанные, рвутся ввысь, и обрывки рубахи поднялись, как крылья» [1, с. 478]. В романе постоянно возникают мостики из прошлого в современность, из одной эпохи — в другую, из книжного текста — в реальную жизнь, из одной культуры — в иную. Рим и Новгород соединяет легенда об Антонии Римлянине Новгородском, который на камне приплыл из Италии в Великий Новгород и на том месте, где камень пристал к берегу, основал монастырь. Толмач читает об этом в Житии Антония Римского. А через четыре века в этом монастыре жил Макарий Римский, о котором рассказывается в истории одного из беженцев, ищущих приюта в Швейцарии. Религиозная история Рима и России сходится в образах подвижников и святых. Рим — это и любимый город Гоголя, чей облик воскресает, одевается плотью. Гоголь интернирован в атмосферу римской культуры, как вплетены фрагменты переписки писателя во внутренний монолог Толмача: «Если бы вы знали, с какой радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось!..» [1, c. 172]. К домику, где когда-то жил Гоголь, приходят туристы, и старичок открывает дверь и говорит словами из воспоминаний Анненкова, «что Гоголя нет, что он уехал и никому не известно, когда будет назад, да и по прибытии, скорее всего, сляжет в постель и никого принимать не будет» [1, c. 172]. Гоголь в шишкинском Риме совершенно лишен канонической угрюмости. Это бесшабашный студиозус, который прямо на улице пускается в пляс, распевая разгульную малороссийскую песню. Хотя Рим часто напоминает Толмачу Москву, но это не отсылка к имперскому «Москва — третий Рим». Общность заключается не в державности столиц, а в бытовых штрихах. То это итальянская старуханищенка, которая «совершенно из подземного перехода на “Электрозаводской”, разве что научилась сказать два слова по-итальянски» [1, с. 172]. То «цвет домов совершенно московский, в Сивцевом Вражке такой цвет был у облезлой, полуобвалившейся штукатурки старых особняков — теплый, уютный» [1, с. 171]. Римские мальчишки поджигают тучи мертвых ночных бабочек, как московские поджигали опавший тополиный пух. В Риме все ищут настоящее, оригиналы культур прежних эпох. «Потому что если и есть где-то настоящее, то ищут его не там, где потеряли, а в Риме, в котором что-то не так со временем – оно не уходит, а набирается, наполняет этот город до краёв, будто кто-то воткнул в слив Колизей, как затычку» [1, с. 474]. Увидеть настоящую статую Лаокоона мечтает учительница Толмача Гальпетра, сам Толмач хочет найти камень с отпечатками следов Христа, экскурсовод в Пушкинском музее говорит, что все настоящее искусство — в Италии, а скульптуры в Пушкинском музее — только точные копии. Но и в Риме «все настоящее» тоже оказывается копиями: «И вот теперь толмач был в Риме, а все опять оказывалось копией — и скульптуры в ватиканских музеях, и статуи ангелов Бернини на Ponte San Angelo, и Марк Аврелий на Капитолийском холме, и египетский обелиск перед Santa Trinita dei Monti» [1, c. 184]. Художественное пространство романа Шишкина складывается из повторения конструктивных элементов как части целого. Таким смыслообразующим элементом является мотив копии. Как известно, копия — одно из важных понятий культуры постмодернизма. В романе речь идет о копиях копий, то есть, если следовать определению Платона — о симулякрах. Но постмодернистский симулякр принципиально не соотносим с какой бы то ни было реальностью и не обладает ценностью, он утверждает «пустой знак». В «Венерином волосе» «отрицается не понятие оригинала, а его культурно-историческая самоценность, поскольку “самое главное”— не утерянный оригинал, а то, что воспринимается hic et nunc, в личном опыте и возрождается/создается словом» [2, c. 37]. Поэтому для Толмача заснеженный Аполлон Бельведерский из Останкино обладает ценностью не меньшей, чем оригинал. Поэтому Гальпетра, вернее, ее копия в воображении Толмача, не хочет верить, что римский Лаокоон — тоже копия: для нее эта статуя оригинальна и ценна уже потому, что находится в Риме. Копия произведения искусства становится ценностью, согласно Шишкину, когда наполняется личным жизненным содержанием. Сюжеты картин из Третьяковской галереи, репродукции которых маленькая Белла рассматривает в художественных альбомах, она проигрывает, примеряет на себя изображенных на них людей. Русская история и культура, прежде чем войти в сознание, воспринимаются на чувственном уровне. Такое чувственное проживание культуры как раз и лишает ее знаки симулятивности. «Культура, как таковая, всегда апеллирует к сопоставлению, сравнению. Она не только то место, где рождаются смыслы, но и то пространство, где эти смыслы обмениваются символами и категориями, «проводятся» и стремятся быть переведенными с одного языка культуры на другой» [3, c. 16]. В романе Шишкина многоголосие культурных образов, символов, знаков проявляется в архитектонике. Сюжет любви современных Толмача и Изольды соединяет позднедревнегреческие романы Ахилла Татия «Левкиппа и Клеофонт» и Лонга «Дафнис и Хлоя» со средневековым рыцарским романом о Тристане и Изольде. В рассказы беженцев об афганской и чеченской войнах вторгается, переплетая реальное и вымышленное, история неудачного похода Кира против его брата Артаксеркса, описанная в «Анабасисе» Ксенофонта. Ненаписанные письма Толмача к воображаемому сыну Навуходонозавру о некоей стране любви Ниневии подсвечиваются рассказами интервьюируемых беженцев, отсылками к рассказам Э. По. В интервью беженцев из постсоветских республик включены легенды и сказания разных народов, а фрагменты из романа Агаты Кристи «Двенадцать негритят» образуют сквозную линию жизни в истории одного из беженцев. Дневники певицы Изабеллы, воссоздающие интеллектуальную и культурную жизнь дореволюционного Ростова-на-Дону, Москвы, Петербурга и Парижа 1920-30-х годов, инкрустированы выдержками из дневника Марии Башкирцевой. Вся эта полифоническая структура «стягивается» к общему знаменателю культуры — сюжету любви. Толмач и Изольда объединяют подавляющую массу исторических событий, знаков культуры, литературных героев, культурных аллюзий и цитат. ________________________ 1. Шишкин, М. Венерин волос. / М. Шишкин. — М., 2007. 2. Трубецкой, Л. «Тела каменные, но телесные…». / Л. Трубецкой // Toronto Slavic Quarterly. — 2007. — № 21. 3. Середкина, Е. В. Конфуцианские элементы в кантианской этике. / Е. В. Середкина // Философская антропология. Ученые записки ПГТУ. — 2003. — № 7.