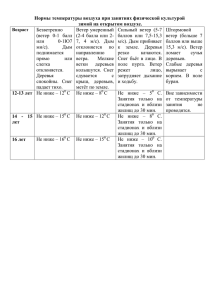Новое
реклама

Елена / Новое Я не люблю тебя Я люблю тебя… Ты хоть представляешь, как может быть больно?… Боже мой, мне больно… Мне больно везде… Такое ощущение, что эта страшная тяжёлая боль из головы растекается по всему телу, не даёт жить, не даёт двигаться, не даёт смеяться, не даёт… Сегодня я внезапно поняла, что гораздо больше времени своей жизни ты не мой, чем мой. Всё так банально, но ведь всегда находится время для дел, а родное – оно родное и есть, оно есть – и этим всё сказано. Поэтому те минуты, когда видишь эти глаза, чувствуешь эти губы, ощущаешь руки на спине – оказывается, нужно запоминать, потому что никто никогда не знает, когда всё будет также, или хотя бы примерно также. Точно также не будет никогда, ведь ощущения от любой минуты, даже секунды – они разные, и глупо – запоминать, но… Дождь знает, что он кончится, и поэтому льёт с такой силой, какую только смогла собрать в себе его туча; и костёр знает, что потухнет – поэтому пламя всегда похоже на взмывающееся в небо за несколько секунд (за которые, может быть, пролетело несколько столетий) ветвистое дерево, качающееся под умелым дуновением ветра. И дерево знает, что люди, смотрящие на него откуда-то снизу, смотрят на небо, а не на его живые листья, поэтому оно разрастается и сгущает ветви в клокочущую пену, чтобы уж если не отвлечь внимание на себя, то хотя бы помешать. И вода знает, что хотят не её – а плещущейся в ней прохлады... И каждый из нас, кто считает, что он любит кого-то – просто знает, что он от неё или него хочет… Мы знаем, мы жаждем этого – и поэтому не представляем, как прожить без этого человека. Простое выражение человеческих слабостей, которые тонут в новых эмоциях – получают название неземного чувства, которое, наверное, не дано никому – любви. Мы хотим, мы должны понять это новое ощущение, которое возникло внутри, мы должны осмотреть его всего, до конца, до последней, самой глубокой точки – иначе мы разочаруемся в своих силах. Но когда наступает момент, в который ощущение становится статичным, таким, каким оно было вчера – чувство кончается. И самое смешное, что мы это знали наверняка с самого начала, потому что иначе – не бывает, но заставляли себя верить, что именно тебе дано испытать то неизведанное никем, запрещённое, а потому – вечное. Дождь кончается, хотя после него остаётся набухшая тина воздуха… Костёр тухнет, хотя на его месте и остаются тлеющие головешки, а после – чёрные уголья, прикоснуться к которым означает пометить себя тёмной меткой родившегося пепла. А ещё мы подсознательно хотим того, чтобы эти другие – родные – люди изменяли нас, делали нас совсем другими, не совсем знакомыми даже самим себе. Скучно всю жизнь любоваться закатом солнца в одном и том же месте пляжа, хотя бы и красота волн от этого не блекнет. Наоборот – вода всегда остается той же, приглаженной или взлохмаченной ветром, но если воздух вокруг немножко меняется, если дерево шелестит не слева, а справа – то море становится в тысячу раз привлекательнее. Точно оно заново оживает. Будто оно рождается – снова… Но ведь чтобы родиться заново, нужно сначала умереть… И никто не знает, когда небо вдохнёт новую жизнь в это застывшее что-то… Я не люблю тебя… Ты хоть представляешь, как это больно?… Июль 2003 года Мужчины Мужчины… Мужчины… Странные же вы существа, мужчины!…Именно – существа, не люди, не странные, так не похожие на нас человеки, о нет… Вы – существа… Живые – да, физиологичные – да, духовные? Не знаю. Порой мне кажется, что всё-таки нет, что вас Бог наделил большим количеством отличительных признаков животных, нежели Человека. Хотя – конечно, не всех. Но не далеко не всех. Тебя, например, точно нет. Вы, кутя, животное, правда, с меньшим волосяным покровом. Да и то – если припомнить все ваши шерстяные атавизмы на спине, торсе, ногах, да колючий терновник бороды, растущей как сорняк несмотря на каждодневное, максимально тщательное бритьё, – понятие «меньший» сразу же начинает приобретать какое-то ироничное звучание. Итак, вы – существа… Правда, мнящие из себя людей, и великих людей, гениев, до ума которых нам, низменным женщинам, что до солнца от земли. Когда вы хотите женщину, хотите так, что не можете спать, не можете думать, не можете видеть ничего перед собой кроме неё, раздетой, вы устремляете все имеющиеся у вас в наличии достоинства, мысли и обрамлённые словами чувства на то, чтобы раздеть её-таки и сделать – чем больше раз, тем лучше. Вы можете, полузакрыв глаза и слабо вздыхая, вещать ей о вашей несчастной жизни, об отсутствии отношений с женой или любовницей, о сплошных несчастиях, заполоняющих ваш скорбный путь на этой земле, о мертвецах, плавающих в грязном пруде вверх тормашками, и о том, что она… «Боже мой, почему не ты – была у меня первая?…» Боже мой!!! Как же неправильно устроен этот мир! Всё не так, всё не туда, всё не затем. Иногда Вы всё-таки вспоминаете, что перегибать палку тоже не стоит – ведь с таким обилием несчастий вы давно уже должны были оказаться на койке в психиатрической лечебнице или на мягкой подстилке гроба, - и тогда периоды атаки сменяются ненападением. Вы молчите целыми днями, смотря в небо её васильковых глаз, и ласково не отвечаете на её вопрошающий взгляд. В эти редкие минуты отдыха Вы даёте волю своей фантазии, заставляя её оценивать это сидящее перед вами, слабо воркочущее о чём-то тело. Как раз тогда Вам в первые разы приходит мысль о качестве: кто её знает, может, Вам и не понравится то, в какой последовательности она ложится и насколько энергично извивается под воздействием Вашего умения. Поэтому-то после подобного затишья следует ожидать самого мощного нападения – да такого, что если оно в очередной раз не окончится взятием окружённой крепости (что вряд ли и бывает крайне редко), Вы разочаруетесь, устанете, расстроитесь и решите, что сил на подобную недотрогу вам всё-таки жаль. Если же всё-таки всё идет как надо, то отношения сразу же узакониваются во вполне определённые рамки. Либо – Вы намереваетесь продолжать иметь её каждый день, а посему вынуждены продолжать откровенничать о своей великой жизни, дабы ежесекундно подогревать в ней интерес к Вам как к гению, либо – прости-прощай, в постели мы не пара… Но есть некоторая проблема. Некоторые женщины, несмотря на принадлежность к низшим существам, понимают Вас, и уже не хотят просто клевать предложенную наживку и с удовольствием резвиться в водном потоке с крючком во рту. Хочется же поэкспериментировать, перевернув традиционную, стандартную, до боли надоевшую ситуацию во что-нибудь иное. Здесь главное – разыгрывать трагедию и оставлять мужчину в подвешенном состоянии – постоянно, чтобы он не понимал, что же вокруг него такое происходит. Итак, первая половина разыгрывающейся love story остаётся такой же, вплоть до момента «затишья» и решающей атаки. Решающая атака, как вы догадались, ничем не закачивается (для мужчины, то есть), хотя её кончина очень-таки драматична. Мужчина вынужден выслушать сногсшибательную историю о ней, о том, как она боится мужчин и верит, что он – то единственное, что, наверное, суждено любить ей в этом ужасном мире. «Я ненавижу его, я боюсь вас всех, Боже мой, что же мне делать? Маленький, я так…» Несмотря на всю усталость разочарования, что-то шевелится в этом странном организме, что-то не связанное с выработанными как всегда в норме гормонами. Но обида берёт своё, проявленная чувствительность сменяется презревшей душу и Бога похотью – и он мстит, мстит за то, что вместо тигрища в нём разбудили поэта с берёзками в глазах. Она же уходит от него, исчезает на какое-то время – дабы не отвлекать его от раздумий, а может и не отвлекать вовсе, а просто, чтобы не надоесть перед последним актом. Через какое-то время, довольно долгое для такого неуёмного самца, как Он, женщина появляется вновь. Как настойчивая кошка, решившая во что бы то ни стало забраться на колени, чтобы её погладили и приласкали. Мужчина не понимает, что это за пушистый мягкий тёплый маленький комочек оказался на его ногах, и тыкается мокреньким ласковым носиком в его грубые мозолистые руки. Однако – приятно, чёрт возьми, ох как приятно. Она предлагает ему себя – так, словно это само собой разумеющееся, обыкновенное событие – и он соглашается, и занимается с ней любовью, не сознавая до конца, что это он делает. Потом он начинает мучиться вопросом – а не играют ли это с ним, почему, почему? Почему – не в свое время, если она этого тоже хотела? Что это за рассчитанный перерыв? И он хочет, чтобы ему объяснили, а ему не объясняют, его оставляют в приятном неведении, а он озлобляется, и не находит себе места, и нервничает из-за того, что что-то решили без него. И он начинает мечтать, чтобы его оставили в покое, чтобы не нарушали логики его простой жизни, но его не оставляют. И он рад бы навсегда порвать с ней, и не может. Он хочет её, он хочет эту стерву, он не может без неё; какие бы слова порой не вылетали из его детски скривленного ротика, стоит ей что-нибудь предложить, он согласен, согласен, согласен…. Боже мой, как его раздражает, когда она не обижается на него за его мелкие шалости, какими только гнусными словами он не возвеличивает себя до ранга тёмного гения коварства, какие только пакости не придумывает его маленькая головка – но он ХОЧЕТ её… Чем закончится эта игра – неизвестно. Скорее всего, ей надоест. Пройдёт чувство, которое она испытывает при движении его рук вдоль её гибкого, изумительного в своей гладкости тела. Исчезнет блеск, потухнет искра, и смысла продолжать игру больше не будет. Просто – не будет… Знаешь, жаль… Жаль, когда чувства драпируются в умело заверченный сюжет ничего не значащей, не имеющей веса истории. Просто – иногда, ночью, когда так хочется плакать от всего одиночества, понимаешь, что всё равно тебя некому утешить. А если нет Его – то зачем – плакать?… Слёзы всегда можно утопить в фонтане разбрызганных эмоций… Знаешь, жаль… Жаль – что я уже не умею – просто – любить… Февраль 2003 года Чёрный вечер Чёрный вечер, белый снег, ветер, ветер… На ногах не стоит человек: Ветер, ветер, на всём Божьем свете. Заметает ветер белый снежок, под снежком – ледок… Чёрный вечер, белый снег, ветер, ветер, на всём Божьем свете… Чёрный вечер, белый снег… Какая метель!… Я никогда не видел такой метели. Хотя нет, помню, такая же была в ту зиму, и мы с ней смотрели на неё сквозь заледеневшие слёзы стекла. Она говорила, что это ангелы плачут – оттого, что родился Иисус. Да, было Рождество. Первое наше Рождество. Наше – рождество… Ха-хаха-ха-ха!…Боже мой, даже эха нет, словно я гогочу – а голос умирает в этой чёрной прорве. В ту ночь исполнялось сто часов, как я её знал. Сто часов счастья! Сто часов, как моя голова не думала ни о чём, кроме её маленьких замёрзших ладошек и мягких пышных волос. Сто – часов!!! Ни минут, и даже ни секунд, хотя, наверное, сейчас, для того чтобы не уйти, мне бы хватило и ста таких мгновений, одного – мгновения. Чёрный вечер, белый снег…На ногах не стоит человек… В белом венчике из роз… Впереди – Иисус Христос… Бог! Если ты правда есть, скажи мне, почему её – уже нет? Ты забрал её у меня – зачем? Где – твоё милосердие? Где – твоя любовь к людям, всепоглощающая, непостижимая? Где – она? Боже мой, как холодно! Нет, не думай, мне не страшно, нет. Чего мне бояться – мороза? Что мне – мороз? Тоже была метель, такая же, когда я лежал около её гроба, без перчаток, с белыми, как у Санта Клауса, ресницами, потому что хотел хотя бы ещё секунду прибавить к тем ста десяти часам, которые она была со мной. И когда я, закрыв глаза, обнимал этот тяжёлый ледяной ящик, ты думаешь, я видел её живой? Нет. Я не видел её лица, я не помнил её тела, я не ощущал её волос, её кожи – я забыл…Словно вся она внутри меня была стёрта кем-то. Тобой? Ты – стёр её? Я видел только свои руки, держащие венок из белых роз. Потом они стали чёрными, но я не заметил… Я сплёл его в ту ночь… Я не хотел верить, что она умерла, я не верил; я думал только, как я надену на её головку этот венчик – и она будет моей – законной… А она уже была закутана в чёрное покрывало, и ни одна капелька тепла не могла согреть её больше… Чёрный вечер, белый снег, ветер, ветер… Боже, если бы ты знал, что было со мной тогда, когда она умирала, в то предрассветное рождественское утро… Ты бы не смог её забрать, не смог… Хотя – ты всё видишь, ты знал, но смог… Когда она ушла, я сел подле окна, и, закрыв глаза, целовал её всю… В те минуты она во второй, во второй раз была моею. Я гладил её кудри, рассыпавшиеся под прикосновениями, я видел её глаза, серо-голубые, как предрассветное небо, я трогал её губы… И эта родинка под левой грудью… Я чувствовал её словно капельку краски на высохшем батике… И – я не чувствовал, что что-то произошло. Нет, я не помню никакого могильного холода, вошедшего в мою душу; это всё неправда, что… Я… Как я мог ощутить, что она умерла, ведь она жива для меня и сейчас… Она живёт во мне, она живёт со мной… Ветер, ветер… Она есть где-то… Внутри меня… Внутри моей потухшей тусклой душонки… Зажглась полярная звезда, круглая, как исключительно ровная клякса… Снежинки… Кружатся… Кружатся… Кружатся… Кружатся... Чёрный вечер, белый снег – серая ночь… Серая маленькая мышка… Серая – как крышка свинцового гроба… Мышка – крышка, ха-ха-ха-ха-ха!!! Боже мой, как холодно!… Рыжие кудри, голубые глазки, смуглая кожа, ямочки на ручках… Христос воскрес! Но ведь Бога нет, он умер… Как глупо: сначала – родился, и к нему вела непогасимая звезда, потом его распяли, а потом он воскрес… Боже, возьми меня к ней; прости меня за всё, а я тебе уже всё простил… Чёрный вечер, белый снег…Чёрный вечер, белый снег… Чёрный вечер, бе-лый снег…