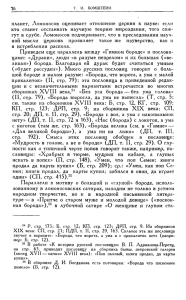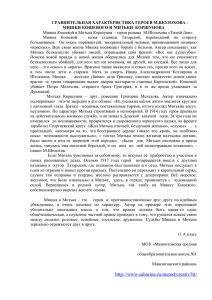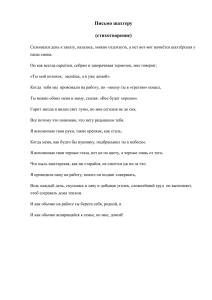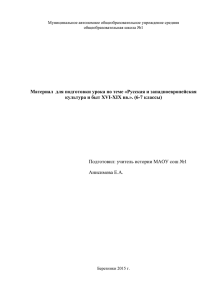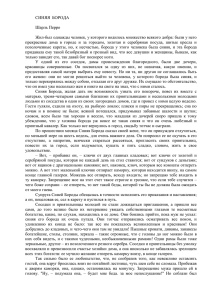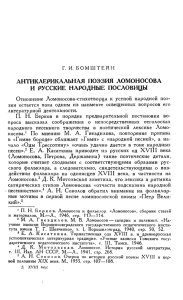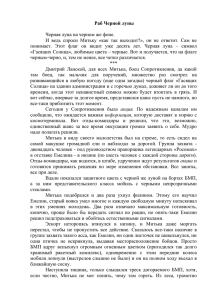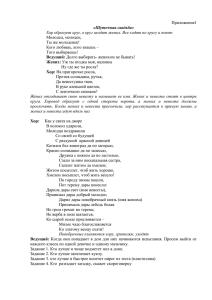Бухон Источник: И.П.Кудинов. На земле: Повесть. Рассказы. - Барнаул: Алт. кн.... 1970
реклама
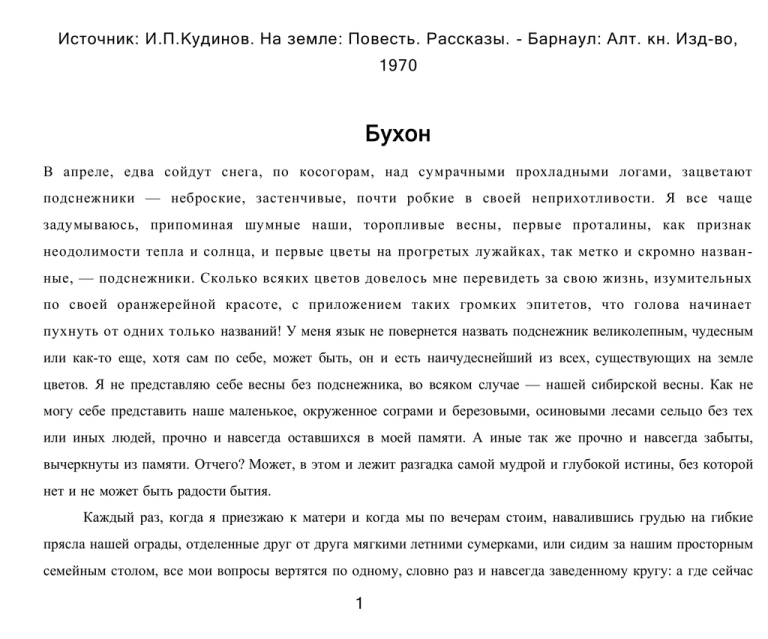
Источник: И.П.Кудинов. На земле: Повесть. Рассказы. - Барнаул: Алт. кн. Изд-во, 1970 Бухон В апреле, едва сойдут снега, по косогорам, над сумрачными прохладными логами, зацветают подснежники — неброские, застенчивые, почти робкие в своей неприхотливости. Я все чаще задумываюсь, припоминая шумные наши, торопливые весны, первые проталины, как признак неодолимости тепла и солнца, и первые цве ты на прогретых лужайках, так метко и скромно назван ные, — подснежники. Сколько всяких цветов довелось мне перевидеть за свою жизнь, изумительных по своей оранжерейной красоте, с приложением таких громких эпитетов, что голова начинает пухнуть от одних только названий! У меня язык не повернется назвать подснежник великолепным, чудесным или как-то еще, хотя сам по себе, может быть, он и есть наичудеснейший из всех, существующих на земле цветов. Я не представляю себе весны без подснежника, во всяком случае — нашей сибирской весны. Как не могу себе представить наше маленькое, окруженное сограми и березовыми, осиновыми лесами сельцо без тех или иных людей, прочно и навсегда оставшихся в моей памяти. А иные так же прочно и навсегда забыты, вычеркнуты из памяти. Отчего? Может, в этом и лежит разгадка самой мудрой и глубокой истины, без которой нет и не может быть радости бытия. Каждый раз, когда я приезжаю к матери и когда мы по вечерам стоим, навалившись грудью на гибкие прясла нашей ограды, отделенные друг от друга мягкими летними сумерками, или сидим за нашим просторным семейным столом, все мои вопросы вертятся по одному, словно раз и навсегда заведенному кругу: а где сейчас 1 тот или тот, жив ли и чем занимается? А иного и нет у ж а давно, но говоришь о нем и думаешь, как о живом. И тогда возникает удивительная связь с тем, что когда-то было, и с тем, что есть, — почти осязаемая, родственная связь. И все прожитое представляется тебе одной дорогой, бесконечной дорогой, по которой ты идешь, идешь, идешь... А помнишь? — говорю. Мать улыбается, кивает головой: помню, а как же. А помнишь, говорю, как ты пугала меня когда-то Бухоном? Мать кивает головой и мягко, печально улыбается: глупая была, вот и пугала. Я вздыхаю и надолго умолкаю, задумываюсь: боже мой, как я боялся того Бухона, как я его боялся! Боялся до тех пор, пока... А помнишь? — говорю. Помню, помню... Бухоном его прозвали не случайно: бывало, идешь где-нибудь переулком и слышишь, как он кашляет, не кашляет, а бухает где-то в другом конце села, за полкилометра: бу-ху! бу-ху! Никогда в жизни не слышал я, чтобы кто-то еще так кашлял, как он, не было таких и нет, пожалуй. И до сих пор я не знаю ни имени его, ни отчества, потому что никогда и никто не называл его по имени, — Бухон и Бухон. Встречаясь с ним, мы спешили поскорее проскользнуть мимо, хотя, признаться, в то время не было для нас более загадочной и более притягательной фигуры, чем Бухон. Мы сторонились его, избегали с ним встреч, а в то же время, случалось, убивали целые дни, чтобы выследить, чем и как он занимается... Из всего приметного самой приметной была его борода, густая, огромная, как хорошая охапка сена, а если присмотреться, так и вправду увидишь в ней... чего только не увидишь в бухоновой бороде — и сухие стебли •сена, и свалявшиеся в подушках куриные перья, и хлебные крошки, даже настоящих живых муравьев... Больше всего нас поражало именно это — откуда берутся в бухоновой бороде муравьи? Мы спорили, строили 2 разные предположения и догадки, но ничего не могли понять. Каким образом муравьи добираются до бухоновой бороды и почему именно муравьи? Мы, хоронясь за высоким тыном, сараюшками и амбарами, как мрачные тени, ходили по пятам за Бухоном, устраивали засады около его низкой глазастой избы, дежурили в одном конце села и в другом, но ничего интересного обнаружить не могли. И уже совсем было трекнулись, отказались от своей затеи — шут с ними, с муравьями, пусть себе на здоровье живут в бухоновой бороде, если им нравится. Но однажды ранним утром прибежал Митька Шелгунов, наш сосед, перемахнул с разбега через трехжердное прясло и, запаленно дыша, остановился у крыльца. Я сидел на верхней ступеньке, греясь на солнышке. — Ну, все... — задыхаясь проговорил Митька. — Все видел! — И глаза его при этом округлились и блестели, как медные пятаки, начищенные жженым кирпичом. — Видел, откуда у Бухона муравьи... — Ври? — Провалиться мне сквозь землю, если вру! Видел. Он их сам сажает себе в бороду... Я все еще не верил, но Митька клялся и божился, говорил, что собственными глазами видел, как Бухон подошел к муравьиной куче, которая за школой, под старой дупластой березой, взял муравья «и посадил в бороду, потом взял еще одного (наверно, чтобы им было веселее вдвоем) и сунул туда же... — Ух ты! — вырвалось у меня. — Вот это да! Послушай, Мить, а как же они его не кусают, муравьи-то, они ж такие кусучие? Митька усмехнулся снисходительной усмешкой все знающего человека: «А чего им кусаться? Это они злы, когда жрать нечего, а в бухоновой бороде хватает вся кой еды...» 3 Сказать откровенно, Бухона побаивались не только мы, ребятишки, но и взрослые. Я не раз слышал, как кто-нибудь в разговоре, горячась и с чем-то не соглашаясь, вдруг ронял: «Я вот Бухону скажу, он быстренько разберется». Это была угроза. Бухоном пугали малень ких детей: «Спи, спи, детонька, а то придет Бухон, посадит тебя в мешок... Спи, спи». Сколько помню, Бухон всегда числился инспектором по качеству — по качеству чего, я не знал и только мог догадываться. Но сама должность — инспектор по качеству — звучала как предупреждение. Бухону до всего было дело — пашут ли поле, сеют ли на этом поле яровые, пасут ли скот вдоль согры, строят ли новую школу... Все, все видит Бухон, все замечает. И скрыть от него ничего нельзя. Чуть чего, бежит в правление: «Есть воп рос. Это по какому полю вы сеете пшеницу? Это ж не посев, а похороны зерна...» И если председатель колхоза не тянет, не везет, Бухон не успокоится, Бухон идет на конюшню, запрягает буланку — и в район. Деревня как-то враз, словно перед надвигающейся грозой, настораживается и затихает. И новость перелетает от двора к двору: «Видали, Бухон в район поехал? Бухон в район поехал. Поди, опять залучит прокурора... О, господи!» — торопливо крестятся старухи и спешат по каким -то своим, неотложным делам. Правда, был уже такой случай, когда Бухон вызвал районного прокурора, — кажется, что-то с незаконной продажей льна было связано тогда; после того случая и заменили старого председателя, прислали откуда-то другого, помоложе и побойчее. При нем и начали строить новую школу, большую, просторную, на четыре класса. Да что-то летом затормозилось, встало строительство. А потом от недостроенной школы взяли одно бревешко, другое — то ли подновить конюшню, то ли заменить матицу где-то — так и начали растаскивать бревно за бревном... 4 Бухон к председателю, доказывать свое: «Непоря док». А председатель свое: «Ты мне порядки не устанавливай, сам разберусь». А у Бухона самый главный козырь: «Не хошь добром, в район поеду, там головы поумнее..» И на конюшню. А председатель за ним и ко нюху строго-настрого: не давать коня. Мы стоим в сторонке, ждем, чем все это кончится. Интересно, Бухон смотрит на председателя, борода трясется то ли от оби ды, то ли от возмущения, да нет, вроде от смеха, смеется Бухон и говорит: эх ты, председатель! Повора чивается и уходит. И не к дому идет, а совсем в проти воположную сторону, мимо амбаров, мимо недостроен ной школы, вот уже и за поскотину вышел, на дорогу, которая в район ведет... Пешком пошел. Тридцать верст туда и сюда отмахать надо. А уж от избы к избе понеслась новость: «Бухон пошел в район. Пешком. Бухон пошел в район...» К осени школу построили, и мы впервые переступили порог, шумно хлопали крышками парт, рассаживались. Окна большие, классы светлые. Пахло свежей краской и деревом, чисто промытыми полами. Все это отвлекало, не давало сосредоточиться — за окнами виднелась вся наша деревня, синий косогор за деревней, уже прихва ченный поверху желтизной осеннего леса, — и первые уроки прошли как во сне, что-то говорил учитель, что-то говорили мы, выходя к доске, постукивали мелком и шуршали влажной тряпкой, стирая написанное, но все это мелькало и не задерживалось в памяти. И как только прозвенел звонок, веселый, захлебывающийся, мы сыпанули из класса, выскочили во двор, подталкивая друг друга в спины, — и вдруг увидели Бухона. Он стоял по ту сторону школьной ограды и смотрел в нашу сторону. Мы смолкли и замерли в ожидании чего-то... Но Бухон постоял еще с минуту и пошел прочь, не оглядываясь. А мы стояли, как заколдованные, и почему -то 5 расхотелось бегать сломя голову, и кричать, надрывая глотки... Мы стояли тихо и смотрели вслед Бухону. Куда это он пошел? Зимой Бухон взвалил на себя еще одну обязанность — сторожил амбары. Амбары находились как раз напротив школы, тут же неподалеку и скотные дворы, конюш ня. Окно из школьного коридора выходило в сторону амбаров, Бухон устроил себе здесь наблюдательный пост, заходил сюда обогреться, отдохнуть, так что и школа оказалась в некотором роде под его охраной. Днем пригревало, стекла оттаивали и на подоконнике скапливалась вода. Уборщица тетя Нюша подвесила на углах пол-литровые бутылки, чтобы в случае чего не текло на пол... А к вечеру подстывало, стекла опять схватывались пушистым синим куржаком, и лужица на подоконнике обращалась в лед. И вот однажды разнеслась по деревне новость — Бухон бороду оторвал. Точнее, все вышло так. Ночью бродившие по улице парни заглянули в школу и увидели Бухона, прикорнувшего у окна. Тронули его за плечо, а он только всхрапнул и продолжал спать. И спал он, видать, с вечера, потому что борода его накрепко примерзла к подоконнику. Тут парни и гаркнули: «Бухон, амбары горят!» Бухон подхватился, рванул что есть силы — и оставил на подоконнике полбороды. Утром мы собрались пораньше и побежали в школу — смотреть бухонову бороду. Приходим, а там уже тетя Нюша навела порядок, подмела полы и лед с ПОДОКОННИКОВ соскоблила. «Тетя Нюша, что ж ты наделала, — чуть не плача говорим, — там же бухонова борода!» А тетя Нюша смотрит на нас, как на оглашенных, и ничего не может понять: «Какая борода, чего это вы придумываете». Ну, ладно, решаем, если Бухон бороду оторвал, так это сразу будет заметно. Едва дождавшись конца занятий, мы похватали сумки и опрометью на улицу, занимать пост под тыном у 6 Бухоновой избы. Ждали час, наверно, ждали, что вот-вот выйдет Бухон и тогда все станет ясно. Но Бухон не выходил и не выходил. И мы уже изрядно промерзли, швыркали носами и переступали с ноги на ногу, in потихоньку постукивали рукавичка об рукавичку, дули на пальцы. А Бухона все нет и нет. И уже совсем было собрались уходить, но тут, как часто бывает, словно в награду за наше долготерпение, и п о явился Бухон, только не с той стороны, откуда мы его ждали, а совсем с противоположной — от конторы. Сначала мы услышали его кашель, а потом уж увидели и самого Бухона. Мы как ни в чем не бывало вышли на дорогу и пошли навстречу, гурьбой не страшно, гурьбой можно и на самого Бухона пойти. Идем и глаз не сводим с его бороды, но что за чудо — как была у него борода, так и есть, ни волосинки, наверно, не потеряно. Неужто парни набрехали? «Нет, — говорит Митька Шелгунов, когда мы разминулись с Бухоном, — знаете, чего я думаю! — говорит он таинственным шепотом. — Борода у него, видно, за одну ночь отросла... Думаете, зачем он садит в свою бороду муравьев?» «А правда, зачем?» — «А вы у него спросите...» Мы разом оборачиваемся. Бухон идет, слегка сутуля длинную свою спину, отчего он кажется нам похожим на вопросительный знак. Может, и вправду борода у него отросла за одну ночь? Может, он знает и умеет что-то такое, чего не знают и не могут другие? Бухон жил один. Старуха его, говорят, померла от какой-то странной, загадочной болезни, и хворала-то всего недели три — истаяла, как свечка. Был еще сын у Бухона, но после службы остался он где-то в городе, устроился в пожарники и, помнится, приезжал только раз за все время, перед новым годом, ходил по деревне, поскрипывая новенькими штиблетами, грудь нараспашку, горланил какие-то нездешние песни, куражился и раскидывал по снегу мятые рублевки... Мне тогда казалось, что в городе этих денег — девать некуда! 7 Потом уехал Бухонов сын — пожарник, и больше уж я его не видел. Летом началась война, и Бухонов сын, говорят, в первый же месяц ушел добровольцем. Перед новым годом собирали теплые вещи для фронта. Мать связала три пары двупалых рукавиц, мягких и теплых, из отборной овечьей шерсти, которую она откладывала себе на валенки. Я написал коротенькие записки и сунул в каждую пару, втайне мечтая и надеясь, что одна из этих записок попадет в руки отца или брата. Мы завернули рукавички в тряпицу и отправились с мамой в контору. А там уж народу собралось, не протолкнешься, нанесли всего — и рукавиц, таких же двупалых, какие связала мама, шарфов и валенок... И разговоры только об одном — о войне, о том, как трудно сейчас там, нашим, ну да ничего, выдюжим, не впервой... Вдруг кто-то сказал: «Бухон идет». И все враз смолкли и , как по команде, повернули головы в сторону двери. Дверь протяжно скрипнула, подалась, и в контору хлынул густыми клубами белый морозный пар, обдав холодом ноги. И почти в ту ж е секунду я увидел Бухона, он притворил дверь, туман мгновенно истаял в тепле. Бу х о н как мне быть — свернуть ли с тропинки и пойти стороной, остаться ли на месте и подождать, пока он пройдет. Я впервые сталкивался с Бухоном вот так лицом к лицу, один на один, да еще в ле су. И не то чтобы я струсил, а как-то мне стало не по себе — словно чем-то острым и холодным провели по спине. И пока я лихора дочно решал, как мне быть, Бухон приблизился настоль ко, что любое мое решение ничего уже не значило. Я чуть посторонился и встал, не имея сил сдвинуться с места, словно Бухон своим взглядом пригвоздил несчастные ноги мои к земле. Так и стоял я, держа в руках фуражку со сморчками. И в тот миг, когда Бухон надвинулся вплотную, поравнявшись со мной, кажется, я зажмурил глаза, кажется, я ничего не видел и не слышал, и только почувствовал на своей голове прикосно вение пальцев, мягкое и почти мгновенное, словно ветер прошелся и взъерошил слегка мои волосы. Но я 8 почувствовал мягкость и теплоту человеческих пальцев... Все, что было да льше, уже не имело значения. Вечером мать изрубила сечкой сморчки, залила сме таной и поджарила на сковороде. Но, странное дело, я ел и не чувствовал вкуса, не испытывал прежнего удовольствия. И, видно, на лице у меня было что-то такое написано, потому что мать глянула на меня и озабоченно, удивленно спросила: «Что с тобой?» Я ничего не сказал и выскользнул за дверь. И пошел по тихой, про хладной улочке, волнуясь и радуясь чему-то, не умея еще толком разобраться в своих чувствах, не умея понять, что же случилось и отчего мне так грустно и так хорошо, и хочется идти, идти, идти куда то... Я упал на холодную пахучую траву и тихо, беззвучно заплакал. Я уже знал, что никогда, никогда не повторится тот чудесный миг, то счастливое мгновенье, пролетевшее надо мной как огромная бесшумная птица, но я еще не знал, д а и не мог знать в те годы, что все, что было с о мной, все пережитое, не пройдет, не исчезнет бесслед но, а останется в о мне, навсегда. Я это понял много позже, может быть, только сейчас. И говорю: «Спаси бо» — и очень хочу, чтобы тот, кому я говорю, услышал меня: «Спасибо». 9 10