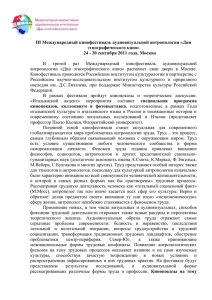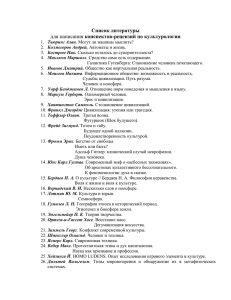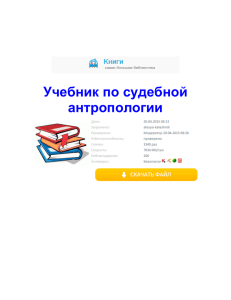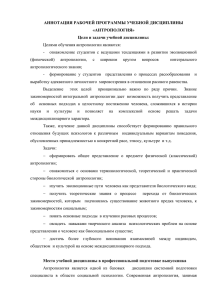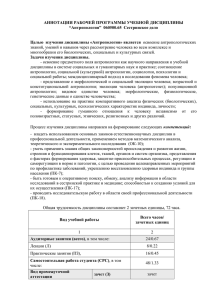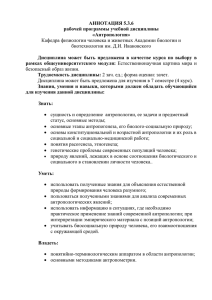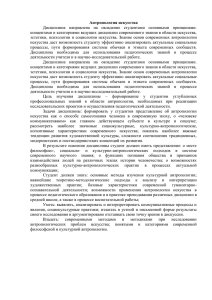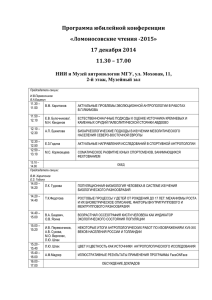Валерий Тишков - Образовательный центр `БIЛIM
реклама
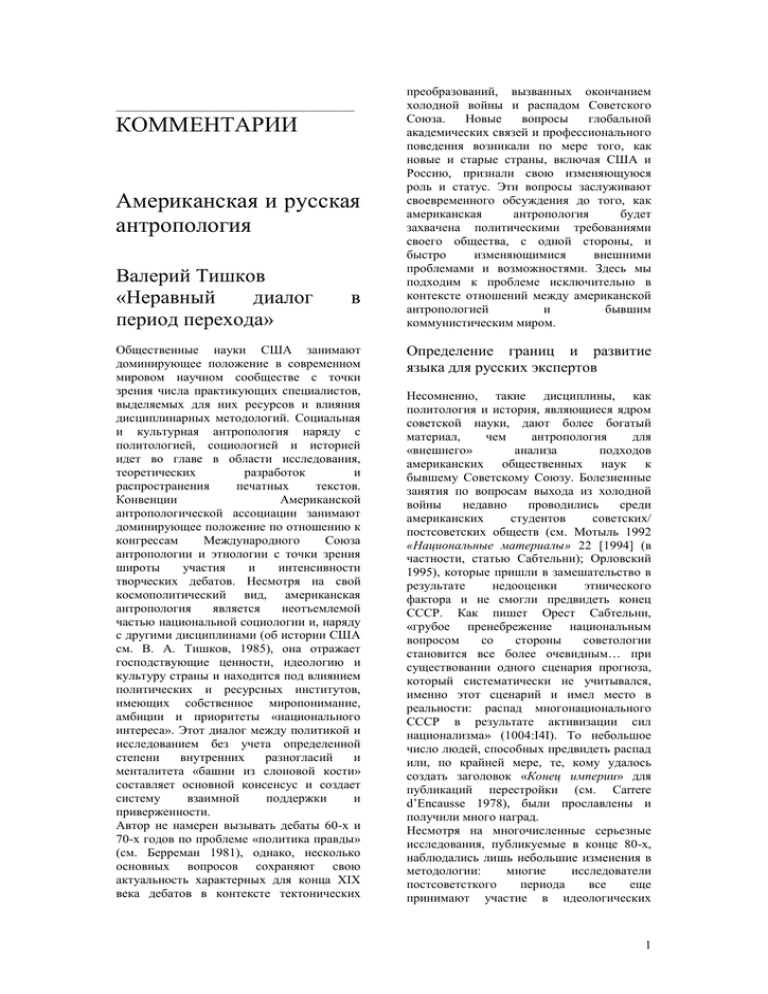
_____________________________________ КОММЕНТАРИИ Американская и русская антропология Валерий Тишков «Неравный диалог период перехода» в Общественные науки США занимают доминирующее положение в современном мировом научном сообществе с точки зрения числа практикующих специалистов, выделяемых для них ресурсов и влияния дисциплинарных методологий. Социальная и культурная антропология наряду с политологией, социологией и историей идет во главе в области исследования, теоретических разработок и распространения печатных текстов. Конвенции Американской антропологической ассоциации занимают доминирующее положение по отношению к конгрессам Международного Союза антропологии и этнологии с точки зрения широты участия и интенсивности творческих дебатов. Несмотря на свой космополитический вид, американская антропология является неотъемлемой частью национальной социологии и, наряду с другими дисциплинами (об истории США см. В. А. Тишков, 1985), она отражает господствующие ценности, идеологию и культуру страны и находится под влиянием политических и ресурсных институтов, имеющих собственное миропонимание, амбиции и приоритеты «национального интереса». Этот диалог между политикой и исследованием без учета определенной степени внутренних разногласий и менталитета «башни из слоновой кости» составляет основной консенсус и создает систему взаимной поддержки и приверженности. Автор не намерен вызывать дебаты 60-х и 70-х годов по проблеме «политика правды» (см. Берреман 1981), однако, несколько основных вопросов сохраняют свою актуальность характерных для конца XIX века дебатов в контексте тектонических преобразований, вызванных окончанием холодной войны и распадом Советского Союза. Новые вопросы глобальной академических связей и профессионального поведения возникали по мере того, как новые и старые страны, включая США и Россию, признали свою изменяющуюся роль и статус. Эти вопросы заслуживают своевременного обсуждения до того, как американская антропология будет захвачена политическими требованиями своего общества, с одной стороны, и быстро изменяющимися внешними проблемами и возможностями. Здесь мы подходим к проблеме исключительно в контексте отношений между американской антропологией и бывшим коммунистическим миром. Определение границ и развитие языка для русских экспертов Несомненно, такие дисциплины, как политология и история, являющиеся ядром советской науки, дают более богатый материал, чем антропология для «внешнего» анализа подходов американских общественных наук к бывшему Советскому Союзу. Болезненные занятия по вопросам выхода из холодной войны недавно проводились среди американских студентов советских/ постсоветских обществ (см. Мотыль 1992 «Национальные материалы» 22 [1994] (в частности, статью Сабтельни); Орловский 1995), которые пришли в замешательство в результате недооценки этнического фактора и не смогли предвидеть конец СССР. Как пишет Орест Сабтельни, «грубое пренебрежение национальным вопросом со стороны советологии становится все более очевидным… при существовании одного сценария прогноза, который систематически не учитывался, именно этот сценарий и имел место в реальности: распад многонационального СССР в результате активизации сил национализма» (1004:I4I). То небольшое число людей, способных предвидеть распад или, по крайней мере, те, кому удалось создать заголовок «Конец империи» для публикаций перестройки (см. Carrere d’Encausse 1978), были прославлены и получили много наград. Несмотря на многочисленные серьезные исследования, публикуемые в конце 80-х, наблюдались лишь небольшие изменения в методологии: многие исследователи постсоветсткого периода все еще принимают участие в идеологических 1 спорах и, вместо изучения общества, «предсказывают» политику и важные события. Демонстрируя проницательную научную мощь, Генри Хаттенбах пишет с обезоруживающей простотой о том, что именно информационный бюллетень Ассоциации исследований национальностей (Восточной Европы и бывшего Советского Союза) предсказали все основные изменения, произошедшие в бывшем коммунистическом сообществе, включая независимость Словении, разделение Чехословакии, победу Ельцина над Горбачевым, наступающее разделение Югославии и т.д. (1996:1). Таких экспертов, чья методология разоблачает «исторический закон» и холистический социальный детерминизм, не интересуют частные стратегии, моральные стимулы или вероятностная неопределенность. Истории, рассказанные им антропологами о «социалистическом обществе» и о том, как большинство «простых людей» продолжают жить, «с трудом доводя свое дело до конца» (Ханн 1993:12), как это делают люди в других обществах, воспринимаются как «провокационные открытия» (см. реакцию на работу Катерины Вердери в сборнике под редакцией Орловского [1995] для Центра Вудроу Вилсон). В результате американские социологи претерпевают процесс медленного восстановления после старых травм и свежих ран, нанесенных несправедливым вопросом по поводу их неудачи в попытках предвидения взрыва «этнической бомбы», а также некритическим использованием «политически корректных» пояснительных моделей для описания конца коммунистической эпохи (см. Тишков, 1997). В то же время, наблюдается тенденция быстрого реагирования на растущий спрос замещения концепции «зловещей империи» другим более легким ярлыком, таким как «криминальное государство» или «Российская миниимперия». Американские университетские центры стратегических исследований начали выпускать отчеты под такими заголовками, как «Окончание конца холодной войны» (Мареска 1995), и научные журналы стали публиковать статьи, призывающие к «решительному созданию «благоприятной среды для России дл самоопределения России» и предоставления ей шанса стать «нормальным государством» взамен «многонациональной империи» (Бжезински 1994:72, 79). Американские антропологи не проявляли лидерство в индустрии советских исследований, продукте холодной войны, и все еще находились под влиянием идеологии и геополитики. По ряду причин американская антропология избегала широкомасштабного наблюдения за «социалистическими обществами», и это, к счастью, помогло дисциплине избежать болезненных размышлений об «ответственности», «пороках», «неудачах» и т.д. Следующие из указанных причин являются наиболее очевидными: тщательно охраняемые границы коммунистических государств, где внутренний государственный контроль сделал обычные полевые исследования крайне трудными, методологический признак, который привел к восприятию этих обществ как «замороженных» и не представляющих интерес для этнографического анализа в силу их тоталитарного характера и отсутствию эмпирических знаний, а следовательно, к ограниченному интересу к культурному изменению того, что воспринималось как монолитная Россия. Для тех, кто ассоциировал свой объект исследования с малыми «традиционными культурами» или с политикой «свободного выбора», всегда существовал важный вопрос: «Каким образом эта дисциплина может пролить свет на грандиозные перевороты, вызванные европейской интеллигенцией, радикальными представителями прикладной социологии и лидерами дисциплинированных партийных организаций, которые явились основной движущей силой наиболее значительных экспериментов модернизации индустриальной эпохи?» (Ханн, 1993:1). Фактически, вопрос неверно поставлен. Тот же самый автор наряду с рядом других исследователей утверждает, что «социалистические общества имеют намного больше общих черт с несоциалистическими обществами, чем принято полагать» (стр. 20, см. также Вердери, 1995), и это подтверждает тот вывод, что в силу чрезмерной обобщенности, неверных толкований и политических препятствий западная антропология, фактически, упустила свой шанс изучения обществ и культуры Центральной и Восточной Европы и Евразии в 20 столетии. Практически, США и Запад в целом не имеют антропологической советологии. Эта сфера была захвачена политологами, включая экспертов по «вопросам национальности», или тем небольшим числом специалистов, 2 которые в недавнем прошлом эмигрировали из этих обществ и считаются носителями «истинных» знаний и политически корректной правды. Можно привести примеры лишь небольшого числа коренных представителей запада, которые провели и продолжают проводить серьезные антропологические исследования на территории бывшего Советского Союза до и после перестройки, таких как Мажори Мандельштам Бальцер, Тамара Драгадзе, Каролин Хамфери и Пиерс Витебски. Заслуживают внимания такие молодые исследователи в этой области, как Гейл Фондаль, Пола Гарб, Патриция Джилман, Брюс Грант, Анна Керттула, Нэнси Райз, Дебра Шиндлер, Кейти Ваннер и другие, которые составляют динамичную группу исследователей постсоветсткой культуры, называемую Союзом. Несмотря на их бесспорные достижения, эти антропологи находились под влиянием американских экспертов в области исследования России/ Советского Союза. Их работы направлены на формирование сети без установления четких дисциплинарных границ. Они также используют язык и взгляды, навязываемые более сильными экспертами в области политологии и учеными-эмигрантами. Это особенно четко прослеживается в терминологии, используемой ими для описания советских/ русских реалий. Если основные группы американских исследователей-антропологов используют понятие «этническая группа» в качестве основной категории и изучают «этническую принадлежность» или «этнические вопросы» всего мира (кроме, конечно же, России), американские советологи и исследователи России используют язык этнонационализма, заимствованный из советской этнологии (см. Брумли и Козлова, 1989, Геллнер, 1980, Скалник, 1988, Тишков, 1997), или из западных исследований наций и народов, в которых данная терминология содержала и содержит в себе явно выраженный политический контекст. Исследовательские работы об «этнической принадлежности» или «этнических группах» в Советском Союзе или современной Российской Федерации классифицируют эти многонациональные политические структуры и отказываются от геополитических проектов холодной войны, ликвидирующих «последнюю многонациональную Советскую империю». Если сторонники геостратегии, такие как Збигнев Бжезински, пишут о построении «благоприятного окружения» для «истинной России», почему американские антропологи должны использовать «этнические» категории, которые имплицитно признают как свершившийся факт постсоветскую картину России, 52.3% территории которой представлено этническими автономиями? Этот переход западных антропологов от их научного языка «этнической категории» к политизированной риторике «нация» и «национальность» или «нации без образования государств», вызван не только инерцией, то есть, это не есть лишь результат приверженности деструктивному языку устаревших советологических доктрин или демонстрации солидарности с лингвистическим выбором политологов. Полагаю, что это в равной степени является рациональным выбором в пользу политически корректного научного профессионального языка. Я вижу лишь один аргумент против своего допущения: этот язык используется также теми, кого антропологи исследуют в России: якутов, бурят, татар, башкир. Их лидеры и активисты идентифицируют себя как «нации», и некоторые из них требуют «национального самоопределения» и государственности. Более того, «этнонации» официально определены во всех советских конституциях, и может показаться антропологи, работающие в этих обществах, могут посчитать неправильным рассматривать их лишь как «группы» или «сообщества» (язык, который может восприниматься как недостаток уважения политических требований). Это является серьезным аргументом, однако, почему западные антропологи не применяют аналогичную логику для исследования других регионов? Другими словами, почему они не используют риторику этнических активистов применительно, скажем, к гавайцам, навахо, оджибва, нага, когда эти группы становятся объектом антропологического исследования? Для исследователей России и других преемников, пытающихся расширить свои методологические горизонты и избежать схоластической таксономии понятий «нация», «народность», «национальность», «национальные группы» сталкивание с этим неопределенным западным языком может создать путаницу. Растущее число постсоветских исследователей весьма позитивно воспринимают широко признанные категории, такие как «этническая группа», «община» и «этническая принадлежность». Рано или поздно они оставят местных 3 консервативных специалистов по теории этноса в их собственном маленьком мире, разделяемом с евро-американскими специалистами по «национальному вопросу» в России. Фактически, последняя группа была уже покинута теми, кто изучает другие государства-преемники и после 1991 года изменили курс в направлении к другой дихотомии: Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Украина, Узбекистан, где пропорция «основных» групп значительно ниже, чем в России, теперь рассматриваются как «национальные государства с меньшинствами». Только Россия представлена практически во всех западных текстах как «многонациональное государство» с «нестатусными нациями». В этом случае отражается скорее архаичная политическая избирательность, чем какойлибо академический критерий, например, в методе, который используется журналом «Nationalities Papers» для описания своей направленности: «единственный журнал в мире, рассматривающий исключительно все нерусские национальности бывшего Советского Союза и национальные меньшинства стран Восточной и Центральной Европы. Центральное место занимают народы Балтии, украинцы, евреи и народы Центральной Азии и Кавказа». Восточная и Центральная Европа больше представлена национальными меньшинствами, а не национальностями, 15 стран-последователей бывшего Советского Союза не имеют ни доминирующих групп, ни меньшинств. Эта интерпретация оставляет две категории: «нерусские национальности» и предположительно этнические русские, которые выходят за рамки области интереса. Американцы, бесспорно, изучают обширную область вопросов, касающихся бывшего Советского Союза, перспективную антропологическую Эльдорадо. Через несколько лет студенты в этой области знаний могут связаться с местными этнографами из постсоветских государств. Я приветствую эту связь с важной оговоркой: ожидается, что американские антропологи покажут понимание и достижения своих антропологических школ мысли, а не менталитет воителей холодной войны, и будут говорить на том же академическом языке, который используется в обсуждениях с коллегами из своей страны. Проблема отношения и влияния Американские студенты русской/ постсоветской антропологии сталкиваются с вопросом точек зрения и отношений с «центральными» и «периферийными» исследователями и общественными активистами. Пять лет назад я выделил ряд возможных дилемм в работе о «кризисе советской этнографии» (см. Тишков, 1992). В настоящее время картина становится более ясной, однако, она не имеет исчерпывающего толкования. Во-первых, русская этнография, наряду с остальной частью общества, претерпела серьезные преобразования; в некоторых отношениях ситуация выглядит «более, чем критической, отражая отсутствие дисциплины» (Тишков, 1994-1995). Инерционность в отношении интеллектуальной свободы, демонстрируемая враждебность по отношению к отклонениям от ранее доминирующей теории, недостаток антропологического образования на университетском уровне, неадекватные институциональные структуры, а также ограниченные связи – все это характеризует текущие условия русской этнографии. И все-таки, она остается мощной школой со славными традициями и достижениям, ее специалисты образуют широкую сеть исследователей не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих республиках России. Многие из этих исследователей проходили обучение в Институте этнологии и антропологии (ИЭА), составляя единый корпус, независимо от своей этнической принадлежности. Высокая концентрация ученых в одном районе и доминирующее положение Москвы и Санкт-Петербурга в национальной исследовательской работе отражают культурные традиции России, а не только политические приоритеты. Такое положение не является уникальным для России: большая часть исследований сосредоточена в столицах ряда других государств. Недавняя политическая и экономическая децентрализация и возникновение этнонационализма в этнотерриториальных автономных районах, несомненно, повлияли на положение вещей. Многие местные этнографы, социологи и историки играли ключевую роль в обеспечении творческой легитимации движений самоопределения. Многие нерусские политики из числа исследователей допускали позицию силы и заняли радикальное политическое положение. Неизбежно этот процесс 4 содержал элементы критики и отдаления от Москвы. ИЭА получил свою долю критики, однако, сеть этнологов появилась из этих болезненных дебатов без серьезного ущерба. Второй Конгресс российских этнологов и антропологов состоялся в июне 1997 года в Уфе, столице Башкирии, и местные ученые были в числе главных организаторов данного мероприятия. Разделяя это академическое сообщество на «коренных» и «некоренных» антропологов (последний термин, вероятно, относится к этническим русским исследователям), как это сделано американскими обозревателями нашей науки (см. Балзер, 1995), содействует созданию запутанной программы для тех, кто привык рассматривать ученость с точки зрения качества и вклада независимо от этнической принадлежности. По схеме «коренных/ некоренных» сотрудники ИЭА должны подразделяться на две категории, не говоря о том, как это разделение будет представлено на факультетах антропологии в Соединенных Штатах, где принято полагаться на написание фамилий или физической внешности при отнесении членов факультета к той или иной категории. По этой же причине представители запада неверно проводят упрощенную линию, разделяющую русскую академическую науку на две категории: «защитники империи» и пропагандисты русского национализма/ шовинизма, а также категорию угнетенных, испытывающих пренебрежение и «не имеющих голоса», которая должна рассматриваться напрямую без вмешательства Москвы. Эта схема выглядит особенно ироничной в том смысле, что эти многочисленные радикальные проекты, направленные «против империи», были в большинстве своем разработаны московскими учеными, включая членов ИЭА. Тем не менее, именно из Академического центра Вудроу Вилсон поступили рекомендации, которые сводились к тому, чтобы «не допустить новую форму русского ‘курирования’» (Орловский, 1995:144) в прямых контактах на периферии, и именно американские эксперты начали строить эти прямые отношения. Хотя небольшое число антропологов участвовало в этих переменах, это имело неприятные и вводящие в заблуждения последствия для моих коллег в Москве. Зоя Соколова, которая в течение длительного времени изучала ханты-мансийскую этнографию, испытала изменение отношения к себе со стороны коренных жителей после того, как скоротечный проект визуальной антропологии, координируемый американцами, оставил видео камеры активистам коренных жителей для того, чтобы они сняли о себе фильм. «Они такие чувствительны и почтительны по отношению к нашей культуре, и мы впервые встретили таких исследователей», сказала Елена Гоголева, лидер местной ассоциации коренных жителей, Соколовой, которая посвятила большую часть своей профессиональной карьеры и провела 20 сезонов полевых исследований в этой этнической группе, внеся намного больший вклад в изучение этой культуры, чем ктолибо другой в мире. Тамара Гузенкова, которая в 1994 году повезла группу исследователей в Якутск для проведения этнологического исследования, жаловалась на недружелюбный прием ведущего местного эксперта, который раньше проявлял желание сотрудничать. Она могла дать только одно объяснение: «Конечно, же, мы не в состоянии предлагать такое же вознаграждение, какое получают жители Якутии, контактируя с американцами, проявляющие гостеприимство в своих американских семьях и оказывающие поддержку в получении стипендий на обучение детей местных ученых». Эти наблюдения не отражают полной картины: Марджори Бальцер, эксперт по изучению якутов, внесла наибольший вклад в создании широкого спектра российской антропологии для западной общественности через свой журнал переводов под названием «Антропология и археология Евразии». Тем не менее, они подтверждают тот вывод, который был представлен в моей статье 1992 года: «Наши западные коллеги имеют средства, оборудование и внешние контакты, с которыми нам, привыкшим к командировкам без всякого высокомерия, сложно конкурировать» (стр. 377). Я рассматриваю это положение как естественную конкурентную борьбу среди антропологов за поле деятельности и установление своего статуса в отдельных областях исследования. Я не разделяю антизападного настроения, развивающегося в кругу моих московских коллег, которые считают, что эти достижения являются непочтительными для многолетнего вклада российских этнографов и их важной роли в исследованиях и сохранении малых коренных народов. Мария Жорницкая, изучавшая хореографию северных народов и поставившая первый национальный 5 якутский балет в ходе работы в Якутске в 60-х годах отмечает: «Мы посвятили свою карьеру народам Сибири и теперь считаемся ‘колонизаторами’, а западные ученые считаются ‘прогрессивными’ и ‘настоящими исследователями’». Но проблемы неравных возможностей и возможного исключения тех, чьи ресурсы ограничены, остаются; они требуют безотлагательного решения или, по крайней мере, понимания. Более того, щепетильные ситуации возникают среди местных представителей, включая исследователей за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Они читают книги под таким названием, как «История народов Сибири: Североазиатская колония Росси, 1581-1990» (Форсайт, 1992), и сталкиваются с академической политикой, которая ставит вопрос, должны ли отношения, поддерживаемые с московскими учеными, рассматриваться как «испорченные коллеги…, чья карьера развивалась в течение последних десятилетий советского режима» (Орловский, 1995:5). Многие из них испытывают дискомфорт в самоидентификации среди более сильных конкурентов, находясь между старой лояльностью и новыми обещаниями, намеренно принимая мощные антирусские позиции. Разделяя либеральные взгляды в сочетании с политическим мессианизмом, западные антропологи, проводящие исследования нерусских групп, проживающих в России, заняли твердую позицию в пользу местного этнического национализма, включающую политически экстремальные формы. Некоторые из них яростно лоббировали и напрямую участвовали в представлении этих этнических групп в международных и неправительственных организациях, созданных для «непредставленных» народов и наций. Этими усилиями чеченцы, татары, башкиры, чуваши, карачаи и ряд других народностей получили членство в этих организациях, сформированных как Организация непредставленных наций и народностей (ОННН), возглавляемая американской активисткой Милани Траск. Эти шаги от имени «народов» имели скорее отрицательные, чем положительные результаты. Законные власти автономных этнотерриториальных регионов, по крайней мере, те, с которыми я знаком лично (президенты республик Чувашия, Татарстан и Якутия), разрабатывают меры в поддержку крайних радикальных националистов, оспаривающих существующее федеральное государство России, и собственной власти, основанной на умеренном этническом/региональном национализме и политическом реализме. Что касается самих «народов», социологическое исследование ИЭА, проведенное в 1994 году, показало, что 85% татар и 99% русских в Татарстане, 81% якутов и 89% русских, проживающих в Якутии, не проявляли интереса к местным партиям и организациям, не говоря уже о радикальных националистических группах, которые выдают себя за приверженцев международного представительства (Дробышева и др., 1996). Некоторые лидеры групп стали заложниками внешней манипуляции и безответственных политических обещаний. Джохар Дудаев обратился к простым людям, поднимая флаг Чечни в штабквартире ОННН, совершая акт международного признания Чечни и усиливая, таким образом, свою непримиримую позицию перед началом войны (см. Тишков, 1997). При поддержке и даже по инициативе американских/ западных антропологов просьбы об альтернативном представительстве вместо усиления системы управления не удовлетворяли выражения понимания изучаемых объектов и иногда имели неожиданные последствия. Во-первых, антропологи Вашингтона или Лондона помогали выходу на международный уровень этническим активистам из бывшего Советского Союза, которые требовали выступления от имени «угнетенных наций». Это притворство, поскольку власть в этих округах России всецело принадлежит законным этническим коалициям и лидерам, которые успешно обсуждали условия своего представительства на национальном уровне. Затем другой американский гражданин, президент ОННН, узаконил эту просьбу (укрепив, таким образом, собственную организацию), предоставив им официальное членство. И, наконец, работники политики планирования Государственного Департамента США в сотрудничестве с Американским институтом мира организовали круглый стол на тему самоопределения и повсеместно распространяли доклад с рекомендациями, направленным на «предоставление выхода группам национальных меньшинств». Автор данного доклада предложил правительствам Соединенных Штатов и других западных стран уделять больше 6 внимания группам, (Карли, 1996:15). таким как ОННН Это группа народов, которая не имеет членства в ООН, существует с 1991 года и была создана отчасти для протеста против нежелания международного сообщества признать эти народы. Ее члены включают в себя чеченцев, татар, башкир, чувашей, гагаузов и абхазцев – всех отдельных народов бывшего Советского Союза, проживающих на территории государства под господством различных этнических групп. Эти группы не обрели независимость после распада СССР по неудаче или иронии судьбы, но не по причине того, что они меньше заслуживали этого. Будет ли международное сообщество по-прежнему игнорировать эти группы на свой страх и риск? Эта цепь событий не является специально разработанным сценарием, а иронией непризнанного круга влияния и взаимосвязей. Американские деньги и распространение влияния не только через биржу и образы Голливуда, но и с помощью маршрутов антропологов. То, что может, прежде всего, описываться политически наивными, сострадающими этнографами с точки зрения «культурного воспроизводства» или «культурного возрождения» (см. сочинение под редакцией Марджори Бальцер «Воплощенная культура: коренная антропология из России» [1995]), зачастую принимает более жесткую классификацию «наций без государства» (см. заголовок раздела об этнических республиках в России, Бреммер и Тарас, 1993:419) и, в конечном итоге, переходит в планирование политики поддержки нереализованного самоопределения. Этот процесс проходит незамеченным для непрофессионального обозревателя, и зачастую для участников, включая антропологов. Последние, по наблюдению Фредрика Барта (1994:24), регулярно действуют слишком узко, выступая (по собственному назначению) в качестве защитников этнических групп и разделяя их обиды. Они не учитывают более глубокого анализа процессов коллективного принятия решений, которые происходят на среднем уровне (для Барта это уровень мобилизации групп для различных целей различными средствами, поле предпринимательства, лидерство и риторика), и того, как они могут вырабатывать политику и действия в разногласии с народной волей и разделяемыми интересами людей, составляющих население, находящееся под влиянием. Мои наблюдения полного энтузиазма вмешательства западных интеллигентов в постсоветские преобразования приводят меня к заключению, что необходимо больше самоограничения и ответственности, если мы хотим сохранять дистанцию между государственной политикой планирования и научными проектами. Я хочу обратиться к американским/ западным антропологам не поддерживать безнадежно романтичное понятие разделения общества с помощью традиций плюрализма и большого многонационального потенциала. Барт (1994:24-26) сформулировал это послание в отношении Боснии; я делаю то же самое в отношении России. После первых взаимно любопытных столкновениях на новом поле американский академический снобизм и воспринимаемая исключительность могут обнаружить крушение иллюзий и ненависть по отношению к антропологам среди местного населения, которого обошли вниманием, как это имело место по отношению к западным экономическим экспертам. Американские антропологи уже испытывали это отношение, например, со стороны общин коренных американцев. Мониторинг и антропологии просчет другой Серьезные проблемы возникают, когда «суровая» политика сочетается с личным соперничеством, и в американо-российские академические отношения внедряются ложные формы солидарности. Я хочу продемонстрировать это на примере так называемого инцидента Козлова, который привлек ИЭА и меня лично в качестве директора и широкое международное внимание. Летом 1994 года в институт обратился прокурор из Санкт-Петербурга с просьбой провести экспертизу работ Виктора Безверхих, который обвинялся в распространении этнической и расовой вражды. Этот запрос был передан администрацией Виктору Козлову, который считался экспертом по этим вопросам, и его мнение было опубликовано без какого-либо коллегиального обсуждения или официального одобрения. Я даже не знал об этом запросе до того, как ведущая российская газета не опубликовала статью, написанную Александром Козинцевым, коллегой из Санкт-Петербурга, под заголовком «Российские фашисты и их защитники» («Известия», 20 января 1995 года). Она обвиняла Козлова в проведении экспертизы, скрывающей недостатки, которая толковалась судом как позиция ведущего научного института, оправдывающего Безверхих. В ответ я 7 написал письмо, в котором категорически отрицал какую-либо связь между институтом и такой позицией («Известия», 7 февраля 1995 года). На общем собрании факультета института, которое состоялось в феврале 1995 года, было решено, что на следующем летнем заседании будет проводиться специальное обсуждение по вопросам профессиональное этики и политики института по данным вопросам. Вскоре после этого я получил письма протеста от Игоря Крупника и Сергея Хана (12 апреля 1995 года), бывших советских антропологов, работающих в США, выражающие негодование по поводу «событий, имевших место в институте» и требующие увольнения Козлова. Я ответил на оба эти письма и обратился с просьбой, чтобы они постарались понять наше внутреннее положение и дать нам время выработать соответствующие меры. Я сообщил им о том, что институт подчеркнул свое несогласие с «экспертизой», заверяя муниципальный суд Санкт-Петербурга в том, что он предоставит более ответственный документ в случае повторного открытия дела. Что касается увольнения Козлова, единственного ветерана войны, работающего в институте, накануне 50летия Великой отечественной войны, я объяснил, что для этого нет законных оснований, и такое решение не будет одобрено членами факультета. В апреле 1995 года члены ИЭА Абрам Першиц и Михаил Членов написали открытое письмо под заголовком «Речь ненависти, опубликованная Российским институтом этнологии: открытое письмо российских антропологов своим зарубежным коллегам», подписанное 11 текущими и бывшими членами ИЭА. Важно то, что никто из подписавших письмо лиц не входил в число 30 членов научного совета института и в число 65 ученых, имеющих профессиональный статус работников ИЭА. Распространение среди широкой общественности открытого письма с сопроводительным текстом, подписанным антропологами, работающими в США, и его последствия, в частности, то, как местный инцидент может стать темой для мировой дискуссии с долгосрочным влиянием на научные контакты, заслуживает анализа студентовантропологов. Антропологи, работающие в США, склонны делать выводы по вопросам, связанным с их бывшими странами и коллегами, если предположить, что они хорошо знакомы с положением дел, чтобы давать собственную окончательную оценку. В своем письме от 12 апреля 1995 года Хан писал: «Вся ситуация, включая широкую поддержку, в результате которой Козлов продолжает работать в институте, может толковаться только как признак значительного перехода к русскому национализму и шовинизму, антисемитизму, расизму и отсутствию толерантности в вашем ближайшем научном сообществе и российской антропологии в целом». Аналогичное заявление было высказано Ханом, Казановым, Крупником, Майклом Крауссом и Леонардом Плотниковым в письме от 28 апреля 1995 года: «Нижеследующее заявление группы наших коллег из России попало в поле нашего внимания. Через профессиональные контакты и мониторинг российской прессы мы смогли пристально следить за событиями, описанными в их письме. Мы полагаем, что эти события могут толковаться только как переход к национализму, антисемитизму и расизму в общественном мнении России и, в частности, в кругу ряда представителей российской антропологии». Для тех, кто следит за положением вещей, используя профессиональные методы, растущая националистическая риторика и действия не могут так легко расцениваться как «серьезный переход» в российском обществе. Социологические обзоры и другие исследования доказывают, что, к примеру, уровень антисемитизма снизился за последние десять лет; в стране не имели место случаи насилия против евреев, несмотря на растущее выражение крайних группировок и небывалый рост насилия и преступности (см. Гудков, 1993, 1995; Гудков и Левинсон, 1992, 1993; Левада, 1994). Что касается института и российской антропологии в целом, я категорически отрицаю вердикт Хана и других ученых. Это несогласие не означает, что я не вижу проблем в институте, проблем, которые в значительной степени отражают общество. Одним из результатом ранее используемой процедуры найма специалистов в высшие учебные заведения является то, что около половины из 250 членов факультета института неадекватно квалифицированы с учетом профессиональных требований в более конкурентной среде. В то же время, сокращение кадров невозможно по социальным, а иногда и политическим причинам. 8 Першиц и Козлов дают классический пример того, что происходит, когда на большой институт находится под бременем устаревших взглядов и поведенческих норм и неадекватного восприятия современных реалий. Першиц придерживается традиции докладов о «неверном положении вещей», на этот раз не партийному бюро коммунистов, а «своим зарубежным коллегам». Козлова преследует «трагедия великого народа» (Козлов, 1995), и он видит свою миссию в защите «обманутой и вымирающей нации». Все, что отличается от этой авторитетной точки зрения, рассматривается как «патологический» (Козлов, 1996а:73) комментарий к моему глубокому изучению «гражданской нации» или «отравляющий субъективизм» (комментарии Першица на институтском собрании к моему призыву выходить за рамки изначального толкования этнической принадлежности). В связи с последними историческими событиями все больше ученых проявляют интерес к ранее забытой области российских этнических исследований и работам, посвященным статусу русских, делая это с эмоциональным вовлечением. Многие ученые более раннего поколения проявляют политическое сопротивление в отношении проводимых демократических реформ и геополитических преобразований и восприимчивы, таким образом, к воспаленной риторике «возбудителей влияния», разрушивших «великую страну». В то же время, ряд авторитетных ученых еврейского происхождения покинули страну и работают в западных институтах или впервые получили западные гранты и звания научных сотрудников, что вызвало зависть и жалобы со стороны менее удачливых коллег и ослабило либеральнонаправленные группы института. Другой факт, заслуживающий особого внимания, относится к некритичному реагированию американских/ западных ученых на различные широко распространяемые документы. Люди склонные принимать полученную информацию без критического анализа, возможно, в силу того, что они соответствуют или возрождают старые стереотипы о «нехороших людях здесь и нехороших людях там»; они отреагировали предсказуемо, уличая и наказывая с положения неоспоримого превосходства. Из 33 писем, полученных мною с мая 1995 года, только 5 выражали сомнения и содержали запрос на предоставление более подробной информации до принятия какой- либо позиции в отношении данного вопроса. Среди них были письма Джонатана Бентхолла, директора Королевского института антропологии, Джеймса Пикока, президента Американской антропологической ассоциации, Эрика Сандерленда, генерального секретаря IUAES. Очевидно, их официальное положение сделало их более осмотрительными и ответственными. Я не понимаю, почему другие не могут придерживаться более сбалансированной точки зрения. Несколько писем от американских ученых выражали крайне эмоциональную позицию и содержали решительные предписания по общественным и научным вопросам в других обществах. Наиболее запугивающие письма содержали в себе скрытые или явные угрозы изоляции и изгнания института российских антропологов из международного сотрудничества. Приведу лишь один пример (Джек Кьюглмасс, 18 мая 1995 года): «Более того, до тех пор, пока институт не накажет должным образом тех членов, которые поддерживают это разжигание ненависти и не выполнит свой долг по распространению научного понимания других культур, можете быть уверены, что мы будем с пристальным вниманием следить за международной деятельностью этого института в целях изоляции института и его сотрудников. Расизм подобен инфекционному заболеванию. Его следует искоренить, пока он не заразил все здоровые учреждения, связанные с ним». Самым обескураживающий стал тот факт, что открытое письмо было опубликовано несколькими широко тиражируемыми информационными бюллетенями по проблемам антропологии без опубликования моего ответного письма под названием «Наблюдая за российской антропологией (ответы и вопросы Валерия Тишкова)», которое я написал 25 мая 1995 года и разослал всем тем, от кого я получил письма. Я попросил Хазанова и Крупника издать мое письмо в форме открытого письма, однако, они этого не сделали. И лишь журнал Anthropology Today опубликовал анализ (Драгадзе, 1995). Намерение поддержать кампанию объясняется публикацией «Обращение из России» в журнале Nationalities Papers за июль 1996 года (соб. 24, стр. 353-56) после того, как крупные ассоциации антропологов заняли свою позицию по данному вопросу. Несомненно, кампания наказания достигла своей цели – для тысяч людей ИЭА она 9 ассоциировалась с расизмом или, по крайней мере, с чем-то непристойным или неприличным. Несколько моих коллег, которые недавно посещали зарубежные страны, столкнулись с этим плохо сформулированным, но явным отношением к институту. Крупный американский фонд, который организовал международную конференцию в Москве в августе 1996 года, выбрал другой институт для проведения конференции, несмотря на то, что тема, участники и многие докладчики принадлежали ИЭА. Никто не поднял этого вопроса, но для многих было ясно происходящее. Эти примеры показывают лишь часть ущерба, нанесенного институту в трудный период, когда на протяжении месяцев государственный бюджет не выделял даже символических средств на оплату труда сотрудников. На пути к более антропологии совершенной Я хотел бы вернуться к главному вопросу подходов к этнической ненависти в России и несоответствующего поведения представителей данной профессии. Самым простым было бы последовать предписанию Сергея Хвана о том, что «одним из наиболее значительных вкладов антропологии в гражданские дискуссии заключается в раскрытии и разоблачении расизма и этнических предубеждений в их любой форме» (личное сообщение, 12 апреля 1995 года). Единственный вопрос, с которым я не согласен, заключается в способе раскрытия и разоблачения. Обнародование и баталии в средствах массовой информации иногда могут вызвать неблагоприятную реакцию, когда безответственные и параноики получают незаслуженную и скандальную славу, мобилизуя своих последователей, особенно, в критических ситуациях. Занимая должность министра национальностей при правительстве Егора Гайдара в 1992 году, я рекомендовал двойную стратегию борьбы с ультраправыми: сохранение сдержанной позиции и одновременное, интенсивное усиление антираститского законодательства и ограничение пропаганды. Эта стратегия оказалась эффективной, по крайней мере в попытках ослабления и изоляции «Памяти», довольно активной для того времени антисемитской организацией. Я продемонстрировал это, заняв такую позицию, когда в декабре 1993 года давал свидетельские показания в суде против «Памяти». Ни один директор российского ВУЗа не делал этого. Что касается Безверхих, чье имя не было мне известно, так же как и другие имена, до появления статьи в газете «Известия», печально, что его имя и работы получили национальную огласку лишь после того, как единичное судебное разбирательство в Санкт-Петербурге стало предметом международного спора. Некоторые антропологи, которые приветствуют «открытую и бескомпромиссную борьбу», могут подозревать меня в «мягкотелости» по отношению к этим бесславным идеям и действиям, однако, они ошибаются. Принципиально я изучил работы Бжезинского и подготовил свое собственное экспертное заключение, полностью осуждающее его за распространение и разжигание этнической и расовой ненависти, которое, фактически, заслуживало судебного наказания. В январе 1996 года это заключение было направлено из института в прокуратуру, после чего дело было возбуждено повторно. Копия была направлена также авторам открытого письма, но на этот раз они не приняли никаких мер. Я спросил Танкреда Голенпольского, редактора московской международной еврейской газеты и известного еврейского активиста, может ли он дать другие разъяснения по поводу событий в ИЭА. Его комментарии (личное сообщение, 27 мая 1996 года) заслуживают серьезного внимания: «В апреле 1995 года комиссия ЧерномырдинаГора подготовила рекомендации по отмене законопроекта Джексона-Веника, который лишал Россию статуса «самой благоприятствующей нации», однако еврейские лоббисты в США и России не захотели терять это средство политического давления. Михаил Членов, который 20 лет назад принимал участие в предоставлении информации по истории вопроса, связанного с этим законопроектом, не доволен принятием изменений. В последние годы в стране появились новые еврейские лидеры, в числе которых банкиры России и экономические магнаты. Михаил Членов направил собственный институт, прежде всего, указать представительному органу, а не отдельным параноикам, на виновность в антисемитизме и, во-вторых, продемонстрировать, что он остается активным лидером». Крупные достижения, определяемые как «серьезный переход», могут стать результатом действий отдельных лиц с разнообразными незаявленными 10 интересами. В качестве альтернативы глобальные противники могут быть обнаружены и мотивированы личными интересами и интересами отдельных групп. Антропология этой взаимозависимости кроется в ее ранних этапах становления. Рассказанная в данной статье история послужит уроком для американских и российских антропологов и сможет повысить марку антропологии. Комментарии С. А. Арутюнов Институт этнологии и антропологии РАН, Лениниский проспект 32А, Москва 117334, Россия Тишков показал глубокое понимание взаимоотношений между российскими антропологами и американскими коллегами. Я не собираюсь спорить с ним. Практически, все, написанное им, является правильным. Я бы не стал столь категорично заявлять, что конвенции ААА имеют преимущество перед конгрессами IUAES; они имеют различия, однако, их общее значение для международного сообщества антропологов одинаково. Я не считаю заявление и позицию Козлова и Першица равноудаленной от «адекватного восприятия современных реалий». Мнение Першица, по крайней мере, открыто для аргументов и обоснованной дискуссии, тогда как некоторые заявления и взгляды Козлова не должны обсуждаться учеными, не лишенными чувства собственного достоинства. Я бы не стал обращать столь серьезного внимания на оценку деятельности Членова, данную Голенпольским; это отражение мелкой вражды лидеров, которая, к сожалению, достаточно типична для национального, религиозного и культурного движения меньшинств в постсоветской России. Лишь отдельные крайне радикальные прототалитарные группировки могут быть полностью свободными от подобной внутренней вражды и за хорошо известную цену. Но эта вражда едва ли существенна для споров. На этом заканчивается моя критика, которая, очевидно, ограничивается вопросами, не имеющими большого значения для обсуждений Тишкова. Остальная часть доклада представляет собой скорее размышления и рассуждения, чем аргументы. Не думаю, что «криминальное государство» и «Российская мини-империя» представляют собой лишь «поверхностный ярлык». То, что Россия уже давно стала криминальным государством, доказано никем иным, как Егором Яковлевым, главным помощником Ельцина по вопросам средств массовой информации: для него это тривиальный факт, который даже не стоит обсуждения и измены всем демократическим идеалам («Известия», 8 августа 1997 года). Хуже всего, что Россия демонстрирует каждый признак становления не только криминальным государством, но государством с криминальной полицией, что подтверждается назначением С. Степашина на должность министра юстиции. Окончание холодной войны завершено, наступил короткий период открытости; многие архивы, которые открывались и вновь закрывались, и во многих провинциях (в частности, в тех, которые управляются губернатораминеокуммунистами), по словам коллег, возвращающихся из полевых исследований, доступ ученых к важной информации все больше и больше ограничивается местными властями. Однако я согласен с Тишковым, что сложные процессы, развивающиеся в большинстве регионов России, особенно, в регионах значительной этнической разнородности, не могут ограничиваться такими упрощенными определениями. Доля неславянского населения растет почти во всех республиках России, а там, где оно составляло большинство (Чечня, Ингушетия, Тува, Чувашия), оно крепнет. Некоторые этнические группы или национальности снова будут составлять большинство населения на тех территориях, где в настоящее время они составляют меньшинство (Карачай-Черкесия, Якутия, Мари-Эль). Очевидно, это не будет противодействовать тенденции криминального государства, но несомненно будет сдерживать реализацию «миниимперии». Я согласен с Тишковым в его ссылке на Ханна: «социалистические общества имеют намного больше общего с многими несоциалистическими обществами, чем это обычно предполагается», однако, я бы добавил, что сходства действуют в обоих направлениях. Не только многие капиталистические черты скрыты за «социалистическим» фасадом СССР, но также много черт социалистического (или остаточного социал-демократического) наследия, столь типичных для СССР, более 11 или менее успешно искореняемых, которые повторяются и возникают в американских реалиях США. Политика положительных действий – ничто иное, как модифицированная версия «национального строительства» и «повышения статуса меньшинств», присущая СССР в 20-е годы и хорошо сохранившаяся в 70-е. «Политическая корректность», практикуемая в американских кампусах, является зеркальным отражением «идеологической зрелости», открыто признаваемой комиссиями по идеологии Центрального Комитета Коммунистической партии и приводит к запуганной самоцензуре со стороны большинства членов факультета, обеспокоенных потерей рабочего места или должности, если они не будут придерживаться не только «неоязыка», но и концептуальных рамок политической корректности. Конечно же, идея управления, которое будет отражать профиль населения в процентном соотношении женщин членов расовых меньшинств и других подгрупп, - чисто советское изобретение, рассчитанное на такие «избираемые» органы, как Верховный Совет и ему подобные. Ни СССР, ни Россия не могут считаться «государством всеобщего благосостояния», однако, общее положение «благосостояния», в котором зачастую лучше не работать и довольствоваться мизерной субсидией, чем работать за мизерную заработную плату и потерять льготы, во многом одинаково для США и России. Таким образом, мне кажется, что социалистические реалии, наблюдаемые американскими и русскими антропологами, имеют больше общего, чем это может показаться. И еще одна проблема проблема языка: очень похожие события и явления описываются с помощью довольно разных понятий, несмотря на то, что все говорят по-английски. Однако можно ли считать, что «этнические группы» в Соединенных Штатах и «этносы», «этникозы», «этносоциальные организмы» и «этнонации» с точки зрения Бромлеяна являются лишь разными терминами для обозначения одних и тех же реалий? Тишков рассматривает этнические народы внутри гражданской/ политической нации и этнотерриториальный принцип самоопределения политическим проектом, вызывающим конфликт (хотя он признает, что в ряде случаев это, возможно, неизбежно в современной России), и он считает американский «фруктовый салат» этнических групп более приемлемой альтернативой для решения этнических проблем. Однако как в России, так и в США, группы могут быть рассредоточены или занимать определенную территорию. В России к последним относятся республики и автономные округа, а в Америке – резервации, которые называют себя нация навахо, нация хопи и т.д. и при наличии самостоятельных сил полиции и других административных институтов зачастую они не менее «суверенны», чем республики в России. Даже привлекательные новые чеченские международные паспорта пока еще не признаваемые ни одним консульством в мире, имеют много общего с хорошо известными «паспортами» граждан Ходеносавнее или Оджибва. Тишков пишет о «естественной конкуренции между антропологами за поле деятельности». Верно, что некоторые наши коллеги не слишком рады этой конкуренции и даже считают ее несправедливой. Многие опрашиваемые лица и местные лидеры народов Сибири и других народов находят больше взаимопонимания с американскими антропологами, чем с их коллегами из Москвы, однако, значение данного факта не должно стать попыткой ограничения доступа наших американских коллег к богатым ресурсам России, а должно поставить задачу перед русскими антропологами изменить и пересмотреть свои подходы и методы. Я усматриваю больше плодотворного сотрудничества, чем конкуренции во взаимоотношениях между российскими и американскими антропологами и хотел бы видеть больше американских антропологов в России. Я считаю, что Российская антропология получит пользу от расширения такого сотрудничества. Справедливо то, что идеальная исследовательская группа – это группа, в которой один или несколько американских (или других зарубежных) антрополога работают в сотрудничестве с экспертом из Москвы или СанктПетербурга и одним или двумя специалистами или полупрофессионалами, представляющими местную народность. Эта модель показала свою эффективность в ряде российско-японских исследовательских проектов. Общаясь с американскими коллегами, я практически неизменно встречал истинное желание оказать помощь сотрудничать, проявление дружелюбия и добросовестное отношение. Верно, что иногда наши американские коллеги не понимают тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся, 12 различий в уровнях технологии и финансовых возможностях, невозможность строго следовать правилам, когда техническая проблема, решаемая в течение нескольких минут в США, может потребовать недельных усилий в России, а также недоступные цены и общие недостатки, которые делают даже чернила для принтера, не говоря уже о доступе к факсу или экспресс-почте, неразрешимой проблемой. Однако со временем эти проблемы могут и, конечно же, будут преодолены. Намного более серьезными выглядит антизападное отношение, которое развивалось в России течение последних нескольких лет. Нет сомнения в том, что пережитки традиционной советской ксенофобии достаточно сильный и укрепляются в отношениях современной бюрократической номенклатуры России, и мы хорошо знакомы с трудностями, с которыми сталкиваются наши западные коллеги при получении виз и разрешений на проведение полевых исследований. В Академии наук были приняты новые положения, еще более затрудняющие приглашение наших западных коллег, чем это было раньше. Однако существуют правила и практика, не только недавно введенные, но существовавшие уже на протяжении многих лет, в результате которых получение виз и разрешений на въезд в США и страны Шенгенского договора, Великобританию не только трудно, но во многих случаях и унизительно. Я и мои коллеги недавно испытали это, когда мы получили приглашение в Париж от Ecole Pratique des Hautes Etudes. Некоторым из нас категорически отказали в выдаче въездных виз, а другим удалось получить визы с большими трудностями. Унижение граждан России – неизменная тема российских средств массовой информации, и это неизбежно порождает антизападные проявления, даже среди тех людей, которые никогда не имели их раньше. Многие люди постоянно испытывают ощущение, что разрушив старый железный занавес, мы видим новый вариант его воздвижения вокруг России, на этот раз из за рубежа. Это не только правда, но и очевидно, что западные и российские антропологи работают в неравных условиях, но следует ли считать, что они ведут неравный диалог? И если мы живем во время перехода, каково направление этого перехода? Я предложил в качестве наиболее удачной модели исследовательской группы совместное предприятие западных, российских и коренных антропологов. Участие коренного населения в профессиональной антропологии все более усиливается в России, все больше исследовательские группы состоят не из двух, а трех участников, трех типов модели в диалоге и дальнейшем изучении каждой стороны, что снижает уровень неравенства. Несмотря на препятствия, созданные эгоистичными бюрократами и близорукими политиками, мы учимся говорить на одном языке и имеем одни и те же ценности. Неблагоприятные обстоятельства могут временно замедлять процесс, но едва ли что-либо способно его остановить. СЕРГЕЙ КАН, АНАТОЛИЙ ХАЗАНОВ И ЛЕОНАРД ПЛОТНИКОВ Darmouth College, Hanover, N.H. 03756 (Kan)/ Университет Висконсина, Мэдисон, Wis. 53706 (Хазанов)/ Smithsonian institution, Washington, D.C. 20560 (Крупник)/ Университет питсбурга, Pittsburgh, Pa. 15260 (Плотников). II IX 97. В любых научных спорах дискуссия охватывает спектр мнений, которые могут варьироваться от чисто научных обсуждений до позиций с политическими обертонами, которые могут привести к профессиональному и даже институциональному конфликту. Тогда как один конец континуума основан на доступных для опытной проверки аргументах и установленной профессиональной этике, другой конец зачастую действует на основе эмоций и даже злобных нападок. Наука дает средства разделения этих методов. Очевидно, что Тишков пытается соединить эти два полюса. Если его интересует разница между американской и русской антропологией в их подходах к этнической принадлежности, национализму, многонациональным государствам и т.д., конкретный изучаемый случай, называемый им инцидентом Козлова, не имеет значения. Если же он лишь желает восстановить свою личную репутацию и репутацию своего института, привлекая внимание к предполагаемым недостаткам американской (или западной) антропологии, этот способ не сработает в его пользу. 13 Тишков пытается заставить нас поверить в то, что плохо информированные и легковерные американские антропологи слишком быстро приняли заявления их российских коллег-эмигрантов и нескольких недовольных эгоистичных российских ученых. Однако центральный вопрос, от которого он уклоняется, заключается в том, что его собственная ответственность и ответственность его института за быстрое и эффективное оспаривание явного антисемитизма любого члена ИЭА. Опасность, стоящая перед совместными и продуктивными рабочими отношениями русских и американских антропологов (в которой, очевидно наше участие) связана не с эксцентричными интриганами, а с этим попустительским фанатизмом. Существовали какие-то коренные проблемы со статьей, которая содержит ссылки на Барта и Геллнера и делает заключение с анекдотичной очевидностью, полученной в результате личного взаимодействия с российским журналистом. Аналогичным образом, невозможно серьезно воспринимать «сервированное разнообразие» «еврейских лоббистов в США» и «новых еврейских лидеров, среди которых встречаются русские магнаты», пытающихся не допустить отмены законопроекта Джэксона-Веника, в качестве основного объяснения рассматриваемых событий. Первая часть содержит громкие слова о том, что нельзя рассматривать Россию как «колониальное» поле для американских социологов (богатых грантами и институциональными ресурсами), которые считают российских антропологов настолько несведущими и устаревшими бывшими советскими гражданами, нуждающимися в повторном обучении западных коллег, приезжающих на короткий срок для ведения своих проектов. Эта антиколониальная позиция подвергается стрессу при использовании термина «неравный диалог» в заглавии. Таким образом, бывший второй мир допускает позицию третьего мира. Ссылаясь на «инцидент Козлова», Тишков просит, чтобы мы оценивали его и ИЭА таким образом, каким бы мы оценивали любой факультет западного университета и его декана, чтобы мы применяли к нему и ИЭА те же стандарты индивидуальной и профессиональной свободы, толерантности к разнообразию выражения, однако, включает призыв к культурному релятивизму с учетом российского подхода к научным отношениям. Последний раздел является грубым беспринципным, выполненным по старому советскому образцу, который сводит к минимуму значение российских ультраправых и озвучивает грубое нарушение и справедливое негодование диссидентов и их западных защитников. Мы удивлены тем, как данная статья цепляется за соломинку морали (антиколонистический, прозападный или типично советский), влияя на чувствительность американских антропологов по отношению к их оскорбленным русским коллегам. И, наконец, снова в худших поясняющих традициях советского стиля Тишков неверно представляет первое открытое письмо, подписанное 11 российскими антропологами, и многочисленные письма и сообщения касательно дела Козлова, цитируя их без контекста. Однако мы попрежнему убеждены, что наш доклад и толкование событий 1995 года (на основе большого количества достоверных источников, имеющихся в ИЭА и за его пределами) были точными, а реакция на них соответствующей. С этого многие печатные средства массовой информации и профессиональные журналы стали освещать эти события (напр., Американская антропологическая ассоциация, 1995, Хазанов, 1996а, Открытое письмо 1995, Рич, 1995а, протест русских, 1995, Вегас и порто, 1995, см. также Драгадзе, 1995), однако, Тишков не учитывает этого. Более того, похоже, что эти публикации и быстрый и широко распространенный резонанс на дела западных антропологов сыграли значительную роль, побудив Тишкова и его коллег из ИЭА поменять свою точку зрения по отношению к «учености» Козлова. Теперь существует ясное доказательство того, что допускаемая «мягкая политика сдерживания» Тишкова в отношении фанатизма в кругах российских антропологов не нанесла вреда фанатикам. Она не стала препятствием для опубликования Козлова своей монографии о трагедии великих русских людей, наполненной враждебными антисемитскими высказываниями (Козлов 1995, 1996б), спустя много времени после международного негодования, вызванного открытым письмом. По данным газеты «Московские новости» (граев, 1997:16) «В начале 90-х годов прокуратора города Москвы отказалась принимать любые иски против тех, кто участвовал в публикации и распространял «Проповедники Сионского протокола» в России. Это решение было 14 основано на «научной оценке» ПСП, представленной старшим членом ученого общества профессором ИЭА Виктором Козловым, который не признал в этом иске фактов, заслуживающих расследование». Таким образом, дело было с гордостью представлено самим Козловым в недавно опубликованной статье российского журнала с длинными изречениями заявлений правых и антисемитов («Молодая гвардия», Козлов, 1997). Таким образом, отстаивая «равный диалог» и «справедливое отношение в болезненный период перехода», Тишков также укрывает под сенью политики восстановления дружеских отношений тех, кто попрежнему представляет клеветнические обвинения расистского характера за антропологическую правду. ПЕТЕР СКАЛНИК Университет Charles, Прага, Чехия (petrskalnik@ff.cuni.cz) 11 Х 97 Нелегко давать комментарии к работе, которая является достаточно своеобразной с точки зрения ее метода и контекста. Насколько я понимаю, Тишков, который несколько лет назад получил от Бромли бразды правления советским академическим институтом, в котором в течение нескольких десятилетий проводились исследования конкретных этносов, боролся все эти годы за то, чтобы переориентировать свой институт и, конечно же, советскую этнографию в целом. Его поиски являются неотъемлемой частью преобразования России, других стран бывшего Советского Союза и посткоммунистические страны Центральной и Восточной Европы. Однако, довольно проблематично смешивать американскую антропологию со всем этим. То, что он описывает, является бедность пустоты, созданной отклонением теории этноса, созданной Москвой (по крайней мере, некоторыми ее бывшими сторонниками). Я не разделяю его точки зрения, что существенные преимущества западных антропологов, работающих в России, заключаются в унижении великих российских специалистов по тому или иному этносу. Проблема кроется в другом. Хотят ли российские и другие посткоммунистические этнографы (эмигранты, работающие и живущие на Западе) стать антропологами и добиться интеллектуальной революции или они будут продолжать прятаться за измененными ярлыками этнологов? Если первая часть вопроса является их целью, то они должны перевести, изучить и усвоить большой объем антропологической литературы, который, в свою очередь, позволит им провести детальную и честную переоценку довольного обширной части их собственных работ. Они также смогут лучше понять западный антропологический анализ собственных обществ и, наконец, смогут ощутить основу, которая аналогична платформе американских и других специалистов данной дисциплины. Преобразование этнографии в антропологию займет длительное время, этот процесс не всегда будет успешным. Наградой станет двухстороннее, международное взаимодействие антропологов, и все положительное и полезное из области этнографии станет частью антропологии. Дискуссии по вопросам этносов, рас и расизма станут менее эмоциональными и более научными. На этом этапе работа Тишкова слишком эмоциональна и обременена странными жалобами в духе предубежденности этноса в отношении недостатков российской антропологии (которые должны еще проявиться) по сравнению с американской. Следует спросить, почему Тишков не упоминает о европейской антропологии, ведь Европейская ассоциация социальных антропологов сама по себе в четыре раза больше, чем всеобъемлющий Институт этнологии и антропологии. Наши африканские коллеги должны также спросить, почему не учитывается их Панафриканская Ассоциация антропологов и т.д. Двуполярное суждение в антропологии уже не имеет смысла, и настало время, чтобы российские ученые могли это учитывать. ДАНИИЛ ТУМАРКИН Институт этнологии и антропологии РАН, Россия, Москва 117334, Ленинский проспект 32А, 2 IX 97 Тишков поднял важные вопросы контактов и сотрудничества американских/западных и российских антропологов постсоветского периода. Я согласен с ним в том, что «американские антропологи должны принести глубокое понимание и достижения своих антропологических школ мысли, а не менталитет воителей холодной войны, и говорить на том же научном языке, который они используют в работе с коллегами своей страны», а также в том, 15 что «необходимо больше самоограничения и ответственности, если мы намерены сохранять дистанцию между государственной политикой планирования и научными проектами». Значительная часть статьи посвящена делу Козлова, который спровоцировал непонимание и возбуждение в мире антропологического сообщества. В попытке продвижения большего понимания этих вопросов я хотел бы представить дополнительную информацию и кратко рассмотреть характер проблемы. Наблюдаемая идеологическая согласованность, по крайней мере, внешняя, со стороны членов факультетов института этнологии и антропологии в советское время закончилась с началом перестройки и распада СССР. Некоторые антропологи, главным образом, из числа более раннего поколения, сохранили свою верность марксистской методологии, а многие пытаются сочетать марксистские подходы с достижениями других школ мысли. Существуют также ученые, которые приняли новые тенденции американской/западной антропологии, в особенности, постмодернизма. Такой методологический плюрализм зачастую порождает дискуссии, например, между защитниками теории этноса и сторонниками теории «этнической принадлежности». Эти дискуссии, главным образом, носят положительный характер, способствуя креативное развитие антропологии в новой России. Однако существуют идеи и мнения, которые, по моему мнению, не могут служить предметами научных дискуссий, включая расизм и шовинизм, выходящие за рамки науки. Экспертное заключение по работам Виктора Безверхих, которое стало общеизвестным как в России, так и за ее пределами, не является отдельным эпизодом. Как писал Козлов в 1997 году, он представил более 15 экспертных заключений в различные суды России и прокуратуру в период с 1993 по 1996 годы. Почти все дела были связаны с антисемитизмом, и он делал все возможное, чтобы защитить подозреваемых и лиц, в отношении которых велись расследования (Козлов, 1997:227-46). Эта позиция далеко не случайна. В начале 1995 года в разгар скандала, вызванного инцидентом, связанным с Безверхих, была издана книга Козлова под названием «Российский вопрос: история трагедии великих людей» без всякого указания на ее издателя, которая начала распространяться по ИЭА. Фактически, это была попытка описать и объяснить развитие и упадок русского этноса в 20 веке. Лейтмотив этой книги состоял в том, что евреи были и продолжают нести ответственность за невзгоды, страдания и вымирание этнических русских. Отношение Козлова к Ленину заслуживает внимания. На протяжении нескольких десятилетий он либерально цитировал и давал комментарии ко всем записям Ленина по национальным проблемам, очевидно, считая его самым авторитетным источником в рассмотрении данного вопроса. «Многонациональное советское социалистическое государство, созданное великим Лениным», - писал он в 1969 году, - «является примером дружбы народов и сотрудничества всех социалистических стран во имя всех людей в борьбе против социального и национального угнетения» (Козлов, 1969:17). Теперь он полностью поменял свою точку зрения. Как стало известно, дед Ленина по материнской линии был евреем, который принял христианскую (православную) веру. По словам Козлова эти «еврейские корни» и более поздние связи с революционерами еврейского происхождения обусловили взгляды Ленина на национальные проблемы, сделав его «убежденным русофобом», питающим глубокое презрение к этническим русским, «идеологом национальной политики русофобов», которая царила после его смерти (Козлов, 1995: 8, 78, 96-97, 112-13, 153, 308, 312, 330, 1996). Он предлагает в качестве наиболее эффективного способа сохранения «обманутого и вымирающего русского этноса» создать особую «Русскую Республику», руководимую этническими русскими. Регионы, в которых проживает преимущественно русское население, не включенные в республику с начала ее образования, должны быть присоединены позднее, предпочтительно с использованием мирных «демократических» средств, а в ряде случаев «югославский вариант» не будет исключением (Козлов 1995:260, 278, 32527, 1996:239, 285). В своем выступлении на общем собрании факультета ИЭА в феврале 1995 года я дал критическую оценку рассматриваемой книги, и мои выводы были поддержаны несколькими коллегами, включая Юрия Семенова, который описал идеи Козлова как «неприкрытый расизм». Однако Козлов продолжал свои действия. Загадочный 16 издатель издал исправленную и расширенную версию его книги (см. Козлов, 1996). Лейтмотив оставался неизменным, но автор добавил несколько нвых аргументов, заимствованных из последних антисемитских публикаций. В дальнейшем Козлов развил свою идею фикс в статье, которая была опубликована в марте 1997 года в московском национальном ежемесячнике. Говоря о двух хорошо известных антисемитских измышлениях («Записи сионистских мудрецов» и «Катехизис евреев в СССР»), он выразил свое мнение о том, что независимо от их реального авторства, оба текста заслуживали серьезного внимания в силу глубокого понимания еврейского менталитета. По мнению Козлова эти «документы» содержат инструкции достижения господства. Действия Козлова опорочили имидж ИЭА не только в мире антропологического сообщества, но также и среди широкой общественности России; либеральная пресса, реагируя на его деятельность, обычно упоминает его членство в ИЭА (см. «Московские новости», 1997, №31:16). Будучи самым старым членом факультета, я принимаю это положение близко к сердцу. Антропологи, составляющие костяк ИЭА, честно выполняют свои профессиональные обязанности. В очень сложных экономических условиях они пытаются сохранять давние традиции этнографического учения, привлекая людей не только из России, но и, практически, со всего мира. Кроме того, члены факультета ИЭА предоставляют академические знания и опыт, дают публичные комментарии по многим актуальным вопросам сегодняшней России, таким как решение запутанной ситуации в Чечне, стабилизация в других горячих точках и эффективная помощь малым народам севера. Тишков проявляет особую активность в этой области. Феномен Козлова следует рассматривать в более широком контексте. Мировая история учит на, что шовинизм все сильнее распространяется по мере реального прогресса антисемитизма, хотя в последние годы на основании профессионального мониторинга он сдает свои позиции. Отчасти это связано с наступлением других видов фобии, направленных против «лиц кавказской национальности» (см. «Московские новости», 1997 №16:25). И все же, пропаганда антисемитизма остается агрессивной, в особенности, это проявляется в шовинистической бульварной прессе, распространяемой в Москве и других российских городах. Феномен Козлова подтверждает, что эти идеи постепенно проникают в российское антропологическое сообщество. Это представляет потенциальную опасность для будущего развития ИЭА и всей профессии в России. Возникают два вопроса: каковы пределы академической свободы, и каким должно быть адекватное реагирование на это явление. Антисемитизм и другие формы шовинизма существуют не только в России. Было бы интересно изучить опыт наших американских/ западных коллег в решение аналогичных проблем в их странах. СЕВИАН ВАЙНШТЕЙН Институт этнологии и антропологии РАН, Россия, Москва 117334, Ленинский проспект 32А, 3 Х 97 Статья Тишкова представляет большой интерес не только для западных, но и для российских ученых, поскольку она затрагивает наиболее болезненные вопросы драматической ситуации, в которой находятся российские этнологи на этом историческом этапе. На основе моих 50летних исследований народов Сибири я хочу поделиться своими наблюдениями негативных тенденций этнологии так называемого переходного периода. Россия действительно становится своего рода Эльдорадо для западных антропологов. Ученые из США, Западной Европы, Японии и Южной Кореи съезжаются в страну для изучения ее народов. Я полностью согласен с Тишковым в отношении равных и конкурентных прав всех антропологов, проводящих исследования в нашей стране, однако, российские этнологи должны иметь, по крайней мере, равные возможности проведения полевых исследований наряду с западными коллегами. К сожалению, это не так. Западные антропологи имеют больше ресурсов для посещения более удаленных регионов, платы информаторам, аренду транспортных средств и опубликования материалов. Например, за последние несколько лет в Туве полевые экспедиции и отдельные виды исследований проводились учеными из США, Великобритании, Германии, Голландии, Франции, Японии и Южной Кореи, и в силу финансовых трудностей ни один московский этнолог не смог провести полевые исследования этого региона. 17 Более того, все больше и больше антропологов приезжают в Туву с целями, далекими от науки. Их программы отражают определенные политические позиции, которые сохранились со времен холодной войны. Они проявляются в исключительном интересе к взглядам и деятельности многих радикальных националистических лидеров, чья позиция впоследствии широко освещается в «научных» публикациях, которые преувеличивают их реальное влияние. В то же время, многие интересные преобразования в коренном образе жизни (возрождение кочевого образа жизни, изменение семейных и общинных отношений и т.д.) не привлекают внимания этих ученых. Западные исследователи, которые начали проводить исследования тувинцев, не считают нужным привлекать экспертов из нашего института и обсуждать свои исследовательские программы. Среди нескольких отечественных исследователей, получивших гранты от западных фондов, также наблюдается тенденция уделять больше внимания политизированным вопросам, а не антропологическим темам. Другой болезненный вопрос, поднятый Тишковым, заключается в изменении мнения, сложившегося о московских этнологах среди местных экспертов и активистов в Сибири. Бытует мнение, что в отличие от западных ученых, которые одержимо стараются помочь коренному населению, русские этнологи всегда исполняли политическую волю российских колонизаторов. Эта позиция не учитывает не только широко признанный мировой вклад российских ученых в изучение народов Сибири, но и напряженную борьбу российских этнологов за радикальное повышение статуса коренного населения Сибири, что всегда являлось причиной репрессий ученых, включая членов нашего института. Среди них сибирский эксперт Борис Долгих попал в тюрьму и был сослан за свои усилия помочь народам Сибири, известный специалист по тунгусам Г. Василевич, который провел много лет в ГУЛАГе за поддержку народов Сибири. Моя история жизни может также упоминаться в этом разделе. Я был исключен из московского государственного университета и едва избежал ареста за свои труды, посвященные кетам, проживающим на севере Сибири, в конце 40-х годов, а также за усилия спасти культуру тувинцев в начале 50-х. Я согласен с Тишковым в том, что традиции холодной войны среди западных антропологов становятся причиной двойного стандарта в использовании терминологии в описании народов нашей страны. Я столкнулся с аналогичной дилеммой в собственной исследовательской работе. Проработав несколько десятилетий в институте этнологии и антропологии, я, будучи евреем, должен отметить, что я не испытывал атмосферы антисемитизма, которая, увы, доминировала на официальном уровне. Мои последние монографии, включая «Мир кочевых народов Центральной Азии» (1991), появились только при непосредственной поддержке Тишкова. Я считаю, что он может внести большой вклад в противостояние расистских идей, оказывая поддержку исследованиям и публикациям о культуре евреев в России, а не применяя административные санкции. КАТЕРИН ВЕРДЕРИ Факультет антропологии Мичиганского университета, Ann Arbor, Mich. 48109, USA 16 IX 97 Важная работа Тишкова с изменениями и дополнениями с момента его выступления в 1996 году на заседаниях ААА поднимает ряд весьма сложных вопросов, касающихся международного характера антропологии. Взятая в качестве данных, она также выявляет множество вопросов, связанных с повседневной жизнью после распада Советского Союза. Я выражаю согласие и несогласие с его аргументами. Тишков выражает раздражение, и это неудивительно: на это у него есть множество причин, и не все эти причины связаны с его эссе. Как я обнаружила в ходе своего исследования в Румынии, с 1989 года распад коммунистической системы в бывшем советском блоке имел глубоко дезориентирующий эффект на каждого, кто проживал в этом регионе. Это удваивается тогда, когда распад наблюдается не только в политической системе, но во всем Советском Союзе. Занимаемое субъектом пространство претерпевает огромные изменения, включая политическую децентрализацию и свержение российского лидерства и культуры, чья наиболее сходная аналогия проявляется в ранних антиколониальных движениях в таких империях, как Франция, Британия и т.д. Другими словами, это время считается нелегким. Насколько нам известно, о тех 18 антиколониальных движениях, члены «гегемона» (в данном случае русские), даже если они прогрессивны и имеют благие намерения, испытывают беды, принимая сочувствие за трудности, стоящими перед ними. Отчасти это связано с дилеммой Тишковой. В его беспокойстве, связанном со смещением равновесия сил между русской культурой и институтами и другими нерусскими группами/общинами/национальностями, в то, что его институт способствовал документированию, он обращается к своим коллегам американской антропологии и просит нас прекратить вмешательство. Параллель можно провести с нашими антропологами WASP, обращающимися к российским этнографам не оказывать содействие латиноамериканцам или коренным американцам, которые составляют «меньшинства», и не создавать «угрозу» нашим академическим традициям. Его точка зрения ясна, однако, трудно проявлять энтузиазм по этому поводу. В то же время, эта параллель указывает на чрезмерное упрощение, которое создает препятствия сложному ощущению происходящего. В своей работе Тишков озвучивает три претензии, которые касаются его недовольства политическими последствиями антропологической работы американцев в России. 1. Он недоволен тем, что американские антропологи вмешиваются во внутренние дела России, перенимая политизированные термины «национальность» вместо «этническая группа» России, термин, который по его мнению является более подходящим для антропологии. Почему это происходит? – спрашивает он. Проводят ли они программу меньшинств, стремящихся свергнуть сначала Советский Союз, а затем постсоветскую Россию? Программа, которая берет свои корни из политически настроенной западной советологии и сострадания к этим меньшинствам. Называя эту нагнетающую напряженность терминологию формой «политической корректности», он просит виновных прекратить свои действия. Хотя я согласна с ним по поводу неудачного влияния кремлинологии на изучение России, я считаю, что его аргументы в данной работе имеют неверное направление. Он склоняет нас к той точке зрения, что лишь в отношении России термин «национальность» заменил термин «этническая группа», и что причина этому носит политический характер. Я считаю, что изучение этнонационализма уже давно погрязло в болоте терминологии, которое не принимает такие искусно сформулированные гипотезы. Что касается этого предмета, термины не всегда имеют единое согласованное толкование; толкования изменяются со временем, как это происходит с получающим все более широкое распространение термином «этническая группа», который заменяет термин «нация» и «националист» (см. Смит, 1992). Наряду с Тишковым некоторые учены используют термин «нация» применительно к коренным американцам (Мур, 1987), и так как для некоторых ученых все, что отличает термин «нация» от термина «этническая группа» связано с вопросом государственности, вполне приемлемо говорить о «национальных группах» России. Политически некорректно со стороны американских антропологов разжигать распад России. Я полностью согласна с Тишковым в том, что наше использование терминологии вызывает проблемы, однако, вина не состоит в политической корректности или кремлинологии; социология постоянно использует понятия с идеологической нагрузкой, такие как «этнический», «национальный» как якобы нейтральные аналитические термины. 2. Тишков утверждает, что в попытках получения ресурсов, сопровождающих процесс децентрализации советской империи, возникло ложное разделение между «коренными» и «некоренными» этнографами, последняя категория имеет отношение к русскому шовинизму, а первая – к подавляемому в течение длительного времени стремлению к независимости. Американские антропологи получили выгоды от этого разделения (а также от больших богатств в нашем распоряжении), поддерживая движения коренных народов, что ограничивало возможности московских и санкт-петербургских традиций этнографии. Более того, иногда наше вмешательство способствовало продвижению радикального национализма за счет более умеренных «этнических групп», стремящихся не к независимости от России, а к менее интенсивной форме приспособления. Тишков просит нас проанализировать процессы, в которых мы слишком тесно участвуем, и отделить нашу политику от научных проектов. Сначала позвольте остановиться на последнем. Для тех, кто не знаком с контекстом России, хочу отметить, что призыв в защиту независимой от политики 19 науки (многие американские антропологи сегодня считают это безответственным) отражает новые посткоммунистические реалии, в которых российские ученые уже больше не должны придавать своим трудам политические рамки. В этот счастливый момент они яростно цепляются за понятие цели, политически свободной истины, которую многие западные ученые энергично подрывают. Одним словом, отношение антропологов в США и России к идее «истины» и ее связь с политикой в настоящей момент достаточно противоположны. Таким образом, несмотря на то, что я считаю призыв Тишкова проблематичным, я также нахожу его вполне понятным. Что касается его предложения, чтобы американские антропологи прекратили свою поддержку местного этнического национализма, выступающего против «законных властей», у меня возникают две противоположные реакции. Что плохого в том, что мы принимаем сторону населения, которое мы изучаем? Почему мы должны отдавать предпочтение «законным властям» («законным» с чьей точки зрения?)? Критикуя нас за это, Тишков ведет себя неоправданно, отдавая свое центристское политическое предпочтение этническому принципу. Но в то же время, он вполне обоснован в своем настоятельном требовании того, чтобы до реализации действий проводился детальный и тщательный анализ коллективного принятия решения, задавая вопрос лидерам национальных меньшинств по поводу того, как они истолковывают понятие «народная воля» с точки зрения независимости, и понимая всю сложность этнонациональных процессов в новом контексте. Он просит, чтобы мы не начинали неподготовленными оказание поддержки группам, чьи требования представительства не были адекватно оценены нами. Этот призыв выглядит для меня достойным похвалы. 3. Вышеуказанная жалоба лишь прокладывает путь к дальнейшим действиям. Однако, к большому сожалению Тишкова, одновременно с этим, является ничем не оправданным вмешательством американских антропологов в случай, касающийся сотрудников его института, и обвинением их в антисемитизме 1. Больше 1 Обзор Тамары Драгадзе в журнале «Anthropology Today» (август 1995), Антропологическом бюллетене ААА (октябрь 1995) и Бюллетене EASA (ноябрь 1995). Исполнительный совет ААА занял свою позицию по этому вопросу (возможно, слишком поспешно, учитывая сложность вопроса) всего его беспокоит то, что американские ученые (некоторые из них уехали из России) принесли его институту большие трудности, вступив в кампанию, организованную против него без достаточных на то знаний, а также без знаний, относящихся конкретно к данному делу (включая особую позицию ведения дел изнутри его института). Вопросы, поднимаемые данной проблемой, слишком сложные. До конца 1980-х для американских ученых было трудно получить информацию о происходящем в советских научных институтах, однако, теперь положение изменилось. Отчасти, Тишком просто-напросто обнаружил к своему сожалению развитие связей в условиях глобализации. Время, когда люди из одной «страны» респектабельно стояли в стороне, тогда как люди другой страны регулировали свои разногласия, бесследно ушло (если и вообще существовало). Ностальгия Тишкова по этим временам нереальна. Особенно, что касается антисемитизма, хотелось бы напомнить ему о том, что американские антропологи заняли общественную позицию в отношении расизма и антисемитизма, практически, со времен образования этой дисциплины. Противостояние антисемитизму не является «ложной формой солидарности», и вряд ли его слова будут восприняты при такой формулировке. Несмотря на его аргументы, что антисемитизм не испытывает подъема в России, единственная возможность действительности этого аргумента – поручиться за проявление бдительности. Эта возможность выходит из числа организаций, включая исторические ассоциации евреев в условиях «торговли и спекуляции», которые резко увеличивают число российских евреев (см. Хамфери), а также в условиях установления коммунизма как такового. Я убеждена, что Тишков справедливо просит о более тонком этнографическом понимании инцидента Козлова. Из моего собственного опыта в Румынии я поняла, что события в этой части мира развиваются так быстро, столь часто сопровождаемые осложнениями, и приспособляемость действий смещается настолько непредсказуемо, что границы морали постоянно перемещаются. Уезжая из Москвы или Бухареста с полным пониманием происходящего, через шесть недель обнаруживаешь, что все изменилось. В этом смысле Тишков прав в том, что посторонние лица (даже, а возможно, 20 особенно эмигранты) могут думать, что они понимают положение вещей, и делают поспешные выводы, которые не находят поддержку более глубокого (более этнографического) понимания. Этнография Тишкова в последней части статьи дает большую информацию, раскрывая подробности повседневной жизни в условиях, когда все институты «сокращают свои масштабы», когда люди прогнозируют свое будущее по своей национальности, когда они борются за сохранение высоко ценимого и влиятельного положения, когда престиж исчезает. Предоставленная нам информация обосновывает его жалобы по поводу того, что реакция многих американских ученых на инцидент Козлова была слишком поспешной. Вряд ли можно найти друзей, говоря, что иногда решения ААА управляются небольшой группой преданных приверженцев, работа которых не знает границ, мобилизующих членов, не понимающих всю сложность вопросов. Для изменения такого положения дел Тишков обращается к нам с вызовом во имя «более совершенной антропологии». Ответ ВАЛЕРИЙ ТИШКОВ Москва, Россия, 1 X 97 Я совершил ошибку, не указав, что мои комментарии были представлены в сокращенной и исправленной версии документа, озвученного на заседаниях ААА в 1996 году на специальной сессии «Американская антропология: какими нас видят другие». Организатор сессии, Роб Борофски, пригласил зарубежных ученых высказать свою точку зрения в отношении американской антропологии. Выбирая тему взаимоотношений между двумя национальными школами, я не собирался обсуждать основные проблемные области и критические вопросы, стоящие перед российской антропологией, а лишь проанализировать американскую сторону вопроса. Предложение Скалника «не вмешивать американскую антропологию», а написать собственное видение проблемы, не имеет актуальности и ведет к непониманию. Я разделяю его точку зрения, однако, основная программа современной российской этнологии заключается в превращении ее в антропологию в полном дисциплинарном значении данного термина. Для освещение вопроса о том, как ведет себя американское антропологическое сообщество по отношению к другой национальной школе и находящейся на стадии становления области знаний, я выбрал три показательных вопроса, которые, на первый взгляд, могут показаться несопоставимыми, но в то же время отражающими три основные проблемы американо-российских взаимоотношений в области антропологии: понятия и терминология, полевые исследования и контакты, а также идеологическая/ политическая интерференция научных обсуждений. Моя статья скорее поднимает вопросы, чем дает суждения, и она была написана с искренним (а не бессовестным) намерением получения ответов и обсуждения того, что я считаю некими неудачными разработками. Некоторые ответы были представлены моими критиками, другие пришли ко мне из недавно изученных книг, которые появились на моем столе после написания статьи. Моя главная обеспокоенность заключается в том, сможет ли столь быстро растущее число антропологических учений России избежать пафоса западной советологии, который в значительной степени обременен менталитетом холодной войны, и, выступая против советской доктрины и политической практики, лишил законности российское общество и игнорировал существующий культурный диалог в России. Существуют опасения, что новые антропологические тексты предложат не богатство социального анализа, накопленного американской антропологией, а старые клише, особенно в описаниях российского общества «как неизбежного царства несправедливости, абсурдности и страданий». Эта фраза была взята мной из работы Нэнси Рай «Российская беседа: культура и диалог во время перестройки» (1997), книги, которая, как и исследование Брюса Гранта (1995) народа нивхи на острове Сахалин, представляет собой именно тот материал, который должны, по моему мнению, изучить российские студенты антропологии. Эти книги являются хорошей визитной карточкой для молодого поколения американских экспертов в области советских/ постсоветских культурных исследований. Они очень удачно сопоставимы с работами, заметно испорченными однобокой политикой американских антропологов, считающихся экспертами по России, главным образом, в силу знаний, полученных от эмигрантов, и 21 эпизодических приездов в Москву (см. Хазанов, 1996б). Что касается академического словаря, я не против использования термина «национальности», который я также использую в собственных работах, отчасти из-за прочно укрепившегося наследия советского общественного языка. Я против явно выраженного политического сообщения, которое стоит за понятиями «нации без образования государства» или «непредставленные нации», так широко используемыми западными экспертами и общественными активистами в отношении российских этнических групп, которые, фактически, имеют высокий уровень территориальной автономности и систему самоуправления, основанную на законной власти из числа представителей этнической группы. Этот вопрос относится не только к проблеме разной терминологии; слишком много крови было пролито над академическими определениями, ставшими бескомпромиссными политическими проектами. Джон Мур может показать свои политические симпатии, называя свою глубокую этнографию «шайенской нацией», не рискуя бросить вызов штату, который может нанести серьезный ущерб этой части гражданского населения Америки. В преобразовании России существует другая, более актуальная программа, унаследованная из ранее существовавшего строя, программа разгосударствления этнических групп и «разэтничивания» государства. Мой призыв перейти в нашей дискуссии от этноса к демосу и от этнонации к гражданской нации должен пониматься точно в этом контексте. Иначе мы никогда не покончим с разрушением империи необольшевизма, которая обуяна созданием и разрушением, не оставляя возможности совершенствования системы управления или мирной эволюции в целом. Моя точка зрения о конкуренции при проведении исследований и классификации сторонних антропологов по принципу «местный – неместный» была прокомментирована Арутюновым и Вердери. И я принимаю их комментарии. Дело в том, что дихотомия «коренной некоренной», которая была получена на основе евроамериканского противопоставления «колония метрополис», не действует в контексте России, так же как и в контексте Испании (неместные кастильцы против местных басков) или Британии (неместные англичане против местных ирландцев). Три избираемых президента Российской ассоциации этнологов и антропологов (созданной в 1991 году) были: армянин (Арутюнов), башкир (Кузеев), гагауз (Губогло), и 80% участников последнего конгресса этой ассоциации были теми, кого Марджори Бальцер классифицировала бы как «местные антропологи» в России. Я не вижу тех преимуществ, которыми российская антропология может воспользоваться из этой классификации, даже если, как отмечает Вердери, североамериканская антропология сделала это. Имплицитно парадигма «местная антропология» или «ученые из числа меньшинств» несет в себе скрытую программу патернализма. В России эти ученые зачастую представляли работу, которая считалась выполненной на высшем уровне по стандартам антропологии; они не требуют особого указания себя как «меньшинство» или «местные» исследователи (и снова плохой термин в российском контексте). В тоже время, те, кто знаком с работами «местных» специалистов, главным образом, из местных исследовательских центров, могут обратить внимание на низкое качество ряда работ, поверхностность и политизация которых находится в пределах от риторического стиля Кастанеды до этноцентризма и расизма. В таких случаях сторонние оценки зачастую игнорируют профессиональные стандарты, даже если принимается точка зрения Вердери в отношении отсутствия любого рода правды, свободной от политики. Скалник прав в том, что этнографы Москвы и СанктПетербурга должны учиться, но и башкирские, татарские, якутские и осетинские этнографы также нуждаются в обучении, кроме того, им необходима терапия от общего комплекса жертвенности. Среди местных исследователей много «Викторов Козловых», людей, которые разжигают этническую ненависть не только против этнических русских, но и против евреев, местных меньшинств, религиозных групп и т.д. К сожалению, зачастую их приветствует Запад вместо того, чтобы критиковать или просвещать или даже изолировать либо игнорировать. И, наконец, мое включение дела Козлова и проблемы американо-российских научных связей по вопросу антисемитизма в статью было сделано не только для того, чтобы поднять мою репутацию и репутацию института, как предполагают Кан, Хазанов, 22 Крупник и Плотников. Я не пишу о российских правых, о ИЭА и о Викторе Козлове, и, несмотря на мою глубокую эмоциональную сопричастность и растущий научный интерес в данных вопросах, я надеюсь сделать это в будущем. В связи с данным инцидентом я ограничился изучением текстов Виктора Безверхих и подготовкой собственного экспертных заключений для прокуратуры Санкт-Петербурга, которые сопровождались дефинициями «разжигание межэтнической ненависти» и «оскорбление национального чувства и гордости», понятиями, которые появились в уголовном кодексе и требуют адекватного уточнения. Мое экспертное заключение было также подписано двумя признанными членами ИЭА, Юрием Семеновым и Александром Зубовым, и входит в расследуемое дело против этого известного антисемита. Текст заключения был опубликован в ведущей российской еврейской газете («Русские евреи», № 20-21, октябрь-ноябрь 1996) со словами мощной поддержки и уважения. Неверно предполагать, что открытое письмо, заявление Кана, Хазанова, Крупника и Плотникова, а также последующий резонанс не повлияли на меня и других членов ИЭА. Однако мои критики полагают, что все это сыграло «большую роль» в стимулировании нас изменить точку зрения в отношении «учености» Козлова. Я рассматриваю этот вопрос по иному, и это глубокое непонимание заслуживает обсуждения для того, чтобы улучшить положение дел в будущем. У меня были хорошие отношения с Сергеем Каном, Анатолием Хазановым, Игорем Крупником и Михаилом Крауссом, и сложно понять причины, заставившие их принять стратегию публичного наказания, в которой давний коллега рассматривается только как администратор. Я не наблюдал аналогичного отношения к декану факультета антропологии и ректору Калифорнийского университета или университета Беркли, когда в 1991 году разразились горячие споры вокруг профессора, обвиняемого в выражении расистских взглядов перед студентами. Если американские коллеги полагают, что ВУЗы в России ведут работу произвольно, они ошибаются. Я сделал то, что мог, и таким способом и в такой момент времени, который посчитал подходящим. Возможно, в ряде случаев моя реакция была неправильной, и мои стратегии в отношении нетерпимости и фанатизма в академических кругах и в обществе в целом заслуживают более строгой профессиональной оценки. Поэтому я поставил вопрос о том, что предпринимают американские академические круги в случаях выступлений с речами о ненависти и с ультраправыми активистами, однако, я не получил никаких ответов. В любом случае, в этом контексте не важны ни моя личная травма, ни репутация ИЭА, а важен тот факт, что мои американские оппоненты, которые появились в связи с данной ситуацией, глубоко верят в полный успех своей миссии. Это ошибочная точка зрения для всей американской антропологии, и я попытаюсь объяснить, почему. Кан, Хазанов, Крупник и Плотников, видя опубликование книги Козлова в качестве «ясного доказательства», считают, что моя «мягкая политика сдерживания» не имела эффекта и даже способствовала дальнейшему развитию фанатизма. Тумаркин представил ряд ценных комментариев к этому типу публикации «самиздат». Однако книга так и не вышла в свет, поскольку я не уволил Козлова (ректор института не может этого сделать на основании действующих правил и процедур). Без статьи Козинцева в газете «Известия» и последующего публичного разоблачения Козлова как «защитника фашизма» или даже фашиста, эта книга могла бы и не быть написанной. Если эмоционально усиливающиеся явления такого типа выходят за пределы антропологического самоотражения, возможно, следует пригласить социальных психологов или других экспертов, чтобы помочь нам в их понимании. Эмоционально и политически окрашенная международная кампания является слабым реагированием на эти вопросы. В бескомпромиссной борьбе против нетерпимости и насилия, особенно за пределами нашей сферы, мы можем нажить врагов, потерять друзей, серьезно подорвать отношения между институтами и, наконец, не заметить полую потерю мира на этом пути. 23