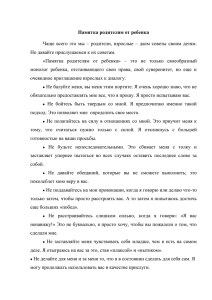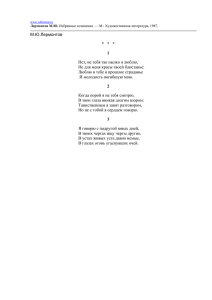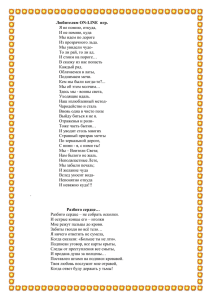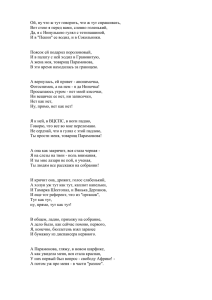Как рассказчица делала в концлагере сыр
реклама

Как рассказчица делала в концлагере сыр Ой, что было! А мы были как раз в Еменцé, праздник был престольный, там парк, там всё – гуляем. Ай, как кликнули, все «Караул! – кричали, – война»! Гитлер напал. На десять лет дóговор заклю́чен. Ай, вот… И бягом домой, а там уже повестки – военкомат, в военкомат… людям. Ужас! Ужас, что делалось. Ну вот. Что больше, не знаю. – А что вы во время войны делали? – Ну, во время войны, как говорят, 24 часа «Киев бомбили, нам объявили, что началася война». «В армию едут ребята Родину-мать защищать. Девушки наши, слез, не теряя, будут тому помогать». Вот. Ну и тут же самолеты полятели невзначай даже, с крестами с большими и над самых… над крышей. И даже бомбы, листовки сбрасывають, мы бегаем, ешшо, ешшо… дявчонками… бегаем. Бегаем подбираем, читаем. Немцы: «Сдавайтесь, сдавайтесь, сдавайтесь!» И сдавались целыми бригадами, а потом… Как начали пленных морить в лагерях, что наши [вó… в тетр. нрзб.] возили свяклу все, все и бросали за колючую проволоку.. Они охапками этих пленных. Не стали сдаваться. Пошли все, ну вот стали сдаваться. Пошли все, ну кто куда, кто в партизаны появились, кто вот туда бы. Всё вот, вот такой. Ну, а наши в плен не стали сдаваться. Немцы… – делать нечего… Ай я во время войны что ж? А встречали,.. арестовывать поехали, [в тетр. нрзб.] забрали, говорять его: «Крематорий ето… где-то». Туда… а пацан один, правда, хорошо по-немецки говорил, наш… говорит (и нашими привезли его тоже). Мы есть пронесли, сидим… на крыльце там у одной бабки, ждем, пока их с работы прогонють. А их привезли у ету, как у крематорию, туда. «Сто, – говорить етот парень, – а там немцы гурьбой стоять». Позвал немцев. «Вы нас, – говорит, – рожь носить… отправили. Э-э, заставляли, одним словом, говорили из дому. Ну, говорю: «А-а чего все нас сюда привезли? Тут ничего нет, никакой ржи». Начал говорить, и отправили в Иван-Рог. Косили рожь там, жали, туда мы есть носили, а их не кормили ничего. Ужас! Из дома в Иваново пешими носили есть. Ай-я-я! Что бы́ло, это вообще. А, а дома, это не узнать: два у нас окопа больших вырыто был в огороде. В одном окопе сидели мы, сидели дети там, мама там с детьми, всё, в другом – продукты там какие-то… что? А самолеты бомбять уже Великие Луки, уже всё… пошли немецкие. Вот такое. Вот. Я помню всю войну, как началáсь! Вот посмотрите, сколько медалей у меня там. Шестьдесят лет. Вон [достает медали и показывает]. Там вот, у яшшичке унязу. – Я слышала, вас забрали в концлагерь немцы, правда? – Да. Да-да. Забрали меня. Я… пошла добровольно в партизаны, а потом… это… как раз в партизаны я пошла… и попала… Нас, одним словом, я… партизан… нашего руководителя партизанского отряда ранили, и попала сумка со всеми документами, начали арестовывать. И арестовали и меня. Но вот она «Голубая дача» была, где это… евреев расстреливали… где-то такой. А мы говорим. Трое суток отсидели вот здесь, где Пушкин [памятник на главной площади Невеля]. Комендатура немецкая была… в подвале. А потом, как черный ворон смерть, ночью погрузили нас и повезли. Ну, два немца шло, а эти всё, ну, мы дявчонки, собрались нас пять дячонок, белорусы, и нас тут трое: Галя, Вера, и я, и я – три, еще – Надя четыре. Когда повязли, мы видим, что вязут нас не туда, не в «Голубую дачу», где евреев расстреливали немцы. Там пачками складывали, земля шевелилась: живым закапывали; а привезли в Идрицу. Вот ето уже тут мое, вот ето с Идрицы водили нас на допросы, вперед… Вот, вот это… вот я, вот. Мне сказали, что Татьянин день. Вот… белорусов и сразу расстреливали. Все кто его? Документы при нем, а мне, когда забрали, сказали так: «Мы уходим у другой район партизан». А ты, – говорять, – тебя нельзя взять – семья, расстреляют всех». Говорять: «Пропишись, где тебе удобней: или этом в Еленце или здесь». Я говорю: «Нет, в Королёве я буду прописываться, потому что мне видать все поезда, какие куда идут, и с чем идуть, и рядом жалезная дорога. А в Елинце там нету жалезной дороги. Что я там буду делать?» Ну… Вот тебе задание такое. Вот нас туда сгрузили и… и мы и в концлагерь к этому… отправили на болото, на болото за Псков, за Лугу и туда… когда блокада в Ленинграде была «Дорога жизни». Вот туда. Ай, как там было. Вообще. Творог грузили немцам, сперва древесину там разную. А туда – зима, что ж мы… одевали плохо, ай. Комендант – вот такая морда, вот такая [держит руки на расстоянии примерно 80 см.]. С плеткой ходит, работать и всё, работать. Да каждый день надо, устрой считать: ти всё цело. Сбегáли, парни особенно. Все на работу. Ай-я-яй. Кормили нечищеной картошкой, нея, только вот такая [показывает картофелину размером с ноготь большого пальца], так она хоть бы немороженые. Пойдем, наберем ета, пойдем с банкой консервной, на кухню туда, где там, где дають это. Ну, чаво? Выпьем 100 грамм, хлеба. Издявались! А ты погляди: какая сила у молодых-то. Это ж, попробуй ж то так, это месяц, коло месяца, можа и больше, пока наши стали блокаду эту, дорогу жизни там придумали, да эти… как они?.. Нам снаряды уже стали лятеть. Уже наш, наш это, нам легче стало. А то. Придем только, придем мокрые,… дрóвы грузим. Придем мокрои, пока обсыхаем коло печки. Ладно, печку эту топять, обсыхали – уже надо вставать. Ну вот, ну вот пришла домой, когда уже шла, нескоро, а потом уже в Германию ишла. А вот, женщину, вместе жили столько лет, козу пасет, и козлятки, и говорит: «Девочка, а ты куда идешь, коло деревни?» А я говорю: «Домой». «А где твой дом?» Я говорю: «А – вó!» «А ты не Таня?» «Таня». Ай-я-я. И я повяду козу. Ай-я. Встречайте, встречайте: «Таня-мертвец идет; уже похоронили». Это не узнать меня: кожа да кости, и одето же ничего не было, все порвáлось, вот так, где перевязано. Где как, нигде нельзя. А теперь до тряпок – не знаешь, что одевать, а тода – ай-я-я. И тут же в Германию, скоро. В Германию: приказ молодежь 25/26 год. Мама караул кричить, и мама больная; и голод-то такой, что не поедешь – вкуснища едет, можно было брать, а я говорю: «Мама, нельзя!» мяня опять заберуть, потому что я связана с партизанам. Надо ехать. Куда люди – туда и едешь. Приехали, привезли нас в Витебск. Ага. Только кричали, плакали; в вагоны сажали; дяржитесь свои, дяржитесь усе. Целый состав, дяржитесь свои, чтоб… своих знаешь. В Витебск привезли, голо-наголо раздевали, а я худущая. Мама говорит: «Тебя все равно отправит комиссия; на 2-3 дня хлеба надо было брать, там хлеб или чаво продуктов. Туда, в Витебске, раздели голо-наголо. И мужчины сидять. Ну, я думаю: «Меня не заберуть, кожа да кости, куда это мне». Послушал это, осмотрел один врач. Немцы: «Пойдет». Во! Вот так! «Пойдет! Здорова, сердце здорово, легкие здоровы. Всё». А погрузили в вагоны. Едем через Латвию, плачуть бабы на переездах, поезд тихо едёт 20 вагонов, дой так вот, кольцом, как 20 вагонов. Считали, считали – одна молодежь. Да они, хто… Ну, хто… помидоры ж нельзя, огурцы, хто все морковку. Хто: «Детки, куда вас вязуть?» Плачуть, стоять. В Латвии мы говорим: «Не знаем – хором – не знаем, куда». Вот нам бросають эты огурцы, поми… эти, морковку там, в корзинках. Семье плачуть, плачуть, и бабы на переездах. У. Привезли в Маренбург вроде, вроде в Маренбург, и там… ето, как бомжи, ето… фабриканты пришли, приехали. «Эту забираем, эту забираем». А мы тогда один за одним, свои. И нас в Э́льбинск. А что ж делать? На сырный завод, те сыр плавять для фронту, на сырный завод. А идти надо через Эльбу. Эльба-река проходит, и через эту реку надо идти 3 килóметра за гóрод, а чтоб в город попасть – на завод – 3 километра. И мы дядьку… Там старый-старый этот немец. Большая лодка, чтоб нам не бегать кругом, а он перевозил и нас. 10 феников, там или 12; 12 вроде платили ему каждый раз. Он перевязет, и мы бягом, и все бягом. Как эта дверь, вот так часы на каждом у [показывает на дверь, высотой где-то 1,8 м, шириной 60 см.]. Ай, опаздываем, ай, девчонки, опаздываем. Ай, поймают на фронт окопы копать. Так же и бягом, и бягом. Пока было, ой, опаздываем. До ворот добяжалим. Тут карточки – стена, там – стена. Оттуда берем карточки, он отмечает, немец, старый тоже пожилой, сюда ставить, каждая под номерáм. Под номерам сюда, скорее бягом, бягом, бягом на второй этаж, на второй, не только на второй, мы – на третий. Сыр плавился даже. А ето… А разве его захочешь есть, ешь там, сколько хочешь. А жара такая. Раздетые, только что стыд прикрыт. Такие ужасы. А тут конвеер идет, идет, идет, и плавленый сыр. Ай, я плавленый и сейчас не могу есть никак. Ето туда добавляют всякую краску, одним словом, чтоб ня портился, для фронта, для немцев же как на обед – привезуть брюквы. А брюква, знаешь, какая невкусная вареная. Мы по кусочку сыру возьмем, съедим. И вот так. Ай-я-я! Во, во как далó! Когда это… мы, так что… эту, ну, наши. Скоро нам сообщили, что наши в Маренбурге, бои уже слы́шны. Это сколько прошло?.. Наверно, года два с лишним. «В Маренбурге русские, – говорят, – уже». К нам забегает этот, который на проходной, нас водили сперва, мы ж не знали, куда идти на работу. Приходит: «Отступать поедете? С переводчиком немец [ма… в тетр. нрзб.] подгоняют». Мы все молчим. Никто ни звука. Ага. Мы уезжали, и они все уехали это… в лес. И наши в белых халатах. А было… что? Январь, февраль, март… был апрель, был перед девятым мая, еще холодно. Мы в накидках не узнали, глядим: «Ай, хто, наши ли немцы – не поймешь». А те даже вскакивают к нам, в бараки. В бараках… ну, девчонки, девчата, вы свободны, можете идти. А мы куда? Там лучше, тяпло, но всё равно холодно. Выскакивают: а бои, шкафы валются. Наши под кровать залезли, залезли под кровать [в тетр. нрзб.] 3 фронта, 3 линии фронта проходили. И главное, вышли с этого сюда, за барак, а етот бяжить, етот который у нас ето… перевозил. Ай, а, и к нам хотел. А я шла первая, а он хотел меня вот так [делает руками движения, будто хочет кого-то обнять], наверное, обхватить старый немец, который на лодке перевозил. А сзади, я не вижу, а наш ето… та-та-та… и убил, и в землю повалился. Вот так. Перешли три фронта, и вышли на асфальт и говорят; ето говорят: «Идите, – говорит, – во видите – пушки наставлены на вас. Фронт. Вы перешли первую линию, еще две пройдете, тут только первая линия, но немцы не были, и откуда-то на асфальт вышли, вышли на асфальт… И заболела у нас девчонка, тут со Змеино, Валя. Ай-я-я. Вяли, вяли, вяли, и вцапились три парня с нами. Девчат нас десять человек. «Девчаты! Возьмите нас с собой!» А я, а мы говорим: «А как мы?» «Не, с вами пойдем, а то нас сейчас заберут, или немцы забярут, – а парни наши здоровые, – или наши на фронт. А мы пойдем будто свои». Идем, идем, идем. Валя заболела, вяли, вяли, вяли, привяли. На горе дом стоит, а лес кругом непроходимый. «Пойдем в этот дом ночевать». Ночь уже – нигде никого. Положили ее: «Мама, мама! Мамочка, когда это я тебя увижу, и когда я… ай-я-я…» Бредит… Температура. Когда переночевали мы тут, наутро вышли. Да, наутро пошли все в туалет и говорят, ну а я говорю: «Я последняя». Некоторые знали, что я уже в лагере была под Ленинградом, говорят: «Ну, что? Вальку будем бросать. Мы ж ее на себе не понесем». Я говорю: «Не знаю. Бросать бы нельзя больного человека». Вышла на улицу, смотрю: стоит бричка, и хомут, и дуга, и оглобля, и уздечка. Чего это мы бросать будем? Посмотрела – и лошади пасутся на лугу. Я говорю: «Петька, Васьки (2 Васьки и один Петька), вы где работали?» «Не, не. Вальку бросаем, мы больше ее не понесем на руках». Я говорю: «Слушайте, вы в колхозе работали или где?» Они говорят: «В колхозе». «Вот бричка, вон, говорю, лошади пасутся, и уздечка тут. Люди бросили и перины и всё, всё; и бежали в чем попало туда, к Америке. Боялись наших, боялись наших, наших боялись. Ай-я-я. Тогда ето… они говорят, ето… А как ето ты… Мы это… и не видели этой брички». «Ага! Сейчас ее привезли, да? Вы и не глядели на нее». Пошли, привели лошадь, запрягли, уложили перины. Вальку в перины. Я говорю: «Там вот тут что напротив (соседке), что два подвига больших совершила. Вот Вальку, говорю, выручила. Оставили б – ей там всё – конец. Ага, я говорю: «Идет пехота наша, а немцы на мотоциклах и едем, а наши-то… тута… эти. Скручены… плащ-палатки или чтото… Начальник: «Что вязёте?» «А у нас девчонка заболела». Он посмотрел и правда. – Оружия нет? – Нет. – Ну, езжай! Ну поехали мы до… до Гродного домой. Ай я-я, этих отправили, меня оставили оставили из-за своего языка. «Ты, – говорить, – как попала в γерманию?» А я γоворю: «А как? 26/25 год». – А ты, а как фамилия?» – Рудакова. – А! Так это же моя сестра. И я Рудаков. Аγа, говорить, ладно. У вас в [в тетр. нрзб.] партизаны… не связана была? – Связана, – говорю, – связана была. – Остаешься здесь недельки на дьве, а девчата уедуть… ай-я-я… Я говорю: «У нас уже сейчас есть нечеγо. Мы вон в Мучицки были. Дак вязли консервную банку, дак этак муку заколотили, а банку сварили и по очереди по ложечке ели». У нас уже и пять тысяч человек тут не накормлены, и отправили на кухню, я ето… там котлы мыла. Придет она, врач в белом халате: раз – чисто или нет. Вдруг не моет: во ай-я-я. Неделя не прошла – вызывають, говорять: «Вот тебе бесплатный проезд до Полоцка, а с Полоцка уже смотри сама. Ай-я-я, привезли – неисправная линия. Но там быстро отправили нас в Польшу. Вот такие дела, и домой пришла и за хлебом поезда ездили, не за что было купить. Домой пришла – голод. Мама, все за хлебом, ездят, «ну и я, мама, поеду». Но это не зря, я говорю, тысячу раз проверено. Думають, пройдуть то, что я прошла.