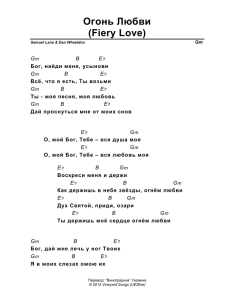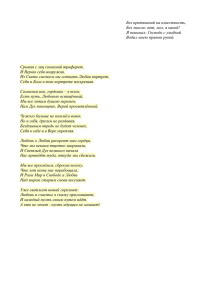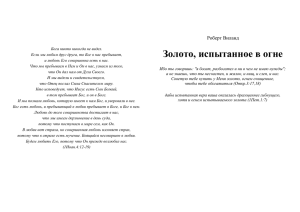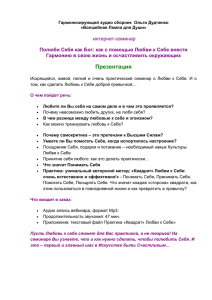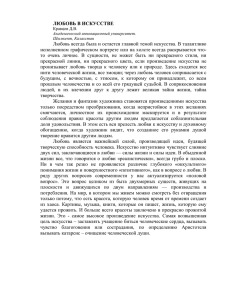Трактат о любви. Духовные таинства
реклама

Виктор Николаевич Тростников Трактат о любви. Духовные таинства «Трактат о любви. Духовные таинства. / Тростников В.Н.»: Грифон; Москва; 2007 ISBN 978-5-98862-035-07 Аннотация Цель «Трактата о любви» В.Н. Тростникова – разобраться в значении одногоединственного, но часто употребляемого нами слова «любовь». Неужели этому надо посвящать целое исследование? Да, получается так, потому что слово-то одно, а значений у него много. Путь истинной любви обрисован увлекательно, понятно и близко молодому и просвещенному современному читателю, который убедится, что любовь в ее высшем проявлении есть любовь к Богу. Это книга – для всех любящих сердец. Виктор Тростников Трактат о любви. Духовные таинства От автора Эта книга для меня дороже любого из других моих текстов, ибо она – плод более чем тридцатилетних размышлений. Еще в семидесятых годах я почувствовал, что, не разгадав сущности любви, я не пойму в этом мире ничего, и, посвятив раздумьям на эту тему несколько лет, решил, что нашел наконец разгадку. Воодушевленный этим, я засел за пишущую машинку и напечатал самиздатовскую рукопись почти в пятьсот страниц «Мысли о любви». В кругу моих знакомых она пользовалась успехом – Владимир Высоцкий, например, сказал, что от неё «в полном восторге». Отрывки из моих «Мыслей» были напечатаны в журнале «Кубань» и ещё где-то, но полностью книга, к счастью, опубликована не была. Почему «к счастью»? По той причине, что положенная в её основу концепция была, как я понял много позже, неправильна. Я повторил ошибку Владимира Соловьева, считавшего, что экстаз влюблённых имеет божественное происхождение. Это придало моему сочинению резкий антифрейдовский пафос, приведший к тому, что заодно с ложью психоанализа о якобы присущих всем нам «комплексах» я отверг и его верное учение о «сублимации». Находясь все еще в своём соловьёвском заблуждении, я продолжал работать над книгой и сократил её почти вдвое. Эту редакцию согласились опубликовать в издательстве «Паломник» и взяли книгу в производство. Однако архимандрит Тихон посчитал, что такая тема более подходит для издательства Сретенского монастыря, и выкупил рукопись у «Паломника». Над текстом начал работать новый редактор и сделал много замечаний, которые рекомендовал мне учесть. Получив от него текст, испещрённый пометками на полях, я на время отложил его в сторону, так как был тогда занят чем-то срочным. И опять «к счастью», так как именно в этот период я начал осознавать феномен любви по-новому. Я глубоко признателен многим людям, мне помогавшим. Всех их не перечесть, но я не могу не назвать поименно Наталью Сёмину, Петра Проценко и Андрея Шулика, Дарью Ананьеву, Елену Колчанову и трёх моих дочек: Лену, Нину и особенно младшенькую, Лизу, которые вдохновили меня самим своим существованием. Лизоньке я и хотел вначале посвятить эту книгу, но потом понял, что она должна быть адресована всем любящим сердцам. Виктор Тростников От издателя Умеем ли мы любить? Куда, в какие пространства проложит нам дорогу любовь, если попытаться довести её до логического умственного совершенства? Новая книга «ТРАКТАТ О ЛЮБВИ. Духовные таинства» современного русского мыслителя Виктора Николаевича Тростникова видится весьма ценной тем, что в очень современной манере рассказывает о соотношениях телесного и духовного понимания любви. Можно сказать, здесь представлена квинтэссенция дискурса о любви, продолжающегося на всём протяжении христианской эпохи. Раньше, в трактовке Платона, любовь приобретала две основные сущности – «страсть» и «самопожертвование» (бескорыстное «агапэ»), обе они имели источником эстетическое чувство. Но, размышляя в контексте христианской этической культуры, важно подчеркнуть, что в своей земной человеческой любви личность по сути остаётся всё-таки равнозначной себе или группе людей, пусть даже в благости. А на дорогах к высшему пониманию любви личность способна приблизиться к познанию Бога. Погружение в воду, как некий пересмотр мира вещного и переход в новое состояние, а именно – крещение, – тоже находит своё место в этой концепции. Хорошо, что в книге Тростникова непростые размышления совсем не страдают сухой богословской «научностью» и не грешат ханжеством в отношении к плотской любви. Этот путь от земного до небесного обрисован увлекательно, понятно и близко молодому и просвещённому современному читателю, который убедится, что любовь в её высшем проявлении есть любовь к Богу. И коллизии любви земной разрешаются в нашем представлении о Божественной Троице, которая в миру сродни Семье. Именно понимание сокровенной сущности Троицы, которое отличает христианство от ряда других монотеистических религий, и есть главная ценность, которую хранит Православие. Наверно, так любовь преходящая сливается с любовью вечной. Р. Огинский Часть 1 Цель предстоящего нам разговора – разобраться в значении одного-единственного, но часто употребляемого нами слова «любовь». Неужели же этому разбору надо посвящать целое исследование? Да, получается так, потому что слово-то одно, а значений много. Мешает ли многозначность нашей речи и письму? Как правило, нет. Услышав или прочитав слово, мы по всей фразе моментально понимаем, какое из его значений имеется в виду. Но вот с «любовью» дело обстоит хуже. Правда, одно из значений опознаётся быстро. Каждому понятно, что «мой начальник любит лесть» или «моя дочь любит макароны» – это совсем не то, что «Ромео любит Джульетту» или «Господь любит праведных». В английском языке для макарон и вовсе другое слово употребляется – не «love», а «like». Но и взятое в более узком значении русское слово «любовь» – отношение между живыми существами, к которым можно причислить Бога, ангелов, людей и даже некоторых высших животных, например собак, – оставляет в себе несколько разных значений, которые мы сваливаем в кучу. В ней нам и придётся покопаться, раскладывая её содержимое по разным полочкам. Место, которое занимает слово в нашей жизни, определяется выражаемым этим словом понятием, а различение понятий – дело не столько языкознания, сколько философии, ибо только она способна выявить сущность понятия, то есть его истинный смысл, чтобы по этому скрытому в нём глубинному смыслу его идентифицировать. Так что, взявшись за выполнение своей задачи, нам придётся немного пофилософствовать. И вот первый философский вопрос: отбросив ту любовь, где вместо «он любит» можно сказать «ему нравится», и говоря лишь о чувстве, связывающем между собой одушевлённые субъекты, можем ли мы выделить нечто такое, что присуще всем видам этой любви и является самым общим её признаком? Посмотрим сначала, как об этом принято думать. В предисловии к изданной в первых годах ХХ века книге «Любовь в письмах выдающихся людей» известный поэт того времени Фёдор Сологуб писал: «Ни в чём так полно, радостно и светло не выражается душа человека, как в отношениях любви. Когда к человеку приходит любовь, могущественная сила, движущая мирами и сердцами, низводящая небо на землю и землю преображающая в сладостный Эдем, то в душе человека умирает всё случайное и раскрываются лучшие её стороны». В чём же состоит это лучшее в человеке, дремлющее в обычном состоянии и просыпающееся лишь тогда, когда в сердце вспыхивает любовь? Сологуб отвечает на этот вопрос так: «Тот, кто любит, не только требует, но и отдаёт, не только жаждет наслаждений, но и готов к наивысшим подвигам самоотречения. Зажжённый любовью, он дерзает и на то, что превышает его силы». Насчёт дерзновения тут всё правильно – всякий влюблённый с удовольствием повторит обещание киногероя: «С неба звёздочку достану и на память подарю». А как с остальным? Мысль Фёдора Сологуба состоит из двух утверждений: 1) в любви раскрывается высшее человека; 2) это высшее в человеке есть альтруизм, отдавание себя другому, самопожертвование. Оставив в стороне вопрос о том, действительно ли отдавание себя есть проявление самого высокого, что есть в человеке, посмотрим, действительно ли влюблённость уничтожает эгоизм. Фольклор вроде бы соглашается с этим. Вот песенка столетней давности: «Ваня Таню полюбил, Ваня Тане говорил: «Я тебя люблю, дров тебе куплю». И хотя Таня, как и положено невесте, набивающей себе цену, отвечает: «А дрова-то всё осина, не горят без керосина», всё-таки Ваня готов на материальную жертву, на покупку дров любимой Тане из своего бюджета. Разве это не альтруизм? Жертвы, приносимые любящими, бывают и посерьёзней. В одном из своих рассказов Мопассан описал следующую жуткую историю. Юноша влюбился в некую девицу и признался ей в своей любви. Она пошутила: «Но ты ведь не бросишься ради меня с крыши?» Он моментально залез на крышу, бросился вниз и разбился насмерть. Великий русский философ Владимир Соловьёв также отождествлял влюблённость с самопожертвованием. Вот его чеканная формулировка на этот счёт: «Смысл и достоинство любви как чувства состоит в том, что она заставляет нас действительно всем нашим существом признать за другим то безусловное центральное значение, которое, в силу эгоизма, мы ощущаем только в самих себе. Любовь важна не как одно из наших чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в другое, как перестановка самого центра нашей личной жизни. Это свойственно всякой любви, но половой любви по преимуществу». Заметим сразу, что термин «половая любовь» означает для Соловьёва любовь между полами в самом широком смысле, а не то, что мы в наш развращённый век воображаем при этих словах, – не одну только физиологию. Наше одичание достигло за последнее время такой степени, что слово «секс», означающее по-латыни «пол», мы воспринимаем как «совокупление», хотя изначальное разделение человечества на два пола имело гораздо более широкий смысл, чем обеспечение деторождения, которое, как показывают примеры низших животных, вполне может происходить без такого разделения. Это видно из Библии, где сказано: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1, 27). Этот текст нельзя истолковать иначе, как в том смысле, что в самом Божественном начале бытия, по образу которого создан венец Творения, присутствует фундаментальный дуализм, природу которого нам разгадать не дано, но который создаёт в мире некую «разность потенциалов», приводящую бытие в движение. В дальнейшем мы пристальнее вглядимся в эту дихотомию и с помощью Священного Писания обнаружим в ней наличие очень глубокого аспекта, совершенно не связанного с продолжением рода. Во времена Соловьёва ещё не было той примитивной трактовки слова «пол», которую навязала нам наша пещерная «массовая культура», поэтому, говоря «половая любовь», он не боялся, что выражение поймут иначе, чем понимает его он сам, – как сумму всех форм взаимного тяготения друг к другу противоположных полов, которые, в силу различия не только анатомического, но и психического, являются друг для друга несколько загадочными и потому интересными, а также необходимыми для обретения полноты в качестве дополнения. Не надо забывать, что перед тем, как создать Еву из ребра Адама, Господь сказал: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2, 18). Таким образом, если Владимир Соловьёв прав и приходящая к каждому человеку в свой час влюблённость, которую мы будем называть в дальнейшем также брачной любовью, характеризуется самопожертвованием ради другого, то оно и может быть взято в качестве универсального признака понятия «любовь», так как для других видов любви, не связанных с разделением людей на мужчин и женщин, самопожертвование является ещё более очевидным элементом. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13), – говорит Спаситель о дружеской и братской любви, так что здесь упомянутый признак, бесспорно, является основным. В другом месте Иисус говорит: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13,35). Тут любовь прямо связывается с приобщением к Богу. Но тогда, может быть, приобщение к Нему и взять за главный признак любви? Апостол Иоанн учил, что Бог есть любовь; не добавить ли к этому и обратное утверждение: «Любовь есть Бог»? Если любовь в самом широком смысле есть отдавание себя другому или другим, то такое утверждение будет верным, ибо бескорыстное самопожертвование не может быть чисто природным свойством человека. Природой в нас вложено как раз противоположное – инстинкт самосохранения, заставляющий нас быть эгоистами. В самопожертвовании, выражаясь церковным языком, «побеждается естества чин», здесь человек действует против собственной природы. Откуда же может прийти к нему эта противоречащая его жизненному интересу мотивация? Конечно же, только свыше. Отдать за друзей свою душу заставляет человека закон не здешнего, а иного мира, где действует принцип: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода» (Ин. 12, 24). Ощутить космический масштаб этого принципа и согласиться с тем, что выгоднее исполнять небесный закон, чем земной, можно только с помощью Откровения, а оно ниспосылается Богом. Значит, опять-таки при условии, что половая любовь, в том числе и брачная, есть самопожертвование, общее определение любви становится кратким и простым: «Любовь есть прямое соприкосновение человеческой души с Богом». Итак, обратимся теперь к влюблённости: действительно ли она от Бога? Европейская культура Нового времени почти единодушно придерживалась именно этой точки зрения. Художественная литература, поэзия, песни, баллады, романсы, а позже оперы и оперетты дружно воспевали любовь как божественное, святое чувство. Само появившееся в это время слово «обожает», характеризующее чувство влюблённого, подразумевает, что он видит в предмете своей любви Бога. В оперетте «Сильва» герой восклицает, обращаясь к героине: «Ты – божество, ты – мой кумир!» Герцен писал своей невесте: «Теперь я понял: ты, Наташа, и есть Христос!» Ярким выражением этой концепции влюблённости служат и слова Фёдора Сологуба, приведённые выше. Её придерживались не только люди искусства, но и некоторые знаменитые философы, например Паскаль и Шопенгауэр. Согласно этому пониманию, Бог нарочно прячется за влюблёнными, подманивая их этим друг к другу, чтобы они вступили в брак и образовали семью, необходимую для продолжения человеческого рода. Лев Толстой специально не философствовал на эту тему, но по его произведениям можно предположить, что в ранний период своего творчества он держался относительно любви того же мнения. Оно особенно для нас весомо, так как мало кто в мировой литературе изобразил влюблённость с такой силой и точностью, как он. Вспомним, например, сцену на катке из «Анны Карениной»: «Он прошёл ещё несколько шагов, и перед ним открылся каток, и тотчас же среди всех катающихся он узнал её. Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в её одежде, ни в её позе, но для Левина так же легко было узнать её в этой толпе, как розан в крапиве. Всё освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая всё вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лёд, подойти к ней?» – подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступною святыней, и была минута, что он чуть не ушёл: так страшно ему стало». Как тут не вспомнить поразительно схожую с этой ситуацию, описанную в Библии. Увидев на горе Хорив горящий и не сгорающий куст, Моисей услышал доносившиеся из куста слова: «Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3, 5). Сравнивая эти два эпизода, приходишь к выводу, что как Господь явился в образе куста Моисею, так Он явился и Константину Левину в образе Кити Щербацкой. Следовательно, художественными средствами Толстой утверждает то же самое, что Паскаль и Шопенгауэр доказывают философскими рассуждениями. И делает это он не однажды. Вот ещё одно место, на этот раз из «Войны и мира»: «После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла к клавикордам и стала петь. Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал её. В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слёзы, возможности которых он не знал за собой. Он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что-то новое и счастливое. Он был счастлив, и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать. О чём? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях? О своих надеждах на будущее? Да и нет. Главное, о чём ему хотелось плакать, была вдруг живо сознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нём, и чем-то узким и телесным, чем он был сам и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его во время её пения». Толстой и здесь не говорит прямо, что за громадная тень померещилась Андрею Болконскому позади Наташи, в которую он в этот самый момент окончательно влюбился, но слова «бесконечно великое и неопределимое» достаточно красноречивы. Бесконечным и неопределённым, то есть непознаваемым, является только один Бог. Вот Он-то, по Толстому, и прятался за Наташей и входил в душу князя Андрея. А находясь близко к Богу, сам начинаешь обожествляться. Чтобы увидеть, как это происходит, снова поглядим на Левина, но уже в то время, когда он получил согласие Кити и ждёт назначенного её родителями часа: «Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. Он не ел целый день, не спал две ночи, провёл несколько часов раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым, как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела: он двигался без усилия мышц и чувствовал, что всё может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если б это понадобилось». В состоянии описанного здесь любовного экстаза, видя в любимом существе божество и кумира и сам становясь рядом с ним божественно всесильным и щедрым, человек ни секунды не задумается всё отдать предмету своей любви и даже прыгнуть по его приказу с крыши, как это сделал герой Мопассана. Поэтому, возвращаясь к проблеме отыскания универсального признака, характеризующего понятие «любовь», может показаться вполне логичным остановиться всё-таки на самопожертвовании. Любовь есть преодоление и упразднение нашего эгоизма. Найдутся ли какие-то аргументы против такого определения? Аргументы против него, к сожалению, есть, и из-за них почти найденная формулировка оказывается никуда не годной, а нам приходится начинать наши поиски с нуля. Часть 2 Принятое было нами определение рушится по той простой причине, что во влюблённости, которая, хотим мы этого или не хотим, прочнее и неразрывнее всего связана в нашем словоупотреблении со словом «любовь», момент альтруизма, отдавания себя другому является необязательным и, как правило, весьма кратковременным, а чувством, сопровождающим её с первого до последнего момента, чувством постоянным и ни для кого не делающим исключений, как говорят философы – имманентным, является как раз эгоизм. В первый романтический период влюблённости, когда предмет этого чувства непомерно идеализируется и представляется бесплотным ангелом или даже божеством, далеко не каждый влюблённый думает об овладении своим предметом в физическом смысле – такая мысль часто кажется ему кощунственной, но овладеть его душой, всеми его чувствами, помыслами и желаниями, чтобы сделать его частью собственного «я», хочет каждый с самого начала. Природный человеческий эгоизм, который воспитание приучает нас скрывать, хотя и не слишком успешно, высвобождается из-под контроля и достигает высшего своего выражения именно в период влюблённости, когда подчинение себе возлюбленного, полное им овладение становится заветной мечтой и смыслом существования. Когда Вронский влюбился в Анну Каренину, он почувствовал, «что все его доселе распущенные и разбросанные силы были собраны в одно и с страшной энергией были направлены к одной блаженной цели». Конечно, ни в чём другом Вронский не нашёл бы блаженства, как только в «победе» над Анной – выражение, которое означает успех в любви на всех языках. Но победа есть покорение, захват. А чтобы одержать её, нужна правильная стратегия, описанная Овидием в «Науке любви» и блестяще освоенная Евгением Онегиным. Как рано мог он лицемерить, Таить надежду, ревновать, Разуверять, заставить верить, Казаться мрачным, изнывать, Являться гордым и послушным, Внимательным иль равнодушным! Как томно был он молчалив, Как пламенно красноречив, В сердечных письмах как небрежен! Одним дыша, одно любя, Как он умел забыть себя! Как взор его был быстр и нежен, Стыдлив и дерзок, а порой Блистал послушною слезой! Как он умел казаться новым, Шутя невинность изумлять, Пугать отчаяньем готовым, Приятной лестью забавлять, Ловить минуту умиленья, Невинных лет предубежденья Умом и страстью побеждать, Невольной ласки ожидать, Молить и требовать признанья, Подслушать сердца первый звук, Преследовать любовь и вдруг Добиться тайного свиданья… И после ей наедине Давать уроки в тишине! Думается, ни у кого не возникнет сомнения, что Пушкин, усвоивший стратегию любви на собственном богатом опыте, перечислил основные её приёмы вполне правдиво. Это не сатира, а реализм, такое поведение достаточно типично для пылающих «страстью нежной». А теперь скажите: где же здесь самопожертвование? Здесь нечто прямо противоположное – азартная охота на предмет этой страсти, который сам должен стать жертвой. А если жертва сопротивляется, охота превращается в настоящую войну, которую надо во что бы то ни стало выиграть, то есть одержать ту самую «победу». И это такая война, где не соблюдаются никакие Женевские конвенции, ибо победа должна быть одержана любыми средствами, включая самые аморальные и даже подлые: обман, ложь, притворство и тому подобное. Как же мог такой чуткий к понятиям человек, как Владимир Соловьёв, усмотреть в этом неблагородном поведении «перенесение всего жизненного интереса с себя на другого»? Тут, наоборот, всё подчинено собственному интересу; самоутверждающееся «я» пытается раздуться, как лягушка из басни, путём поглощения другого «я» и включения его в свой состав. И тут ведь не отговоришься тем, что это, дескать, не любовь, – по нормам человеческого языка, которые не нами придуманы, не нам их и отменять, влюблённость есть то состояние, которое прежде всего именуется любовью. И по своему личному опыту, и по наблюдениям за другими все прекрасно знают, как тираничны бывают влюблённые, какие повышенные требования предъявляют они к своим возлюбленным, как им всего от них мало; но стоит только начаться разговору о брачной любви в теоретическом плане, будто под действием гипноза люди начинают вторить Соловьёву: «Любовь – это преодоление эгоизма». В чём тут дело? Здесь действительно срабатывает массовый гипноз такой силы, что ему почти невозможно противостоять, гипноз общепринятой идеологии. Это – повреждение общественного сознания, которое автоматически передаётся личным сознаниям. Где-то с XV века, когда в Европе началась апостасия – процесс отпадения человека от Бога, когда на место прежней картины мира, в центре которой помещался Бог, начала исподволь готовиться новая, с человеком в центре, – всё чаще и всё громче в литературе и искусстве стали воспевать влюблённость как высшее божественное чувство, и это воспевание в конце концов превратилось в культ брачной любви. По апостасийной логике это было абсолютно закономерно, ибо культ Христа, которым жили европейцы пятнадцать веков, не соответствовал уже новому мировоззрению и ему надо было найти замену. Ничего более подходящего, чем то возбуждение, которое было у Левина на катке и бывает у всех влюблённых в первые дни, не нашлось, и его сделали предметом культа. О том, что оно быстро проходит, намеренно забыли. Это привело к тому, что романы и повести о человеческих судьбах завершались вступлением преодолевших все препятствия героев в брак, ибо дальше любовная эйфория, заставлявшая их сдвигать горы, кончалась, и писать было не о чем. Не одно столетие просуществовала эта «усечённая» литература, вырывающая из всей судьбы человека очень кратковременный период, в котором усматривалось нечто возвышенное, и это возвышенное становилось предметом обожествления. А поскольку два разных типа сакральности не могут ужиться в обществе, прежняя сакральность, источником которой был Христос, начала отходить на задний план, что и требовалось Новому времени. Сакрализация любовных восторгов имела, таким образом, серьёзное историческое значение, выполняя роль смазки, облегчающей движение социума по пути «прогресса». Для прямого отказа от Бога людям надо было ещё созреть, а чтобы они быстрее созревали, высокие чувства, раньше адресуемые Богу, стали переадресовываться тому таинственному, огромному призраку, которого Андрей Болконский своей чуткой душой почувствовал позади Наташи, когда в нём вспыхнула любовь. Но, выполняя «социальный заказ», обожествление влюблённости производило и побочный психологический эффект, приучая людей к мысли, что в любви не может быть ничего неблагородного: ведь она, как выразился Фёдор Сологуб, «низводит небо на землю». В итоге даже гнусное поведение таких ловеласов, как Онегин, перестало осуждаться. Любовь стала оправдывать в глазах публики всё, включая супружескую измену и измену государственному долгу (отречение великого князя Константина Павловича от престола из-за женитьбы на Лович, подхлестнувшее восстание декабристов, было прощено ему сентиментальным обществом). Как же устоять перед зовом любви – ведь в ней человек обретает величайшее, неземное блаженство! Общепринятое отождествление любовной эйфории со счастьем убедительно доказывает, что идеология действительно обладает удивительной способностью массового гипноза. Другое доказательство этого – дарвинизм. Делая какие-то невидимые пассы, он внушает нам, что человек произошёл от обезьяны, хотя это утверждение совершенно абсурдно. Оно противоречит и фактам, и логике: отсутствует промежуточное звено, и геном обезьяны меньше похож на человеческий, чем геном водяной лилии; но, даже зная об этом, мы продолжаем считать обезьяну нашим предком, будто нас кто-то зомбировал. И то же самое с влюблённостью: видя, сколько горя она подчас причиняет тому, кто не сумел от неё уберечься, как из-за неё происходят убийства и самоубийства, мы упорно повторяем подсказанные нам кем-то слова: «В любви человеку даётся высшее счастье». Как ни прочны идеологемы, против тех из них, которые ложны, надо возражать. Попытаемся же развеять устойчивый миф о блаженстве, доставляемом любовным экстазом. В юности, начитавшись любовных романов, я сам был убеждён, что «нежная страсть» принесёт мне счастье, и с волнением ждал её прихода. И вдруг получил такое отрезвляющее свидетельство, не верить которому было нельзя. Мне было лет пятнадцать. Я ехал из Москвы в Орёл без билета и на станции Скуратово был высажен ревизором. На платформе стояла скамейка, я сел на неё и стал ждать следующего поезда, чтобы продолжить своё незаконное передвижение по железной дороге. Но прежде моего пришёл другой поезд, на Москву. Из него тоже высадили «зайца» – молодого человека лет двадцати пяти, который, конечно, казался мне совсем взрослым. Он сел возле меня, выкурил пару папирос, а потом заговорил со мной. Видно было, что ему необходимо излить душу. Не помню, с чего он начал, но на всю жизнь запомнил фразу: «Ты ещё молод и этого не понимаешь, а когда вырастешь, поймёшь: любовь хуже всякой холеры». И по его нервному тону, и по глазам загнанного оленя мне было очевидно, что он действительно болен, что ему очень плохо. Да, тогда я не понимал той истины, которую он мне возвестил, но, когда вырос, много раз убедился, как он и предсказывал, что это истина. «Мужик умён, а мир дурак», – гласит народная пословица. Это так. Каждый из нас чувствует верность поговорки «любовь зла» и, если у него есть семнадцатилетняя дочь, никогда не пожелает ей влюбиться без памяти, а скажет: «Избави нас Бог от этого несчастья». Но, отойдя от житейской реальности и начиная рассуждать по подсказке романтической литературы, то есть идеологической надстройки апостасийного общества, человек действительно становится дураком и верит явной нелепости, будто влюблённость отверзает нам небо. Тут есть ещё одна параллель с дарвинизмом. Все самые крупные биологи – Агассис, Бэр, Дриш, Вирхов, Берг, Мейен – отвергали это учение, находя в нём несообразности. Зато биологи меньшего масштаба дружно его приняли, и чем их масштаб был мельче, тем больше энтузиазма они высказывали в отношении эволюционной теории. Точно так же самые значительные художественные писатели, истинные душеведы, гениально чувствовавшие внутренний мир человека, единодушно видели в любви главным образом сердечную муку; для них она была прежде всего страданием. «Страдания молодого Вертера» Гёте, «Жизнь» и «Монт-Ориоль» Мопассана, «Любовь Свана» Марселя Пруста, «Анна Каренина» Толстого ясно показывают нам неразрывность влюблённости и страдания. А вот авторы рангом пониже, прикрывающие свою бездарность ложной романтикой, хором воспевают влюблённость, как врата в рай. И мы верим мелюзге, а не великим. Впрочем, простой народ не верит, он солидарен с Мопассаном и Прустом: куплеты о любви именуются у него «страданиями» (например, знаменитые «Саратовские страдания»). Причиной любовных мук и терзаний является ревность. Этот страшный и беспощадный зверь почти с первых дней прилепляется к влюблённости и не покидает душу до тех пор, пока не кончится сама влюблённость, отцепляясь тогда, как клещ от умершей собаки. Недаром говорится: «Не ревнует, значит, не любит». И как только ревность входит в человека, его судьба начинает зависеть от того, кончится ли его любовь раньше того, чем ревность заставит его убить либо того, кого он ревнует, либо того, к кому ревнует, либо самого себя. По поводу распространённого в народе отождествления любви и ревности приведём одно место из повести Бунина «Митина любовь». «Раз Катя, полушутя, сказала ему в присутствии матери: – Вы, Митя, вообще рассуждаете о женщинах по Домострою. Из вас выйдет совершенный Отелло. Вот уж никогда бы не влюбилась в вас и не пошла за вас замуж! Мать возразила: – А я не представляю себе любви без ревности. Кто не ревнует, по-моему, не любит. – Нет, мама, – сказала Катя со своей постоянной склонностью повторять чужие слова, – ревность – это неуважение к тому, кого любишь. Значит, меня не любят, если мне не верят, – сказала она, нарочно не глядя на Митю. – А по-моему, – возразила мать, – ревность и есть любовь. Я даже где-то это читала. Там это было очень хорошо доказано и даже с примерами из Библии, где Сам Бог называется ревнителем и мстителем». У Анны Карениной страсть к Вронскому затянулась, и ревность успела сделать своё чёрное дело. Этот случай особенно показателен. Ведь отчего Анна бросилась под поезд? Исключительно из-за ревности, которая не имела никакой причины, кроме самой этой страсти. Вронский обожал Анну, даже покушался из-за неё на самоубийство; он ни разу ей не изменил и не собирался изменять, он предлагал ей жить, где она хочет – хоть за границей, хоть в имении. Он относился к ней как к жене, а не любовнице, у них была общая дочь. Но что бы он ни говорил и ни делал, ничто не уменьшало её ревности, ибо её ревность сидела в её любви, а точнее, и была её любовью. Конечно, сама она оправдывала свою ревность будто бы объективными причинами, но посмотрите, какой субъективной была эта объективность. «Для неё он, со всеми его привычками, мыслями, желаниями, со всем его душевным и физическим складом, был одно – любовь к женщинам, и эта любовь, которая, по её чувству, должна была быть вся сосредоточена на ней одной, любовь эта уменьшалась; следовательно, по её рассуждению, он должен был часть любви перенести на других или на другую женщину, – и она ревновала. Она ревновала его не к какой-нибудь женщине, а к уменьшению его любви. Не имея ещё предмета для ревности, она отыскивала его. По малейшему намёку она переносила свою ревность с одного предмета на другой. То она ревновала его к тем грубым женщинам, с которыми благодаря своим холостым связям он так легко мог войти в сношения; то она ревновала его к светским женщинам, с которыми он мог встречаться; то она ревновала его к воображаемой девушке, на которой он хотел, разорвав с ней связь, жениться. И эта последняя ревность более всего мучила её, в особенности потому, что он сам неосторожно в откровенную минуту сказал ей, что его мать так мало понимает его, что позволила себе уговаривать его жениться на княжне Сорокиной». Здесь Толстой гениально обобщает самое устойчивое переживание всех ревнивцев, доставляющее им адские муки, которое состоит в мысли, что предмет влюблённости не целиком принадлежит влюблённому. «Он должен весь быть моим, и больше ничьим!» И это «упразднение эгоизма любовью», как выразился Владимир Соловьёв? О нет, это превращение влюблённого в чудовищного эгоиста, отнимающего у предмета своей любви право иметь собственные интересы и хоть какую-то свободу. И это происходит всегда. Все бесконечные препирательства, всё это нескончаемое и не приносящее никому победы соревнование в иронии, все шпильки и подковырки, без которых просто невозможно представить общение друг с другом влюблённых, суть выход наружу гнездящегося в глубине души каждого из них эгоизма. У Анны Карениной эгоизм с каждым днём разрастался и наконец достиг такого масштаба, что она сама стала осознавать его в себе. Направляясь в коляске к той железнодорожной станции, на которой вспыхнула последней вспышкой и погасла свеча её жизни, Анна думала о себе: «Моя любовь всё делается страстнее и себялюбивее, а его всё гаснет и гаснет, и вот отчего мы расходимся, – продолжала она думать. – И помочь этому нельзя. У меня всё в нём одном, и я требую, чтоб он весь больше и больше отдавался мне. А он всё больше и больше хочет от меня уйти. Мы именно шли навстречу до связи, а потом неудержимо расходимся в разные стороны. И изменить этого нельзя. Он говорит мне, что я бессмысленно ревнива, и я говорю себе, что я бессмысленно ревнива; но это неправда. Я не ревнива, я недовольна». Вот это слово «недовольна», точно найденное Анной в последний день земного существования, раскрывает нам подлинную природу ревности, а значит, и влюблённости, от которой неотделима ревность. «Недовольна» во времена Толстого означало не столько «раздражена», сколько «мне этого недовольно, недостаточно». Никакой уступки, никакой жертвы со стороны возлюбленного недостаточно влюблённому – ему нужен он весь, всё его «я», которое не должно быть самостоятельным. А поскольку полностью отдать своё «я» другому и ничем в себе не распоряжаться не может никто, ревность в брачной любви неизбежна. Другой персонаж Толстого, Василий Позднышев из «Крейцеровой сонаты», был доведён ревностью до убийства не себя, а своей жены. Суд оправдал его, посчитав, что он защищал честь семьи, но не забота о какой-либо «чести» толкнула его на отчаянный поступок, а тот зверь, который однажды зашевелился в нём и начал грызть его внутренности. Вот его самоотчёт: «Этот восьмичасовой переезд в вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всей жизни. С тех пор, как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим воображением, и оно не переставая, с необычайной яркостью, начало рисовать мне разжигающие мою ревность картины, одну за другой и одну циничнее другой, и всё о том же, о том, что происходит там, без меня, как она изменяла мне. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них; не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их… Не в сифилитическую больницу я свёл бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе, посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали её! Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над её телом, как будто это было моё тело, и вместе с тем чувствовал, что владеть этим телом не могу, что оно не моё и что она может распоряжаться им, как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу. И я ничего не мог сделать ни ему, ни ей. Он как Ванька-ключник перед виселицей споёт песенку о том, как в сахарные уста было поцеловано и прочее. И верх его. А с ней я ещё меньше могу что-нибудь сделать». Здесь опять та же причина ревности: претензия на полное владение другим человеком, которая не может осуществиться в принципе, обрекая душу на страшные мучения. Право владеть телом жены, как своим, подтверждается законодательно, потому его нарушение приводит мужа в особенную ярость, но каков бы ни был писаный гражданский закон, в сердце каждого человека запечатлён неписаный закон свободы личного выбора, и он постоянно оказывается сильнее. Приведённые нами выдержки из классических произведений художественной прозы, показывающие действие ревности на человеческую душу, прекрасно дополняются стихами на эту же тему Маяковского, где больше эмоций и яркости. Обладая уникальной поэтической одарённостью, Маяковский был наделён от природы свойством, которое можно назвать проклятием судьбы, – невероятной влюбчивостью. Оно в течение почти всей жизни делало его несчастнейшим человеком. Разумеется, из-за мук ревности. Кажется, лишь однажды в их череде возникла небольшая пауза, и свою радость по этому поводу он выразил такими строками: Я теперь свободен от любви и от плаката, Шкурой ревности медведь лежит, когтист. Хочешь убедиться, что земля поката? Сядь на собственные ягодицы и катись! Будучи «специалистом по ревности», Маяковский ощущал её как нечто приходящее к нему извне, не органичное его собственной личной природе, и, не будучи глубоким философом, обвинял в ней Бога, желающего помучить человека. Особенное злорадство, как ему казалось, Бог испытывал, видя любовные страдания его, Маяковского. «Вёрсты улиц взмахами шагов мну, куда я денусь, этот ад тая! И какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая?» И более подробно: Бог доволен, Под небом в круче Измученный человек одичал и вымер. Бог потирает ладони ручек. Думает Бог: погоди, Владимир! Это ему, ему же, чтоб не догадался, кто ты, Выдумалось дать тебе настоящего мужа И на рояль положить человечьи ноты. Если вдруг подкрасться к двери спаленной, Перекрестить над вами стёганье одеялово, Знаю – запахнет шерстью паленой, И серой издымится мясо дьявола. А я вместо этого до утра раннего В ужасе, что тебя любить увели, Метался и крики, и строчки выгранивал, Уже наполовину сумасшедший ювелир. В карты б играть! В вино выполоскать горло сердцу изоханному. Не надо тебя! Не хочу! Всё равно, я знаю, я скоро сдохну. Если правда, что есть Ты, Боже, Боже мой, Если звёзд ковёр Тобою выткан, Если этой боли, ежедневно множимой, Тобою ниспослана, Господи, пытка, Судейскую цепь надень. Жди моего визита. Я аккуратный, Не замедлю ни на день. Слушай, всевышний инквизитор! Рот зажму, крик ни один им не выпущу из искусанных губ я. Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным, И вымчи, рвя о звёздные зубья. Или вот что: когда душа моя выселится, Выйдет на суд Твой, выхмурясь тупенько, Ты, Млечный Путь перекинув виселицей, Возьми и вздёрни меня, преступника. Делай, что хочешь. Хочешь, четвертуй. Я сам тебе, праведный, руки вымою. Только — слышишь! — убери проклятую ту, Которую сделал моей любимою. Передавая чувство ревности с огромной художественной силой, Маяковский запутался в отношении её первоначала – то у него Бог, то серный запах. В познавательном смысле от него много не почерпнёшь. Распутывать этот клубок нужно нам самим. Та составляющая половой любви, которая называется влюблённостью или любовной страстью, не может внушаться Богом. Бог не может насылать на человека мучения и, глядя, как он корчится, «потирать ручки». От Бога может исходить только тихая радость, мир и спокойствие. «Всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца светов», – говорится в заамвонной молитве. А любовная страсть приносит постоянное беспокойство. И в то же время у влюблённых бывают моменты, когда они определённо ощущают соприкосновение с вечностью и, давая клятвы, что будут любить друг друга всегда, не лгут. Как же всё это увязать? Объяснение тут может быть только одно: тот огромный, который открывается нам в любовном экстазе, вводит нас не в вечность, не в бессмертие, а приобщает к соответствующему ему огромному, но конечному отрезку времени, измеряемому, скажем, миллионом лет, который мы ошибочно принимаем за вечность. Кто же он, который ниже Бога, но много сильнее нас? Откуда у него такая власть над нами и чего он от нас хочет? Часть 3 Па рубеже XIX и XX веков великий немецкий учёный Август Вейсман (1834–1914), по прямой профессии зоолог, совершил в науке о жизни «коперниканский переворот» – поменял местами два основных понятия этой отрасли знания. То, которое раньше было основным, он объявил второстепенным, а второстепенное стало у него центральным. Эти два понятия – особь и вид. В применении к нашему виду «хомо сапиенс» чаще говорят «род» («человеческий род»), и мы тоже будем отдавать этому слову предпочтение. До Вейсмана центральным понятием биологии была особь, и понятно почему: это нечто материальное и конкретное, что можно видеть, осязать, фотографировать и так далее, а род невидим и неосязаем; это данная нам лишь в умозрении совокупность особей, включающая тех, что жили тысячи лет назад, и тех, которые через тысячи лет только родятся, так что ни один биолог их не видел и не увидит. Эту неопределённую совокупность даже и мыслью охватить невозможно. Но Вейсман, будучи натуралистом-наблюдателем, прекрасно знал, что природа сколько угодно жертвует особями ради сохранения вида. Ей особи нужны лишь как производители потомства, и когда отдельное животное прекращает выполнять эту функцию, природа его убирает. Трутни вскоре после брачного полёта с маткой изгоняются из улья и гибнут, паучиха съедает оплодотворившего её паука, треска, закончив метание икры, лишается жизненной силы и становится добычей многочисленных любителей рыбки. Значит, не в особи, а в роде весь смысл жизни как планетарного явления. А как же быть с нематериальностью рода? Вейсман чувствовал, что столь оберегаемая природой данность не может быть чисто умозрительной, и в поисках того, в чём она конкретно реализуется, пришёл к гениальной идее. Он разделил клетки живого организма на две категории – сому и зародышевую плазму. Соматические клетки – это те, из которых построен организм как физическое тело, и те, которые обеспечивают его функционирование (кровяные тельца, ферменты и так далее), а зародышевая плазма – это половые клетки, вырабатываемые организмом и до времени хранящиеся в нём, которые самому организму совершенно не нужны. Гениальность этой идеи состояла в том, что она оказалась пророчеством – уже через несколько десятилетий после смерти Вейсмана наука установила, что соматические и половые клетки принципиально различны не только по функциям, но даже и по структуре: первые обладают двойным набором хромосом, из-за чего называются диплоидными, а вторые – одинарным, и о них говорят, что они гаплоидны. Гаплоидные половые клетки по современной терминологии именуются гаметами. Произведя своё разграничение клеточного материала, Вейсман дал в переводе на современную терминологию следующее определение: жизнь есть воспроизводство гамет. Если понимать слово «жизнь» в чисто биологическом смысле (а Вейсман понимал его именно так), это определение, озадачившее учёных сто лет назад, в свете данных сегодняшней науки представляется абсолютно верным. Сейчас можно понять, почему гаметы имеют для природы такую ценность: каждая из них содержит в себе в единственном экземпляре оригинал генома соответствующего вида животных, полное его описание, зашифрованное в кодах азотистых оснований колоссального полимера ДНК, представляющего собой линейное «слово» из миллиарда букв. Это не что иное, как материальная проекция того нематериального Слова, без которого «ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1,3). Это – запись Слова Творца о вводимом Им в бытие виде живых существ, переданная исполнителям для реализации. Конечно же, эти исполнители берегут полученный чертёж как зеницу ока, ибо без него им нечего будет исполнять. Геном вида содержится и в соматических клетках (в двух экземплярах), но там это уже «ксерокс» с оригинала, ибо сома развивается из зародышевой клетки (зиготы), образующейся в результате слияния двух гамет. Что же это за исполнители, о которых мы говорим, и не противоречит ли предположение об их существовании Священному Писанию? Не только не противоречит, но именно Священное Писание подсказывает нам, кто они такие. Это бесплотные разумные существа, созданные в «нулевой день» Творения. В Библии о них сказано следующее: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1, 1). Конечно, это не астрономическое небо, созданное лишь во второй день и названное «твердью», а ангельское небо, населённое «силами небесными». То, что их создание предшествовало основному творению, происходившему в последующие шесть дней, может означать только то, что они были нужны для этого творения в качестве помощников. Священное Писание почти ничего о них не сообщает, поскольку оно своей главной целью имеет содействие людскому спасению, а знание деталей ангельского жизнеустроения и функционирования никак не может быть полезным для нашего спасения, только отвлекая нас от него, разжигая наше праздное любопытство. Через Дионисия Ареопагита о них открыто нам лишь то, что они образуют иерархию из девяти чинов. И всё-таки кое-что о бесплотных силах нам известно. Мы знаем, что один из помощников Бога в деле сотворения мира, Денница, возгордился, решил, что может создать собственную вселенную, которая будет лучше Божьей, начал видеть в Боге соперника, возненавидел Его и вместе с третью всех ангельских сил, которую ему удалось подбить на это, поднял бунт, окончившийся, конечно, поражением и тем, что, отключившись от источника духовного здоровья, он деградировал в Сатану, а его приспешники – в разного калибра демонов. Знаем мы и то, что, изгнав Адама и Еву из Эдема, Господь поставил у входа туда ангела с мечом, чтобы они не могли вернуться. Известно нам и то, что бесплотные служители Бога посылаются Им людям, чтобы принести какую-то весть. Странно было бы полагать, что Господь сотворил огромное количество бесплотных сил только для исполнения таких деликатных поручений. Конечно же, они служат Ему самыми разнообразными способами, что очевидно из Откровения Иоанна Богослова. К каждому человеку в самый момент его рождения приставляется ангелхранитель, который и опекает его до смертного часа. Но если так, то совершенно естественно допустить, что такой же невидимый хранитель приставляется и к каждому роду. Наш современник, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, предложил интерпретировать его как некое «охраняющее поле», однако надо понимать, что это не физическое поле, вроде магнитного, а разумное существо, обладающее собственной волей. А поскольку род материализуется в гаметах, это родовое «поле» становится хранителем гамет, или, по терминологии Вейсмана, зародышевой плазмы. Это, по сути дела, «бог любви» языческих культов. Он на самом деле существует, и ересь язычников состоит не в том, что они признают его существование, а в том, что они возводят этот низший дух в ранг божества. Ну а как такой страж должен относиться к особям введенного ему рода? Обладая, как и все существа, кроме одного Бога, ограниченным разумением, имея от Творца конкретное поручение и желая показать Ему своё рвение в исполнении этого поручения, ангелхранитель рода не может смотреть на особь иначе, как на что-то второстепенное. Однако без особей не воспроизводилось бы то, что является предметом его хранения: гаметы не могут рождать новые гаметы, цикл их воспроизводства включает в себя фазу появления организма, через которую невозможно перескочить. Весь цикл таков: две гаметы образуют зиготу, из зиготы вырастает особь, в особи, почти целиком состоящей из соматических клеток, продуцируются новые гаметы, одна из которых потом сливается с гаметой другой особи противоположного пола, и всё повторяется заново. Особи в конце цикла умирают, а гаметы продолжают своё существование. Таким образом, с точки зрения стража гамет особь есть лишь корзиночка, в которой гаметы, за которые он отвечает, переносятся вперёд по оси времени, сама же эта корзиночка выбрасывается после использования. Суть этой позиции можно передать так: курица есть вспомогательное приспособление, позволяющее яйцу снести новое яйцо. Если вопрос «Что было раньше – курица или яйцо?» остаётся всё ещё нерешённым, то на вопрос, что важнее, «природа», в лице своих родовых духов, с полной категоричностью отвечает: конечно, яйцо! Понимание того, что природа даёт именно такой ответ, и есть вейсманизм. Реальное, хотя и невещественное существование специализированных духов с особенной силой подчёркивается в архаических религиях, населяющих природу лешими, водяными, домовыми, Хозяйкой Медной горы и прочими малыми божествами, ответственными каждое за свой фрагмент земного бытия. Христианство, делающее акцент на единобожии и потому борющееся с язычеством, старается умалчивать об этих подчинённых Творцу «силах», чтобы они не обожествлялись, но, как мы только что видели, и оно признаёт их наличие у Бога. Есть и другое, абсолютно внерелигиозное подтверждение их реальности, опирающееся только на наблюдения за фауной, особенно за общественными насекомыми. Жизнь улья невозможно считать суммой действий отдельных его обитателей, руководимых своими индивидуальными побуждениями, – ею явно управляет единая воля, ни во что не ставящая их собственные интересы и властно требующая от них одного: создания максимально благоприятных условий для непрерывного возобновления зародышевой плазмы. Эта тираническая воля заставляет рабочих пчёл выкармливать производящую женские гаметы матку, растаскивать в разные ячейки оплодотворённые и неоплодотворённые яйца (науке до сих пор неизвестно, как они различают их), чтобы из неоплодотворённых развились трутни с мужскими гаметами, поить оплодотворённую матку специальным молочком, превращая её в «машину, вырабатывающую яйца», и ото всего, что не содействует этой выработке, немедленно освобождать улей: выгонять из него сделавших своё дело трутней, обрекая их на гибель, а потом умирать самим, чтобы поменьше расходовать зимой запасённый мёд, оставляя минимум особей, которые весной включатся в новый цикл нескончаемого процесса. Собственная жизнь любой отдельной пчелы в улье, включая, конечно, и жизнь матки, ровно ничего не стоит, а лучше сказать, собственной жизни пчелы там вообще нет, а есть подчинение её «пчелиному богу», озабоченному только одним: сохранением генома. А возьмите муравьёв: их основное занятие – перетаскивать свои личинки из одного места в другое, уберегая их то от действия влажности, то от действия жары. Из этого видно, что они нужны муравейнику лишь в качестве подсобного персонала, выполняющего, подобно пчёлам, приказ своего «великого муравьиного царя». Власть над особями бесплотного стража гамет, заставляющая их входить в родовую жизнь, то есть спариваться и размножаться, остаётся непререкаемой и у высших бессловесных тварей – у млекопитающих. Однако тут появляется нечто такое, что вряд ли присуще насекомым, – радость собственной индивидуальной жизни. Посмотрите на медвежат в зоопарке: они непрерывно наскакивают друг на друга, делают вид, будто кусаются, хотя никогда сильно не сжимают челюсти, валят один другого на землю. Ключом бьёт из них радость, не имеющая никакой другой причины, кроме просто существования в этом мире. А как собака встречает вернувшегося с работы хозяина, «папу»: подпрыгивает, повизгивает, норовит лизнуть его в нос – это ли не признаки счастья! И оно никак не связано с родовой жизнью, оно рождается в этой индивидуальной собаке как её собственное достояние. Гений рода не отнимает у неё этого утешения, зная, что, когда придёт время течки, она будет работать только на него. А теперь перейдём к человеку. Здесь всё кардинально меняется. Существо, которым в шестой день Творения Господь увенчал созданное за предыдущие пять дней, – то есть мы с вами, – уникально. В нём имеется полноценная биологическая природа, подобная природе волка, оленя и других млекопитающих, но наряду с этим ему придано и другое подобие. Создавая Адама, Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт. 1, 26). В каком смысле надо понимать наше богоподобие? Не в телесном, разумеется, – Бог не имеет никакого тела, Он есть чистый Дух. Учители православной церкви трактуют богоподобие как трёхчастное устроение человеческой души по подобию Божественной Троицы (отсюда множественное число: по Нашему подобию). Творец дал человеку огромную по сравнению с высшими животными меру личной свободы, то есть воли, и по этому признаку человек подобен Богу Отцу, олицетворяющему в Троице волевое начало. Создав человека из праха земного, Бог «вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт. 2, 7), и благодаря этому человек обрёл подобие Богу Святому Духу, именуемому «животворящим» и «жизни подателем». Наконец, мы получили свыше дар речи и по этому признаку стали подобными Богу Сыну, Который есть также Бог Слово. Ясно, что такое всестороннее богоподобие никак не может быть связано с нашей животной природой, наделяющей нас скотоподобием и звероподобием. Бог, отражённый в нашей душе, не вырастает из физиологической «почвы» нашего тела, не является её потянувшимся вверх ростком; наше богоподобие – совсем другое растение, не цветы, распустившиеся на нашем скотоподобии, а искусственно привитая к нему Богом культура, совершенно ему чуждая. Творец пытается с помощью этой прививки сделать из нас двухприродное существо, телом пребывающее на земле, а духом – на небесах. Бог поставил в нас рядом две несовместимые данности, и возникает впечатление, будто Он испытывает нас: сможем ли мы добиться их бесконфликтного сосуществования, и хочет, чтобы мы его добились. Но сделать это нам чрезвычайно трудно. Конечно, Творец знает об этом – Он ведь сам сказал: «Царствие Моё не от мира сего», а человек призван соединить сей мир и Его Царство. Возможно, в таком соединении и состояла цель сотворения мира с человеком на вершине, но так это или не так, одно можно сказать с уверенностью: это сшивание несшиваемого – главная проблема людской экзистенции. «Я червь, я Бог», – говорит Державин. И Бог в моём «я» чувствует себя оскорблённым, видя находящегося рядом с ним «червя», и испытывает к нему отвращение. Владимир Соловьёв предложил интересное философское осмысление этой ситуации. Он выделил в человеческой душе три базовых чувства, на смешении которых в разных пропорциях строится вся наша эмоциональная сторона жизни. Первое из них – чувство стыда в отношении низшего в себе, своих животных побуждений. Второе – чувство сострадания к боли, возникающей в жизни равного себе, то есть ближнего. Третье – чувство благоговения к более высокому, чем высшее в нём самом, чувство святыни и преклонение перед ней. Если хотя бы одного из этих чувств нет, человек перестаёт быть человеком. Посмотрим, как развивает наш «философ любви» свою теорию дальше. Он считает, что в наиболее яркой форме чувство стыда проявляется в отношении вхождения в родовую жизнь, то есть полового акта. Вот что он писал по этому поводу: «Для человека, как животного, совершенно естественно неограниченное удовлетворение своей половой потребности посредством известного физиологического действия, но человек, как существо нравственное, находит это действие противным своей высшей природе и стыдится его». Верно ли это? Безусловно верно, но совершенно недостаточно для понимания сути дела. Да, все народы мира, даже «дикари», как выражается Соловьёв, стыдились и стыдятся «известного физиологического действия»: живя даже в очень жарких странах, прикрывают детородные органы одеждой и никогда не совершают полового акта публично. Это действительно чисто человеческая особенность – бессловесные твари, включая самых высокоразвитых, абсолютно его не стыдятся. Но истолкование этого стыда как инстинктивного стремления человека отмежеваться от своей животной природы и стать выше её ошибочно. Если бы мы стыдились всего, в чём обнаруживается наша общая с животными природа, мы стыдились бы и процесса поедания пищи. Но тут мы не проявляем ни малейшей стеснительности, наоборот, любим коллективную трапезу, где приходится публично чавкать и трещать разгрызаемыми косточками. Ничего неприличного не видим мы в том, чтобы громко сказать: «Я голоден как волк!» Толстой в этом вопросе оказался более тонким аналитиком и уловил то различие, которого не почувствовал Соловьёв. Возражая поборникам «свободной любви» и либерализации брака, он писал: «Вы говорите – естественно. Естественно есть. И есть радостно, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же мерзко и стыдно и больно». Толстым найдено очень точное слово «мерзко». Но к нему надо добавить и другое слово, ещё точнее выражающее отношение неиспорченного, неразвращённого человека к родовой жизни, – страшно. О предстоящем вхождении в эту жизнь целомудренная душа думает со страхом и тревогой. В романе «Жизнь» Мопассан рассказывает, как отец пытается помочь дочери преодолеть страх к физиологии брака и не находит никаких аргументов, кроме того, что надо принять это как неизбежное: «“Голубка моя, я должен взять на себя обязанность, которую больше подобало бы выполнить маме, но она отказывается… Но если девушки пребывают в полном неведении, их нередко оскорбляет грубая действительность. Страдая не только душевно, но и телесно, они отказывают супругу в том, что законом человеческим и законом природы признаётся за ним как безоговорочное право. Больше я ничего не могу сказать тебе, родная, одно только помни твёрдо: вся ты всецело принадлежишь мужу.” Что она знала на самом деле? Что подозревала? Она стала дрожать, гнетущая, мучительная тоска наваливалась на неё, точно страшное предчувствие». Нет, стыд – слишком слабое ощущение в сравнении с тем, которое охватывает душу ребёнка, когда он узнаёт, какими гадостями занимались его мама и папа, чтобы он появился на свет, и что этими гадостями занимается вокруг всё живое. Это уже не стыд, а шок. Вот отрывок из рассказа Алексея Николаевича Толстого «Мечтатель»: «Поле, поросшее густой полынью; вдалеке идут две бабы и мужик. Шли, шли, сели у канавы. Посидели и легли, смеются. У Аггея стучит сердце, он спрятался за кустиком полыни и видит, как две бабьи, в красных чулках, ноги поднялись над травой. А вот Аггей идёт с лопаткой мимо скотного двора; заскрипели ворота, с мычанием выходит стадо, а посреди него верхом на ком-то – рогатый головастый бык с багровыми глазами. Аггей глядит и чувствует, что это что-то страшное. Бросает лопатку и по глубокому снегу идёт в поле, где занесённый сугробом плугарский домик на колёсах. Аггей становится в домике на колени и молит Бога дать ему силы пережить виденный ужас, касается горящим лицом снега. И Бог даёт ему силы. А весной он опять, присев, рассматривает двух жучков, прильнувших друг к другу, палочкой перевёртывает их на спины и вдруг, с застывшей улыбкой, гневно топчет их ногами». Прибавлю к этому и свои собственные детские воспоминания. Гуляя ранней весной около дома, я увидел никогда не виденную прежде зернистую желеобразную массу. Это была лягушачья икра, но тогда я этого не знал и для меня это было что-то загадочное. И, как сейчас помню, на меня нашёл страх. Своим младенческим сознанием, которому Господь открывает то, что утаивает от мудрых и разумных, я прозрел в этой студенистой зелёной полупрозрачной субстанции нечто такое, что угрожает непосредственно мне, моему внутреннему миру, моим романтическим мечтам о высоких идеалах; что эта мерзость конкурирует со мной, хочет отменить, упразднить моё «я». А совсем недавно я посмотрел американский фильм-страшилку, где занесённые какими-то инопланетянами агрессивные лианы, растущие с невероятной быстротой, оплетают дома, душат находящихся в них людей, и таким образом вся наша утончённая цивилизация оказывается на грани того, чтобы исчезнуть, уступив место неограниченному размножению примитивных растений; именно такую опасность, относящуюся лично ко мне, я, ребёнком, угадал в омерзительной зародышевой плазме, которая говорила мне: «Я – главное в природе!» Так, ничего не зная о Вейсмане, я ощутил правоту вейсманизма. Часть 4 Дарвинизм, кажется, окончательно начинает выходить сегодня из моды, и не только верующие люди, всегда относившиеся к нему скептически, но и многие учёные всё чаще говорят, что никакой эволюции в живой природе не было. Это неверно. Если понимать эволюцию как появление в определённые моменты новых видов, то она была, и о ней как раз и повествует Шестоднев. Однако эта «эволюция» шла не как естественный отбор, который может создать лишь породы и разновидности, но принципиально не способен привести к возникновению нового вида, тем более семейства или отряда, а по воле Творца, с самого начала имевшего замысел в её отношении, который и реализовался в Шестодневе. Создав определённую биосистему, Творец выжидал, когда она подготовит условия, в которых могла бы существовать уже и более совершенная, и произносил своё «Да будет!». Соединяя информацию, содержащуюся в библейском Откровении с данными современной науки, ныне мы можем почти достоверно выделить три крупных этапа этой осуществляемой Богом эволюции. На первом этапе Господь создал саму основу, на которой можно было бы укоренять все будущие формы жизни, – механизм воспроизведения генома в череде гибнущих и нарождающихся отдельных организмов. Этот механизм был запущен, естественно, на организмах самых простеньких – на сине-зелёных водорослях, морской траве. В Библии так сказано: «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву сеющую семя по роду и подобию её» (Быт. 1, 11). Это был третий день Творения. Хотя «трава» интересовала Творца меньше, чем проходящая на ней проверку идея передачи генетической информации с помощью ДНК, Творец всё же нагрузил её делом, необходимым для дальнейшего. В то время, когда появились сине-зелёные водоросли и подобные им другие одноклеточные, – а это было около полутора миллиардов лет тому назад, – земная атмосфера ещё не содержала кислорода, зато была сильно насыщена водяными парами и являлась совершенно непрозрачной для световых лучей, как это мы видим на Венере. Если бы мы переместились туда на машине времени, мы не увидели бы над головой ни звёзд, ни Луны, ни даже Солнца. Понятно, что тогдашняя примитивная жизнь была анаэробной, то есть не нуждающейся в кислороде. Её обмен веществ был устроен так, что она не потребляла кислород, а, наоборот, выделяла его. Делая это в течение сотен миллионов лет, она наконец изменила состав атмосферы – в ней появился кислород, а пары значительно уменьшили свою концентрацию, небо стало прозрачным, и на нём появились светила. Это тоже отмечено в Библии: «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для освещения Земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времён, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так» (Быт. 1, 14). Это был четвёртый день Творения. На втором этапе конвейер воспроизведения зародышевой плазмы был модифицирован и приобрёл свой окончательный вид, сохраняющийся и поныне. Промежуточным звеном, связывающим старые и новые гаметы, стали два пола, каждый из которых вырабатывает свой тип гамет. Эти особи были гораздо более сложно устроенными и обрели некую самостоятельную ценность. Какую же? Во-первых, состоящий из этих сложных и разнообразных животных второй биоценоз был красивым, следовательно, приятным Богу, отказать которому в эстетическом чувстве может лишь слепец, не видящий, что сотворённый Им мир наполнен красотой, на 99 процентов не имеющей никакой практической пользы. Этой божественной эстетикой второго этапа естественной истории мы любуемся и сегодня, листая страницы альбомов, изображающих динозавров, и просматривая анимационные фильмы, где компьютер заставляет их двигаться. Вторая экосистема была усовершенствованной и в том ещё смысле, что приобрела пирамидальный характер и в качестве вершины увенчалась ящерами, покорившими все три стихии – сушу, воду и воздух. «И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землёю по тверди небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду её. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро: день пятый» (Быт. 1, 20–23). Ещё одно новое и важное обстоятельство заключалось в том, что со второй биосистемой в мир вошла индивидуальная свобода тварей, а значит, и неразрывно связанная с ней радость жизни. Бог, один только обладающий абсолютной свободой, не подчинённый никакой необходимости, наложив на поведение птиц и рептилий весьма жёсткие законы, всё же, в рамках очерченной этими законами необходимости, поделился с ними частичкой этого своего атрибута, что подчёркивается библейским выражением «сотворил Бог всякую душу животных» – душа ведь не может быть марионеткой, в ней есть собственные желания и право выбора. Эта частичная свобода ограничивалась у них сферой действия. Сотворение человека ввело эволюцию в третью стадию. Получив от Бога дар слова, человек получил вместе с ним способность мыслить, а с нею и колоссальную по сравнению с самыми высокоразвитыми бессловесными существами степень свободы, ибо мысль, в отличие от действия, почти невозможно ограничить. И свободная человеческая мысль очень быстро поставила своей целью отыскать то, что ей представлялось более ценным, чем биологическая радость жизни, – смысл жизни. А императив выращивания и передачи дальше гамет, тем не менее, не отменялся, и родовой дух, чьи полномочия Творцом не отзывались и не урезывались, по-прежнему продолжал считать всякого мужчину и всякую женщину всего лишь корзиночками для переноса зародышевой плазмы. Однако в индивидуальном сознании, а ещё больше в подсознании людей возникла догадка, что этот процесс для них лично лишён всякого смысла и, более того, является для них унизительным. Я рожу детей и умру, мои дети родят детей и тоже умрут, их дети родят своих детей и умрут, и так далее, как в сказке про белого бычка или о попе и его собаке. Эта дурная бесконечность нагоняет тоску и безысходность. Самое ужасное состоит здесь в том, что вейсмановский молох требует от нас приносить ему в жертву самое для нас дорогое – наше неповторимое «я», а интуиция подсказывает нам, что оно для Бога ценнее рода. Так оно и есть, и самое краткое и убедительное доказательство этому дал русский социолог и философ XIX века. Н.Я.Данилевский: индивидуальная душа может войти в вечность, а род туда не войдёт. Так на уровне венца Творения возникает не свойственная никаким другим существам болезненная внутренняя антиномия: особь и род становятся врагами. Их неизбежное столкновение впервые происходит в молодости, в «брачном возрасте». Юноша или девушка учились, посещали разные кружки и секции, увлекались авиамоделированием или шахматами, запоем читали книжки о путешествиях, сами мечтали путешествовать, увидеть огромный мир, совершать подвиги во имя своей Отчизны, делать научные открытия – в общем, жить интересной, полноценной духовной жизнью. И именно на пороге этой взрослой, самостоятельной жизни, от возможностей которой захватывает дух, к ним является родовой страж и требует дани. Конечно, он старался исподволь подготовить их к принесению ему жертвы, вызывая в них тайное любопытство к половой сфере, иногда превозмогающее страх и брезгливость, но это лишь ослабляло кризис брачного возраста, не устраняя его совсем. Если бы, получив этот императив, мы честно увидели в нём то, что он есть на самом деле, нас охватил бы ещё больший ужас, чем маленького Аггея, ибо необходимость отвратительного совокупления непосредственно его по малости лет не касалась, и он наблюдал тиранию вейсмановского молоха лишь со стороны, а тут этот молох вторгается в нашу жизнь и направляет её совсем не в то русло, какого нам хотелось. И этот ужас мы, возможно, не смогли бы вынести. Но нас спасает наша удивительная способность обманывать самих себя, облагораживать причину наших действий. Это свойство чрезвычайно характерно для человека, и оно раскрыто в реалистической художественной литературе. Достаточно вспомнить того же Толстого: Каренин отказывает Анне в разводе из желания отомстить ей за измену, но оправдывает своё решение тем, что оно подсказано ему ясновидцем. Ни в чём человек не проявляет такой изобретательности, как в подмене низменной причины своих поступков возвышенной, а навязанной извне – будто бы добровольной. И человек, прижатый к стене духом рода, совершает такую подмену – он влюбляется. Это гениальное решение, убивающее сразу двух зайцев. Прежде всего им уничтожается то, что больше всего неприемлемо для человека в родовом императиве, – обезличивание, растворение его единственного и неповторимого «я» в каком-то неопределённом потоке, несущем на себе сменяющиеся поколения. Теперь уже нет пугающей безликости – род персонифицируется в предмете влюблённости, и вхождение в него становится безболезненным. Отсюда вытекает и другая выгода: раз найдена приемлемая форма капитуляции перед дурной бесконечностью, значит, эту капитуляцию можно подать самому себе как добровольную, то есть не ущемляющую самолюбия и чувства собственного достоинства. Вся эта хитроумная подтасовка производится на уровне инстинкта, а именно – инстинкта самосохранения. Влюблённость, как защитная реакция против душевной боли, вызванной сознанием своего порабощения родом, имеет ту же психологическую природу, что и «стокгольмский синдром», когда заложники начинают питать симпатию к захватившим их террористам – так им делается менее жутко, – и тоже возникает совершенно непроизвольно, рождаясь в той глубоко запрятанной лаборатории душевных противоядий, которую мы не контролируем и само существование которой для нас неощутимо. На этом же скрытом уровне рождается и эйфория начального периода брачной любви, воспеваемая в поэзии безумная страсть. Только что сжимавшаяся от страха, дрожащая перед вейсмановским молохом душа вдруг находит выход: надевает на него маску и делает его «молохом с человеческим лицом», теперь не только не страшным, но даже приятным на вид. Этот неожиданный переход от угрозы к её отсутствию вызывает вспышку бурных радостных эмоций и любви к своему освободителю – к возлюбленному, который предоставил своё лицо для украшения входа в дурную бесконечность. Его надо не просто любить, его надо «обожать», безмерно идеализируя, ибо нейтрализовать то страшное «неопределимое», чем является страж гамет, можно лишь таким же огромным, но не страшным чувством влюблённости, которое отождествляется в нашем воображении с предметом нашей любви. Брачная любовь не бескорыстна по самому своему происхождению, в ней мы любим не просто так, а «за что-то» – а именно за то, что предмет любви, персонифицировав в себе род, примирил нас с ним. По существу, это благодарность за помощь в сохранении собственного «я». Но влюблённым это так не осознается. В его сознании брачная любовь совершенно отчуждается от самой причины и выступает как самостоятельная психическая данность, что и порождает культ этой любви как Божьего дара человеку. Заметим, что даже самые чёрствые натуры, патологические себялюбцы, неисправимые нарциссы, не желающие и пальцем шевельнуть ради ближнего, влюбляются не менее часто и не менее страстно, чем люди, чьим доминирующим качеством является жертвенность. Злятся, скрипят зубами, но влюбляются. Против своей воли себялюбец попадает здесь в ловушку: не дать безликому роду поглотить так дорогое ему, несравнимое ни с каким другим, нежно любимое «я», которое он всю жизнь холит и лелеет, он может только с помощью другого человека, облагораживающего своей персоной его вступление в череду поколений в качестве соединительного звена, и поэтому попадает в зависимость от этого другого человека. Быть просто «отцом-супругом», быть «как все» ему гордость не позволяет – это слишком пошло, но в том, чтобы оказаться способным любить, проявив тем самым свою духовность, есть нечто такое, чем можно дополнительно гордиться. Но поскольку нарцисс не признаёт ничьих «я», кроме собственного, он не может примириться с тем, чтобы «я» того, кого он любит, оставалось самостоятельным и независимым, ибо в этом случае оно будет другим «я», наличие которого он не сможет отрицать из-за своей от него зависимости. Поэтому он тут же начинает предпринимать усилия, чтобы включить чужое «я» в собственное, тем самым укрупняя его и делая более прочным, из-за чего его любовь становится тиранией, нескончаемой войной за полную власть над любимым. Ну а те, что непричастны к греху эгоцентризма, как они ведут себя во влюблённости? Ответим вопросом на вопрос: а разве есть хоть один человек на земле, непричастный к нему, – ведь именно эгоцентризм есть первородный грех, генетически переданный нам всем Адамом и Евой, которые пожелали «стать как боги», то есть поставить в центр мира себя. Это желание в той или иной степени сообщается и нам, их потомкам, уже при нашем рождении, и пусть не вводит никого в заблуждение типичная для влюблённого экзальтация. В ней тоже подсознательный эгоизм: намереваясь вобрать «я» возлюбленного в собственное «я», влюблённый заинтересован в том, чтобы оно было значительным и высоким, а ещё лучше – божественным. «Эта личность должна стать моей, – рассуждает влюблённый в своих тайных мечтах, – так пусть она будет как можно более ценной, чтобы максимально меня обогатить». И строит преувеличенно прекрасный образ, готовя этим прочное утверждение своего собственного «я», так необходимое ему в момент, когда вейсмановский удав собирается его проглотить. Так что брачная любовь, даже тогда, когда влюблённый готов прыгнуть с крыши, оборачивается на поверку не отдаванием, а присвоением. Но идеализация возлюбленного, подсказанная заботящимся о нас инстинктом, оказывается в итоге бесполезной. Инстинкт не умеет философствовать и не понимает, что в данной ситуации присутствует принципиально неразрешимая антиномия. Идеализируя, тем более обожествляя любимого, мы должны приписать ему самые большие достоинства, и величайшим из них является свойство быть личностью, которое выражается в самостоятельности и непредсказуемости, свидетельствующих о наличии внутренней свободы, а такую личность сделать частью своего «я» невозможно. Целиком подчинить себе удаётся только безвольную, бесхребетную натуру, а зачем нужно такое приобретение – оно ведь не обогатит и не укрепит. В этой антиномии и заключается неустранимая причина любовной муки: влюблённому необходимо, чтобы личность любимого принадлежала ему целиком, но если бы она была вся ему отдана, то любимый перестал бы быть личностью. Однако до этого дело никогда не доходит, поскольку отнять у человека его «я» можно только одним способом – убив его. Иногда безумно влюблённые так и делают – физически ликвидируют предмет страсти, чтобы он после этого «навеки» принадлежал им. В Священном Писании неоднократно говорится о муже и жене: «Да будут двое одна плоть», но там ни разу не сказано «да будут одна душа». При самой большой близости двух людей души у них остаётся две. Лишиться души – значит умереть. Думается, теперь нам окончательно ясно, что всеблагой Бог, Творец и Вседержитель мира, не может быть возбудителем того противоречивого и эгоистического чувства, доставляющего человеку невыносимые страдания, которое мы именуем брачной любовью. От Бога исходит совсем другая любовь, о которой давно сказал преподобный Исаак Сирин: «Что такое сердце милующее? Возгорание сердца у человека о всём творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слёзы от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения умиляется сердце его, и не может оно вынести, или видеть, или слышать какого-нибудь вреда, или малой печали, перетерпеваемой тварью. А посему и о бессловесных тварях, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились они и очистились, а также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его, по уподоблению в сем Богу». В одной из церковных молитв христиане обращаются к Богу с просьбой: «Уязви нас Твоею любовью». Исаак Сирин был уязвлён ею, и она сделала «милующим» его сердце, то есть она есть милосердие. Она смотрит на мир через слёзы сострадания, она заставляет жалеть и бедных крокодильчиков, которым бывает так плохо при часто случающихся в Африке засухах, и птенчика, выпавшего из гнезда и с писком ищущего вокруг свою маму, и даже демонов, духов зла, которые мучаются своею злостью. Скажите, что же общего между этой любовью и той войной, которую ведут между собой влюблённые за первенство, постоянно упрекая друг друга: «Ты мало меня любишь!» Разве придёт в голову человеку, уязвлённому Божественной любовью и источающему её на всю тварь, сетовать на то, что его мало любят? Он не только не требует какой-то ответной любви, он считает себя совершенно её недостойным. Как же тогда понять метафизическую сущность того устойчивого обожествления брачной любви, которое стало чуть ли не основной составляющей европейского искусства Нового времени? Его началом считается эпоха Возрождения. А что возрождалось в эту эпоху? Дух античности. Хотя христианская вера была в целом ещё крепка и католическая Церковь имела огромную силу, культура начала высвобождаться из-под её цензуры и всё больше обращать свой взор к древнегреческому и древнеримскому язычеству. А что такое язычество? Сказать, что эта религия с начала до конца ложна, что она основана на диких суевериях и безудержной фантазии, было бы неправильно. Чистой ложью долго не проживёшь, она несёт в себе разрушение и собственную гибель. Чистой ложью был марксизм, вот он и продержался всего семьдесят лет и с позором рухнул. А на язычестве многочисленные народы держались тысячи лет и не вырождались, а некоторые из них, например древние греки или египтяне, создали на его основе высокоразвитые цивилизации. Нет, это была не полнейшая ложь и чепуха, а частичная истина, удовлетворявшая людей до тех пор, пока они не созрели для восприятия полной истины. Сегодня нам, православным, уже нет необходимости относиться к язычеству с полемическим задором, как это делали первые христиане ради его решительного преодоления, и мы, не рискуя пошатнуться в своей вере, можем признать, что в нём содержалось понимание по крайней мере одного важного аспекта мироустройства: наличия в природе бесплотных сил, каждая из которых опекает и охраняет что-то своё. Такое представление нисколько не противоречит христианскому учению и, взятое само по себе, является как раз частичной истиной. Ложь язычества возникает там, где оно, не поднявшись до познания Единого Бога, Творца и Вседержителя вселенной, начинало эти сотворённые Им и подчинённые Ему силы считать и называть богами. И эту ложь твёрдый в вере христианин должен категорически отвергать. Но с XV века европейские христиане стали постепенно терять твёрдость своей веры, и первым следствием этого, как это бывало и при отступничестве древних израильтян, было сползание к язычеству. Те тварные духи, которые в последовательно христианском миропонимании являются или ангелами-хранителями, или бесами, начали теперь восприниматься как божества. И в сознание и культуру европейцев возвратился в качестве божества и опекун рода и вдохновитель брачной любви. А поскольку формально люди остались христианами и знали с детства, что Бог только один, они этого Единого Бога и посчитали открывающимся влюблённым в их взаимной страсти. И хлынул на читателей неиссякаемый поток стихов и прозы, воспевающих брачную любовь как небесное блаженство. А вот в самой античной культуре отношение к высшим покровителям любви, несмотря на то что они именовались богами, было гораздо более сдержанным и трезвым. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить метафизику любви Платона. Она была совершенно не такой, какой мы представляем её сегодня. Термин «платоническая любовь» в наше время относят к любви настолько возвышенной и идеальной, что она изгоняет саму мысль о физическом соединении с любимым. Неизвестно, как возникла такая трактовка, но придумать её мог только тот, кто не читал самого Платона, а только слышал о каких-то «разрезанных половинках», которые ищут друг друга и не могут успокоиться, пока не найдут. Красивый образ, не так ли? Но в подлинном тексте Платона красотой и не пахнет, напротив, он очень груб и циничен. Настолько груб, что приводить теорию любви Платона в его собственном изложении мы не решимся, а дадим её смягчённый пересказ. Начнём с того, что платоновская «половинка» ищет не ту личность, с которой она образовывала когда-то четырёхрукое и четырёхногое существо с двумя обращёнными в разные стороны лицами, двумя животами и без спин и двумя комплектами половых органов – по одному под каждым животом, описывая которые Платон смакует все подробности. Такими были люди в давние времена. Поскольку они были в два раза сильнее нынешних и весьма превозносились своей силой, Зевс стал опасаться, что они перестанут приносить ему жертвы, и велел Аполлону рассечь их надвое по вертикали, отсоединив друг от друга два лица, два живота, две пары рук и ног и, конечно, половые органы. После этой операции людей стало вдвое больше, но они сделались вдвое слабее и уже не угрожали бунтом против богов. А теперь самое интересное: сочетание полов у укрупнённых древних людей было, как можно понять, совершенно случайным, и если применить к ним теорию вероятностей, получится, что четверть из них составляли люди типа «мужчина-мужчина», другую четверть – типа «женщина-женщина» и оставшуюся половину – смешанные люди. Так вот, у «половинок» этих разрезанных монстров сохранилась генетическая память о том, какой пол был когда-то с ними соединён, и именно к этому полу их влечёт с такой силой, что они не могут насытиться совокуплением с ним. В соответствии со своим происхождением среди мужчин должна быть половина «голубых» и половина нормальных и то же среди женщин, хотя Платон был бы категорически не согласен считать влечение друг к другу противоположных полов «нормальным». Высшим человеческим существом был для него мужчина, а женщина – низшим. Поэтому он говорил о двух богинях любви, двух Афродитах: та, которая опекала совокупление между собой высших существ, взаимную страсть содомитов, была у него благородной; та же, которая ведала любовью между высшими и низшими существами, то есть между мужчиной и женщиной, получила у него наименование «вульгарной». Ну а невидимая покровительница любви между двумя низшими существами, царица лесбиянок, была в глазах Платона настолько презренной, что он не удостаивал её какого-либо имени и даже, вероятно, статуса божества. Итак, чем же, выходит, является культ влюблённости, в течение четырёх или пяти веков захлёстывавший называвшую себя христианской Европу? Культом низшей из двух платоновских Афродит, ставшей образцом для подражания в эпоху Возрождения и после неё. Но в этом подражании европейская культура переборщила: то, что великий ум Древней Греции Платон считал «вульгарным», было возведено ею в ранг высочайший и стало связываться с самим христианским Богом (вспомните письмо Герцена: «Ты, Наташа, и есть Христос»). А поскольку об этом можно сказать и так, что Бог низведён до уровня тварного духа, то это было также и арианство. Таким образом, культ влюблённости есть не только ухудшенный вариант античного язычества, но и впадение в арианскую ересь. В завершение этого раздела необходимо сказать несколько слов о теории Фрейда. В ней, несомненно, имеется элемент истины, а именно – концепция «сублимации», то есть облагораживания низменного полового влечения возвышенным чувством влюблённости. Здесь ему надо отдать приоритет – он первым развенчал идеализируемую всей тогдашней культурой брачную любовь, лишив её статуса божественности. Однако он неверно понял причину такого облагораживания, объясняя его необходимостью подчиняться правилам приличия, налагаемым «общественной цензурой», и не обнаруживать своих животных инстинктов. А дальше его занесло в дебри совершенно ложных идей эдипова комплекса, и говорить о нём как о серьёзном философе из-за этого стало невозможно. Часть 5 По есть и другой способ уберечь свое «я» от порабощения опекуну рода, к которому прибегают очень многие: преодолеть детский страх перед сексуальной физиологией и смотреть на неё как на природную необходимость, время от времени отдавая ей дань, а от одного погружения в неё до другого быть от неё независимым и, ни в кого не влюбляясь, решать духовные проблемы, помышляя о высоких предметах и совершенствуя свой внутренний мир. Поступая так, человек заявляет вейсмановскому молоху: «Я плачу тебе подать, и с тебя хватит; оставь меня в покое и не пытайся подчинить себе всю мою жизнь». Насколько оправдан такой метод и действительно ли он содействует сохранению личности? Прежде чем рассматривать все плюсы и минусы такого поведения, надо дать ему точное определение, выражающее его суть. Конечно, это хотя и дозированный, но самый настоящий блуд, который путём некоторых ограничений хотят взять под контроль и отделить от главного содержания своего бытия. Это периодическое выпускание пара, имеющее целью снизить его давление на психику. Давайте же подумаем, осуществима ли такая хитрость. Отвечая на этот вопрос, надо дать себе отчёт, кого тут берутся перехитрить. Говорят, природу не обманешь, но тут человек имеет дело не с абстрактной «природой», а с одним из её волевых центров, наделённым огромными полномочиями; с центром активным и неусыпно выполняющим свои обязанности ангела-хранителя рода. Его сила так велика, что нам трудно это вообразить. Одно приближение этого служебного духа с многотысячелетней практикой вызывает в том, к кому он приблизился, колоссальное возбуждение, ибо (напомним высказывание митрополита Кирилла) его можно сравнить с мощным силовым полем, и оно действует на сознание индивидуума примерно так же, как магнит действует на стрелку компаса, которая в его присутствии начинает беспорядочно дергаться во все стороны, будто взбесившись. Что только не начинает вытворять живое существо, ощутив близость того «великого и неопределимого», которое вызвало у Андрея Болконского неожиданный спазм в горле. Спазм – это мелочь, бывает похлеще. Влюблённый лебедь кругами бороздит озеро с поднявшимися дыбом перьями, и даже более крупные и сильные его сородичи уступают ему дорогу, зная, что в это время он безрассудно смел и агрессивен. Глухари на току не видят и не слышат подошедшего вплотную охотника. Самцы копытных в период гона тоже выпадают из разряда нормальных животных. Олени, например, сутками стоят на поляне, толкая друг друга рогами, и нередко так и гибнут, не сумев расцепиться. О полной невменяемости собак при течке всем хорошо известно. Есть примеры и умилительного экстравагантного поведения особей, попавших в поле повелителя рода. Самец одной африканской птички готовит для своей подруги метровый шалаш из веточек и украшает его таким количеством цветов, что он превращается в оранжерею. А что сказать о людях? Из-за сложности человеческой психики воздействие родового императива у людей порождает поразительные по своему характеру поведенческие эффекты, не имеющие никакого рационального объяснения и дополняющие перечень синдромов, описываемых в учебниках психиатрии, – гомосексуализм, фетишизм, эксгибиционизм, педофилия, некрофилия, сексуальный маниакализм, толкающий на серийные убийства, пожирание половых органов убитых и т. п. Чем это понятнее мании преследования или клаустрофобии? Ясно, что и там, и там возникает серьёзное повреждение психики, только при шизофрении оно вызывается внутренней причиной, а здесь внешней, а именно – могущественным родовым духом. Несомненно, и пациенты психушки, и люди, услышавшие в себе невнятный, но властный голос рода, в одинаковой степени являются умалишёнными, хотя происхождение этого недуга у них различно. В большинстве случаев проследить причинно-следственную связь между призывными звуками рода и конкретными формами поведения, которыми индивидуум отвечает на этот зов, невозможно, ибо цепочки, связывающие воздействие и ответ, пролегают в области бессознательного. Всё, что мы можем об этом сказать, имеет весьма общий характер: возбуждение, вызываемое болезненным действием родового поля, даёт самые неожиданные метастазы в сложном внутреннем мире человека. Однако в случае, который мы сейчас разбираем, – в случае дозированного разврата – развитие событий достаточно логично. Здесь не всё происходит в сфере бессознательного: причиной именно того ответа, каким, как правило, здесь всё заканчивается, является совесть, чей голос, хотя он обычно очень тихий, можно всё-таки расслышать. Вот что пишет о ней святитель Игнатий Брянчанинов: «Совесть – чувство духа человеческого, тонкое, светлое, различающее добро от зла. Это чувство яснее различает добро от зла, нежели ум. Труднее обольстить совесть, нежели ум… Умертвить совесть – невозможно. Она будет сопровождать человека до страшного суда Христова: там обличит ослушника своего. Храни совесть к самому себе. Не забывай, что ты – образ и подобие Бога, что ты обязан представить этот образ, в чистоте и святости, Самому Богу. Горе, горе! если Господь не узнает Своего образа, не найдёт в нём никакого сходства с Собою. Он произнесёт грозный приговор: “Не знаю вас” (Мф. 25, 12). Непотребный образ будет ввергнут в неугасающий пламень геенны». Хотя совесть совсем умертвить невозможно, её удаётся заглушить, однако, даже ставшие неслышными, её жалобные вздохи производят действие: загнанная вглубь, она отравляет настроение, делает человека раздражительным, отнимает у него радость существования. Отделаться от её укоров можно лишь одним способом: превратив греховное поведение в повседневную практику и убедив себя, что раз это постоянная реальность, значит, это норма. После этого человеку становится легче, а если из сердца прорвётся в сознание какой-то неожиданный упрёк, ум ответит на него: что делать, такова жизнь (а то и добавит для убедительности: все так делают). А вот то поведение, которое мы сейчас обсуждаем – отводить блуду определённое время, а вне этого времени не блудить, – самое неудачное для усыпления совести. Оно не только не может её убаюкать, но регулярно её бередит, ибо личность не способна раздвоиться, и в этой остающейся единой личности встречаются два разных образа жизни – основной и побочный, которые легко сравнить между собой, и тот факт, что первый есть добро, а второй есть зло, становится очевидным, а это сразу активизирует совесть, давая ей поддержку. Тут уже начинается серьёзный душевный разлад, солнце тускнеет на небе, трава перестает быть зелёной, и сердце всё чаще сжимается от тоски, и единственным средством избавиться от всего этого может стать легализация того нелегального, что человек хотел вынести за пределы своей личности, но не смог, ибо личность его неделима. А как осуществится такая легализация, мы можем предвидеть: молоху, от которого пытались откупиться подачками, искусственно будет придано чье-то конкретное человеческое лицо, и блуд тем самым облагородится. Дальше облагороженный влюблённостью блуд войдёт уже в орбиту основной жизни личности и через это родовой гений овладеет этой жизнью целиком. Так, надев маску «единственного и неповторимого любимого существа», повелитель рода перейдёт из передней, где его пытались держать как слугу, в дом, займёт лучшие его комнаты и станет хозяином. Иначе и не могло быть. Когда слабый затевает игру с сильным и пытается использовать его в своих целях, это всегда кончается одним и тем же: сильный перепоясывает слабого и ведёт его туда, куда он не хочет идти. Абсурдно садиться за шахматную доску с властелином рода, даже если ты гроссмейстер – он в любой момент может смести на пол фигуры, а доской раскроить тебе череп. Провал стратегии дозированного блуда почти всегда бывает не просто сокрушительным, но и позорным. Не выдерживая раздвоения между нравственной жизнью и блудом и инстинктивно желая накинуть покров нравственности и на блуд, человек возводит в ранг возлюбленного именно того, с кем блудит, чтобы уничтожить источник напряжения на его собственной территории. И оказывается вполне закономерным, что мужчина, который «ради здоровья» нанимал проститутку, именно в неё и влюбляется и даже предлагает ей выйти за него замуж. Хорошо, если у той хватает ума отклонить это предложение, а если нет? Грустно и подумать о том, какие ужасные последствия повлечёт за собой такой безумный поступок. Эта трагическая ситуация описана во многих художественных произведениях, в частности в «Германтах» Марселя Пруста, где знатный аристократ Сен-Лу безумно влюбляется в проститутку-еврейку. Такие случаи не только доказывают самоохранительную природу влюблённости, являющейся защитной реакцией на угрозу деградации личности, но и показывают, что она по своей сути столь же патологична, как и другие психические аномалии, порождаемые вторжением в нашу индивидуальную жизнь хозяина гамет, требующего от нас ради их бессмертия пожертвовать значительной частью нашего собственного «я». Может показаться, что это всё-таки самая безобидная форма половой патологии: влюбчивый человек ведь не серийный убийца! Да, если сравнивать одного донжуана и одного джека-потрошителя, то первый предпочтительнее, но если учесть, что любовная лихорадка трясёт многих, а потрошители весьма редки, и сравнивать общую сумму вреда, наносимого одной формой заболевания и другой, то баланс резко изменится, ибо феномен безумной влюблённости, поощряемый и идеализируемый романтической постхристианской культурой, служит причиной гораздо большего числа убийств, включая самоубийства, чем совершают все серийные маньяки, вместе взятые. Я знаю, что многие читатели будут возмущены отнесением влюблённости к разряду патологических состояний. В основном негодовать будут те, кто недавно сам вошёл в это состояние и пока ещё испытывает эйфорию. Ну, с этими что ж полемизировать – они ведь находятся «под колпаком» у родового гения, который не только заставляет их совершать неординарные поступки, но и искажает нормальное мировосприятие. Вот пройдёт период восторга, блаженство сменится страданием, и тогда, может быть, они поумнеют и согласятся с нами. Но и среди тех, кто пережил любовное наваждение, найдутся такие, которые скажут: но ведь не всё, что ощущаешь в период безумной влюблённости, обман, в этой горячке открывается сердцу и что-то подлинное, и в душе рождаются и высокие чувства. С этим не поспоришь, конечно, это так. Да и как может быть иначе? Однако в любовной лихорадке конкретные образы и мысли, всплывающие на поверхность кипящего сознания, вторичны. Первично же само кипение, вызванное приближением вейсмановского молоха, а в кипящей смеси на поверхности могут ненадолго появиться и элементы, заслуживающие внимания. Но изучать их в таком бурлящем хаосе – не самая лучшая методика. Неспецифичность возбуждения, генерируемого подошедшим к нам вплотную хранителем рода, убедительно доказывается тем несомненным фактом, что страстная любовь в один момент может превратиться в лютую ненависть: наша реакция на присутствие молоха состоит не в конкретных эмоциях, а в их интенсивности. Смена одного сильного чувства на столь же сильное противоположное в период влюблённости многократно описана в литературе. Едва ли не лучше всех показал, как это бывает, Лермонтов в сцене прощального свидания Печорина с княжной Мери из «Героя нашего времени». «Вот двери отворились, и взошла она. Боже! Как переменилась с тех пор, как я не видал её, – а давно ли? Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довёл её до кресел. Я стоял против неё. Мы долго молчали; её большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; её бледные губы напрасно старались улыбнуться; её нежные руки, сложенные на коленах, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль её. – Княжна, – сказал я, – вы знаете, что я над вами смеялся?.. вы должны презирать меня. На её щеках показался болезненный румянец. Я продолжал: – Следственно, вы меня любить не можете… Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слёзы. – Боже мой! – произнесла она едва внятно. Это становилось невыносимо; ещё минута, и я упал бы к ногам её. – Итак, вы сами видите, – сказал я сколько мог твёрдым голосом и с принужденной усмешкою, – вы сами видите, что я не могу на вас жениться; если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении; вам легко её разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот всё, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь… Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня любили, то с этой минуты презираете?.. Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза её чудесно сверкали. – Я вас ненавижу. – сказала она». Этот отрывок – настоящий подарок тому, кто хочет понять истинную природу влюблённости: тут все чистая правда. Лермонтов действует здесь как патологоанатом, будто скальпелем вскрывая душу бедной княжны и говоря нам: смотрите, как она больна! И болезнь эта причиняется тем древним родовым духом, который приказывает ей иметь мужа и детей, и от этого приказа она приходит в страшное волнение и переходит от любви к ненависти и обратно, не зная, как унять поднявшуюся в ней бурю. Конечно, реальный Печорин с его достоинствами и его нехорошим поведением, в котором он с таким удовольствием признаётся, тут ни при чём – дело в образе Печорина, который она создала в своей душе, чтобы возвышенным влечением к этому выдуманному образу прикрыть для себя самой выполнение по воле стража гамет низменной функции их воспроизводства. То, что княжну будоражила собственная фантазия, которой она спасала свое «я», не допуская появления в нём ничего неприличного, обнаружится через год-другой, когда она найдёт-таки себе мужа (с таким приданым это не проблема), и Печорин останется в её памяти дурным сном, а то и забудется, будто его и не было. Ну а если говорить о том начальном периоде влюблённости, когда идеализированный образ не начал ещё давать трещину? Может быть, это не одна идеализация, а отыскание в избраннике того лучшего, что в нём есть, которое для равнодушного взора остаётся незамеченным? Именно так представляют дело апологеты влюблённости. Они говорят: возвышенный образ возлюбленного не целиком ложен – ведь в каждом, даже самом худом человеке скрыт образ Божий, и чуткое любящее сердце умеет его разглядеть. Не очень убедительное рассуждение: чаще всего предмет страсти наделяется такими достоинствами, которых у него вообще нет, поэтому страсть и называется «слепой». Однако какая-то доля правды в этой теории содержится, а раз так, то не прибегнуть ли нашему бедному «я», терроризируемому властелином рода, к такой тактике: насладиться тем лучшим, что открывается в возлюбленном в утренний час любви, а как обозначится чёткое дневное освещение предметов, расстаться с ним, а если придёт следующая утренняя романтическая любовь, повторить этот приём снова? Часть 6 Конечно, воздействие культуры на умы и сердца огромно, и, подавая влюблённость как святое чувство, выше которого ничего нет, западноевропейское искусство, а с XVIII века под его влиянием и русское нанесло людям невообразимый вред, толкая десять поколений молодёжи на экзальтацию вспыхнувшей страсти и идеализацию её предмета, на оправдание этой страстью неблаговидных поступков, включая ссору и разрыв с родителями. Издававшимися в невероятном количестве любовными романами было искалечено и поломано немало жизней. Но ведь во все времена существовали трезвые, практичные натуры, которых не собьёшь с толку сочинениями, и они-то понимали, что брачная любовь есть опасное наваждение, с которым шутки плохи. Как же они вели себя, когда влюблённость, как инстинктивная защитная реакция против биологичности родовой жизни, не спросясь, приходила и к ним? Они выбирали один из двух вариантов: либо брали от своего чувства то приятное, что оно даёт в начальной фазе, освобождаясь от него незадолго перед тем, как оно перерастёт в муки неудовлетворённости, либо гнали его прямо с порога. А если уж жениться, считали они, то по здравому решению, а лучше вообще не жениться. …Семидесятые годы XIX века. По просёлочной дороге, пересекающей заснеженные нивы Орловщины, катится запряжённая парой лошадей карета. Утонув в мягком сиденье, в ней едет элегантно одетый красивый старик с поседевшей русой бородой и совсем белыми волнистыми волосами – настоящий барин, каких скоро уже не будет в России. Он едет в Париж, но думает не о нём. О чём же? Он сам рассказал об этом. Нехотя вспомнишь и время былое, Вспомнишь и лица, давно позабытые… Одни воспоминания влекут за собой другие, усталая память пробуждается, и лица, явившиеся из прошлого, оживают и возвращаются, будто они и не уходили. Вспомнишь обильные, страстные речи, Взгляды, так жадно, так робко ловимые, Первые встречи, последние встречи, Тихого голоса звуки любимые… Ах, Иван Сергеевич! Зачем же ты, русский богатырь, вскормленный на этой неоглядной лесостепи, тащишься в тесную и людную Францию, в это царство мещан и скопидомов? Что на свете может быть лучше твоего Спасского-Лутовинова? Зачем ты от него бежишь? Видно, крепок был наш богатырь, всё мог выдержать, даже жизнь на чужбине, где не мог он выйти росистым утром с ружьём и собакой в наполненные птичьим гомоном перелески. И даже те, единственные на свете глаза, что сияли любовью, и тот единственный на свете милый голос, что трепетал от любви, не одолели тебя – выдержал и их, перемолол, забыл. Убежал от них, как бежишь сейчас от России, и расстался с ними. Да нет, дело тут не в крепости, а в мудрости. Просто надо уметь жить, а он умел. В чём же заключается эта житейская мудрость? Он ответил на этот вопрос и своей биографией, и своими произведениями: чуть почуял, что можешь «втюриться», уноси ноги! В «Отцах и детях» он ставит нам в пример помещицу Одинцову. Придя в себя после бурного объяснения с Базаровым, она решила: «Нет, Бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие всё-таки лучше всего на свете». В этой формуле и содержится первый способ избегать муки любовного состояния: не дать себе слишком глубоко войти в это состояние. «Её спокойствие не было потрясено; но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, только не от нанесённого оскорбления. Она не чувствовала себя оскорблённою; она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за неё – и увидала за ней даже не бездну, а пустоту… или безобразие». Какая же умница была эта Анна Сергеевна Одинцова, как хорошо понимала она «фатальную обречённость» любовного опьянения, о которой десятилетия спустя писал Бердяев, – этого обмана, прикрывающего романтической кисеей будущую трагедию. Но ведь y неё был уже жизненный опыт. А вот молоденькие девушки не могут быть такими умными, поэтому надеяться на то, что их охладят подобные логические рассуждения, не приходится. Их ангел-хранитель понимает это и даёт им спасительный инстинкт «девичьей гордости», предостерегающий их от сближения с понравившимся человеком. Это замечательное качество женской половины человечества, дающее о себе знать чуть ли не с детского сада, а уж в школьные годы расцветающее пышным цветом, много раз воспевалось в художественной литературе и в фильмах. Но не только светские моралисты, а и православные духовники, в сознании которых гордость выступает одним из смертных грехов, советовали исповедующимся у них девушкам быть с молодыми людьми нарочито заносчивыми и высокомерными. И это частично ослабляло вред, наносимый романтической литературой. Второй способ является более кардинальным. Им советовал воспользоваться Пьеру Безухову Андрей Болконский, сам вовремя его не оценивший: «Никогда, никогда не женись, мой друг; вот тебе мой совет, не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал всё, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь её ясно, а то ты ошибёшься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда не годным. А то пропадёт всё, что в тебе есть хорошего и высокого. Всё истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждёшь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя всё кончено, всё закрыто, кроме гостиной, где ты будешь на одной доске с придворным лакеем и идиотом… Да что!..» Другой персонаж Толстого, Позднышев из «Крейцеровой сонаты», высказывался против брака намного резче: «Ведь что, главное, погано, – начал он, – предполагается, в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить, и вспоминать мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут, напротив, люди делают вид, что мерзкое и стыдное прекрасно и возвышенно. Какие были первые признаки моей любви? А те, что я предавался животным излишествам не только не стыдясь их, но почему-то гордясь возможностью этих физических излишеств, не думая при том нисколько не только о её духовной жизни, но даже и об её физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно: озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло её… Так мы и жили, в постоянном тумане, не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил ещё до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался. А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видеть этого. Я ещё не знал тогда, что 0,99 супружеств живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе, тогда я ещё не знал этого ни про других, ни про себя». И у князя Андрея, и у Позднышева иллюзии относительно любви рассеялись лишь после неудачных браков, так что здесь мы видим мудрость, пришедшую задним числом. Да и то ненадолго, во всяком случае у первого. Побыв после смерти жены какое-то время убеждённым холостяком, Болконский неожиданно для самого себя влюбился в Наташу Ростову, но тут, слава Богу, до женитьбы дело не дошло из-за её попытки убежать с Анатолем Курагиным. Настоящим убеждённым холостяком был Тургенев, влюблявшийся очень часто, но всегда избегавший попадания в брачные сети. Однажды он сказал: «Когда придёт такая весна, в которую я не влюблюсь, значит, в этом году я умру». Однако он всегда умел подавить своё увлечение, когда оно становилось опасным для его свободы. Но тургеневский вариант всё-таки не выход. Менять любовниц, даже испытывая к каждой из них высокие чувства, как ни говорите, есть блуд, а значит, скотство. Подлинно кардинальным решением проблемы является полное безбрачие, абсолютно целомудренная жизнь. К ней и призывал когда-то своих духовных чад апостол Павел: «Хорошо человеку не касаться женщины… ибо желаю, чтобы все люди были, как и я (то есть девственными). Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков. Если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль. Я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем; как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицей: незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтоб быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечений. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше» (1 Кор. 7). Конечно, то, что заповедует здесь первоверховный апостол, не придумано им самим. Ни один из учеников Христа, смотревших на всё Его глазами, не осмелился бы учительствовать по такому важному, может быть, самому важному для человека вопросу, как вступление или невступление в брак, по собственному разумению. Как и всюду, в этом месте святой Павел лишь пересказывает речение Иисуса, содержащееся в Евангелии в более краткой форме и иносказательно. Вот оно: «Есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19,12). Эта мысль, намеренно завуалированная Иисусом для того, чтобы быть услышанной только теми, «кто имеет уши», является прямым продолжением тех поразивших народ заповедей, которые звучали в Нагорной проповеди. Так же, как «подставь другую щёку» или «любите врагов своих», она есть для иудеев соблазн, для эллинов – безумие. У израильтян производить потомство считалось первейшей обязанностью всякого, бездетные люди вызывали общественное презрение как проклятые Богом; в Риме основной опорой империи была семья (домус), она служила исходной единицей знаменитого римского права, и ей придавалось сакральное значение. И вдруг безбрачие не только получает одобрение наряду с супружеством, но и становится выше супружества! Надо сказать, что и сознание современных номинальных христиан, потерявших былую твёрдость веры, тоже изо всех сил противится признанию того, что отказавшиеся от участия в родовой жизни (по Евангелию, «сами себя оскопившие») избирают «царский путь», то есть путь, вернее всего ведущий в Царство Небесное. В преподавании и особенно в публичных лекциях постоянно сталкиваешься с широчайше распространённым в православной среде убеждением, будто существуют два равноправных способа спастись: монашеский и мирской. Люди, утверждающие это, где-то когда-то слышали фразу: «Можно спастись в браке и погибнуть в монастыре», и это действительно так, но одно дело «можно», а другое – «легче» или «труднее». Нельзя основывать свою философию на афоризмах, а надо прислушиваться к тому, что сказано в Новом Завете и в творениях святых отцов, а там по этому вопросу имеется полное единодушие. Св. Кирилл Иерусалимский: «Брак – серебро, а девство – золото». Св. Феогност: «Нет подвига выше девства». Св. Иоанн Лествичник: «Девство – совершенная святость». Св. Антоний Великий: «Девство – печать совершенства». Св. Киприан: «Девство – цвет в вертограде Церкви, краса и прославление благодати, образ Божий, сообразный святыне Господа». Св. Амфилохий: «Девство – приятнейшее благоухание Господу Иисусу». И наконец, уже в ХХ веке замечательный православный богослов архиепископ Аверкий пишет: «Девство, как высший подвиг, к которому не все способны, поставляется выше супружества. Хотя и честное супружество благословлено, но чистое девство выше супружества, как это всегда учила Церковь». Монашество именуется у православных «ангельским чином», откуда ясно, что оно ставится много выше мирян. Епископом в православии считается быть достойным только монах. Преподобный Серафим придавал такое большое значение девству, что брал в свою «Мельничную обитель» только незамужних девиц. А в Апокалипсисе о Божьем «малом стаде» сказано: «Это те, которые не осквернились с женами» (Откр. 14, 4). Часть 7 Очень прискорбно, что такой фундаментальный пункт христианского учения о человеке, одна из самых важных подсказок Спасителя по поводу желательного образа нашей жизни, хотя и не для всех доступного, принимается с превеликим трудом и даже оспаривается людьми, считающими себя верными чадами православной Церкви. Ведь по этому поводу нет ни малейших расхождений между Евангелием, апостольскими посланиями и святыми отцами. Возражения в этом вопросе можно приравнять к возражениям против заповедей блаженства, ибо в обоих случаях не может быть никакого вопроса. В некоторых западных конфессиях, где епископами становятся женщины и содомиты, уже оспаривается и то и другое. Но ведь это не только не христиане, каковыми они себя именуют, но даже и не язычники, а просто мерзость. А мы-то – русские, православные люди! Как же мы можем даже в глубине души допустить такую явную ересь, как утверждение, будто жизнь в браке, в которой неизбежно присутствует элемент блуда, равночестна ангельской чистоте тех, кто решительно отверг животный аспект своей природы и захотел стать духовным существом, предваряя уже на земле будущее пребывание в Небесном Царстве, где, как известно, «не женятся; не выходят замуж» (Мф. 22, 30)? Есть у наших православных ещё одно ошибочное мнение: они утверждают, будто целью христианского брака является деторождение; что когда верующие супруги предохраняются или «высчитывают дни», то они совершают грех. Это тоже полная «отсебятина». Если бы это было так, то Иисус обязательно сказал бы об этом в Евангелии, да не один раз, и апостолы в своих посланиях подробно раскрывали бы этот тезис, ибо они писали именно для того, чтобы дать повседневной жизни пасомых верное направление. Однако во всём Новом Завете есть единственное место, которое может стать зацепкой для такого утверждения, но вывод, который из него делают, является незаконным – по правилам логики он из текста не следует. Речь идёт о следующих словах апостола Павла, содержащихся в Первом послании Тимофею: «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщён; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем спасётся чрез чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2, 11–15). Только при очень большом желании и очень большой предвзятости это высказывание можно истолковать так, будто Богу очень нужны новые поколения, и потому Он готов простить женщине многое, лишь бы она Ему их воспроизводила. Не надо путать несоизмеримые и несопоставимые инстанции! Новые поколения нужны вейсмановскому гению рода, и это он требует их от нас, ничем, правда, за это не вознаграждая, а нашему Богу нужны не новые и новые поколения, а святые люди. Поручив заботу о воспроизведении зародышевой плазмы низшим духам, Господь печётся совсем о другом – о спасении отдельно взятого индивидуального человека, а произведёт ли этот человек потомство, Ему безразлично. Господь скрыл от духов – хранителей рода, что оберегаемые ими роды рано или поздно будут Им ликвидированы, и духи думают, что будут выполнять свою работу вечно, но нам Он открыл этот секрет, и мы должны сознавать, что у нас, людей, в отличие от животных, спасённая личность выше рода, ибо она обретает бессмертие, а род смертен. Пусть он просуществует десять тысяч лет, пусть он включает в себя миллиарды индивидов, всё равно тысячи, умноженные на миллиарды, дадут конечное число, а любое конечное число – нуль перед бесконечностью. И Бог, как существо бесконечное, полагает свой главный интерес в той составляющей человека, которая тоже может стать бесконечной во времени и войти в круг Его «общников», – в персональной душе, которая по Его замыслу должна стать святой и войти в Небесное Царство, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Ко всему же остальному, связанному с людьми, в том числе и к их роду, Он относится как к соломе, которую когда-нибудь придётся предать огню. Это не догадка и не предположение, это подтверждается всем духом и всеми текстами Нового Завета. Если бы Бог, вторгаясь в компетенцию Им же назначенных опекунов рода, сам беспокоился о воспроизводстве поколений, Он не ставил бы девство выше супружества, а богодухновенный апостол не стал бы отговаривать своих духовных чад от вступления в брак. А то, что он сказал о чадородии, относится не к интересам Бога, а к интересам самой женщины. Это ей полезно родить, выращивать и воспитывать дитя, так как это отвлекает от блудной страсти, смиряет, приучает к самопожертвованию и вырабатывает много других качеств души, содействующих спасению. Только так, и никак иначе, надо понимать приведённую выше цитату. Одной из причин массового блуда на Западе является распространение предохранительных средств, позволяющих женщинам уклоняться от чадородия. А тем, кто «не может вместить», апостол советует вступать в брак вовсе не для деторождения, а совсем по другой причине. Послушайте, что он им говорит: «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1 Кор. 7, 8–9). Проникаясь интересами Господа и отбрасывая свои собственные земные интересы, в христианстве появляются поразительные люди – монахи, названные так по слову «монос» – одинокий. Другое их имя – «иноки», в нём подчёркивается их отличие от обычных людей: они – иные. Вступая на путь иночества, человек хочет всецело посвятить себя служению Богу, одним Им жить и дышать, почитая всё остальное за сор. Если ему удаётся устоять против всех соблазнов и преодолеть все колебания, он становится «преподобным», входя в один из высших разрядов святости. «Преподобный» означает «очень подобный». Кому? Конечно, Богу. Он восстанавливает в себе то изначальное богоподобие, которое было дано Адаму и уничтожилось первородным грехом. Ради того, чтобы замысел Творца относительно человека, несмотря на этот срыв, всё же осуществлялся («Бог поругаем не бывает»), Сын Божий вочеловечился, вышел на проповедь, совершал бесчисленные чудеса и исцеления, принял крестную смерть, воскрес, вознёсся на Небо и, ниспослав на апостолов Святой Дух, основал спасающую людей Церковь, открыв нам возможность преодолевать генетически передаваемое от прародителей повреждение и входить в Его Царствие. Преподобные – это те, кто твёрдо решил воспользоваться этой возможностью и не отступает от своего решения, проявляя колоссальную силу воли. Это цвет человечества, возвращающий Творению его исходный смысл, который, как можно понять из многих мест Священного Писания, состоит в том, чтобы человеческий род произрастил нужное Богу количество святых – определённую меру той «пшеницы», которую Он соберёт в свои житницы, отвеяв солому. Вот одно из таких мест, выражающее эту мысль не иносказательно, а прямо: «И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились ещё на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число» (Откр. 6, 9-11). Здесь, правда, говорится о мучениках за Христа, ибо во времена автора Апокалипсиса апостола Иоанна Богослова это был основной разряд святых, но, когда гонения на христиан кончились, его продолжением стали преподобные, чей аскетизм, ношение вериг, строгие посты и бдения, хождение босиком по снегу и прочее есть не что иное, как добровольное мученичество за Христа. И посмотрите: Тайнозритель видит, как святые торопят наступление конца света, но Господь даёт им ответ, смысл которого сводится к следующему: «Я не могу упразднить тварный мир до тех пор, пока он не принесёт Мне плода, ради которого создан, не произведёт необходимого числа святых». Это полностью уничтожает распространённый аргумент против монашества, который можно назвать «демографическим»: если все пойдут в монастыри, кто же будет продолжать людской род? Конечно, такие разговоры – сплошное лицемерие и фарисейство. Вчера ещё эти люди страшились перенаселённости планеты и призывали к «планированию семьи», а сегодня они потеряли сон от мысли, что количество жителей Земли начнёт убывать, если станет много монахов. Высокие натуры, встающие на путь целомудренной жизни, очень редки, и охотников размножаться всегда найдётся в избытке. Платона не смущала перспектива вымирания нации в его идеальном государстве, где правители и стражники не имели права жениться, – он понимал, что ремесленники с лихвой возместят биологическую непроизводительность первых двух сословий. Но упомянутый аргумент несостоятелен и чисто логически. Для возникновения угрозы воспроизведению людского рода нужно, чтобы монахами стали сотни миллионов людей, но в таком случае, если даже один из ста подвижников достигнет святости, в Небесное Царствие войдут миллионы насельников, что моментально «дополнит число», и наш род, выполнив свою функцию, будет больше не нужен Богу. Обратим внимание на один момент, который обычно упускают из виду, ведя эсхатологические разговоры. Принято считать, что чем больше люди грешат, тем скорее настанет конец света – Бог, дескать, потеряет терпение, не захочет больше видеть человеческие мерзости и поставит на истории точку. Но при строгом рассуждении получается обратное: чем меньше будет праведников, тем медленнее будет «дополняться число», и Второе Пришествие будет отодвигаться. В знаменитой притче о талантах Иисус рассказывает о рабе, жившем интересами своего господина. Видя его преданность, господин сказал ему: «Хороший, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многими тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 25, 21). Преподобные воплощают этот сюжет в своей жизни, вернее, в житии. Они начинают с того, что полностью отдают себя служению Господу, выполняя Его заповеди, а в состав этих заповедей биологическое воспроизведение людей не входит. Поэтому такой человек говорит: «Я отказываюсь участвовать в дурной бесконечности родовой жизни, я не хочу быть пересадочной станцией, на которой что-то выносят из почтового вагона, а что-то в него вносят, – я хочу быть терминалом, где поезд останавливается, ибо цель его движения достигнута. Я не собираюсь становиться звеном в цепи истории, я желаю, чтобы на мне закончилась история». Это, конечно, дерзко, но Бог поощряет такую дерзость и вводит дерзнувшего в свою радость. В пьесе Горького «На дне» старика Луку спрашивают: «Для чего живёт человек?» – «Для лучшего», – отвечает он. И разъясняет: рождаются, например, плотники – один хороший, другой умелый, третий искусный. И вдруг появляется на свет такой, что просто чудо какой мастер, лучше плотничать никто не мог и не сможет. Вот ради него и жили все плотники до него. Устами горьковского Луки говорит народная мудрость, и её можно применить к преподобным. Родить нового человека себе на смену имеет смысл лишь в том случае, если он будет лучше тебя. Представим себе какой-то род. Первый родил второго, второй третьего и так далее, и каждый следующий лучше предыдущего. И вот рождается такой, который захотел родить самого лучшего, способного взойти на небеса. Это будет предпоследний в цепочке, а последним станет рождённый им в самом себе, но не биологически, а духовно. Он получит новое имя, а тот, кто его родил, исчезнет из мира. Тут уже нет никакой дурной беспечности, тут возникает смысл и цель. Что толкает человека на то, чтобы вырваться из мирской круговерти и уйти в монахи, став таким образом «крайним в ряду»? Говорят, его призывает к себе сам Бог. Конечно, это так, но как Он это осуществляет? Какие чувства внушает тому, кого решил сделать целиком своим? Думается, Бог ничего не внушает, а просто открывает ему глаза, и земная действительность предстаёт его взору тем, чем она и является на самом деле, – бессмыслицей и скукой. И человек становится «иным». Отныне то, что привлекает остальных, служит предметом их вожделений, – деньги, жизненные удобства, людская слава, власть и даже здоровье, – оставляет его равнодушным. Он ещё не знает, где его счастье, но уже знает, что оно не здесь. А потом настаёт момент, когда Бог приоткрывает ему щёлочку в мир, где его душа только и может найти радость и успокоение, и тогда возврат к мирским интересам становится окончательно невозможным. Щёлочка открывается по-разному. У пушкинского бедного рыцаря это произошло так: Он имел одно виденье, Непостижное уму, И глубоко впечатленье В сердце врезалось ему. Путешествуя в Женеву, На дороге у креста Видел он Марию Деву, Матерь Господа Христа. С той поры, сгорев душою, Он на женщин не смотрел, Он до гроба ни с одною Молвить слова не хотел. Это поэтическая фантазия, хотя так вполне могло произойти и в жизни, и наверняка происходило. Но у нас есть и подлинные свидетельства о том, как Господь «уязвляет» своих избранников, чтобы уже не отпустить их от себя. Наиболее яркое из них – свидетельство преподобного Симеона Нового Богослова (умер в 1022 году), ставшего после дивного видения великим подвижником и великим учителем Церкви. По свойственной всем святым людям скромности он говорит о себе в третьем лице. Рассказ о юноше Георгии «Жил в Константинополе некто по имени Георгий, юноша возрастом лет двадцати… Он познакомился с неким монахом, жившим в одном из константинопольских монастырей, человеком святым, и, открывая ему сокровенности сердца своего, сказал и то, что сильно жаждет спасения души своей. Честный старец, поучив его, как следовало, и дав ему небольшое правило к исполнению, дал ещё и книжицу св. Марка-подвижника, где он пишет о духовном законе. Юноша принял эту книжицу с такою любовью и таким благоговением, как бы она была послана ему от Самого Бога, и сильную возымел к ней веру, надеясь получить от неё великую пользу и великий плод. Почему читал её с великим усердием и вниманием и, прочитав всю, великую получил пользу от всех глав её. При всем том, однако ж, он ничего особенного не делал (как уверял меня с клятвою), кроме того, что каждый вечер неопустительно исправлял то небольшое правило, которое дал ему старец, и не иначе, как исправив уже его, ложился в постель и засыпал. Но со временем совесть начала ему говорить: положи ещё несколько поклонов, прочитай сколько-нибудь других псалмов, проговори сколько можешь большее число раз “Господи Иисусе Христе, помилуй мя!” Он охотно слушался своей совести и, что она внушала ему, делал без размышления всё так, как бы то повелевал ему Сам Бог; и ни разу не ложился спать так, чтобы совесть обличала его, говоря: для чего ты не сделал того и того? Так всегда слушался он совести своей, никогда не оставляя без исполнения того, что сделать она внушала ему. А она каждый день всё больше и больше прилагала к обычному его правилу, и в немногие дни вечернее его молитвословие возросло в великое последование. Однажды, как он стоял таким образом на молитве и говорил умом паче, нежели устами: “Боже, милостив буди мне, грешному”, – внезапно низошло на него свыше божественное осияние пресветлое и исполнило всё то место. Тогда забыл уже юноша сей, что находится в комнате и под кровлею, потому что во все стороны виделся ему один свет, не знал даже, попирает ли он землю ногами своими; ни о чём мирском не имел уже он попечения, и не приходило тогда на мысль ему ничто из того, что обыкновенно бывает на уме у тех, кои носят плоть человеческую; но был весь срастворён с невещественным оным светом, и ему казалось, что и сам он стал светом; забыл он тогда весь мир и исполнился слёз и радости неизречённой. Потом его ум востёк на небеса, и он увидел там другой свет, более светлый, чем тот, который был окрест его. И показалось ему, к изумлению его, что вскрай света того стоит помянутый выше святой оный и равноангельный старец, который дал ему небольшую ту заповедь о молитве и книжицу св. Марка-подвижника… Когда прошло видение и юноша очнулся, то нашёл себя (как говорил после) всего исполненным радости и изумления, и плакал от всего сердца, которое слезами было наполняемо и сладостью великою. Наконец лёг он в постель; но тотчас запел петух и показал, что была уже полночь. Немного спустя заблаговестили и церкви к утрени; и юноша встал, чтобы прочитать, по обычаю своему, последование утрени. Так он совсем не спал в ту ночь: сон и на ум ему не приходил. О том юноше после я узнал от него же самого и следующее. Я встретил его, когда он стал уже монахом и провёл в монашеской жизни года три или четыре. Было ему тогда тридцать два года. Я знал его очень хорошо, мы от юности были друзьями и воспитывались вместе. Так он и рассказал мне следующее: “После оного дивного видения и изменения, бывшего во мне, немного прошло дней, как со мною случились многие искушения мирские, по причине которых, во время совершения мною тех сокровенных по Богу деланий, я увидел в себе, что мало-помалу лишаюсь блага оного, и сильное возымел желание удалиться от мира и в уединении искать Христа, мне явившегося, ибо верую, брате, что для того Он и благоволил явиться мне, чтобы взять к Себе и меня, недостойного, отделив от всего мира. Но как я не мог этого исполнить тогда же, то мало-помалу забыл всё, что пересказывал тебе прежде, и впал в совершенное омрачение и нечувствие, так что не помнил уже ничего из того, что сказывал тебе, ни малого ни большого, до самомалейшего движения мысли или чувства… Теперь же, как видишь, милосердный Бог презрел множество грехов моих и устроил мне сделаться монахом от того самого старца и сподобил всегда пребывать с ним вместе, поистине недостойному. После чего с великим трудом и обильными слезами, при решительном отчуждении и отделении от мира, совершенном послушании и отсечении своей воли, многих других делах и приёмах строгого самоумерщвления и неудержимом стремлении ко всему доброму удостоился я опять увидеть, хотя некоторым образом примрачно, малый луч сладчайшего оного и божественного света. Но такого видения, как то, которое видел тогда, даже доселе я не сподобился увидеть опять”». Через восемь столетий нижегородский помещик Николай Мотовилов по молитве своего духовника преподобного Серафима Саровского удостоился увидеть точно такой же свет – в божественной природе ничего не меняется! Вот его письменный отчёт, в конце которого он выражает готовность подтвердить сказанное «под присягою». «Представьте себе в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, но не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца». Вот что видят те, кому действительно открывается Бог. А что видят влюблённые? На первый, поверхностный взгляд – то же самое. Кити Щербацкая была для Левина «улыбка, озаряющая всё вокруг». И Мотовилов видел сияние, озаряющее поляну. И Симеон Новый Богослов видел свою комнату, «осиянную светом». Это сходство и сбило с толку некоторых философов, пришедших к выводу, будто влюблённость есть род Богоявления. Но напомним, что подлинная философия есть тонкое различие вещей, а при подходе, учитывающем тонкости, тут обнаруживаются коренные различия. Первое различие состоит в том, что при подлинном Богоявлении душа человека выходит из его собственного замкнутого «я» и вливается во что-то огромное внешнее, но не теряет себя при этом, напротив, приобретает в гораздо более высоком качестве, а в мнимом богоявлении, каким является влюблённость, душа сосредотачивает свои чувства на себе самой, ощущая себя центром мира и вбирая в себя всё окружающее, будто оно только этой душе и служит. В итоге «я» влюблённого по его субъективному представлению безгранично разрастается, но это представление, конечно, ложно. Вот что чувствовал св. Симеон Новый Богослов: «Был весь срастворён с невещественным оным светом, и ему казалось, что и сам он стал светом». А вот что ощущал влюблённый Левин, то есть Толстой: «Левин вышел на крыльцо. Извозчики, очевидно, всё знали. Они со счастливыми лицами окружили Левина, споря между собой и предлагая свои услуги. Стараясь не обидеть других извозчиков и обещав с теми тоже поездить, Левин взял одного и велел ехать к дому Щербацких… Извозчик знал дом Щербацких и, особенно почтительно к седоку округлив руки и сказав “прру”, осадил у подъезда. Швейцар Щербацких, наверное, всё знал. Это было видно по улыбке его глаз и по тому, как он сказал: “Ну, давно не были, Константин Дмитрич!” Не только он всё знал, но он, очевидно для Левина, ликовал и делал усилия, чтобы скрыть свою радость». Левину весь мир видится вращающимся вокруг его персоны, радующимся его предстоящей свадьбе. Юноша Георгий вообще теряет ощущение персонального существования, соединяясь с безбрежным светом. Тем самым он уже в этой жизни предваряет то, что прозрел наш замечательный поэт Алексей Константинович Толстой в жизни будущей: Но не грусти, земное минет горе, Пожди ещё, неволя недолга — В одну любовь мы все сольёмся вскоре, В одну любовь, широкую, как море, Что не вместят земные берега. Второе различие столь же кардинально. Оно состоит в разной надёжности или верности обетования, заключённого в истинном Богоявлении и в любовной эйфории. Господь, возлюбив своего избранника и показав ему небеса отверстыми, приобретает его навсегда, и Его любовь к нему не оскудевает. Это хорошо выражено в стихотворении Жуковского «Лесной царь», хотя и в языческом религиозном восприятии: «Дитя, я пленился твоей красотой, неволей иль волей, а будешь ты мой!» Ни св. Симеон, ни Мотовилов после своих видений не могли вернуться к обычной жизни и до самой смерти продолжали служить одному Богу, получая, конечно, и от него благодатные дары. А что мы находим в «страсти нежной»? То, что она неизбежно проходит, чаще всего очень быстро, не оставляя в душе никакого следа, будто её и не было. Клятвы в вечной любви, даже когда они абсолютно искренни, не стоят ни гроша: через год или два страсть улетучивается и тосковавшие друг без друга люди чаще всего расходятся, а на вопрос «почему?» он отвечает: «Она оказалась стервой», а она: «Он оказался мерзавцем». Но, дорогие мои, куда же вы смотрели, когда знакомились? Ведь тогда вы видели друг в друге ангелов небесных, а с тех пор в вас ничего не изменилось. «Да, – скажут они, – мы видели всё не таким, какое оно есть, – любовь слепа». Но, произнося эту крылатую фразу, надо уточнять, какая любовь ослепляет. Только брачная любовь. Божественная же любовь, напротив, очищает зрение и открывает ему вечную истину. Она непреложна, она никогда никого ещё не подводила. Это совсем другая любовь, хотя слово то же самое. Думается, теперь в этом у нас не должно быть уже никакого сомнения. Здесь мы можем подвести промежуточный итог нашего размышления. Проанализировав большой жизненный, литературный и богословский материал, мы приходим к выводу, что словом «любовь» обозначаются, как минимум, два совершенно разных понятия, и оно, таким образом, расщепляется на два омонима, столь же между собой не связанных, как «рок» в значении судьбы и «рок» в значении музыкального стиля. Одна любовь – та, которую имел в виду Иоанн Богослов, говоря, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8). Её и подобает именовать «божественной любовью». Она есть нечто объективное, ибо реально и навсегда соединяет Бога и человека и открывает человеку, соединённому ею с Богом, путь к вечной жизни. Она никак не связана с разделением людей на два пола. Её главными признаками служат: душевный мир, светлая радость, стремление больше отдавать, чем получать, доходящее до полного самоотречения и пренебрежения своими личными интересами. Эта любовь никогда не обманет и никогда не кончится. Об этой любви так говорил апостол Павел: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13, 4–8). Другая любовь, которую мы называли брачной любовью, любовной эйфорией или влюблённостью, есть нечто субъективное, выдуманное самим влюблённым, ибо это инстинктивная защитная реакция личности на императив вхождения в родовую жизнь, состоящая в персонификации безликого рода в образе другой личности. Таким способом требующему платить ему дань охранителю рода придаётся «человеческое лицо» и вход в его капище усиленно декорируется посредством идеализации этого лица, чтобы войти туда можно было не только без страха, но и с радостью, порождённой полуистерическим состоянием искусственной экзальтации. Её верные признаки – душевное беспокойство, постоянная встревоженность, желание как можно больше взять от возлюбленного, подчинить его себе, крепче утверждая этим подвергнувшееся угрозе обезличивания собственное «я». Эта любовь только и делает, что завидует, ищет своего, живёт неправдой и не хочет знать истины. Она обязательно обманет того, кому вскружила голову, и золото, которое ему сулила, обратится в глиняные черепки. Метафизическая сущность этого обмана заключается в том, что дух ограниченного разумения, ревностный страж рода, повелитель человеческой зародышевой плазмы принимается влюблённым за самого Бога; конечное начинает именоваться бесконечным, то есть происходит впадение в арианскую ересь, а всякая ересь есть терзающая душу ложь. Добавим ещё один аргумент в пользу утверждения, что Бог непричастен к влюблённости. Любовная страсть характерна и для гомосексуалистов, и у них она принимает даже более яркую форму. Так что же, Бог прячется за содомитами, которых когда-то уничтожил серным огнём? А вот в облагораживании своей похоти геи нуждаются больше нормальных людей, ибо их похоть мерзостна, отсюда и их безумная влюблённость. Часть 8 Аы назвали подведённый сейчас итог промежуточным. Почему? По той причине, что кроме тех двух видов любви, которые мы сравнили между собой, убедившись в их принципиальном отличии друг от друга, существует и третий вид, не совпадающий ни с первым, ни со вторым. Эта третья «любовь» оставалась пока вне темы нашего разговора. Чтобы выделить её и понять её сущность, нам понадобится уже не просто тонкое, а очень тонкое различение категорий, то есть очень хорошая философия. И тут для нас будут особенно ценными раздумья на эту тему Владимира Соловьёва, который был очень хорошим философом и всю жизнь напряжённо пытался понять сущность любви. Надо сказать, что его исследования в этой области остаются до сих пор непонятыми, а во многих случаях понятыми превратно и представленными в искажённом виде, что создало ему не очень хорошую репутацию, так что нам предстоит «заново прочесть» его высказывания о любви, глубина которых совершенно исчезает в переложениях. Категория любви неслучайно оказалась в центре всей философии Соловьёва. Его особый к ней интерес был, можно сказать, вынужденным. Дело в том, что в его жизни ему трижды являлось – не во сне, а наяву! – некое прекрасное существо, которое позже он называл то Вечной Женственностью, то Божественной Женственностью. Первый раз это видение посетило его в детском возрасте, когда он стоял в церкви на богослужении. Вот как он описал это много лет спустя: Алтарь открыт… Но где ж священник, дьякон? И где толпа молящихся людей? Страстей поток, – бесследно вдруг иссяк он. Лазурь кругом, лазурь в душе моей. Пронизана лазурью золотистой, В руке держа цветок нездешних стран, Стояла ты с улыбкою лучистой, Кивнула мне и скрылася в туман. Второй раз Соловьёв увидел Вечную Женственность в двадцатилетнем возрасте в библиотеке Британского музея, где он изучал восточные философские системы. На этот раз она заговорила, приказав ему: «Будь в Египте». Там и произошла третья его с нею встреча. Что есть, что было, что грядёт вовеки — Всё обнял тут один недвижный взор… Сияют предо мной моря и реки, И дальний лес, и выси снежных гор. Всё видел я, и всё одно лишь было, Один лишь образ женской красоты… Безмерное в его размер входило, Передо мной, во мне – одна лишь ты. Это не были галлюцинации. Владимир Соловьёв был человеком психически очень здоровым, без малейших признаков истеричности или шизоидности. Он был весёлым, жизнерадостным человеком, любил дружеские встречи в компании, где всегда оказывался в центре внимания благодаря своему остроумию и энциклопедической эрудиции, относился к людям очень благожелательно. Любил он и хорошие вина, потребляя их довольно часто, но в меру. Но он был визионером: экран, закрывающий от нас мир тонкой материи, был у него полупрозрачным. Это очень редкое врождённое качество, никак не связанное с другими особенностями личности; им обладали, например, швед Сведенборг или наш Даниил Андреев. И уж лучше всех об этом своём качестве знал сам Владимир Соловьёв, поэтому он отнёсся к трижды явившейся ему Вечной Женственности как к несомненной реальности. А что должен делать философ, столкнувшийся с новой, необычной реальностью? Конечно же, осмысливать её в метафизических категориях. Соловьёв и взялся за эту работу. Скажем сразу: до конца он так дело и не довёл. При всей своей гениальности, он не вполне справился с поставленной задачей, во всяком случае не сумел облечь результат своих размышлений в такую ясную и чёткую формулу, которые вообще характерны для его стиля. Лучший наш «соловьёвовед» Алексей Фёдорович Лосев насчитал у него семь разных интерпретаций Вечной Женственности. Это значит, что он был тут в постоянном поиске и не успел найти то, что искал. Это совсем не удивительно, ибо он умер всего в 47 лет. Но глубокие высказывания на этот счёт, разбросанные по многим его сочинениям, позволяют уловить направление поиска и, благодаря преимуществам ретроспективного взгляда, проникнуть в суть так и не выраженной им в окончательном виде идеи. Ключом к философско-богословскому истолкованию Вечной Женственности стало для Соловьёва дуалистическое учение элейско-афинской школы, наиболее известными представителями которой были Парменид, Зенон и Платон, – о Едином и его Другом. На него опирались в логическом отношении великие христианские учители Церкви IV–V веков, все до одного греки, прекрасно знакомые с античной философией, в своём теоретическом обосновании Троицы. Будучи по своей вере строго православным человеком и признавая истинность тринитарного богословия, блестящее изложение которого он дал в своих «Чтениях о богочеловечестве», Соловьёв не мог также не признавать истинности наличия в космосе Вечной Женственности, ибо явственно и неоднократно её видел. И он поставил целью своей жизни как-то вписать это открывшееся ему существо в картину мироустройства, композиционным центром которой является Троица. Для этого он решил обратиться к первоначальной идее расщепления мировой данности на две модальности, высказанной эллинскими мудрецами, и, развивая её в том же русле, что и отцы Церкви, обосновавшие троичность Единого Бога, пойти несколько дальше их. У него просто не было другого выхода, как заняться этим. Античный дуализм возник из гениальной догадки элейских мыслителей (Элея – город в южной Италии), что прежде, чем быть, надо существовать и что существование вовсе не есть следствие бытия, а есть отдельное, самостоятельное свойство, исходный, первоначальный предикат, не зависящий от того, входит ли его субъект в мир явлений или не входит. Субъект может в него не входить, и тогда он находится в модусе чистого существования, лишённого бытия, но бытием могут обладать только те субъекты, которым присуще свойство существования. Иллюстрацией могут служить здесь «чёрные дыры» – сверхмассивные звёзды, гравитационное поле которых не выпускает наружу никаких носителей информации – ни частиц, ни лучей. Чёрные дыры не подают никаких признаков жизни, и астрономы так и не узнали бы об их существовании, если бы теоретики не открыли их косвенными методами с помощью математических расчётов. А если какая-то из них взорвётся, её осколки войдут в состав наблюдаемой Вселенной, то есть обретут бытие. Таким образом, чистое существование есть «спячка бытия», а бытие – «пробудившееся существование». Относя эти категории к миру в целом, элеаты пришли к понятию Единого и Другого. Единое абсолютно просто в смысле отсутствия в нём частей; оно ни из чего не состоит. Парменид мыслил его в виде однородного шара, но нам будет удобнее считать его атомом, не имеющей никакого размера точкой. Однако атомарность Единого вовсе не означает, что оно лишено содержания. Не имея никаких свойств, кроме свойства существовать, оно хранит в себе в сплавленном виде очень богатое содержание – то разнообразие вещей и явлений, которое при пробуждении Сущего разворачивается в Бытие. Эта развёртка целостного Единого в дробную структуру бытия есть по терминологии элеатов Многое, а если взять Многое в его полном объёме, то есть всё вышедшее наружу содержание Единого, и охватить его взором, мы увидим Другое Единого, по содержанию эквивалентное Единому, но представленное в ином выражении – не слитном, а структурном. Согласно Платону, космология элеатов была выражена Парменидом следующей формулой: «Другое Единого является целым, а Единое и Бытие – его составляющими». Единое как составляющую своего Другого надо понимать здесь в том смысле, что оно сообщает своей полной развёртке, то есть Бытию, свой атрибут единства, делая его Целым. К выводу о том, что мир устроен именно так, эллинских мудрецов привели две посылки, против которых трудно возразить. Первая, эмпирическая, совершенно очевидна: то, что имеет место быть, то есть Бытие, многообразно. Вторая, чисто умозрительная посылка состоит в убеждении, что свойство существовать является столь важным, что не может быть следствием каких-либо других свойств; напротив, именно оно даёт жизнь всем другим свойствам, ибо, если бы они не были причастны существованию, их не могло бы и быть. Не существование является следствием бытия, а бытие следствием существования. Эта посылка не столь очевидна, как первая, но, если хорошенько вдуматься, она представляется абсолютно верной. И всё же античные мудрецы оставили место для деятельности ещё более мудрых христианских мыслителей. В учении эллинов содержался элемент истины, но не было полноты истины. Она стала возможной лишь после Ветхозаветного и особенно Новозаветного Откровений, благодаря которым безликое Единое элеатов ожило и преобразилось в Бога Отца, а Другое Единого стало Богом Сыном. Модальности остались теми же: Отец абсолютно прост, Его «не видел никто никогда» (как нельзя видеть и древнегреческое Единое), и на вопрос Моисея «Кто Ты?» отвечает: «Я – Сущий». Сын же есть сложная духовная структура, Слово, в котором раскрывается содержание Отца. Похоже? Да, но при этом какая огромная разница, возникающая оттого, что мёртвое Единое и столь же мёртвое Другое языческих философов становятся в христианстве Личностями. Это всё меняет. Ближайшим следствием такой персонификации становится то, что у бывшего Единого, теперь Бога Отца, появляется главный признак всякой личности – воля, а у Отца и Сына как Двоицы появляется взаимная любовь, немыслимая между отвлечёнными категориями, которые представляли собой Единое и его Другое. А ещё одним важнейшим следствием христианского переосмысления языческого дуализма оказывается то, что двоичность мирового начала сменяется его троичностью, ибо дух любви и взаимопонимания, называемый Святым Духом, должен быть выделен в качестве третьего абсолюта, на котором, так же как и на первых двух, всё держится. Владимир Соловьёв хорошо всё это знал, и как «философу любви» ему была особенно близка идея необходимости своего «другого» для всякой созидающей что-либо личности, поскольку творческое «я» должно в процессе творчества разворачивать перед собой свой целостный замысел и оценивать его как нечто внешнее. Именно так Бог Отец созидал мир, поручая структурировать свой план Сыну, Который есть Слово, и после каждого из шести дней творения окидывая реализацию единым взором и говоря «это хорошо». Поэтому и сказано в Евангелии от Иоанна о Слове, что «без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1, 3). Отец, то есть Сущий, претворяет содержание своего Замысла через Сына в бытие. Идею необходимости «другого» для созидающего субъекта Соловьёв попытался развить дальше того пункта, на котором остановились основатели тринитарного богословия. Они ограничились творческой Двоицей Отец-Сын, Соловьёв же, как можно заключить, сопоставляя между собой высказанные им в разных работах мысли, дерзнул выделить Сына как самостоятельную созидающую инстанцию, которой Он становится после того, как Отец сообщает Ему свою волю. Конечно, эта самостоятельность Сына условна. Сущностно Отец и Сын нераздельны, но функционально, временно Сын может отделяться от Отца, иначе Он был бы просто механическим исполнителем, а это не подобает Богу. И вот, во время автономного творчества, направленного на как можно лучшее осуществление воли Отца, Сын должен делать это с помощью своего собственного «другого», которым не может быть Отец, ибо в этом случае получился бы порочный круг. Этим личным Его «другим» и является Вечная Женственность. Что конкретно она собой представляет? Вот тут-то и начинаются варианты, которые выявлял Лосев. Один из них – отождествление Вечной Женственности с Премудростью Божией, с Софией, в честь которой возведены главные соборы Константинополя, Киева, Новгорода и Вологды. Вот что говорит о ней апостол Павел: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открывать всем, в чём состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем всё Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в Котором мы имеем дерзновение и надёжный доступ через веру в Него» (Еф. 3, 8-12). Из этого текста ясно, что в апостольском, православном понимании Премудрость Божия, или София, есть сам Христос, взятый не в том аспекте, к которому мы все привыкли, а в другом. Христос есть для нас преимущественно Спаситель, но кроме этого Он есть и Просветитель и в этой функции олицетворяет Премудрость Божию, то есть премудрость Троицы, в Слове, каковым Он и является. Поэтому отождествлять Вечную Женственность с Софией ошибочно. А ведь на этой ошибочной гипотезе Соловьёва его не столь талантливые последователи – философы Серебряного века – построили детально развитую ересь (у о. Сергия Булгакова она отлилась в целых три тома, которые сегодня невозможно читать из-за патологического многословия и пустоты содержания). Договорились и до того, что София есть не что иное, как Дева Мария, которая, взятая на небо, стала «четвёртым членом Троицы». Соловьёв в этой чепухе совершенно не виноват, ибо никогда не настаивал на том, что Вечная Женственность есть София, а просто пробовал эту версию «на зуб». Читая и перечитывая его труды, приходишь к выводу, что основным вариантом истолкования Вечной Женственности был для него тот вариант, что это – Душа Мира, Небесная Церковь. Если подумать, приходишь к выводу, что эта трактовка действительно самая предпочтительная. Один из центральных пунктов православной догматики состоит в утверждении, что у Христа при наличии двух естеств и двух воль только одна личность, то есть у Него есть единое и неразделимое божественное «Я». Но тогда неизбежно должно разворачиваться из этого «Я» в творческом процессе и Его Другое. Это бесспорно. Но почему этим Другим должна быть невещественная Церковь, Церковь как идеал и норма мироустроения? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, в чём состоит Отцовское задание, данное Сыну; что должно им «начать быть»? Как мы уже говорили, ссылаясь на Писание, сотворённая в шесть дней вселенная имеет назначение произвести необходимое Божьему Царству число святых, но земля не произведёт святых, если не будет земной спасающей души Церкви. Нужда в ней была так велика, что ради её создания Бог Сын взял на себя человеческую плоть, принял крестную смерть, воскрес, вознёсся и в день Пятидесятницы ниспослал на апостолов Святого Духа, положив этим её начало и став до конца времён её главой. Но Спаситель не учредил бы земной Церкви, именуемой «воинствующей», если бы прежде того Он не создал бы её небесный прообраз – Церковь «торжествующую», сказав о ней своё творящее Слово. Земная Церковь существует во времени и пространстве, и в каждый исторический момент и в каждом географическом месте она несовершенна. Тем не менее она освящает человеческий род, ибо является проекцией совершенной и неизменяемой Небесной Церкви. Она и есть то, что Соловьёв назвал Вечной Женственностью. Неслучайно эта Небесная Церковь, принявшая облик прекрасной женщины, явилась ему в храме. На изложенных сейчас соображениях и основана соловьёвская философия «половой любви». Напомним, что этот термин означает у него не физиологию, а просто «любовь между противоположными полами». Коротко говоря, это та любовь между ними, которая по своей сути подобна любви Христа к Небесной Церкви и ответной её любви ко Христу. Это земная проекция неземной любви между активным, волевым, принуждающим началом, которое представляет собой Христос и которое по этим признакам можно назвать мужским, и податливым, восприимчивым, пассивным началом, каким является лучшее создание Христа, Его торжествующая Церковь, и которое можно назвать по этим характеристикам женственным. Говоря о человеческой «половой любви», Соловьёв обычно имел в виду ту составляющую любви между мужчиной и женщиной, которая по своей природе есть земное подобие этой неземной любви. Таким образом, «ересь», наполняющая страхом ортодоксов и заставляющая их предавать Владимира Соловьёва анафеме, даже не читая его сочинений, оборачивается на поверку всего лишь переводом на язык философии известного каждому православному верующему тривиального тезиса о том, что «Церковь есть Христова невеста». В этой фразе уже содержится отождествление Церкви с женским началом, а поскольку речь идёт, конечно, о небесной Церкви, ибо несовершенная земная Церковь не может быть невестой Бога, то её естественно назвать Божественной Женственностью, что Соловьёв и сделал, часто заменяя эпитет «Божественная» эпитетом «Вечная», что вполне правомочно. Добавим, что возможность любви творца к своему творению понимали и язычники, создавшие легенду о скульпторе Пигмалионе, полюбившем высеченную им из мрамора Галатею, а конкретизацию этого сюжета по отношению к Христу и христианской Церкви прообразовательно и проникновенно даёт библейская Песнь песней. Посмотрим, как излагает свою концепцию половой любви сам Владимир Соловьёв: «Для Бога Его Другое имеет от века образ совершенной женственности, но Он хочет, чтобы этот образ был не только для Него, но чтобы он реализовывался и воплотился для каждого индивидуального существа, способного с ним соединиться. К такой же реализации и воплощению стремится и сама вечная Женственность, которая не есть только бездейственный образ в уме Божием, а живое духовное существо, обладающее всею полнотою сил и действий. Весь мировой и исторический процесс есть процесс её реализации и воплощения в великом многообразии форм и степеней. В половой любви, истинно понимаемой и истинно осуществляемой, эта божественная сущность получает средство для своего окончательного, крайнего воплощения в индивидуальной жизни человека, способ самого глубокого и вместе с тем самого внешнего реально-ощутительного соединения с ним. Отсюда те проблески неземного блаженства, то веяние нездешней радости, которыми сопровождается любовь даже несовершенная и которые делают её, даже несовершенную, “величайшим наслаждением людей и богов” (латинское изречение). Отсюда же и глубочайшее страдание любви, бессильной удержать свой истинный предмет и всё более и более от него удаляющейся». Необходимо заметить, что, по логике своей же концепции, Соловьёв должен был говорить здесь не о Боге вообще, а именно о Христе. Тогда всё было бы понятнее. Часть 9 Здесь мы подошли к самой трудной части нашего исследования, требующей особой внимательности, поскольку на сцену неожиданно вышла связанная с Христом и Церковью составляющая половой любви, которую Владимир Соловьёв считал настолько существенной, что называл её просто «половой любовью». Это может навести на мысль, что мы слишком поторопились отвергнуть теорию Паскаля-Шопенгауэра и что позади влюблённых, может быть, прячется всё-таки сам Бог. Нет, для такого утверждения не появилось никаких новых оснований, ибо «соловьёвская» любовь совершенно не связана с Богоявлением или Богоприсутствием. Если бы не было в нашем распоряжении показаний людей, удостоившихся подлинного Божьего посещения, мы могли бы ещё ошибиться, но, к счастью, у нас есть в этом вопросе надёжные критерии. Вспомним «Рассказ о юноше Георгии» преподобного Симеона Нового Богослова – мы ведь не зря привели его целиком прежде того, как приступили к обсуждению третьего вида любви, – он не оставляет никаких сомнений, что в половой любви нет описанных в нём признаков близости Бога: ни неземного света, ни необыкновенного умиротворения, ни неизречённой радости, ни вообще ничего такого, что им излучается. Это чисто человеческое чувство – приятное, радостное, волнующее, но не вводящее в жизнь Бога и не открывающее нам ничего, лежащего за пределами нашей собственной природы. Это хорошая, благая, светлая половая любовь, но отнюдь не божественная. За ней не стоит Бог, но достаточно уже того, что за ней не стоит низший дух родовой жизни, ибо она имеет духовную, а не биологическую сущность. А то, что она представляет собой тот тип любви, которую питает Христос к своей Церкви, не даёт оснований заключить, будто в ней к нам приходит Христос. Творец создал мою душу по образу Троицы, но это не значит, что я – Троица. Я наделён Творцом даром слова, но это не значит, что, как только я начинаю произносить слова, в меня вселяется Бог-Слово. В конце концов, «всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца светов», но это никак не означает, что во всяком добром нашем чувстве, помышлении или поступке имеет место прямое Богоявление. Надо сказать, что и сам певец «благородной» половой любви Владимир Соловьёв недостаточно чётко отделял её от биологической её составляющей, с одной стороны, и от божественной любви – с другой. Сам его термин «половая любовь», употребляемый им без оговорки, что под ним понимается лишь духовная составляющая тяготения между противоположными полами, вводит в заблуждение. Конечно, Соловьёв не мог предвидеть, что само слово «секс», то есть «пол», начнёт вскоре означать половой акт, и ничего больше, но даже для своего времени он выражался, а значит, и мыслил недостаточно аккуратно. Из-за этого его читатели, в зависимости от настроения, могли воспринимать его «половую любовь» и как физиологию, и как божественное чувство, и у них возникало впечатление, что Соловьёв их отождествляет. На эту неаккуратность указывал, например, Даниил Андреев: «Хорошо знакомому с историей религии Соловьёву не могли не быть известны факты, показывающие, что вторжение в религиозные организации и в культ представлений о различии божественно-мужского и божественно-женского начал чревато исключительными опасностями. Понятые недостаточно духовно, недостаточно строго отделённые от сексуальной сферы человечества, вторжения эти ведут к замутнению духовности именно сексуальной стихией и кощунственному отождествлению космического духовного брака с чувственной любовью и, в конечном счёте, к ритуальному разврату». Упрёк совершенно справедлив, хотя Соловьёв в своём осмыслении любви обращался не к образам языческих уранического и хтонического космических начал, а к образу Христа и небесной Церкви. Если читать высказывания Соловьёва о любви, постоянно делая поправку на неточность его словоупотребления, из них можно почерпнуть много ценного. К сожалению, поправку делают большей частью не в ту сторону, в какую надо, а в противоположную. Вот пример. Восторженный почитатель Соловьёва поэт Александр Блок, чей цикл «Стихи о Прекрасной Даме» целиком вырос из образа Вечной Женственности, написал следующие строки: И медленно пройдя меж пьяными, Всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна. И веют древними поверьями Её упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука. Как вы считаете, много здесь «секса» в современном смысле этого слова? Думается, усмотреть его можно лишь при определённой развращённости воображения, какую проявил один знаменитый наш литературовед, который воскликнул: «Как же тут нет секса, если в кольцах узкая рука!» Да, если при взгляде на узкую руку возникает похоть, то она возникнет и при взгляде на кирпичную стену. В действительности же, то есть для неиспорченного человека, здесь никакого «секса» нет и в помине. Во-первых, блоковская незнакомка бесплотна, её в кабаке никто, кроме напившегося поэта, не видит, а вожделение по отношению к призраку было бы каким-то неслыханным извращением. Во-вторых, дальше идут слова: И странной близостью закованный, Смотрю сквозь тёмную вуаль, И вижу берег очарованный И очарованную даль. В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне! Ты право, пьяное чудовище! Я знаю: истина в вине. Берег и даль – тоже не лучшие объекты для вожделения. А ведь это – чистая «соловьёвщина». Отмежевание её от похоти в поэтическом переложении Блока очевидно. А трактовка «Незнакомки», а значит, и соловьёвской Вечной Женственности как секс-символа весьма устойчива. Но если вульгаризация Вечной Женственности Владимира Соловьёва, состоящая в приписывании её образу эротизма, лежит на совести читателей и истолкователей, то видеть в ней источник высоких чувств, вспыхивающих в душе человека в любовном экстазе, склонен был сам Соловьёв, и в этом заключается основная философская ошибка его учения о любви. Вот что он говорил об этом экстазе: «Здесь идеализация низшего существа есть вместе с тем начинающаяся реализация высшего, и в этом истина любовного пафоса. Полная же реализация, превращение индивидуального женского существа в неотделимый от своего источника луч вечной Божественной женственности, будет действительным, не субъективным только, а объективным воссоединением индивидуального человека с Богом, восстановлением в нём живого и бессмертного образа Божия». Это тщательно отшлифованная итоговая формулировка самой сути соловьёвской концепции любви, и она может вызвать только грусть. После блестящих догадок, связанных с творческим использованием категории Другого, после того как остался один шаг до метафизического обоснования образа Церкви как Христовой невесты, вдруг такое пошлое смешивание утверждения Фёдора Сологуба, будто в любовной страсти раскрывается самое высокое, что есть в человеке, и утверждения Шопенгауэра, что влюблённых приманивает, как подсадная утка, сам Господь. Видно, и на гениальных людей оказывают влияние культурные стереотипы эпохи, внушаемые с самого детства. В приведённом тексте они налицо, потому он глубоко ложен. Идеализация предмета влюблённости не исходит от Бога, ибо Бог – не обманщик. Это наша самодеятельность, наш личный самообман, с помощью которого мы пытаемся спасти и укрепить своё «я» от угрозы обезличивания его духом рода. Божественная Женственность, если трактовать её как Небесную Церковь, есть невеста только Христа, и делиться с нами теми чувствами, которые Он к ней питает, Христос не может, если бы и захотел, поскольку мы не способны не только вместить их, но даже и представить, каковы они. Святые отцы призывают нас лишь к тому, чтобы духовная составляющая нашей половой любви была подобием непостижимой нами любви Христа к Торжествующей Церкви, или Душе Мира, и говорить здесь о чём-то большем, чем подобие, например, о том, что в любви мужчины к женщине ему прямо открывается сама Божественная Женственность, было бы в такой же мере кощунством, как и эротизация этого образа. Так, пройдя некоторый участок пути с Владимиром Соловьёвым, мы вынуждены отказаться от его дальнейших услуг в качестве проводника и найти более надёжного. А он всегда с нами и всегда готов указать верное направление. Это – Священное Писание. «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 2, 18–25). В этом тексте сразу бросается в глаза то обстоятельство, что Творец создал Еву не для того, чтобы они с Адамом производили потомство – если бы это было так, Библия не могла бы умолчать об этом, а тут о потомстве нет ни звука, – а потому, что Адаму в одиночестве было «не хорошо». Обратите внимание: после каждого из предыдущих дней творения Бог неизменно говорил: «Это хорошо», а тут сказал «не хорошо». Неудовлетворённость Творца была вызвана тем, что Адаму чего-то недоставало, а значит, в его существовании не было полноты. Чего же именно? Не партнёра по деторождению, а помощника, сказано в Книге Бытия. И, желая устранить неполноту, Бог стал подводить к Адаму разных животных, надеясь, что он назовёт кого-то из них помощником. Но Адам не произнёс этого слова. А если бы произнёс? Представьте, что, увидев собаку, он сказал бы: «Вот мой помощник, давайте так её и назовём». Что тогда было бы? Необходимость в сотворении Евы тогда отпала бы, хотя никакого размножения людей быть не могло. Следовательно, размножение было второстепенным, побочным делом, а главным был подбор для Адама пары, которая дополняла бы его до целого. Такой недостающей ему половиной стала «соответственная ему» жена, то есть женщина. Вот вам и ключ к пониманию сути небиологической составляющей половой любви. Мужчина и женщина отличаются друг от друга не только анатомически, но и психически, каждый из них имеет свои специфические особенности, как внешние, так и тесно связанные с ними внутренние. Это, можно сказать, разные существа, хотя оба принадлежат к одному виду «хомо сапиенс». Каково происхождение и в чём смысл этих различий? Некоторые феминистки истолковывают сотворение сначала Адама, а потом Евы таким образом: Бог не решился сотворить столь сложное существо, как человек, за один присест и сначала создал черновой вариант – мужчину, а потом уже окончательный, в котором учёл все недоработки первого, – женщину. По этой теории получается, что женщина совершеннее мужчины, как компьютер второго поколения совершеннее компьютера первого поколения. Не будем оспаривать этого, тем более что женщин принято называть прекрасным полом, но, если придерживаться Библии, надо признать, что Творец создал Еву не потому, что хотел улучшить человеческое существо, а потому, что Адаму было одному «не хорошо». А когда нам бывает нехорошо? Когда чего-то не хватает. Вот Бог и вложил в Еву те качества, которых не было в Адаме и которых ему не хватало, чтобы вместе они образовали самодостаточное целое, «плоть едину». В определённом смысле можно сказать, что женщина есть Другое мужчины. В самом деле, что есть «другое» некоторого «я»? Явное раскрытие того, что в этом «я» присутствовало в неявной форме, в виде потенции. Но ведь те качества, которых недостаёт мужчине и которые, по Божьей милости, он находит в женщине, не вовсе в нём отсутствовали: он ощущал их в форме потребности в них. Если бы эти качества были абсолютно чужды его природе, ему было бы неведомо, что ему их не хватает, и он не искал бы их вне себя. Когда Адам увидел перед собой Еву, созданную Творцом во время его глубокого сна, он обрадовался по той причине, что разглядел в ней воочию то, в чём подсознательно нуждался, и понял наконец, в чём именно он нуждался. Так что метафорически женщину можно назвать реализацией того, что в мужчине находилось в виде нереализованного смутного идеала, в виде мечты. А это и есть «Другое», если понимать эту философскую категорию в самом широком значении. И тут возникает некоторое подобие Двоицы Христос – Небесная Церковь, ибо последняя тоже является для Христа Другим, хотя не в том же смысле. Это именно подобие, причём не точное, не то же самое и даже не аналогия. Никакого явления Божественной Женственности в духовном тяготении людей разного пола не происходит – Соловьёв зря приплёл сюда своё детское видение. Оно-то, разумеется, было откровением свыше, но оно несло совершенно иные эмоции, чем те, которыми сопровождается небиологическая составляющая половой любви. Она бодрит и окрыляет, заставляет выделяться адреналин, но она гораздо проще и понятнее: человека одного пола интригует и привлекает в человеке другого пола то, что живёт в его собственной душе лишь в потенции и что ему хочется увидеть явно. Это взаимное влечение по-разному устроенных душ, содержание одной из которых дополняет содержание другой, не представляет собой чего-то загадочного и мистического, хотя является добрым, светлым и иногда согревающим душу так, как её трудно согреть чему-нибудь другому. Именно такую любовь между мужчиной и женщиной называли в прошлом «платонической», и она не раз описывалась в художественной литературе. Одно из её изображений дано в романе Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Соловьёву, почти всю жизнь размышлявшему над сущностью половой любви, в последний момент не хватило тонкости различения. Сегодня хорошо видно, в каком месте это роковым образом его подвело. Ему показались одноприродными и органически связанными две вещи, имеющие совершенно разную природу и смешивающиеся в таком сложном феномене, как половая любовь, чисто механически: духовное тяготение между разными полами и любовный экстаз, облагораживающий «известное физиологическое действие», а значит, в конечном счёте порождаемый плотью, а не духом. *** Теперь можно подвести нашему рассмотрению окончательный итог. Слово «любовь», относящееся к чувству или, лучше сказать, к состоянию души, объединяет в нашем словоупотреблении три разных понятия, имеет три различных значения: любовь как радостное вхождение в жизнь Бога, Который «есть любовь»; любовь как экстаз влюблённости, имеющий подсознательной целью облагородить для себя унизительное вхождение в родовую стихию; любовь как приятное и плодотворное взаимное духовное тяготение полов, возникающее из-за того, что их психические особенности дополняют друг друга. Каждое исследование должно быть оправдано той пользой, которую можно из него извлечь. Какую пользу способно принести нам то, что мы отделили друг от друга три вида любви и уяснили происхождение и природу каждого из них? Ту, которую даёт всякое правильное понимание происходящего в нашей душе, подсказывающее, как нужно на него реагировать. Проявления Божественной любви нужно в себе укреплять и культивировать; такую напасть, как внезапно вспыхнувшая влюблённость, надо всячески охлаждать и ставить под контроль разума; в духовной близости с лицом другого пола находить полноту существования и тихую радость, ценить её как украшение жизни и оберегать от примешивания к ней похоти. Об этом идеале прекрасно сказал Поль Гоген в письме своей жене: «Когда мы поседеем и страсть будет уже не для нас, тогда мы обретём покой и душевное счастье». Это самые общие рекомендации, касающиеся всех. А о вступающих в брак необходимо поговорить отдельно. Часть 10 В чём состоит цель брака? Одни ответят – в деторождении, другие скажут – в более эффективном хозяйствовании на основе разделения труда, третьи назовут брак самым простым и к тому же законным способом предаваться плотским наслаждениям. Православие отвечает на этот вопрос иначе. Его ответ сформулирован апостолом Павлом, обобщившим встречающиеся в разных местах Евангелия, особенно в Нагорной проповеди (Мф. главы 5 и 6), высказывания на эту тему самого Христа: «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1 Кор. 7, 8–9). Итак, вступать в брак христианину рекомендуется в первую очередь для того, чтобы не разжигаться. Лучше вообще не жениться, но если уж ты не можешь совладать со своей блудной страстью, то избери себе для её удовлетворения определённую пару и не меняй её в течение всей жизни. Это будет всё-таки приличнее и нравственнее, чем блудить со многими. Единобрачие Церковь готова благословить и освятить таинством венчания, но только по снисхождению к человеческой немощи. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, – если же разведётся, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей» (1 Кор. 7, 10–11). Что же касается жизни в браке, то на этот счёт апостол тоже даёт чёткие наставления: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7, 5). Читатель может сказать: но ведь это и есть то представление о браке, которое мы отвергли как нехристианское, – что брак есть легализация блуда! Да, если хотите, это именно так. В среде нынешних православных верующих распространено трогательное мнение, будто христианский брак с самого начала есть умилительное соединение двух любящих сердец, в котором сама физическая близость не содержит в себе ничего животного, как не содержала его близость Иоакима и Анны. Но вспомним, сколько лет было родителям в момент зачатия Девы Марии, а сколько бывает впервые вступающим в брак. Это мнение слишком сентиментально, а значит, ложно. Христианство же, будучи милостивым к человеку, очень сурово в правде. А правда заключается в том, что оно благословляет брак для тех, кто «не может вместить», только по снисхождению к их слабости. «Если уж ты так невоздержан, – говорит Церковь, – женись и насыщайся своей женой, а также давай ей насыщаться тобой, не уклоняясь от исполнения своей супружеской обязанности». Никакого культа сексуальности здесь нет, уступка животному инстинкту тут вынужденная. Те же, кто отпал от христианства и стал язычником, именно возводят в культ в брачной жизни этот инстинкт, как мы видели это на примере Позднышева из «Крейцеровой сонаты». Но главное, принципиальное отличие христианского и языческого отношения к браку обнаруживается в том, как мыслится перспектива брачного союза, куда муж и жена должны направлять свою совместную жизнь. Современные сексологи только тем и занимаются, что придумывают рецепты продления половой активности супругов, вплоть до совета время от времени изменять друг другу, чтобы потом соединиться с новым энтузиазмом. С экранов телевизоров непрерывным потоком льётся реклама средств против импотенции. Какая мерзость! Человек постарел и, «слава Богу», избавился от похоти, будоражившей его в молодости и причинившей ему столько неприятностей, а эти благодетели говорят ему: глотай наши таблетки, и похоть к тебе вернётся! Это приводит на память реплику одного умного человека на пересадку старикам гормональных органов молодых обезьян, производимую в 1920-х годах в Париже Штейнахом и Вороновым. Он сказал: эти хирурги добиваются лишь того, что человек вместо того, чтобы умереть в своей постели, умирает в публичном доме. Установка нашей цивилизации в отношении брака состоит в том, чтобы сделать его как можно более длительным орудием извлечения наслаждений из самого низшего, самого скотского, что есть в человеке. Совершенно иную установку предлагает вступающим в брак христианство. Идеал, к которому оно призывает направлять супружескую жизнь, с предельной ясностью сформулирован апостолом Павлом в его Послании к ефесянам: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела; но, как Церковь повинуется Христу, так жёны своим мужьям во всём. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить её Себе славной Церковью, не имеющей пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь Церковь; потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа» (Еф. 5, 22–33). Первое, что бросается в глаза в этом ключевом тексте, – полная несимметричность тех отношений, которые должны иметь место между мужем и женой в христианском браке. Нам это странно, но на самом деле это абсолютно логичное требование, учитывающее, во- первых, различие телесных и душевных устроений мужчины и женщины, дополняющих друг друга, а во-вторых, тот бесспорный факт, что любое сотрудничество двух людей в какомлибо деле, в том числе и в деле создания прочной семьи, может быть плодотворным лишь при условии разделения функций между ними, ибо если оба они станут делать одно и то же, то пусть лучше это делает кто-то один. И это провозглашённое апостолом совершенно естественное требование, которому, казалось бы, возражать просто абсурдно, высмеивается и осуждается светскими теоретиками брака, проповедующими необходимость «равноправия» супругов. Разумеется, юридическое равноправие у них должно быть, и во времена апостолов в Римской империи муж и жена как отдельные граждане были равны перед законом. Но ведь у сексологов идёт речь в действительности не о равноправии, а об одинаковости ролей в брачном сожительстве. А эти роли у мужа и жены разные, хотя и одинаково важные. В соответствии с различием этих ролей каждой из них должен быть присущ особый эмоциональный фон. Заметьте: неоднократно подчёркивая, что муж должен любить свою жену, апостол ни разу не говорит, что жена должна любить мужа. Может, он упустил это из виду, забыл добавить или посчитал, что это само собой подразумевается? Нет, он сказал именно то, что хотел сказать. Суть в том, что муж является в семье носителем мужского, активного, творческого начала, и объектом его созидания, его пестования служит для него жена. Он «вылепляет» её, как Пигмалион вылеплял Галатею, и что-то ценное выйдет из его рук лишь при том условии, что он любит свою податливую глину. К глине же предъявляется как первое требование не ответная любовь к скульптору, а именно податливость, уступчивость, а в случае жены эти качества будут вернее всего обеспечены при том условии, что она будет бояться мужа. На то, что она будет ему послушна из любви, он не может рассчитывать при её эмоциональности, связанной с большей «биологичностью»: сегодня она может любить мужа до истерии, а завтра охладеть к нему. Некоторая боязнь, не доходящая, конечно, до состояния вечной запуганности, тут вернее. Эта установка изложенного апостолом христианского учения о браке тесно связана с другим высказыванием из приведённого текста – цитатой из Ветхого Завета: «Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Одна плоть понимается здесь как один организм, поэтому можно сказать, что Церковь придерживается концепции брака как единого организма. Из неё и вырастает требование разделения функций внутри супружеской пары, которая мыслится как одно тело. В самом общем виде идея разделения функций в теле Христовой Церкви выражена апостолом Павлом в другом месте – в Первом послании коринфянам: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: “я не принадлежу к телу, потому что я не рука”, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: “я не принадлежу к телу, потому что я не глаз”, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если всё тело глаз, то где слух? Если всё слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: “ты мне не надобна”; или также голова ногам: “вы мне не нужны”. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге» (1 Кор. 12, 12–25). Конечно же, всё это относится к мужу и жене, как к членам общего семейного тела, совершенно упраздняя проблему их «равноправия» или «неравноправия». Третья мысль, высказанная в наставлении апостола христианским супругам, особенно для нас интересна, ибо она даёт образец любви, которому надлежит подражать: любовь Христа к Церкви. Поразительно, что этот идеал возник в его сознании безо всяких логических или богословских предпосылок. Для обоснования тезиса «Церковь – Христова Невеста» нужно проникнуться эллинской философской категорией «другого» или знать использующее эту категорию учение о Троице. Как иудей и член фарисейской секты, Павел не изучал древнегреческую языческую мудрость, а тринитарного богословия при нём ещё не было. Это было чистое Откровение, дать разумное истолкование которому он не мог, поэтому сказал: «Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Как мы видели, ближе всех к разгадке этой тайны подошёл Владимир Соловьёв, но его гениальное прозрение не было понято и оценено, а потом он и сам его дискредитировал, спутав Христову любовь к Небесной Церкви с имеющей плотское происхождение любовной горячкой. Проживи он ещё с десяток лет, и он мог бы ознакомиться с теорией Фрейда о «сублимации» животного полового влечения в кажущуюся возвышенной влюблённость, и это, может быть, отрезвило бы его и дало бы ему возможность продолжить в верном направлении и успешно завершить своё учение о Вечной Женственности. А теперь обратим внимание на характер этого богооткровенного образа любви, которому апостол призывает следовать состоящим в браке. Скажите, есть ли в нём хотя бы тень сексуальности? Перечитайте внимательно приведённый отрывок, и вы её нигде не обнаружите. А ведь тот же Павел говорил: «Не уклоняйтесь друг от друга» – и рекомендовал брак как приемлемую для христиан форму удовлетворения своей похоти. А тут об этом ни слова. Почему? Объяснение вот в чём. Там Павел обращался к тем, кто только вступил в брак или собирался сделать это, и эту начальную стадию супружества он действительно понимал как легитимизацию блуда. А то, что он говорит в Послании ефесянам, адресовано супругам со стажем, а если и к молодожёнам, то как совет на будущее. Сопоставляя эти два обращения, мы приходим к тому самому практически важному выводу, который способен оправдать всё наше философствование. Кратким образом его можно сформулировать так. Христианский брак при его заключении есть уступка могущественному родовому началу, и в первое время супружеская любовь имеет почти целиком плотскую природу, хотя это маскируется влюблённостью. Но параллельно между мужем и женой возникает чисто духовная связь, напоминающая любовь между Христом и Его Другим – Торжествующей Церковью. Её доля в общей межполовой любви сначала невелика, но супруги совместными усилиями должны постоянно повышать эту долю, пока она не достигнет ста процентов, совершенно вытеснив плотское влечение. Когда это произойдёт, они полностью избавятся от уплаты дани родовому молоху, и это будет самая прекрасная, самая светлая и самая спокойная пора их супружества. Смысл христианского брака, таким образом, состоит не в культивировании физиологии в отношениях между супругами, а в её преодолении. На Святой Руси очень хорошо понимали несравненную красоту чисто духовного брака, поэтому многие супруги, отдав дань родовой жизни и поставив на ноги детей, принимали монашеский постриг и поселялись в соседних монастырях, а то и в одном, как родители преподобного Сергия Радонежского Кирилл и Мария. Золотая осень супружества описана во многих произведениях мировой литературы. Символами счастливых супружеских пар, живущих «как брат с сестрой», стали Филемон и Бавкида, Пётр и Феврония, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Вхождение в эту мирную осень описано Львом Толстым в повести «Семейное счастье». «А в саду всё сильней и слаще поднималась пахучая свежесть ночи, все торжественнее становились звуки и тишина, и на небе чаще зажигались звёзды. Я посмотрела на него, и мне стало вдруг легко на душе, как будто отняли у меня тот больной нравственный нерв, который заставлял страдать меня. Я вдруг ясно и спокойно поняла, что чувство того времени невозвратимо прошло, как и самое время, и что возвратить его не только невозможно, но тяжело и стеснительно было бы. Да и полно, так ли хорошо было это время, которое казалось мне таким счастливым? И так давно, давно уже всё это было! …С этого дня кончился мой роман с мужем; старое чувство стало дорогим, невозвратимым воспоминанием, а новое чувство любви к детям и к отцу моих детей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я ещё не пережила в настоящую минуту». В заключение отметим, что об освободившейся от физиологии, чистой любви между мужчиной и женщиной как о высшем счастье мечтал и Маяковский: Чтоб не было любви-служанки, Замужеств, похотей, хлебов, Постели прокляв, встав с лежанки, Чтоб всей вселенной шла любовь. Обратим внимание, что не связанная с «постелью» духовная половая любовь органически перерастает здесь в любовь вселенскую. Атеист Маяковский не мог произнести этого слова, но вселенская любовь есть любовь Божественная, есть тот океан любви, влившись в который душа обретает вечную жизнь и пребывает в свете. Так интуиция великого поэта подсказала ему тот самый путь спасения в браке, о котором говорит Церковь, – путь полного преодоления в супружестве блудной страсти. Часть 11 По законам жанра в нашем философском исследовании пора бы поставить точку. Ведь мы, как выражаются учителя литературы, оценивая школьные сочинения, «раскрыли тему»: разобрались в трёх значениях слова «любовь», разграничили их между собой и даже поняли суть христианского брака. Но богатая на сюрпризы жизнь не даёт закончить разговор и требует сказать кое-что ещё. Дело в том, что в последнее время термин «любовь» стал употребляться в неслыханном прежде диком словосочетании «заниматься любовью». Это калька с английского (точнее, американского) «to make love», и русскому языку она совершенно чужда, но какая-то анонимная агентура упорно хочет внедрить в него это выражение, сделать для нас обиходным и привычным. На этот вызов мы обязаны как-то отреагировать – как минимум, разобраться в том, чья это агентура. В навязываемом нам штампе любовь предстаёт уже не чувством, каковым она являлась испокон веков, а действием, ибо чувствами «заниматься» нельзя – их можно питать, испытывать, переживать. Никто ведь не скажет «я занимаюсь ненавистью». Здесь мы имеем дело с типичной лингвистической провокацией, имеющей целью вывести любовь из разряда чувств и свести её к совокуплению. Методология лингвистических провокаций не нова. Она представляет собой излюбленное фирменное оружие некоей инстанции, которую можно узнать по использованию этого оружия, как льва узнают по когтям, а осла – по ушам. Оно было изобретено несколько веков назад и за протекшее время доказало свою высочайшую эффективность, которая объясняется тем, что через умело подсунутое людям словоупотребление в них по законам психологии вырабатывается нужное мировоззрение. Конечно, подмену значений стоит производить только в отношении важнейших для человеческой жизни понятий. Вот несколько примеров. 1. Слово «просвещение» означало когда-то проникновение в душу света Христовой истины. Но вот в XVIII веке во Франции этот смысл был подменён противоположным, и «просвещение» стало означать пропаганду атеизма. Взятый в этом новом значении термин приобрёл такую важность, что весь предреволюционный период получил название эпохи Просвещения. Результатом этой языковой провокации стал якобинский террор, сотни тысяч отсечённых на гильотине голов и воцарение буржуазного образа жизни, основанного на культе материального богатства. 2. Слово «самодержавие» понималось на Руси как самостоятельное правление русского царя, не являющегося данником или вассалом царя иноземного. Первым нашим самодержцем стал сбросивший в 1480 году татаро-монгольское иго Иван Третий. Это была для нашего народа великая радость. Но в XIX веке, опять же в предреволюционный период, только уже наш, а не французский, людям искусно навязали совсем другое значение слова «самодержавие»: используя его ассоциативную по звучанию близость со словом «самоуправство», приучили понимать его как тиранию. Лозунг «Долой самодержавие!» и расчистил большевикам дорогу к власти. 3. Слово «прелесть» было одним из самых страшных слов на Руси. Не дай Бог впасть в прелесть – это значит быть обманутым сатаной и погибнуть! Но вот настал XIX век, и всё изменилось. Почитайте Пушкина, Жуковского и других поэтов и писателей того времени и их преемников, и вы только и будете встречать фразы вроде «чистейшей прелести чистейший образец» (Пушкин), «какая прелесть эта Наташа» (Толстой). Целенаправленная лингвистическая провокация приучила думать, что прелесть, то есть бесовский соблазн, – это хорошо. 4. Такую же трансформацию претерпело слово «одержимый». Хуже того, чтобы стать одержимым, христианин не мог себе ничего представить, ибо одержимым можно быть только бесами. А теперь не редкость услышать в рассказе по телевидению или по радио о каком-нибудь художнике или скульпторе такую характеристику его натуры: «он одержимый», и она подаётся и воспринимается как положительная. Запоминайте, господа, одержимым быть замечательно! Думается, после этих примеров ситуация заметно проясняется, и гадать, из какой инстанции приходят такого рода лингвистические провокации, не приходится. Тут достаточно поставить вопрос: кому они выгодны? Кому были выгодны революции с их массовым человекоубийством? Кому было выгодно свержение монархов, этих последних «удерживающих», стоявших на пути наступающего безбожия? И главное, кому было выгодно притуплять бдительность людей по отношению к нападениям дьявола? Конечно, только самому дьяволу, и больше никому. И вот он добрался до главной своей цели – до слова «любовь». Извратить, вывернуть его наизнанку издавна было его заветной мечтой. Почему? Потому, конечно, что одно из основных значений этого слова определялось для христианского мира формулой «Бог есть любовь», а Бог – предмет его величайшей ненависти, в Нём он видит своего врага номер один. И начиная с позднего Средневековья он стал исподволь готовить эту центральную терминологическую подмену. Сначала он внушил отпадавшим от Бога европейцам, что любовь есть влюблённость. Это был первый его успех, ибо во влюблённости нет никакого Бога. Затем настал момент, когда он перешёл в планомерное развёрнутое наступление, закончившееся победой. Поскольку этот бесплотный, хотя имеющий рога и копыта, деятель всё на земле совершает через завербованных им людей, отметить этапы его наступления можно именами тех, кто особенно сильно ему помог. Это австрийский невропатолог Зигмунд Фрейд (1856– 1939), американская женщина-этнограф Маргарет Мид (1901–1978) и американский же энтомолог, переквалифицировавшийся в специалиста по половому вопросу, Альфред Кинзи (1894–1956) – отец «сексуальной революции». Фрейд начал честно и результативно. Он успешно лечил неврозы, вызванные психическими травмами, нанесёнными в раннем детстве сексуальными домогательствами взрослых. Сами домогательства, вызвавшие когда-то сильный испуг, забылись, но безотчётный страх время от времени, особенно ночью, возвращался и приводил к истерическим припадкам. Фрейд разработал эффективную терапию: погружал клиента в состояние гипноза и заставлял его вспомнить, что с ним произошло, понять причину страхов, объяснить её и преодолеть, поставив на этом точку. Это помогало, и многие благодаря Фрейду выздоравливали. Он стал известен в кругу специалистов, обрёл хорошую практику. Но этого ему было мало – он мечтал о мировой известности, о больших деньгах, о возможности путешествовать и отдавать своих детей в привилегированные учебные заведения (его собственное признание в письме другу). А ведь давно известно, что стоит только воскликнуть: «Я хочу славы и богатства и ради них готов на всё!», как хвостатый моментально их предложит в обмен на такую малость, как душу. Фрейд пошёл на такую сделку. В 1896 году он перестал быть врачом и сделался лжепророком, какие предсказаны в Евангелии (Мф. 24, 11), гипнотизируя теперь не отдельных лиц, а всё человечество. Он объявил о своём великом открытии: оказывается, у всех людей, а не только у тех, к кому в младенчестве приставали, имеются отрицательные сексуальные переживания, причиной которых является эдипов комплекс – мальчики хотели совокупляться со своей матерью, а девочки со своим отцом и страдали оттого, что это невозможно. Так что в лечении нуждается каждый, и вылечить его можно только по фрейдистской методике, называемой «психоанализом». И как ни странно, эта ни с чем не сообразная теория была принята на ура и Фрейд был причислен к лику великих мыслителей. Помощь и поддержка хвостатого ох как действенна! Мы отмечали, что во фрейдизме имеется некая правда: идея «сублимации» родового инстинкта во влюблённость ради его облагораживания. Но пафос учения состоит не в этом. Он заключается в неправомерном распространении этой идеи на весь внутренний мир человека, в утверждении, будто всё, представляющееся нам в нас самих высоким, в действительности есть сублимация самого низкого. Внедрение этой лжи в общественное сознание как раз и было первой крупной победой сатаны в новейшее время. Но, кроме того, что он «лжец и отец лжи», он ещё и «человекоубийца от начала» (Ин. 8, 44), поэтому, в соответствии со второй своей «специальностью», он взялся за человека. Убить человека – не обязательно значит лишить его жизни. Пускай он живёт на земле, потребляет пищу и всё прочее, что нужно для его тела, пусть даже и размножается, но пусть перестанет быть человеком. А что значит «перестать быть человеком»? Это значит стать скотом с человеческой внешностью. Отличие же человека от скота, согласно Владимиру Соловьёву, состоит в наличии у него чувства стыда, ибо благодаря этому чувству он внутренне отмежёвывается от того, что есть в нём скотского. Отнять у человека это чувство, сделать его бесстыдным – вот что стало главной задачей дьявола после первого его триумфа, которым он обязан Фрейду. Здесь ему тоже понадобился подходящий исполнитель, и его выбор пал на молодую американку, выучившуюся в университете на этнографа. По каким признакам он её заприметил? Конечно, проникать в глубины ума и сердца человека он не способен – подлинным душеведом является только Бог, лучше знающий нас, чем мы сами, – но пороки в человеке он видит очень зорко. А у Маргарет Мид, судя по её дальнейшему поведению, от рождения было такое угодное дьяволу качество, как полная бессовестность. В 1931 году на деньги Рокфеллеровского фонда она поехала для проведения полевых исследований на остров Самоа к полинезийцам. Своей задачей она поставила выяснение того, как эти «дети природы» относятся к половому вопросу. Каков будет результат её научной командировки, ей было известно ещё до того, как она покинула Соединённые Штаты, так что на поездку она смотрела просто как на увеселительную прогулку в места с хорошими океанскими пляжами и возможностью устраивать дружеские застолья с молодыми офицерами американской военной базы. Соответственно, она не потрудилась освоить хотя бы азы полинезийского языка и знакомилась с мировоззрением местных жителей с помощью переводчика. Понятно, что сведения о нравах и обычаях туземцев, изложенные в её книге «Юность на острове Самоа», были чистой воды «липой». А сведения, заинтриговавшие американцев и вызвавшие их восторг, заключаются вот в чём: не испорченные цивилизацией островитяне не считают ни в какой мере зазорными добрачные и внебрачные связи, то есть исповедуют «свободную любовь». Вывод: следовательно, блуд естественен для человека и его не надо стыдиться. Ссылка на островитян, якобы считающих, что совершить половой акт с кем попало – всё равно, что выпить стакан воды, является таким наглым враньём, какое может внушить только «отец лжи». Этнографам всего мира давно и хорошо известен тот факт, что у племён, находящихся на низкой стадии социального развития, которых ещё недавно называли «дикарями», брачные отношения регламентируются гораздо более жёстко, чем у «цивилизованных» народов, и супружеская измена большей частью карается смертью. Но Мид не только крепко уповала на покровительство того, кому продала свою душу, но и от природы была настолько лживой, что «стаканом воды» для неё был даже такой обман, который не приносил особой пользы: соврать для неё было что дышать. Это доказывается одним эпизодом её жизни на острове: у жителей Самоа был обычай выбирать раз в год «Королеву девственниц» (который, между прочим, доказывает, что тамошние «дикари» высоко ценили целомудрие!). Когда они познакомились с Маргарет, они решили увенчать этими лаврами её – возможно, из чувства гостеприимства. Та с удовольствием приняла титул, преспокойно скрыв тот факт, что она замужняя женщина. Покровительство же действительно было оказано ей хвостатым, да ещё какое! Её книга стала бестселлером, выдержала много изданий, а сама Маргарет Мид получила все, какие только можно, научные премии и звания и при жизни стала классиком в области этнографии и такой же знаковой фигурой Америки, как Чарли Чаплин или Уолт Дисней. Как же: она «научно доказала», что собачьи свадьбы с точки зрения этики вполне законны и для людей и стесняться их не надо. Но такого уровня бесстыдства было человекоубийце все равно недостаточно. Выиграв второе крупное сражение, он стал готовиться к третьему. Ведь то блудодеяние, которое оправдывала Маргарет Мид, было всё-таки связью между мужчиной и женщиной и в биологическом отношении являлось нормальным. А почему бы не узаконить и извращения, доведя бесстыдство до предела? И тут на сцене появился новый фаворит сатаны – доктор Альфред Кинзи. Как мы уже сказали, он начал с энтомологии, ловил и изучал жуков и бабочек. Но это не давало ему известности и достатка, и, как в своё время Фрейд, он затосковал и стал думать, чем бы ему заняться более престижным и прибыльным. Невидимый советчик подсказал ему, что надо делать. Он бросил своих бабочек и начал статистические исследования, имевшие целью выяснить, какому проценту американских мужчин свойственна тяга к «нетрадиционным» формам удовлетворения сексуальной потребности, а также неискоренимое стремление к внебрачным половым связям. В результате сбора данных путём анкетирования и прямого опроса и их обработки был получен сенсационный результат: признаки сексуального маниакализма присутствуют у 98 % взрослых американцев мужского пола. Впечатляющие данные, не так ли? А теперь внимание: опрос производился доктором Кинзи среди заключённых, сидевших за половые преступления! В свете такого факта непонятно, почему он недосчитался двух процентов. Как обратил на это внимание иеромонах Введенского монастыря в городе Иваново Макарий, собравший много материала на эту тему, судить по такой выборке о том, насколько развратна вся нация, так же неправомочно, как выяснять процент курильщиков в стране, опрашивая людей, заходящих в табачную лавку. Тут невольно вспоминаешь афоризм: есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Конечно, если она устанавливается по методике доктора Кинзи. Но как бы там ни было, мораль басни все прекрасно поняли: если почти все люди извращенцы, то извращение – норма. В чём же был смысл такого передёргивания, моментально сделавшего его автора знаменитым? Ведь он возвёл на свой народ ужасный поклёп, который ничего не стоило сразу разоблачить! И разоблачения были. Несколько серьёзных специалистов написали книги, где вскрывался весь механизм фальсификации. Но эти книги никто не хотел печатать, а те, которые вышли ничтожными тиражами за счёт самих авторов, никто не читал, и никакой рекламы им не делалось. Опровержение лжи осталось неизвестным обществу, а сама ложь укоренилась в нём и стала краеугольным камнем его мировосприятия. После этого третьего удара человек, принадлежащий к западной цивилизации, уже не мог оправиться и перестал быть венцом творения, превратившись в его позор. «Сексуальная революция», произошедшая в Америке в середине 1960-x годов в результате усилий Альфреда Кинзи, превратила западный мир в Содом и Гоморру, сделав извращенцев не только полноправными с нормальными людьми, но и привилегированной группой населения, сплочённой, энергичной и имеющей огромное влияние. Что ждёт такое общество? Конечно же, то самое, что случилось с этими библейскими городами, – какая-то разновидность опаляющего всё серного огня. Страшный удар волны по приехавшим в ЮгоВосточную Азию для разврата с поставляемыми местными жителями проститутками обоих полов (в том числе детьми), этот «малый потоп» не есть ли предупреждение? О перспективе Америки после её «сексуальной революции» проживший там 16 лет философ Евгений Наклеушев пишет следующее: «Благополучно ли общество, где поёт Боб Дилан, любимец ещё живых и совестливых в стране (альбом «Подходит запоздавший поезд»): Порнография – в школах, развратники – на амвонах! Вы, допустившие гангстеров к власти, Преступников – истолковать законы, Когда же проснётесь вы, Когда же проснётесь вы, Когда же проснётесь вы – и спасёте то, что осталось? Едва ли не все творческие американцы, какие могли себе это позволить, жили и живут в нашем веке где угодно, но не в собственной стране. Благополучно ли это? Благополучно ли общество, где у положительных героев мультфильмов непременно низкие лбы? И где, пожалуй, самая зловещая мифологическая фигура – огромнолобый “сумасшедший учёный”? Чтобы, надо полагать, детишки не запутались в значении выражения “интеллектуальная элита”, но знали, не задумываясь, что это – наимерзейшая бяка. И, будьте покойны, они в подавляющем большинстве и не задумываются – те немногие дети, что приходят ещё в школу, чтобы всерьёз учиться, а не валять дурака, получают от сверстников прозвище “нёрд”, заряженное более хлёсткой ненавистью, чем “урод-калека”. Благополучно ли общество, где подавляющее большинство просидевших в школе положенные двенадцать лет выходят из неё, не умея толком ни читать, ни писать, ни решить простую арифметическую задачу? Благополучно ли общество, где правительственная комиссия приходит к выводу: “Если бы наше состояние школьного образования навязывалось нам иностранной державой, мы сочли бы это актом войны…” Будет ли Бог (или история, как хотите) долго терпеть такое общество?» Конечно же, это война, и война, выигранная человеконенавистником. А выиграл он её только потому, что правильно спланировал стратегию, бросив все свои силы на дискредитацию понятия «любовь». Часть 12 Как мы видим, извращение ключевого, определяющего весь внутренний строй человеческой души понятия «любовь», приводящее к полному его отрыву от понятия «Бог», является не результатом отдельных ошибочных высказываний авторитетных авторов, а продуктом деятельности целой цивилизации, относительно недавно обосновавшейся и обжившейся на развалинах западнохристианского общества и намеревающейся переделать на свой лад и включить в свой состав все остальные цивилизации, что декларируется в идеологии глобализма. Конечная цель этой цивилизации была открыта тайнозрителю Иоанну Богослову почти за две тысячи лет до её появления: её цель – заменить в человеке образ Бога образом зверя, «чтоб образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13, 15–17). Наложить на человека образ зверя – значит оскотинить его. Именно этим, как мы только что убедились, занимается современная западная цивилизация, пришедшая на смену протестантской. Она добивается этого путём отнятия у человека чувства стыда, поэтому самое точное ее название – бесстыдная цивилизация. Противостоять её растлевающей человечество деятельности, смысл которой состоит, конечно же, в подготовке прихода антихриста, нельзя усилиями отдельных лиц, осознавших масштаб угрозы, – бороться с ней можно лишь на том же цивилизационном уровне, на каком она творит своё мерзкое дело. И нам не нужно изобретать цивилизацию, которая даст нам этот уровень, она существует уже два тысячелетия, и врата ада не одолеют её до Судного дня. Это православная цивилизация, прямо противоположная бесстыдной в наиболее принципиальном пункте – в трактовке самого важного для них обеих слова «любовь». Противоположность здесь состоит в том, что нынешняя бесстыдная цивилизация понимает любовь как чувство, вызываемое исключительно потребностями плоти, а в самое последнее время начинает отождествлять её с самим действием плоти, тогда как православная цивилизация, хранящая в неповреждённом виде то понятие о вещах, которое было принесено на землю самим воплощенным Богом, называет любовью только то чувство, которое совершенно очищено от всего плотского. Это вовсе не запрещает любить близких нам по плоти, в том числе наших детей и супругов, но, любя их, мы должны, по слову Исаака Сирина, «уподобляться в этом Богу», т. е. любить так, как Бог любит всю свою тварь, а в нём никакого плотского чувства быть не может, ибо он абсолютно бесплотен. Его любовь есть жалость, сострадание и самопожертвование, высочайшим проявлением которого была Голгофа. Поэтому можно сказать, что в православном словоупотреблении «любовь» есть только Божественная любовь – либо любовь к Богу, либо богоподобная любовь к сотворённым Им существам. И эти две разновидности любви составляют содержание двух главных заповедей, в которых «весь закон и пророки» (Мф. 22, 36). Вот какое разъяснение по этому поводу даёт святитель Игнатий Брянчанинов: «Некоторые, прочитав в Священном Писании, что любовь есть возвышеннейшая из добродетелей, что она – Бог, начинают и усиливаются тотчас развивать в сердце своем чувство любви, им растворять молитвы свои, богомыслие, все действия свои. Бог отвращается от этой жертвы нечистой. Он требует от человека любви, но любви истинной, духовной, святой, а не мечтательной, плотской, осквернённой гордостью и сладострастием. Бога невозможно иначе любить, как сердцем очищенным и освящённым Божественною Благодатью. Любовь к Богу есть дар Божий, она изливается в души истинных рабов Божьих действием Святого Духа. Напротив того, та любовь, которая принадлежит к числу наших естественных свойств, находится в греховном повреждении, объемлющем весь род человеческий, все существо каждого человека, все свойства каждого человека. Тщетно будем стремиться к служению Богу, к соединению с Богом этою любовью! Он свят и почивает в одних святых». Совершенно однозначно решается в православии и вопрос о любви к близким родственникам. Вспомним слова, сказанные на этот счёт самим Христом. «Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч; ибо Я пришёл разделить человека с отцем его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги человеку – домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10, 34–37). Многие воспринимают этот текст как очень жестокий, и некоторых неустойчивых в вере он даже отвращает от христианства. На самом же деле здесь Господь всего лишь напоминает нам, что любить Бога всё-таки есть первая заповедь, а любить ближнего – вторая, и обращает наше внимание на то, что если этим ближним является член семьи, то тут особенно велика опасность примешивания к любви плотского тяготения, в строгом смысле не являющегося любовью. Меч, принесённый Христом, подобен тому мечу, который Тристан и Изольда положили на постели между собою, чтобы именно любить друг друга, а не «заниматься любовью». Христиане первых веков, т. е. истинные христиане, прекрасно понимали это и воспринимали приведённое речение Христа не как направленное против прочной семьи, а всего лишь как правильно расставляющее приоритеты. И конечно, эти приоритеты неукоснительно соблюдали. Проиллюстрируем это двумя примерами. 1. Святая Перпетуя, принявшая мученический венец в 203 году в Карфагене. Перпетуя принадлежала к знатному патрицианскому роду. Она рано овдовела и жила с маленьким сыном в доме отца, убеждённого язычника. Тайно от него она приняла крещение, но вскоре это стало известным. В это время в империи начались очередные гонения на христиан, и карфагенские власти стали требовать от Перпетуи отречения от веры в Распятого. Об этом же умолял её отец, говоря, что она должна это сделать, если не ради него, то ради малютки, которому грозит остаться круглым сиротой. Можно представить, как разрывалось сердце у молодой матери, когда, покрывая младенца поцелуями, она держала его на руках в последний раз. И всё же она не поклонилась идолам, и её вместе со служанкой Фелицитатой, тоже уверовавшей во Христа, вывели на арену ко львам. Сегодня нам трудно понять смысл поступка Перпетуи, но мы должны постараться сделать это, так как в нём открывается самая суть христианства. Перпетуя не предала родных ей по плоти людей – престарелого отца, который до конца жизни будет плакать от горя, и крошечного сыночка, это невинное беззащитное существо, которого некому будет воспитать, – просто она чувствовала бы себя чудовищной предательницей, если бы предпочла любовь к ним любви к Тому, Кто есть источник и олицетворение всякой любви. Сведения о Перпетуе особенно важны для нас по той причине, что о её поведении и её чувствах мы знаем не из житийной литературы, нередко смущающей своей стереотипностью, а из дневника самой мученицы. Эта бесхитростная автобиография – драгоценный документ эпохи, в подлинности которого нет ни малейших сомнений. Если бы не было дневника Перпетуи, ещё можно было бы сомневаться в верности житий мучеников, но он неопровержимо доказывает, что, если не по форме, то по содержанию, они безукоризненны. 2. Преподобный Алексей, человек Божий. Этот святой гораздо более известен в России, чем Перпетуя, и наша Церковь торжественно отмечает день его памяти. Однако сказать, что наши сегодняшние верующие хорошо понимают, в чём состоял его подвиг, нельзя – его красоту в полной мере чувствовали только в Святой Руси. Алексея разделила с его родителями и невестой, которую они ему приискали, не религия – они были такими же глубоко верующими христианами, как он, – а только степень любви ко Христу. У Алексея она была бесконечной. И когда после обручения они с невестой остались в горнице вдвоём, он снял с пальца обручальное кольцо и, отдав его ей, сказал: «Сохрани это, и пусть Господь будет с нами, устраивая нам Своею благодатью новую жизнь». После этих слов он тайно ушёл из дома и сел на корабль, отплывающий в Месопотамию. Это произошло в Риме в конце IV века. Мы недоумеваем сегодня: что за надрыв, что за истерическое поведение – хочу, мол, сделать так, чтобы всем было хуже. Да ведь это какая-то «достоевщина», вроде той, где Настасья Филипповна бросает в камин деньги Рогожина и наслаждается его и своими страданиями! Да нет, это не тот случай. У Алексея Божьего человека не было и тени какихто неврозов – такую здоровую и трезвую психику дай Бог иметь каждому. Настасью Филипповну он совершенно не понял бы и вывертов её не оценил. Но он имел не только ясный ум и абсолютно нормальные человеческие чувства, включая уважение и любовь к родителям и плотское тяготение к будущей супруге, а и ещё одно качество, встречающееся у одного на миллион, – колоссальную силу воли. А что такое сила воли? Это умение заставить себя делать сейчас то, что очень трудно делать, чтобы потом, может быть, очень не скоро, тебе стало очень легко. Чем дольше период лишений, в конце которых человеку гарантировано получение приятных плодов, тем большая ему необходима сила воли. В протестантизме, озабоченном лишь земными благами (ведь блаженство, обретаемое в Царстве Божьем, в нём зависит только от веры, а не от дел, или вообще заранее предопределено, так что заботиться о его обретении бессмысленно), самым волевым человеком показывает себя тот, кто первую половину жизни трудится как вол, во всем себе отказывает, а когда облысеет, покупает на накопленные деньги какое-нибудь предприятие и возмещает все предыдущие лишения, ни в чём уже себе не отказывая. Это – герой лютеранства. Православный же, для которого главной является воспринимаемая им как несомненная реальность жизнь будущего века, имеет возможность проявить куда большую силу воли: до самой смерти отказывать себе в том, что было бы приятным, чтобы получить только там возмещение, которое в этом случае будет, конечно же, особенно щедрым. Гигантом воли, заставившим себя поступить именно так, и был Алексей, прозванный Божьим человеком. В своём воздержании от того, что больше всего радует нас в земной жизни, он проявил просто-таки сверхчеловеческую твёрдость. После семнадцати лет жизни при церкви Пресвятой Богородицы в городе Эдессе, где питался подаянием, он снова тайно сел на отплывающий корабль, чтобы убежать от начавшегося в народе почитания, и Божий промысел вернул его в Рим. Там он пришёл в дом своего отца, где никто не узнал его, ибо из красивого стройного юноши он превратился в высохшего в результате поста и бдений согбенного старика, и попросил разрешения поселиться в сторожке у ворот усадьбы. Дальше предоставим слово житию. «Живя в родительском доме, блаженный продолжал поститься и проводить дни и ночи в молитве. Он смиренно терпел обиды и насмешки от слуг родного отца. Комната Алексея находилась напротив окон его невесты, и подвижник тяжко страдал, слыша её плач. Только безмерная любовь к Богу помогала блаженному переносить эту муку». Но возникает новое возражение: хорошо, Алексей разумнее всех нас распорядился своей временной жизнью, заплатив ею за хорошее место в жизни вечной, и его страдания с лихвой вознаградились; но зачем же он заставил страдать своих родных, не обладавших такой силой воли и выдержкой? Не эгоизм ли это? Какой там эгоизм: он ведь и их всех сделал соучастниками своего великого торжества, и не только в обителях небесных, но и здесь, на земле. Оказалось, что он не только о себе, но и о них заботился, да ещё как! Обратимся снова к житию. «Святой Алексей прожил в доме своих родителей семнадцать лет и был извещён Господом о дне своей кончины. Тогда святой, взяв хартию, описал свою жизнь, прося прощения у родителей и невесты. В день кончины святого Алексея в соборной церкви служил литургию папа Иннокентий (402–417) в присутствии императора Гонория (395–423). Во время службы из алтаря раздался чудесный Голос: “Придите ко Мне, все труждающиеся и обременные, и Аз упокою вы”. Все присутствовавшие в страхе пали на землю. Голос продолжал: “Найдите человека Божия, отходящего в вечную жизнь, пусть он помолится о городе”. Стали искать по всему Риму, но не нашли праведника. С четверга на пятницу папа, совершая всенощное бдение, просил Господа указать угодника Божия. После литургии вновь в храме послышался голос: “Ищите человека Божия в доме Евфимиана”. Все поспешили туда, но святой уже умер. Лицо его светилось подобно лику ангела, а в руке была зажата хартия, которую он не выпускал, как ни старались её взять. Тело блаженного положили на одр, покрытый дорогими покрывалами. Папа и император преклонили колена и обратились к преподобному, как к живому, прося разжать руку. И святой исполнил их мольбу. Когда письмо было прочитано, отец, мать и невеста праведника с плачем поклонились его честным останкам». Слёзы родных были, конечно, слезами умиления и благодарности сыну и жениху, открывшему им врата в вечное блаженство. Эти примеры подтверждают, что православное понимание любви действительно диаметрально противоположно тому, которое навязывается ныне всему миру бесстыдной западной цивилизацией. А это значит, что, утверждаясь в нашей родной православной цивилизации, мы поставим заслон этой наглой экспансии, имеющей своей тайной целью уничтожение человеческого в человеке. Это не значит, что мы должны стать такими, как Перпетуя и Алексей человек Божий. Такое вряд ли возможно. До них нам как до неба – они не просто были образцовыми представителями православной цивилизации, они её создавали, претворяя её ядро, каковым являются две «наибольшие» заповеди, в поведение, в образ жизни, в традицию, в обычай. В каждой человеческой цивилизации – как и в отдельном человеке – есть дух, душа и тело. Духом православной цивилизации является Святой Дух – третье Лицо Божественной Троицы, и Он действует через своих избранников, называемых поэтому тоже святыми. Душой же цивилизации является её культура, порождённая её духом и пропитанная им. Сегодня, вовлеченные историей в общеевропейское апостасийное развитие, мы, бывшие православные, потеряли прямое ощущение Духа Святого, не чувствуем Его животворящего дыхания, как чувствовали его великие святые прошлого, но мы можем обнаружить результаты Его дыхания в нашей великой культуре и в сохранившихся ещё в нашей повседневной жизни остатках того порядка прохождения земного отрезка нашего существования, какой выработали для себя наши благочестивые предки. Восстанавливая постепенно этот порядок, мы будем двигаться «обратным ходом» от души к духу. Нам надо открыть для себя красоту православного быта и мудрость православных критериев плохого и хорошего, дозволенного и недозволенного, приличного и неприличного, и тогда Дух, почуяв своё, родное, начнёт постепенно возвращаться к нам, и мы станем непреодолимым препятствием на пути человекоубийственной бесстыдной цивилизации Нового Вавилона. А ведь эта красота и эта мудрость лежат совсем близко под остывшей поверхностью нашего коллективного сознания – так же близко, как горячая магма Везувия под его отвердевшими склонами. Их плодородные кислые почвы можно засеивать чем угодно, и они произведут хоть горькие, хоть кислые, хоть приторно сладкие плоды, которые для забывших о магме окрестных жителей и будут Везувием. Но пробьёт час, и они дорого заплатят за свою ошибку: из жерла вулкана потечёт лава, сжигая всё насаженное дотла, после чего гора снова погрузится в спячку. А через два-три поколения земледельцы вновь начнут относиться к ней легкомысленно, полагая, что на её угодьях можно производить любые агротехнические эксперименты. Такова и наша Россия. Ее магма – Дух Христов, кратер – ядро той цивилизации, которое, изливая этот Дух на её вначале небольшую, а потом всё дальше раздвигающуюся территорию, сделало её не только могучей и прекрасной державой, Третьим Римом, но и страной необычайного плодородия, восприимчивой и будто бы очень подходящей для самых утопических экспериментов. Вот и появлялись на ней разные прожектёры, насаждавшие понравившиеся им заморские растения на её удобренной Святым Духом почве. Но когда они заходили слишком далеко в своей самодеятельности, кратер оживал, и все чужеродные насаждения обращались в пепел. Пётр Великий насаждал на Руси протестантские саженцы, Анна Иоанновна лелеяла их, усердно поливала и окучивала с помощью выписанных из Германии инструкторов. Но вулкан не выдержал этого и при Елизавете Петровне предал эти посадки огню, и почва снова запахла русским духом. Прошло семьдесят лет, об опасности извержения забыли, и декабристы попытались насадить на русских просторах квадратно-гнездовым способом густые заросли французской антимонархичности. На этот раз лава сожгла ростки, не дав им прижиться. Протекли следующие семь десятилетий, и грянула серия из трёх русских революций – на этот раз эксперимент был поставлен с размахом. Целью заводил этого проекта – Ленина и Троцкого – было вырастить на нашей благодатной почве древо левацкого интернационализма. Оно пустило корни и даже покрылось листвой и почками, издававшими одурманивающий аромат, надышавшись которым люди стали сходить с ума, громить церкви, сжигать иконы и объявлять традиционную семью пережитком. Но при Сталине наш вулкан буквально взорвался лавой, и она не оставила от этой флоры ни листочка. А потом снова запамятовали лаву и с энтузиазмом принялись за «ускорение», «перестройку», «гласность», «рынок» – у нас, мол, всё вырастет! На гумусе, созданном православной цивилизацией, пытаются взрастить зловонные карликовые кусты бесстыдной цивилизации. Не безумцы ли эти агрономы, подобные своим сгинувшим предшественникам? Неужели уроки истории для них ничего не значат? Неужели не понимают они, что вулкан не вытерпит их издевательств над Россией, что он уже вот-вот готов пробудиться и первые предупредительные толчки уже улавливаются чуткими душами, поднимающими тревогу? Кого Бог хочет погубить, того лишает разума… Отвести угрозу извержения можно только всем народом. Нам нужно понять, что она абсолютно реальна, ибо Бог свою Россию никому не отдаёт, как не отдавал её и прежде – ведь Четвёртому Риму не бывать. Так что не надо доводить дело до Божьего вмешательства: оно будет карательным. Надо вспомнить, что под нашими ногами магма, и эта магма есть Святая Русь. Надо привести наш национальный ландшафт в соответствие с нею, тогда ей не будет причины извергаться наружу. Как это мы могли поддаться на откровенную лингвистическую провокацию – вкладывание отрицательного смысла в слово «домострой»? Нельзя же быть доверчивыми до такой крайней степени! Что плохого в концепции построения прочного дома, т. е. прочной семьи? В этом должна быть основная цель жизни того, кто не идёт в монахи. Но нет, нам навязали представление о домострое как о чем-то отжившем, реакционном, отвратительном. И знаете, на что в первую очередь здесь напирали провокаторы? На то, что концепция построения качественной русской семьи, сформулированная отцом Сильвестром в середине XVI века, совершенно не учитывает феномена влюблённости, полностью выводя его за круг факторов, относящихся к браку. Но как раз в этом и заключалась глубокая мудрость наших предков! Однако пойди растолкуй это русской интеллигенции, вслед за Западом исповедующей культ «безумной страсти», перед которой нельзя ставить никаких преград! Спор на эту тему, относящийся к времени, когда западные взгляды на любовь и супружество только-только начали проникать во все слои русского общества, приводится в «Крейцеровой сонате». «Адвокат говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе и как у нас всё чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику. – В старину этого не было, не правда ли? – сказал он, приятно улыбаясь. Старик хотел что-то ответить, но в это время поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься и читать шепотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дожидался. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, поправился на месте и начал говорить. – Бывало, сударь, и прежде, только меньше, – сказал он. – По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованны стали. Поезд, двигаясь всё быстрее и быстрее, погромыхивал на стычках, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел ближе. Сосед мой, нервный господин с блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался. – Да чем же худо образование? – чуть заметно улыбаясь, сказала дама. – Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста и не видали даже друг друга? – продолжала она, по привычке многих дам отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. – Не знали, любят ли, могут ли любить, а выходили за кого попало, да всю жизнь и мучились; так по-вашему это лучше? – говорила она, очевидно, обращая речь ко мне и к адвокату, но менее всего к старику, с которым говорила. – Уж очень образованны стали, – повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя её вопрос без ответа. – Желательно бы узнать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве, – чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат. Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его. – Нет, уж это время прошло, – сказала она, но адвокат остановил её: – Нет, позвольте им выразить свою мысль. – Глупости от образованья, – решительно сказал старик. – Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут, – торопилась говорить дама… – Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет. – Напрасно так говорите, сударыня, – сказал старик, – животное скот, а человеку дан закон. – Ну да как же жить с человеком, когда любви нет? – всё торопилась дама высказать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми. – Прежде этого не разбирали, – внушительным тоном сказал старик, – нынче только завелось это. Как что, она сейчас и говорит: “Я от тебя уйду”. У мужиков на что, и то эта самая мода завелась. “На, говорит, вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудрявей тебя”. Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть». Этот замечательный диалог очень для нас информативен как в историческом, так и в психологическом своём аспекте. Из него мы видим, что уже во второй половине XIX века эмансипация западного образца начала проникать и «к мужикам», т. е. в крестьянскую среду. Это означало, что Великая Россия была обречена, ибо её основой была традиционная русская семья, а основой традиционной русской семьи – заповедь апостола Павла «да убоится жена своего мужа», которую купец назвал «законом». С тех пор прошло полтора века, и стало совершенно ясно, какой сатанинской хитростью было насаждение под маской облегчения женской участи этой самой «эмансипации»: сегодня она превратилась в феминизм, в стремление женщин верховодить, что ставит с ног на голову всё людское жизнеустроение. А ещё мы понимаем из воспроизведённого Толстым спора, что у защитников нравственных устоев русской семьи не было никаких шансов победить разрушителей этих устоев, прибегнувших к подлому методу лингвистических провокаций, против которого простодушный человек беззащитен. Обратите внимание: защищая эмансипацию, дама употребляет слово, которое обезоруживает старика, и он начинает сбиваться с мысли, – слово «любовь». Для православного человека оно свято, и спорщица бессовестно использует это, хотя подразумевает под ним влюблённость, а не настоящую любовь. Старик же, не обученный софистике, не умеет различить омонимы, поэтому, когда дама дальше задаёт коварный вопрос: «А если она его не любит?», он не находит другого ответа, как «Небось, полюбит!», который звучит неубедительно. А ведь старик совершенно прав, так как он имел в виду не романтическую влюблённость, а подлинную супружескую любовь – жалость к мужу, отцу своих детей, желание во всём помогать ему, добросовестно выполняя свою долю семейных обязанностей. Это зрелое и глубокое чувство, гораздо более достойное именоваться любовью, чем обрушившаяся как снег на голову страсть, и оно действительно входит со временем в семью и становится всё крепче. Запутавшийся в терминах купец сам себя выставляет на смех, произнося внутренне противоречивую фразу «глупости от образованья». Но и здесь он прав, так как под «образованьем» подразумевает западническое вольнодумство. Только теперь мы можем оценить, насколько прав был старик: это вольнодумство привело Запад не к новым философским открытиям, а к почти полному одичанию, сделав интеллектуальный диалог с европейцами и особенно с американцами практически невозможным для нас, ибо у них нет больше никакой философии. Старик предвидел это вырождение ещё 150 лет тому назад, и это позволила ему сделать его генетическая мудрость, уходящая своими корнями к учению Христа – величайшего из философов. Ныне, когда ложь всех лингвистических провокаций, которыми удалось нас одурачить, вылезла наружу, нам пора вернуть понятиям нашего языка их истинный смысл. Мы должны, ни перед кем не извиняясь и не оправдываясь (перед кем оправдываться – перед умеющими барабанить по клавишам компьютеров дикарями?!), сказать гордо: «Да, домострой! Да, брак по здравому рассуждению с учётом совета родителей, а если можно, с обращением за помощью к сватам! Ведь это – планирование семьи! Вы, господа западники, ведь за планирование семьи, не так ли? И мы за него. Только для нас это не аборты и не контрацепция, а закладка семейного счастья». Литературное добавление Размышления в Афинееве Мы не меняемся, мы вкладываем в чувство, которое относим к какому-нибудь существу, множество уснувших элементов, им пробуждаемых, но ему чуждых. И, кроме того, что-то такое в нас всегда старается привести эти частные чувства к более высокой истине, то есть связать их с чувством более общим, присущим всему человечеству. Так что отдельные люди и страдания, ими причиняемые, служат нам только поводом приобщиться к нему. Марсель Пруст О, Господи, зачем мне всё это снова! Неужели так никогда и не вылечусь от глупости? Сколько ^ же можно? Известно же, чем это всегда кончается… Нет, нет, только не это. Хватит, хватит! Хватит! Ах, неисправимый идиот, хочется, видите ли, жить с эмоциями, без них скучно. Ну хорошо, пусть так, но разве же нет других источников эмоций и вдохновенья? И куда более достойных, а главное – надёжных? Они не принесут неизбежных мук расставания или разочарования, а, наоборот, будут радовать всё больше. И их ведь вокруг такое множество! Вот хотя бы это – то, что я вижу сейчас перед собой. Ну может ли быть что-нибудь прекраснее? Два ряда вековых лип вперемешку с березами, а вокруг – ни домов, ни людей. Слева золотистое поле овса и дальний лес. Справа – спуск к речке, тёмная влажность, заросли ивняка. Аллея, ведущая из ниоткуда в никуда! В её функциональной бесполезности можно усмотреть какой-то высший Замысел, которого мы никогда до конца не поймём. Вроде бы Кому-то было очень нужно, чтобы в запустении полей и лесов встали двумя правильными шеренгами огромные деревья, летом шуршащие массивными зелёными кронами, осенью – жёлто-красные, а зимой – голые, сиротливые и зябкие. Может быть, особенная красота этого удивительного места призвана как-то уравновесить и оправдать безобразие других мест? Ну а коли это и вправду было нужно, то как можно было это устроить? Так направить ветер, чтобы вдоль параллельных прямых одновременно упали в почву семена лип и берёз? Но ветер возникает от перепада атмосферного давления, а это давление определяется жёсткими законами физики. Мёртвая физика косна и упряма, и менять её законы – значит грубо вторгаться в заведённый порядок, совершать явное насилие. Не проще ли оказывать тайное воздействие на людские души – ведь этот материал тоньше, чувствительней, податливей? И вот на нас насылаются то одни флюиды, то другие, и наши желания и цели меняются. Сначала мы хлопочем об устройстве имений, копаем пруды, сажаем подъездные аллеи, а потом загораемся идеями равенства и братства, устраиваем революции, сжигаем усадьбы и покидаем деревни, чтобы скучиться в городах. Трёхсотлетний цикл человеческой активности окончен, и в итоге среди дикой природы красуется величественная аллея. Высшая цель достигнута, а то, что считали целями люди, были лишь средства. Я представляю, как отнеслись бы к такому предположению наши учёные. Назвали бы его бредом сумасшедшего или просто пожали бы плечами. Ну а сами-то что говорят? Хорошо, я пошутил, я на самом деле не думаю, что тайная цель человеческой истории состоит в появлении на поверхности земли особых форм ландшафта. Однако, ей-богу, такая гипотеза ничуть не глупее существующих теорий – например, той, согласно которой смысл исторического развития состоит в непрерывном повышении производительности труда. Она даже умнее, ибо всё-таки предполагает наличие внешней по отношению к людям задачи, тогда как концепция роста производства есть очевидный логический тупик, замыкающий нас на самих себя, как самообслуживающую и самодовлеющую данность, чуждую остальной природе. С точки зрения разумного человека она вообще ничего не объясняет, ибо объяснить – значит подвести под что-то другое, выразить в рамках расширенного языка. Нелепо искать смысл явления в самом этом явлении, смысл человеческого развития – в самом этом развитии. Но втолковывать такие простые вещи жрецам современной науки было бы совершенно безнадёжным делом. Они надменны и самоуверенны, а поэтому абсолютно непробиваемы. Ни о чём, что не совпадает с их книжными построениями, они и слушать не будут, хотя сами эти построения каждые десять – двадцать лет меняются на прямо противоположные. Если бы нужно было охарактеризовать касту нынешних учёных всего двумя словами, точнее всего было бы сказать о них так: «самые нелюбопытные». Их равнодушие ко всему реальному достигает патологических масштабов. Разговаривая с ними, вначале удивляешься: как им удалось вытравить в себе естественный для человека интерес к живой действительности? А потом вспоминаешь – ах да, ведь у них есть теории, которые все объясняют, есть монографии и учебники, где всё систематизировано, есть реферативные журналы, где можно найти любую цитату и ссылку. Короче говоря, они ведь познали ЗАКОНЫ – законы развития всего сущего. Так зачем же им теперь само это сущее? Не ровён час, оно не захочет влезать в научные законы и нарушит весь порядок. Мне возразят: но нельзя же всех учёных изображать такими твердолобыми – есть, наверное, среди них и честные искатели истины. Нет, к сожалению, уже нет. Совсем недавно ещё встречались, а сейчас – всё, перевелись. Об учёных-романтиках теперь надо говорить как о стерляжьей ухе – в прошедшем времени. Романтизм в науке вытеснен прагматизмом, трепет перед тайнами мироустройства уступил место трепету перед академическими званиями. Подтверждений этому прискорбному факту сколько угодно. Но самое убедительное из них – полная самоуспокоенность современной науки. Правда, её представители любят иногда поразглагольствовать насчёт неразгаданных тайн природы, особенно в публичных лекциях или в научно-популярных книжках, но это всегда отвлечённые разговоры, эдакий общефилософский трёп. Что же касается конкретных явлений, не вписывающихся в пределы существующих теорий, то учёные их просто-напросто игнорируют. Возьмём для примера любую отрасль науки – скажем, биологию. В основе всей биологии лежит постулат, что отличительные признаки живых организмов возникли и развились в процессе эволюции по причине своей полезности для выживания и процветания этих организмов. Эту посылку иногда формулируют так: «природа не создаёт ничего нецелесообразного», причём «целесообразность» надо понимать здесь как «приспособленность». Спрашивается: если бы биологи и вправду были непредвзятыми исследователями объективных фактов, какими они себя изображают, то могли бы они примириться с явлением, которое резко противоречит их исходному допущению? Разумеется, не могли бы и либо всё-таки объяснили бы это явление с точки зрения своей концепции, либо изменили бы концепцию. Но таких явлений в живом мире великое множество, и одно из них – рога животных. Я подозреваю, что биологи инстинктивно чувствуют, как здесь вылезает наружу что-то принципиально неподъёмное для всей их методологии, поэтому с первобытной хитростью делают вид, будто ничего загадочного в существовании рогов нет. Нужно было корове бодаться, вот и отрастила себе рога. Ребёнку ясно. Да, ребёнок, наверное, именно так и объяснил бы ситуацию и действительно был бы убежден, что всё стало ясно. А мы умилились бы его сообразительности и дали бы ему конфетку. Но когда детский лепет звучит в устах взрослого дяди и за этот лепет дядя получает зарплату, это вызывает не умиление, а грусть. Во-первых, корове вовсе не нужно бодаться, поэтому бодливой корове Бог рогов как раз и не даёт. Правда, рога бывают нужны быку, но только тогда, когда он участвует в корриде, да и то не быку, а матадору – без них было бы мало риска, а значит, и интереса со стороны публики. Дикому же быку они совершенно не нужны, ибо у него нет таких врагов, которых они могли бы отпугнуть. Тигра и льва они не остановят, так как эти хищники нападают на жертву сзади, а другие звери и так с быком не справятся. Неужели же рога копытных образовались в ходе эволюции только для того, чтобы самцы могли устраивать брачные турниры? Не велика ли цена, которую им пришлось за это уплатить? Ведь рога смогли появиться только после многотысячелетнего периода ношения на голове зачаточных отростков, которые часто кровоточили и причиняли животному зуд и боль. И разве для поединков так уж непременно нужны рога? У некоторых видов оленей они настолько громоздки, что при драках намертво сцепляются, и соперники гибнут. А ирландский олень вообще вымер из-за своих громадных рогов, так как они застревали в ветвях деревьев. Тут уж признак не то что не полезен, а явно вреден. Во-вторых, рога имеются не только у копытных и не только у млекопитающих: они широко распространены у представителей большинства типов и классов фауны. И почти для всех своих хозяев они абсолютно бесполезны. Зачем, скажем, красивый изогнутый рог гусенице бражника, к тому же сидящий не спереди, а сзади? Зачем роскошные тяжёлые рога жуку-оленю? Ведь он ими никак не пользуется. То же самое можно сказать о жуке-носороге, нарвале и многих других существах. А какую жизненно важную функцию могут приписать биологи многочисленным вычурным рогам древних трицератопсов – травоядных гигантов, которые из-за своих размеров не должны были иметь никаких врагов? В-третьих, если уж становиться на путь трактовки эволюции как процесса постепенного появления и закрепления полезных признаков, то надо с этой точки зрения объяснить не только само наличие рогов, но и их форму. Но кто возьмётся отыскать утилитарное значение в том, что рога муфлона закручены в тугие спирали, а на рогах антилопы куду имеется винтовая нарезка? Пожалуй, даже тот находчивый ребёнок, который сообразил, что корове рога нужны для бодания, будет огорошен винтовой нарезкой и ничего не сможет придумать в её оправдание. Не могут, конечно, ничего придумать и учёные мужи. Но они очень не любят быть огорошенными, поэтому предпочитают не говорить на эту тему. Во времена Ламарка и Кювье натуралисты ещё умели волноваться и спорить из-за таких вещей, но если спросить современного зоолога, почему никто не занимается проблемой рогов, он ответит: «Да что у нас нет других забот, что ли?» Факт, абсолютно несовместимый с главным положением их науки – «природа не создаёт ничего нецелесообразного», – никого из них уже не заботит. Они беспокоятся теперь совсем о другом – как «пробить» ассигнования на новую лабораторию, как уволить неугодных сотрудников, как помочь своим людям защититься. Как же они дошли до жизни такой? Ведь когда-то, когда они только начинали, это были живые, любознательные люди. Вспомним хотя бы Ньютона и Левенгука. Ньютон очень удачно сравнил себя с мальчиком, играющим на берегу безбрежного океана истины и приходящим в восторг, когда ему удаётся найти особенно красивую ракушку. Левенгук, изобретя микроскоп, днями и ночами разглядывал мир мельчайших существ, не уставая дивиться его разнообразию и сложности. Сравните этих пылких исследователей XIX века с погрязшим в интригах руководителем современного НИИ. Какая бездна лежит между ними! Что же произошло, почему наука так выродилась? Я думаю, здесь сработал закон материализации, или, как говорил Бердяев, «объективации» духовного потенциала человека. Я называю это законом потому, что такое уже случалось, есть прецедент, так что, видимо, подобное развитие событий как-то заложено в самой природе вещей. У наших учёных, которые заменили реальную действительность сконструированными ими же самими и изложенными в книгах научными теориями, были предшественники – КНИЖНИКИ, с которыми так яростно боролся Христос. Читая Евангелие, можно удивиться, как много усилий тратил Он на разоблачение тогдашней книжной мудрости: такая страстность в этом частном вопросе кажется не слишком подобающей всемогущему Богу. Но Христос-то знал, что делал! Он понимал, что надменная каста книжников, подобно тромбу, закупорила канал, связывавший людей с животворным источником всякого подлинного знания, и, если не разрушить этот тромб, человечество задохнётся. И Он его разрушил. После этого невидимые соки вновь потекли в людские души, наполняя их творческой силой, и возникла великая европейская цивилизация. На земле появилось существо с небывалым прежде уровнем жизненного тонуса и духовной энергии – новозаветный человек. Его верная интуиция, острая чувствительность к отвлечённым идеям, способность всецело отдаваться избранному роду деятельности и невероятное упорство в достижении цели позволили ему создать современную математику, естественные науки, богатейшее искусство, изумительную литературу, проникновенную поэзию, красивейшую музыку, грандиозные архитектурные и инженерные сооружения, сложные виды государственного и общественного устройства. Всё это зримое великолепие образовалось в результате сублимации невидимого духа, хлынувшего из пробитой христианством скважины. Но шли века, и постепенно продукты сублимации стали засорять скважину. Животворный фонтан начал ослабевать. Люди не уберегли его именно потому, что он был невидимым, неощутимым. Воздуха, которым дышишь, не замечаешь и не ценишь, и только когда он кончается, начинаешь понимать, что без него не нужны ни еда, ни питье, ни вообще ничего на свете. Так и здесь. Неосязаемый для нас приток Духа давал нам всё – и ум, и тонкость эмоций, и волевой напор; лишь благодаря Духу сооружали мы доступные органам чувств структуры. Но мы не понимали, из-за чего способны делать это. А может быть, когда-то даже и понимали, и эта древняя мудрость запечатлелась в слове «вдохновение» – но потом перестали понимать. И решили, что главное в мире – чувственно воспринимаемые структуры, что в их создании и состоит весь смысл нашей жизни, а стимул к их созданию заключён в них самих. Так в умах людей начался серьёзный сдвиг, растянувшийся на много столетий и сейчас приближающийся к своему трагическому завершению. Он-то и явился стержнем всей новой истории от Раннего Возрождения до наших дней. Всё главное, чем характеризуется этот период, состоит из прямых или косвенных следствий этого сдвига. Иными словами, суть последних нескольких веков европейской истории составлял процесс постепенного вытеснения невидимого первичного видимым вторичным, что привело в конце концов к потере связи с невидимым и к острому духовному дефициту. Эта подмена распространилась на все три сферы человеческого самопроявления и определила основные черты нашего времени. В чувственной, или эмоциональной, сфере она сказалась в том, что в искусстве на первое место стали выдвигать сами произведения искусства, что породило ЭСТЕТИЗМ. В житейской, или экзистенциальной, сфере она сказалась в том, что в биологическом существовании человека на первое место было поставлено само это существование, что породило ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО. В умственной, или логической, сфере она выразилась в том, что в научном осмыслении мира главенствующее место заняли сами научные теории, что породило ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ. Эти три окостеневшие глыбы всё нарастали и нарастали над чудесным источником и наконец так его придавили, что ни пользоваться им, ни даже обнаружить его стало невозможно. Снова, как и две тысячи лет назад, над человеческим родом нависла угроза удушья. Из этих трёх побочных продуктов христианской культуры самым зловещим и уродливым является интеллектуализм, господство научной идеологии. Этому есть свои причины. Разум, в отличие от чувств и жизненной силы, есть специфическое свойство человека, не присущее более ни одному существу. Недаром наш вид называют «человек разумный». Ум – наш уникальный дар, а значит, в каком-то смысле и высший, и наша ответственность за его правильное использование особенно велика. Поэтому то обстоятельство, что мы начали использовать его извращенно, трагичнее всего остального. Ведь при извращении высшее автоматически становится низшим, лучшее – наихудшим. В данном случае это видно с первого взгляда. Эстетствующие стихотворцы и погрязшие в эгоистических материальных заботах мещане всё-таки не так несносны, как возомнившие себя наставниками человечества современные книжники и законники. Скрыться от них некуда, избежать их поучений невозможно. Они всюду проникли, всё прибрали к рукам, всё взяли под свой контроль. Президенту они советуют вести такую-то политику, художнику объясняют, как надо писать картины, крестьянина учат правильному отношению к природе, обывателю втолковывают, как надо выбирать цвет обоев и стиль мебели. Страшные люди! Встали плотной стеной, загородили дорогу к истине и никого не пропускают. А как раз истина нужна нам сейчас более всего. Всякое исцеление начинается с диагноза, с осознания своего положения. Но наша амбициозная наука создаёт у нас в корне ошибочные представления о мире и нашем в нём месте. Проистекают же они из ложного понимания наукой цели исторического развития и цели человеческой жизни. Вот из этой-то главной лжи нам и нужно прежде всего выпутаться! Это трудно, но другого выхода нет – иначе нам конец. Как ни парадоксально, тут нам может помочь сама же наука – против воли, конечно. Дело в том, что она состоит не только из теорий, но и из экспериментального и наблюдательного материала, который она по старой привычке продолжает собирать и систематизировать. И этот материал вынуждает нас сделать вывод, что принятая наукой трактовка понятия целесообразности является слишком узкой. С точки зрения науки невозможно усмотреть никакой целесообразности в рогах большинства рогатых животных; в изысканной расцветке многих зверей, лишённых цветного зрения; в поразительно точной мимикрии мух, не имеющей утилитарного значения. И вообще в громадном количестве «бескорыстных» подражаний в природе – в существовании так называемых гомологических рядов; в наличии не выполняющих никаких функций огромных ложных цветков у некоторых голосемянных растений; в способности многих птиц говорить; в том, что на панцире японского краба изображён портрет самурая, а на спинке одного из бражников – человеческий череп; в том, что у рыбы саланкс на голове начертан герб клана токугава, а рисунок хвоста шипоглава выполнен в виде арабских букв, причём на одной стороне можно прочесть «Нет бога, кроме Аллаха», а на другой – «Бойся Аллаха»; в обнаруженных недавно английским энтомологом на крыльях местной бабочки микроскопических буковок всего латинского алфавита. Раз тут нет никакой целесообразности, значит, этого не должно быть в природе. Но сама же наука удостоверяет, что это в природе есть. Что же из этого следует? Следует из этого то, что в природе господствует не только сухой расчёт, но и фантазия, что сотворение видов есть не только выполнение определённой программы, но отчасти и игра, которой развлекаются те, кто эти виды придумывает. Никакого другого вывода из того, что мы видим перед собой, сделать нельзя. Ну и шалуны эти демиурги, как резвятся и забавляются они в тех пределах, которые Верховный Творец милостиво отводит им для проявления их собственной инициативы! Представляю, как Он с доброй улыбкой смотрит на их материализованные в живых существах чудачества, вроде веерообразного хвоста павлина, и говорит про себя: «Пусть развивают своё воображение, лишь бы общий Замысел не нарушали…» Интересно, как выглядят эти подмастерья, назначенные ответственными за воспроизводство живой природы, начиная с пятого дня творения? Они ведь не того чина, что ангелы-вестники, так что, наверное, не имеют крыльев. Зато уж точно обладают колоссальными счётными и логическими способностями, ибо в живом организме каждого вида надо все согласовать, гармонизировать и подчинить задаче выживания и размножения. А что касается их внешности – может, она отразилась в тех деталях внешности подопечных существ, какими Господь разрешил им снабжать эти существа по своему усмотрению? Боже мой, какая догадка – может быть, отсюда и рога у огромного числа видов? Мы гадаем, какой высший смысл может заключаться в этих бесполезных рогах, а в них нет вообще никакого смысла, а есть просто естественное отражение внешности занимающихся этими видами мастеров-отделочников! У художника портреты обычно получаются похожими на него самого, кого бы он ни рисовал. А откуда рога у некоторых демиургов – это уже легче понять. Они ведь сразу выросли у той третьей части ангельских сил, которых Деннице удалось увлечь за собой, и тогда же они лишились крыльев. Но видно, не все они оказались в геенне – были, наверное, среди них и быстро раскаявшиеся, и Всемилостивый Бог, услышав их отчаянный вопль «Прости, нас сатана попутал», что в данном случае было не метафорой, а точным описанием произошедшего, дал им шанс искупить свою вину служением и пристроил их к деятельности по отшлифовке флоры и фауны, требующей как раз тех незаурядных талантов, которыми Он наделил их ещё до падения. Так, получая от них пользу и одновременно излечивая их от духовного недуга трудотерапией, Господь ещё раз продемонстрировал свою неизреченную мудрость. *** Ну вот, пока рассуждал, дошёл до конца аллеи. Вернее, не до конца, а до начала. Это – бывший пруд, значит, на том пригорке стояла усадьба. Семьдесят лет назад здесь кипела жизнь. Кажется, до сих пор не остыли эти окрестности от накала тогдашних мыслей, чувств, желаний. Будто в самом этом воздухе сохранилось ещё какое-то остаточное тепло. К какому дереву припал он в тот тёплый вечер, когда опрометью выбежал в сад, раздираемый ревностью и отчаянием? К этому? Нет, наверное, к тому – самому толстому и кряжистому. Но перед тем как обхватить ствол и прижаться лбом к шершавой коре, заметил всё-таки над головой яркую Кассиопею и почувствовал запах цветущей липы. Именно эти два воспоминания – зигзагообразное созвездие и медовый аромат – вернулись к нему через сорок лет в Константинополе в последнюю неделю его жизни и так овладели им, что лицо его сделалось для окружающих чужим и непроницаемым. На Анатолийском берегу и во Франции он много раз видел Кассиопею, но разве это была та Кассиопея? А перед смертью явилась та, наша, настоящая… Впрочем, это ещё далеко в будущем, а сейчас он рыдает на груди старой липы. Но что, собственно, произошло, в чём его горе? Ах, как вы можете спрашивать – всё рухнуло, всему конец. В уютной боковой комнатке первого этажа барского дома они играли во «флирт». Это было их новейшее увлечение, начавшееся, кажется, на Пасху. Собралось человек десять – и молодёжь, и кто постарше. Все острословили и хохотали, но перед каждой передачей у кого-то замирало сердце. Он подал ей колоду и сказал многозначительным тоном: «Рододендроны». Она быстро нашла нужную карту и, пряча её ото всех, прочла: Рододендроны «Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться?» Л.Н. Толстой, «Война и мир», том 2, глава XXIII. Она посерьёзнела и на несколько секунд задумалась. Потом в её глазах вспыхнула озорная искорка, и, перетасовав карты, она положила их перед ним на диван: «Анемоны». Со страхом и надеждой искал он название цветка, которого никогда в жизни не видел. И вот: Анемоны «Но я другому отдана; я буду век ему верна» А.С. Пушкин, «Евгений Онегин», глава 8. Он было рванулся уйти сразу, но во время игры это было бы неприлично. В тягостном оцепенении дождался он перерыва, вызванного чьим-то приходом, и только тогда выскочил за дверь. Он знал, что лишь милый старый сад может дать ему какое-то успокоение. И приник к этой липе как к своему спасителю. Ну что, успокоила ты его тогда или нет? В то время твой ствол был, вероятно, на целый обхват тоньше. Но ты методически наращивала годичные кольца, и ничто происходящее вокруг не могло отвлечь тебя от этого единственно надёжного дела. К чему же ты готовилась, чего ждала? Знаю, знаю – того времени, когда все эти людишки с их вечной суетой и бессмысленными страстями наконец исчезнут и ты будешь стоять в ряду таких же величественных лип перед лицом одной лишь вечности. Это время было обещано тебе той древесной формой откровения, которая, я думаю, сродни холодному восторгу, охватывающему людей при созерцании извержения вулкана или обрыва айсбергов с антарктического берега. А ведь откровение тебя обмануло! Минули десятилетия, и ещё один глупец пришёл к тебе за утешением. Видно, так и не отделаться тебе от этого несчастного племени… Это уж точно, что все мы горемыки. Проклятие, что ли, на нас лежит какое? Умом-то всё понимаем, а совладать с чувствами не можем. И ничто нам не помогает – ни звёздное небо, ни шум листвы, ни мудрые книги. Хотя нет, существует всё-таки вещь, которая способна излечить нас от дурости, – ВРЕМЯ. Исцелило оно и его. Прошло полгода после того вечера, и он был уже далеко отсюда и был весел и спокоен. Он шёл по шумному Литейному проспекту, и над Александровским мостом висела половинка луны, а он вспоминал Машеньку уже не с гримасой страдания, а с доброй улыбкой. В его душе не было и следа обиды, ничто в ней не сжималось, не ныло. Он снова стал нормальным умным человеком, пригодным для всех человеческих дел, а не для одной лишь неподвижной мысли. Он был настолько нормален, что позволил себе даже поразмыслить о её будущем. Интересно, какой она станет в его теперешнем возрасте, то есть в двадцать восемь лет? Он старался увидеть её взрослой, но в глазах всё равно стояло юное лицо с характерным выражением беззащитности, обрамлённое мягкими светлыми волосами с необыкновенным золотистым отливом. А кто будет её мужем – видный учёный, знаменитый писатель, флигель-адъютант? Здесь он вдруг почувствовал некоторую ревность, но она тут же заглохла, так как он начал думать о совсем других вещах. Он попытался представить себе, какой будет Россия, когда Машеньке стукнет двадцать восемь. Это будет. да, это будет ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД. В этом загадочном грядущем его воображению открывалась могущественная и изобильная Российская держава, великодушно распахнутая всем странам и народам, питающим к ней зависть и уважение. А впрочем, Бог с ним, о нём довольно. Не в нём дело. Не ради же него я сюда приехал, а ради себя. Ещё прошлым летом, когда я впервые увидел эту поразительную аллею, я почувствовал, что в ней таится что-то для меня важное, какой-то намек, который я должен расшифровать. И вот настал момент, когда это стало не просто важно, а жизненно необходимо, и я оказался здесь с той же неизбежностью, с какой больная собака оказывается в лесу, где растёт нужная ей травка… Да, эти липы подтверждают мне, что любовь к женщине есть наша вечная ошибка, вечное роковое недоразумение. Дело в том, что наша любовь и женщина, которую мы считаем её предметом, связаны друг с другом гораздо меньше, чем мы предполагаем, а главное – совсем не той связью, какая нам представляется. Во-первых, это не любовь, а призыв о помощи. А во-вторых, он в действительности обращён не к той материальной женщине, которая существует вне нас и независимо от нас, а к таинственной внутренней женщине, не имеющей ни плоти, ни конкретного облика, но живущей в нас с самого рождения. Большую часть времени она пребывает в спячке. Но вот настаёт момент, совершенно непредсказуемый, и некая встреченная нами материальная женщина включает в нас какой-то спусковой механизм, и наша внутренняя женщина пробуждается, принимает образ этой материальной и, обретя таким способом определённость, страшно активизируется. В чём же состоит её активность? В попытках решить очень важную для нас личную проблему, прежде тоже дремавшую на дне сознания, а теперь всплывшую и требующую немедленного решения. Но хотя наша внутренняя женщина стала почти реальной, ибо присвоила реальные черты внешней, решить нашу проблему она не может, и в нашем интуитивном осознании её бессилия и состоит любовная мука. Эта мука – не что иное, как бессмысленная из-за своей безнадёжности разборка, происходящая в нашей душе, но поскольку она провоцируется внешней женщиной, мы пытаемся вовлечь в эту разборку и её, приставая с ножом к горлу, чтобы она в ней участвовала, причём нож иногда фигурирует не иносказательно, а буквально. Конечно, с объективной точки зрения это глупость, но какая может быть объективность, когда в душе буря! Нося в себе бурю, трезвого ума не сохранишь, вот влюблённые все до единого и становятся глупцами. И он таким глупцом был, когда рыдал, прижавшись к липе, но, когда буря утихла, поумнел. А я вот остаюсь глупцом… Любовная глупость начинается с подмены, со смешивания двух разных вещей. Всякий, кто влюбился, – обознался, ибо принял внешнюю женщину за внутреннюю и наивно стал ожидать от неё той помощи, которую призвана оказывать душе внутренняя. А она знать не знает, чему надо помогать, не понимает, что от неё хотят, и вообще ей нет никакого дела до душевных переживаний влюблённого, истинную причину которых он и сам не понимает. А я вот понял их истинную причину, хотя от этого мне не стало легче. Но станет, непременно станет – ищи правды, и все приложится. Правда же состоит в том, что со времени грехопадения Адама каждый из его потомков вынужден решать для себя проблему добра и зла. До того как был съеден запретный плод, эта проблема не вставала, ибо человек не знал, что в мире существуют добро и зло. Вкусив же от древа познания добра и зла, он узнал о дуалистической природе бытия и оказался перед необходимостью постоянно выбирать между добром и злом. Но трагедия человека, от которой Бог пытался уберечь его своим запретом, состоит в том, что вместить критерий различения в каждом конкретном случае добра и зла гораздо труднее, чем осознать сам тот факт, что они различаются. Для ограниченного людского разумения критерий этот во всём объёме вообще невместим. Однако самый общий признак, позволяющий производить грубое размежевание, нашей душе открыт, и он заключается в том, что духовное есть добро, а материальное есть зло. Не сама материя, как таковая, представляет собой зло, а тирания материального над духовным. Так вот, внешняя женщина – это тирания материи, ибо она требует от нас подчинить свою жизнь биологии, внутренняя же женщина, которую лучше назвать женственностью, – страж нашей духовности. А любовные страдания есть безумная попытка соединить эти полярные противоположности. А в общем, это тоже не то. Что-то другое не даёт мне здесь покоя. Ах, я понял! ОНИ ИГРАЛИ ЗДЕСЬ ВО «ФЛИРТ»! Вот что главное, вот из-за чего ноет душа! В этом заброшенном нынче месте, где на пять верст вокруг не встретишь ни души, высился добротный барский дом. И в маленькой комнатке первого этажа звенел радостный гомон, и они играли во «флирт», то есть передавали друг другу карточки с названиями цветов, где были написаны разные изречения, одни глубокомысленные, а другие просто изящные и остроумные. И кто-то краснел от смущения, а кто-то визжал от восторга, и все были влюблены друг в друга, и в величественную липовую аллею, и в милое старое Афинеево. Гвардейский поручик жадно ловил взгляд дочери уездного лекаря, а она чувствовала это и краснела от робости и волнения, а два гимназиста вели между собой жаркий спор о бессмертии души, а умная десятилетняя Танечка, которую допускали к игре наравне со взрослыми, кричала: «Покажи, что там написано!» Но вот седая няня Анфиса, умевшая так смешно рассказывать о Крымской кампании и о реформе 19 февраля, вносила в комнату огромный тульский самовар с медалями, и начиналось чаепитие, а на стене висела гравюра, изображающая несостоявшегося императора Константина, а в углу поблескивал образ Нерукотворного Спаса, а за окном шумели высокие деревья и простиралось высокое небо, а под этим небом светилось окнами бесчисленное множество других таких же ампирных усадеб с колоннами, и в них тоже играли во «флирт», а может быть, в лото, а может, читали вслух напечатанный недавно в журнале «Северный вестник» рассказ Льва Толстого, и в каждом уголке этой просторной земли всё было по-своему, и в каждом уезде торговали своим знаменитым местным товаром, и в каждой волости звучали свои прибаутки, и в каждой церкви звенели свои особые колокола, и в каждом монастыре были свои старцы и юродивые, и каждый крестьянин выхаживал свою дольку этой громадной земли, и эта удивительная земля СУЩЕСТВОВАЛА, и они принимали её существование за нечто само собой разумеющееся и не подверженное угрозе и беспечно играли во «флирт», а вот теперь её нет, и без неё нельзя жить, но мы вроде бы живём, и надо бы понять, как это оказалось возможным, ибо, пока мы этого не поймём, наша жизнь всё равно не будет настоящей… А он-то жил здесь по-настоящему! Вот бы его сейчас сюда. Интересно, что он вспомнил бы раньше всего? Пасхальную службу в афинеевской церкви? Катание с гор на Святках? Ржание лошадей на фамильном конном заводе? Девичьи хороводы в деревне? Или игру во «флирт»? Странно: никак не могу найти никаких остатков усадьбы. Ведь дом должен был стоять здесь, на самом высоком месте, больше ему стоять негде. И хоть бы бревнышко, хоть бы кирпичик. Ну хорошо, пустили красного петуха, спалили всё вместе с пристройками – но фундамент-то куда делся? И должны же были иметься в доме какие-то несгораемые части. Но нигде ничего, одни бугры, поросшие донником. Да, на совесть поработал тут восставший против угнетателей-помещиков российский крестьянин! Россия, кровью умытая. До чего же точные слова нашёл Артём Весёлый. Вся наша история с конца десятых и до начала пятидесятых годов этого века есть непрерывное умывание собственной кровью. Чтобы пустить такие небывалые реки крови, нужна была небывалая ненависть. Значит, она давно уже накапливалась, значит, пряталась где-то до поры до времени и ждала лишь сигнала, чтобы вырваться наружу! Неужели она жила и в деревенских мальчишках, гонявших здесь коней в ночное? Как это странно! Трудно поверить, что в той, навсегда утраченной нами стране, от которой дошли до нас лишь осквернённые руины храмов, кладбищенские обелиски со сбитыми крестами и надписями «Гвардии майор Ея Императорского Величества Кексгольмского полка» и интригующие, но непонятные слова «залом» и «шептала», – могли созревать такие дьявольские чувства. Но ведь из ничего ничего не берётся. Чтобы так усердно действовать дубиной, народ должен был очень крепко разозлиться. Дубина народного гнева… Так и видишь при этих словах: рослый красавец в чёрном фраке стоит у рампы и призывает трубным голосом: «На врага опусти ты дубину!» А вот представить себе степенных афинеевских мужичков, бегающих тут по усадьбе и крушащих что ни попало суковатой дубиной, трудно. В этом сюжете есть что-то надуманное, умозрительное, искусственное. Тот, кто жил в деревне, хорошо знает, что крестьяне более всех остальных людей чужды разрушению. Ко всякой вещи, ко всякому имуществу они относятся с бережливостью, которая нам, городским жителям, иногда кажется даже скаредностью. Но она вполне понятна. Крестьяне – это народ, а любой народ по самой своей сути есть собиратель и накопитель. Как только где-то из исходных этнических элементов возникает народ, так сразу же начинается его историческое дело собирания. И, конечно, русский народ – не исключение из общего правила. Но усадьба с лица земли всё-таки сметена. Да и раньше, наверное, такое случалось. Скажем, пугачёвщина с её погромами – разве это не народное движение? Впрочем, тут случай другой. Пугачёвский бунт шёл под знаменем законного русского царя Петра Третьего, умерщвлённого немкой Екатериной, и под лозунгом восстановления старой веры, поруганной Никоном, так что по своему смыслу он был как раз консервативным, а не революционным. Пугачёв лишь ловко использовал ту единственную силу, которая может управлять действиями народа, – охранительный инстинкт. А то, что говорят об этом наши литераторы, приписывающие простому народу извечный дух бунтарства, – глупость и клевета. Это для них, литераторов, как и для всех интеллигентов вообще, бунт и ломка заключают в себе что-то поэтическое, а народ-то знает, что всё сломанное всё равно придётся чинить ему же самому. И тем не менее есть способ заставить его ломать: для этого надо выдать ломку за созидание. Но тогда и в нашем случае дело проясняется. Иные были у нас зачинщики, но схема их взаимоотношений с народом была той же, что и во времена пугачёвщины. Отличие было разве лишь в том, что на этот раз носители идеи разрушения лелеяли её совершенно бескорыстно. Они не искали в уничтожении России личных выгод, они даже готовы были сами погибнуть, лишь бы погибла и Россия. Но чтобы добиться своей цели, им опять пришлось внушать народу, будто, сокрушая, он тем самым будет строить. В сравнительно небольшом слое нашего общества нашла себе приют ненависть. И это были не трудящиеся и обременённые, а досужие и обеспеченные: аристократы декабристы, либералы помещики, интеллигенты социал-демократы. Рыба начала гнить с головы. Не низам народным, а верхушке общества всё стало не по нутру в нашей стране. Это их глаза ни на что не глядели, это им было всё здесь отвратительно. Но без привлечения к делу разрушения народа обойтись было нельзя. И тут они долго не могли подобрать нужный ключик. Помогла им всё та же НАУКА – она разработала учение, названное историческим материализмом. Согласно этому учению, главный принцип человеческого общежития заключается в необходимости соответствия между характером труда и характером присвоения продуктов труда. Если такого соответствия нет, творческие возможности людей не раскрываются и развитие общества останавливается. Далее учение объясняло, что поскольку в России труд давно стал общественным, а присвоение остаётся частным, то развитие в ней как раз и затормозилось, и, чтобы вновь открыть ему дорогу, нужно разгромить частных владельцев и отнять у них имущество. Дальше ни о чём беспокоиться не придётся: в силу самого того факта, что соответствие будет восстановлено, созидание пойдёт само собой, да ещё такими темпами, какие прежде нам и не снились. Вот в какую нехитрую ловушку попался наш народ! Но при всей своей примитивности она была ловкой: на ней было написано «Изготовлено наукой». Ссылка на науку затыкала рты, и никто не решался спросить: а почему, собственно, должно выполняться именно соответствие, а не какая-то форма дополнительности? Может быть, связь будет много плодотворнее как раз тогда, когда она не прямая, а обратная? Какие могут быть вопросы – раз наука доказала, значит, так и есть. Найдя средство, нужно было ещё приспособить его к специфическим русским условиям. То, что понимал под созиданием сам Карл Маркс, было для нас слишком низменным, неинтересным. Хотя Маркс всю жизнь ругал буржуазию, его собственное представление об идеальном обществе представляло собой типично буржуазную мечту, сводящуюся к желанию иметь максимум материальных благ. Трудно подняться над уровнем мышления своей среды, а западноевропейская среда, в которой вырос Маркс, была насквозь мещанской, потребительской. Иное дело – Россия, где в XIX веке ещё теплился жар православной веры. В слове «созидание» русским слышался отзвук «духовного делания» Святой Руси. Поэтому «построению нового мира», то есть разрушению существующего, нужно было придать священный характер. Надо было окрасить ожидаемое после ломки светлое будущее в мистические тона – тогда движение к этому будущему получит санкцию со стороны остаточного религиозного чувства народа. И это было сделано. Вслушайтесь в одну из типичных песен того времени: За землю, за волю, за лучшую долю Готовы на смертный бой. Она пробуждает приблизительно те же эмоции, какие испытываешь в храме, слушая церковный хор. Широкая и торжественная мелодия возвышает душу и наполняет её восторженным желанием послужить великому делу. И как-то ускользает от внимания тот факт, что в тексте речь идёт всего лишь о переделе угодий. Хотя мы и слышим слова «за землю», но благодаря музыке воспринимаем их как напоминание о какой-то «земле обетованной», о Царстве Божьем. Вот в этой-то двусмысленности, в постоянной подмене низменных понятий возвышенными и наоборот состояла вторая хитрость, помогавшая первой. Исторический материализм гипнотизировал разум, здесь вводились в обман чувства. Но и это было ещё не всё, нужна была и третья хитрость. Энтузиастам бунта надо было обмануть, помимо народа, и самих себя. Если бы они не прониклись сильным ощущением своей правоты, у них не хватило бы энергии сделать то, что надо было сделать. А для этого нужно было облагородить в собственных глазах ту ненависть, которая была их движущей силой. И они нашли выход: провозгласили её ненавистью к несправедливости. «Только несправедливость, только эксплуатация и неравенство вызывают у нас ярость, а страну нашу мы любим», – говорили они. А поскольку в тогдашней России, как, впрочем, и в любой другой стране в прошлом, настоящем или будущем, неодинаковость элементов, из которых строится общество, т. е. какое-то социальное неравенство, служило основой функционирования общественного организма и поэтому обнаруживалось повсюду, то возникал прекрасный повод гневаться на всё то, что в данный момент мешало делу разрушения. Укажите-ка такой факт коллективного бытия, который нельзя считать предпосылкой, проявлением или следствием социального неравенства! А значит, был найден способ заглушать внутренний голос, подсказывающий всякому нормальному человеку, что гнев и злость – чувства нехорошие и недостойные. После этого они стали всячески поощряться и культивироваться, и в конце концов вся российская интеллигенция переполнилась ими до краев. Достаточно было любого намека, чтобы они вспыхнули в душе. Обличители и хулители стали героями эпохи, их уважали, к ним прислушивались, им рукоплескали, за ними шли. Негодование не просто сделалось самым модным умонастроением в кругах образованных людей, но и обрело характер подлинного коллективного психоза. Скажем, Левитан выставил картину «Владимирка». На ней нет ни единого человека, изображено лишь чистое поле, пересечённое дорогой. Но каждый, кто приходил на выставку и смотрел на эту картину, сразу расшифровывал иносказание и загорался ненавистью к самодержавию и желанием его свергнуть. Можно ли сомневаться, что в таких условиях дни России, дворянских балов, губернских ярмарок и крестных ходов были сочтены? А началось всё гораздо раньше. Когда Россия, вслед за всей Европой, начала отворачиваться от невидимого источника, души её сынов стали оскудевать, мельчать. Люди становились малодушными, и настал момент, когда они оробели перед уродливой, трудной, потной и кровавой стороной жизни, перед её изнанкой. Оробели, а потом возненавидели её, а заодно и всю Россию. «Ах, – ужаснулись они, – как всё это у нас гадко и некрасиво, давайтека устроим всё так, чтобы ничего некрасивого не было, чтобы были только лучистые глаза, весёлый смех, бодрые песни, солнечные парки, скользящие по озеру байдарки, благородные поступки, крепкие мышцы, гладкая кожа». «Но возможно ли это?» – спрашивали те, кто сомневался. «Конечно, возможно», – отвечали сомневающимся и в доказательство приводили цитаты из популярных писателей того времени – Чехова и Короленко. Чехов сказал: «В человеке всё должно быть прекрасно – и мысли, и поступки, и лицо, и одежда». Короленко сказал: «Человек создан для счастья, как птица для полёта». Вот и вся аргументация. Здоровое человеческое общество всегда обладает полнотой, а поэтому в нём, как и в здоровом человеческом теле, содержится всё – и приятное и отталкивающее, и ароматное и зловонное, и гибкое и закостенелое, и изящное и грубое. Без низменного, плохого и даже мерзостного оно простоит так же недолго, как и без возвышенного и хорошего. Это вовсе не значит, что плохое надо приветствовать и внедрять его в общество – оно обладает свойством внедряться туда само, без нашего содействия. Наоборот, с плохим надо беспощадно бороться, и в здоровом обществе такая борьба постоянно и ведётся. Эта борьба есть тоже один из существенных элементов полного набора. Дело именно в полноте, в наличии всех вселенских качеств и категорий. Где нет всего спектра категорий, там нет и прочности. Мы никогда до конца не поймём, в чём состоит конкретная роль неприглядного и некрасивого в кругообороте бытия, но не надо трусливо от него отворачиваться. А во взаимоотношениях с женщиной мы особенно склонны это делать, безмерно идеализируя эти отношения, в которых на самом деле много низкого, животного. А я так теперь сказал бы «юноше, обдумывающему житьё»: или принимай суженую вместе с физиологией, либо вообще беги от женщин. Главное – не идеализируй их. Если живописец изобразит на картине только красивых людей и поместит их в обстановку, состоящую только из красивых предметов, то это будет не красота, а красивость, и мы скажем: тут всё какое-то ненастоящее. Но наш-то мир именно настоящий! А это значит, что в нём всегда будут слышаться глухие стенания страждущих и из него всегда будут выглядывать чьи-то пронзающие душу печальные глаза, как выглядывают они из полотен великих мастеров. Ясное понимание таких вещей называется мудростью. Принятие этих вещей как неизбежного называется мужеством. Соединение мудрости и мужества составляет силу духа. По мере того как сначала верхушка, а потом и средние слои нашего общества становились все более бездуховными, эта сила исчезала. И постепенно Россией овладела утопическая мечта: раз и навсегда избавиться от всего дурного и некрасивого в нашей жизни. А дальше и пошло, и поехало… Финал славной российской истории настолько банален, что вспоминать его в подробностях нет ни необходимости, ни охоты. А суть его чрезвычайно проста. Поскольку в реальной, а не изображённой на схеме жизни дурное и некрасивое коренится в самом факте реальности этой жизни, то попытка его уничтожения путём разрушения существующего порядка ни к чему не привела. Она даже привела к обратному, так как вместе со сложившимся веками обществом были уничтожены многие компенсирующие механизмы, противостоящие стихийному напору зла. И тогда часть зачинщиков ломки стала сваливать всё на втянутый ими в дело разрушения народ. «Какие у нас всё же варвары, – брезгливо сказали они. – Взяли да испоганили нашу идею!» И уехали жить за границу, как тот басовитый, который призывал как следует помахать дубиной. А те, кто остался, тоже не захотели признаться в своём просчёте и решили постановить декретом, что зла больше нет, а если и есть, то не у нас, а там – во-первых, в капиталистических странах, где вообще настоящий ад, а во-вторых, на некоторых огороженных территориях нашего государства, специально отведенных для являющегося досадным пережитком и уходящего в прошлое зла. Создание особых территорий давало ту выгоду, что, если не смотреть в их сторону, возникало полное впечатление, будто тяготевшее над человечеством зло и вправду побеждено, будто сбылась многовековая мечта передовых умов о торжестве добра и впервые в мировой истории появилось на земле благословенное царство труда, мира, свободы, равенства, братства и счастья, а заодно и гармонического развития личности и стирания граней между умственным трудом и физическим и между городом и деревней. Славься, наш великий народ! Славься, великое учение, приведшее этот великий народ к великому будущему, точнее, к великому настоящему, представляющему собой залог ещё более великого будущего! Так Россия по живому телу была разрезана на две части – хорошую и плохую. В хорошей части ликующие трудящиеся проходили мимо трибун с кумачёвыми флагами и портретами любимых вождей, а эти любимые вожди махали им сверху ручкой; в плохой части у окошка для выдачи баланды толпились тысячи бритых голов, а снаружи заливались лаем караульные овчарки. В Москве наполняли рабочих и служащих гордостью и оптимизмом стихи Маяковского «Хорошо у нас в стране Советов. Можно жить, работать можно дружно»; на Соловецком острове наводила страх на арестанток бандерша по прозвищу Маруха – хоть уже не самой первой молодости, но ещё очень красивая, с необыкновенным золотистым отливом волос – говорили даже, дворянского происхождения, – водившая шашни с охраной и по своему произволу распределявшая передачи, которые никто не осмеливался от неё утаить, ибо ослушавшихся женщин она собственноручно подвергала жестокой и позорной экзекуции. Между прочим, это было в ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОМ ГОДУ Для любой другой страны такая вивисекция означала бы верную смерть. Но Россия не хотела умирать. Боже, вы понимаете: наша Россия не хотела умирать! А её всё убивали, убивали, убивали. А она всё не хотела умирать и не хотела… А что, казалось бы, сохранилось в ней такого, что могло бы сопротивляться смерти? Храмы взорваны, иконы сожжены, язык исковеркан, история перечеркнута и забыта, люди отучены рассуждать. Но её жизнеспособность оказалась прямо-таки фантастической. Окровавленные её обрубки, подобно разорванной надвое морской звезде, начали регенерировать и отращивать недостающие части и органы. Так как по закону полноты добро не может устойчиво существовать без зла, а тем более – зло без добра, то в доброй части начало заводиться собственное зло, а в злой части – собственное добро. Маяковский почувствовал, что нельзя же все гордиться и гордиться советским паспортом, лёг в постель и застрелился. Арестантки поняли, что нельзя же всё унижаться и унижаться, и повесили Маруху на балке в дровяном сарае. Короче, через какое-то время обе половины России стали почти одинаковыми, и разделять их колючей проволокой стало бессмысленно. Тогда проволоку убрали. Понадобилось полвека непрерывного экспериментирования, унесшего миллионы жизней, чтобы молчаливо признать факт, который для наших предков был азбучной истиной: мы живём в мире, где наряду с добром и красотой существуют зло и уродство. И примирить их можно только любовью. *** До свидания, милое Афинеево! До свидания, старая аллея. Спасибо вам за науку. Удивительно: на него и на меня вы подействовали противоположным образом: он здесь влюбился, а я разлюбил. Он заболел, а я выздоровел. Он стал глупцом, а я поумнел. Почему? Думаю потому, что, созерцая красоту, можно сделать разные выводы, в зависимости от того, есть ли у тебя ключик к этой красоте или нет. Видимо, у него ключика не было, а у меня он был. Им оказалось учение преподобного Симеона Нового Богослова – одного из величайших умов всех времен, жившего тысячу лет назад. До него христиане считали материю безусловно враждебной духу, распространяя это убеждение и на человеческое тело, почему и ставили высшей своей целью умерщвление плоти. Но творения преподобного, глубину которых оценили далеко не сразу, произвели переворот в мировоззрении: он провозгласил целью индивидуальной человеческой жизни обожение плоти, и эта установка постепенно была одобрена Церковью, став одним из главных её положений. Дикая, некультивированная материя действительно враждебна духу, так как она противопоставляет законам духа свои собственные, совершенно другие законы. Такова материя язычников и марксистов, которые поклоняются её законам, делая их предметом своего культа. Тут происходит не обожение, а обожествление материи, а это совершенно разные вещи. Обожение же материи, согласно Симеону Новому Богослову, есть результат воздействия на неё Святого Духа, который переподчиняет её высшим законам Царства Божьего и тем самым меняет её свойства. Но воздействовать на материю Духу сподручнее не прямо, а через имеющего двойную духовноматериальную природу посредника, которым является человек. Святому Духу легко действовать на родственную Ему духовную составляющую человека, а ей уже нетрудно влиять на неотделимую от неё материальную составляющую, сосуществующую с ней в рамках единой личности. Это видно на примере святых, которые служат мощными «духоулавливателями», подобными звукоулавливателям противовоздушной обороны, особенно активно стяжающими Святой Дух для того, чтобы потом направлять его поток на разные земные объекты. Первым объектом, принимающим на себя этот поток, является, конечно, плоть святого, его собственное тело. И оно поразительно меняет свои свойства, подвергаясь этому обожению. У многих святых оно становится нетленным, освобождаясь на каком-то субмолекулярном уровне от императива биологических законов. О преподобном Серафиме Саровском известно, что он три года питался одной сушёной снытью – это показывает, что у него изменились вся химия обмена веществ и принципы функционирования пищеварительных органов. Наблюдались случаи освобождения святых и от законов физики: некоторые из них ходили по воде, как посуху, или, думая, что их никто не видит, шагали на высоте двадцати сантиметров над дорогой. Но задача святых – обоживать не только свою телесную оболочку, но и окружающую природу. Они это и делают. В Ново-Дивееве, в штате Нью-Джерси, еловые ветви, обрамляющие вывезенную туда эмигрантами из России огромную икону преподобного Серафима (точнее, его прижизненный портрет), не осыпаются уже десятки лет, оставаясь зелёными. Через святых и через святыни Царство Божие тоненькими струйками втекает в земное царство, и, может быть, Замысел состоит в том, чтобы в конце концов они стали одинаковыми. Не об этом ли говорится в апокрифическом Евангелии от Фомы: «Надо, чтобы внешняя сторона чаши стала как внутренняя»? И не в этом ли смысле надо понимать слова молитвы, которой научил нас сам Христос: обращаясь к Творцу, надо говорить: «Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли»? Ведь подчинение земли воле Бога есть не что иное, как установление на ней тех законов, которые управляют Божьим Царством. Пока же у нас господствуют совсем другие законы… Вот этот ключик и помог мне постигнуть происхождение и смысл красоты афинеевской липовой аллеи, а заодно и красоты всей русской земли, о которой Тютчев сказал проникновенные слова: Не поймёт и не заметит Гордый взор иноплеменный, Что сквозит и тайно светит В наготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь Небесный Исходил, благословляя. Почему она так светится, эта наша дивная Русь, и почему нам все время так хочется назвать её Святой? Потому, что она обожена! Тысячи и тысячи именованных и безымянных русских святых, обретая Дух постом, бдениями, молитвами, подвигами, а главное – любовью к Богу, делились Им с этой землей, и Он дышит в ней до сих пор. Наша вещественная Родина не противостоит нашей внутренней духовности, а только укрепляет её, ибо сама источает Дух, накопленный за тысячу лет. Вот кто поможет нам решить наши внутренние проблемы – Россия! Она, а не те созданные нашим воображением «единственные и неповторимые», которыми мы тщетно хотим обожить своё грешное нутро, поможет нам сделать внешнюю сторону чаши как внутренняя.