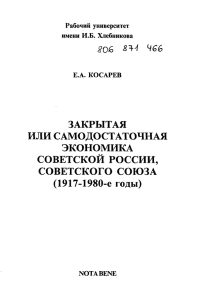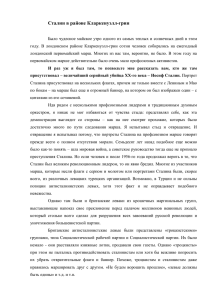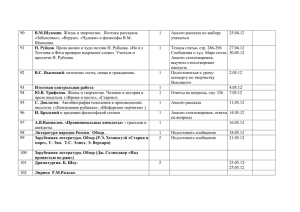С.И. Быкова Советская официальная риторика новаторства и
реклама

С.И. Быкова Советская официальная риторика новаторства и народная молва: о нарушениях языкового порядка в 1930-е годы Результаты развития советской экономики в годы сталинских пятилеток провозглашались в официальной печати и политических документах высшими достижениями в мировой истории. ЦК ВКП(б) и правительство СССР подчеркивали рациональный характер мероприятий своей экономической и социальной политики, основанной на научном планировании. Данные характеристики противопоставлялись стихийности империализма. Особый акцент имел дискурс новаторства при сравнении эгоистичных, враждебных человеку отношений в капиталистическом обществе и создание условий для формирования нового человека в социалистической стране. Однако советская реальность во всех ее аспектах воспринималась современниками весьма неоднозначно. Стивен Коткин, Сергей Яров и другие исследователи изучили процесс «большевизации языка» и использования советскими людьми официального языка для решения возникавших проблем1. Ироническое отношение и критика текстов высшей власти не допускались ни в газетах, ни в выступлениях на собраниях. При помощи печати, посредством ритуалов осуществлялась стигматизация отдельных людей и целых социальных групп: в частности, газета «Правда» клеймила не только «врагов народа», но и «коммунистов-молчальников, знающих о происках врага и не ставящих об этом в известность свою организацию…». Проблема была отражена и в литературных текстах: «Почему же ты ворчун и беспартиец, а не герой эпохи?..»2. Несмотря на жестокие законы, использовавшиеся властью для регулирования языкового поведения, и самоцензуру, советские люди говорили не «по-большевистски» – очень часто официальная версия событий вызывала сомнения и разнообразные интерпретации. По этой причине Шейла Фицпатрик называет советский социум 1930-х гг. «обществом, жившим слухами»; Каролайн Хамфри представляет в своем исследовании варианты языковой изобретательности населения СССР; Тимоти Джонстон утверждает, что распространение слухов свидетельствует о наличии «социальных сетей доверия»3. Коткин С. Говорить по-большевистски// Американская русистика. Вехи историографии последних лет. Советский период. Самара, 2001. С. 250-328; Культура и власть в условиях коммуникационной революции ХХ века. М., 2002; Хархордин О. Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. СПб. - М., 2002; Яров С. Конформизм в советской России: Петроград 1917-1920-х гг. СПб., 2006; Голдман В. Террор и демократия в эпоху Сталина. М., 2010. 2 Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 1998. С.51. 3 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история советской России в 30-е годы: город. М., 2001; К. Хамфри. Опасные слова: табу, уклонение и молчание в Советской России// Антропологический форум. 2005. № 3. С 314-339; Джонстон Т. Слухи в СССР сталинского времени// Слухи в России XIX-XX. веков. Неофициальная коммуникация и «крутые повороты» российской истории. Челябинск, 2011. С.18-27. 1 Реплики, эмоциональные высказывания, замечания на собраниях, анекдоты, частушки, разговоры на рабочем месте или в очереди о проблемах на производстве, о дефиците продуктов питания, о несправедливых арестах квалифицировались как контрреволюционная пропаганда, дискредитация вождей, антисоветская агитация и клевета на политику партии и правительства. Советские люди понимали опасность разговоров – иногда откровенно признавали это, сравнивая с дореволюционным временем. Так, капитан одной из воинских частей в присутствии других командиров заявлял: «О Николае Втором говорили что угодно, а сейчас ничего нельзя сказать. Только скажешь, то сразу Особый отдел узнает. Сейчас лучше всего язык держать за зубами. У нас есть такие люди, которые хотят путем доносов нажить политический капитал»4. Для анализа феномена неофициальной коммуникации в сталинское время следует использовать комплекс источников, включая свидетельства инстанций, собиравших сведения о настроениях «простых советских людей», личные документы (письма, дневники, записки), фольклор. Однако самыми информативными являются материалы судебно-следственных дел, поскольку рекордное число репрессированных были осуждены именно «за слова»: не случайно В. Турбин характеризует имеющийся в статье 58 пункт 10 как отражение логофобии власти5. Олег Лейбович справедливо отмечает, что в следственных делах нашли отражение все оттенки мысли современников И. Сталина – от самых примитивных до искусно разработанных, от вторичных до оригинальных: при их чтении возникает «ощущение постоянного ропота, аккомпанирующего всей советской системе…»6. Следует подчеркнуть, что каждое архивно-следственное дело представляет собой комплекс источников: помимо официальных материалов (ордера на арест, описи имущества, анкеты арестованного, протоколов допросов и пр., включая документы реабилитации) имеются письма и жалобы арестованного и его родственников, направляемые в различные инстанции. Уникальными являются «вещественные доказательства», изъятые во время обыска (дневники; письма; листы, блокноты, тетради «контрреволюционными» стихами, частушками, песнями; листовки; книги; фотографии; портреты вождей, над которыми «были совершены издевательства»: некоторые из них разорваны, на других – оскорбительные «художественные» дополнения, на третьих – отверстия от острых предметов и даже ружейных пуль)7. Сувениров О.Ф. Трагедия РККА 1937-1938. М., 1998. С. 111. Турбин В. Китежане (из записок русского интеллигента) // Погружение в трясину. М., 1991. С. 352. 6 Политические репрессии в Прикамье. 1918-1980 гг.: Сборник документов и материалов. Пермь, 2004. С. 6. 7 Быкова С.И. Советская иконография и «портретные дела» в контексте визуальной политики, 1930-е годы //Визуальная антропология: режимы видимости при социализме. М., 2009. С. 105-126; Быкова С.И. «Наказанная память»: свидетельства о прошлом в следственных материалах НКВД // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2009. № 2. С. 38-54; Bykova S. Laughter under Arrest: Jokes and Other 4 5 Возвращаясь к полемике8 о степени опасности письменных и устных текстов, следует отметить, что устная форма критики вызывала у власти панический страх, поскольку имела публичный характер. Письменные тексты могли распространяться лишь в ограниченном пространстве и в случае обыска становились для автора дополнительным фактором опасности – «вещественным доказательством». По этой причине происходит изменение культурных практик: люди стараются запоминать и передавать информацию устно9. Однако в материалах следственных дел встречаются свидетельства превращения устных текстов в письменные – следователи требовали арестованных и свидетелей записать сочиненные/услышанные анекдоты, частушки или песни. Пытаясь облегчить свою участь, арестованные уверяли следователей, что они ни с кем не обсуждали свои мысли, никому не рассказывали анекдоты… Иногда наряду с фольклором, воззваниями, листовками в судебно-следственных делах можно найти уникальные «антисоветские» документы: в одном из дел сохранилось несколько экземпляров легенды «Христос у Сталина», бытовавшей изначально устно. Ее автор устами Христа, преодолевшего множество препятствий и попавшего на прием к вождю, рассказывал о произволе при раскулачивании, о злоупотреблениях в период коллективизации, о бесчеловечности активистов и чиновников, обрекающих на голод и смерть беззащитных людей (вдов, сирот, инвалидов). Христос, заметив, что «можно еще много таких фактов привести», убеждал И. Сталина: «Не надо, товарищ Сталин, огораживать себя кремлевскими стенами и отделяться от живой массы… Надо знать и видеть, как страдает народ, и придти к нему на помощь»10. Наличие огромного количества осужденных за нарушение языкового порядка свидетельствует: по инициативе власти существовавшие проблемы «переводились», таким образом, на язык политической ненависти, оставаясь нерешенными. Осуждая людей, предлагавших коррективы или альтернативные варианты развития, власть блокировала возможность реализации адекватной модели преобразований и усиливала социальную напряженность. Фактором, способствовавшим закреплению данной тенденции, являлось догматическое отношение многих советских людей к официальному языку и прецедентным текстам, не позволявшее обратить внимание на позиции оппонентов. “Funny” Genres in NKVD Investigations// Totalitarianism and Literary Discourse: 20th Century Experience. Cambridge Scholars Publishing, 2012. Р. 264-276. 8 Джонс П. «Опасные слова» (комментарий к статье Каролайн Хамфри)// Антропологический форум. 2005. № 3. С. 345. 9 О некоторых аспектах проблемы: Быкова С. «Мир чтения» в условиях несвободы// Неприкосновенный запас. 2009. № 6 (68). С. 51-68. 10 Государственный архив административных органов Свердловской области. Ф.1. Оп.2. Д. 20880. Л. 96; Д. 16991. Л.18; Д. 32329. Л.118; д. 17285. Л. 87-100 и др. дела. Легенда о Христе на приеме у Сталина имела, видимо, широкое распространение. См. подробнее: Архипова А., Мельниченко М. Анекдоты о Сталине: Тексты, комментарии, исследования. М., 2011.